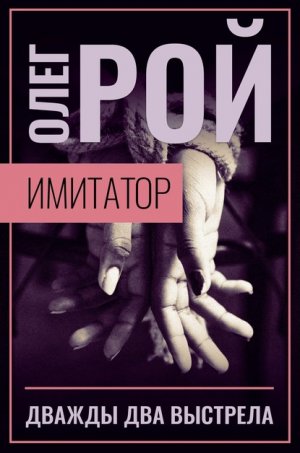
В тексте упоминаются социальные сети Facebook и/или Instagram (организации, запрещённые на территории РФ).
Meta Platforms Inc. признана экстремистской организацией на территории РФ.
© Олег Рой, 2022
© RUGRAM, 2022
© Т8 Издательские технологии, 2022
ПРОЛОГ
Файл: bezimeni
Создан: 01:01 01.01.01
Изменен: 23:17 21.07.08
В бледно-зеленой воде мраморного бассейна кровь растекается розовыми облаками. Словно отсвет гаснущего над крышами соседних вилл заката. Мне нравятся такие… повторы. Эхо, зеркальные отражения, рикошеты. Даже если они – просто совпадения, именно они превращают жизнь (и смерть, разумеется) в искусство. Так в рублевской «Троице» гора и дерево на заднем плане повторяют изгиб плеча одного из ангелов. Рифмуются с ним.
Крови много, поэтому лицо девушки сияет настоящей мраморной бледностью. Сейчас она даже красивее, чем была при жизни. Ей повезло. Она умерла молодой, красивой и – счастливой. Потом-то у нее все было бы гораздо хуже. Жизнь неплохо обламывает таких красивых дурочек, уверенных, что красота – пропуск в рай. Надо быть дурочкой, чтобы отвечать на чувства глубоко добропорядочного семьянина, который вовсе не собирается уходить от жены и детей, – даже если он покупает тебе виллу (честно сказать, довольно маленькую) на побережье Адриатики. Звучит зато красиво: вилла на побережье Адриатики. С бассейном! Крошечным и пресным, хоть и мраморным, мрамор в этих краях дешев. Конечно, дурочка.
Добропорядочный семьянин обнимает свою дурочку, прижимает к себе, словно баюкает. Кажется, даже что-то бормочет. Не понимает, что произошло.
Так все было прекрасно: вилла – как морская раковина, и в ней – жемчужина, его прелестная беби. И вдруг – бездыханное тело, кровь, кровь, кровь… Очень много крови. Откуда? Он хмурится, пытается вспомнить – и не может. А вот не надо транквилизаторами увлекаться, таблетки и пилюли не решают проблем. Господа психиатры, вероятно, именно на этом свой вердикт и построят. Запутался добропорядочный семьянин и разрубил «узел» одним ударом. Хотя – не одним, ох, не одним. Почему-то множественные ранения трактуют всегда не как аффект (что логично), а как «особую жестокость». То есть убил добропорядочный семьянин свою обожаемую красотку с особой жестокостью.
Очень красиво, я считаю.
Жена у него, кстати, тоже красивая. Ей пойдет черное. Хотя, постой, здесь нет смертной казни, значит, вдовой ей не бывать еще долго. С юридической точки зрения. Фактически же – вполне, вполне. Сидеть добропорядочному семьянину – за убийство, совершенное с особой жестокостью – пожизненно. И скорее всего – в какой-нибудь специальной, для таких, как он, психушке.
Я думаю, красивее всего было бы, если бы добропорядочный семьянин, терзаемый страшными воспоминаниями, в этой самой психушке собственноручно – нет, не повесился, а – зарезался. Например, обломком пластиковой ложки. Но, во-первых, это вряд ли, вовторых, меня это уже не касается.
Мне пора. Скоро здесь будет очень много людей.
13 октября 2016 года
К середине дня на город навалился нудный серый дождь. В его мокрых сумерках витрины светились особенно праздничным блеском: леденцово-желтым, льдисто-голубоватым, блекло-оливковым. Сияющий куб художественной галереи напоминал шкатулку с драгоценностями. Внутреннее пространство, превращая его не то в странный белый лабиринт, не то в диковинный гигантский кристалл, заполняли неожиданные белые плоскости – перегородки, колонны, выступы. И на каждой светилась картина. Будто окно в другой, прекрасный мир – яркий, цветной, завораживающий. Таким же, только побольше, окном казалась и афиша под козырьком замыкавшего череду светящихся витрин крыльца: «Волшебные миры Софи Бриар». Слова рамкой окружали снимки таких же афиш. Только маленьких и надписи на них были иностранные – немецкие, чешские, английские, французские.
За высокими стеклянными дверями виднелся небольшой темноватый холл, где уже топтались некоторые из тех, кто ждал открытия выставки.
Но кое-кто медлил входить. Прячась от дождя под защищавшим окна галереи карнизом, терпеливые ценители вглядывались сквозь витринные стекла в белый лабиринт с сияющими картинами.
– Идет, идет, – прошелестело среди тех, кто ждал снаружи.
Внутри белого лабиринта появилась девушка – невысокая, темноволосая, в летящем, вроде греческой туники, светлом одеянии и таком же легком шарфе, поддерживающем прическу – тоже как у античных статуй. Она шла, огибая колонны и перегородки, то пропадая за ними, то появляясь так быстро, что казалось – девушек две, а не одна.
Дзынь!
Одна из витрин вдруг осыпалась каскадом звенящих осколков, и гигантский светящийся кристалл мгновенно погас. Точно исчез.
Изумленные, испуганные голоса смешались с топотом множества ног.
Когда – через минуту или через год – галерея вновь засияла привычным блеском, ее пространство как будто сузилось, сжалось, впуская в себя людей. Кто-то вбежал из холла, кто-то прямо с улицы, через разбитое стекло. Светлый ковролин там и сям испещрился мокрыми темными следами….
Вспыхнувший свет точно заставил всех замереть – на бегу, в странных, неловких позах.
Все головы, все глаза, все взгляды сосредоточились в одной точке. Там, среди картин, статуй и причудливых инсталляций резко выделялась еще одна – как центр всей экспозиции, которого минуту назад еще не было. Казалось, сейчас раздастся голос экскурсовода:
– Обратите внимание на эту двухфигурную скульптурную композицию в античном стиле…
Да, девушек действительно было две. Но теперь они никуда не двигались. Одна сидела на полу, другая лежала подле. Точно еще одна скульптура: настоящие люди не могут быть настолько похожи – до последнего волоска строгих причесок, до кончиков бледных ногтей. И настолько неподвижны. Фигуры могли бы показаться каменными, но складки их очень светлых, свободных, почти невесомых одеяний все время менялись, двигались, переливались под дыханием врывавшегося в разбитую витрину влажного ветра.
28 октября 2016 года
«За период с…»
Он открыл одну из лежавших слева папок. Бумага выцвела неровно. Дата на первом листе стояла именно та, что он помнил. Будто он мог забыть! Но привычка к аккуратности заставила проверить.
«…мною были совершены следующие убийства…»
Он поморщился. Ручка царапала бумагу. Слова выходили корявые, неровные. Тоже как будто царапающие. Протокольно сухие. Словно чужие.
Хотя почему – словно? Он мысленно усмехнулся. Слова и в самом деле были чужие. Вынужденные.
Писать было неприятно, неловко, тяжело. Может быть, все-таки можно сделать еще что-то?
Впрочем, выбора у него не было – и это было так же ясно, как бледные звезды за распахнутой балконной дверью.
Фамилий было семь. Он зачем-то пересчитал их. Смысла в этом было еще меньше, чем в проверке календарных дат. Семь, сколько ни считай.
Может, все-таки попробовать… ну хотя бы попытаться…
Стук отброшенного в угол пистолета прозвучал куда громче слабого хлопка выстрела.
Но этого он уже не услышал.
День первый
Неровная россыпь разноцветных окон делала темноту в центре двора еще непрогляднее. – Девушка, сюда нельзя! – темнота сгустилась в неясную, довольно высокую фигуру.
Арина потянулась было за удостоверением – за тот год, что она перевелась из Питера в родной город, далеко не все патрульные успели запомнить ее в лицо, приходилось предъявляться и представляться – но замерла. Это ж не ДТП со смертельным, не череп, вывернутый на поверхность старательным бульдозером! По телефону сказали полный адрес: улица, дом, квартира. Какое еще, к лешему, «сюда нельзя»? Да и не похож возникший из этой темноты «охранитель» на служивого. Псих, что ли, местный?
Психов на «места» как магнитом тянуло. Но псих вряд ли говорил бы таким голосом – деловитым, чуть насмешливым.
От ударивших справа двух прожекторов тьма испуганно отступила. Арина прижмурилась. Прожектора, мигнув, переключились на ближний свет. Фары, конечно, какие еще прожектора. Фары патрульной машины, вон она стоит.
– Вершина, ты, что ль? – от машины отделилась еще одна фигура, оказавшаяся Ванюшкой Молодцовым.
– Я, Иван Сергеич, – выдохнула Арина, вовремя вспомнив, что опер терпеть не может, когда его называют Ванюшкой, дозволяя подобное лишь супруге. – А это кто? – она мотнула головой вправо, где был тот, что ее остановил. – Из ППС?
Но того, кто ее почти напугал, рядом уже не было. Вынырнул из темноты и в нее же канул.
– Кто? С которым ты беседовала?
– Да не беседовала я! Он меня остановил, сюда, говорит нельзя.
Молодцов пожал плечами:
– Я думал, кавалер тебя провожает. Чего ты, кстати, своими-то ногами притопала? Неужто для следователя машины дежурной не нашлось?
– Да я тут живу неподалеку.
– Знаю я, где ты живешь. А только непорядок – красивой девушке по темну гулять. Говоришь, это не твой провожатый был?
– Псих, должно быть местный, надо у Мишкина спросить. А вы чего без света сидите?
– Да у ребят аккумулятор садится. Пошли, что ли? Все уже на месте, только следователя ждут. Ты-то тут какими судьбами? Дежурила вроде недавно, рабочий день кончился, почему тебя выдернули?
– А то сам не знаешь! Позвонили, сказали, огнестрел со смертельным, а дежурных следователей не хватает, давай, Вершина, на амбразуру, больше некого отправить.
– А, ну да, точно… Вечерок беспокойный выдался: на Лесной ДТП со смертельным, в «Алмазе» банкет с поножовщиной и вроде тоже со смертельным, на Коммунаров придурок местный голубей с балкона пострелять решил, в дворника попал, ну и так еще, по мелочи. Так что да, все в разгоне. – Молодцов покивал, потом хмыкнув, поводя могучим плечом. – Хотя чего торопиться, осмотрели бы к утру. Труп-то никуда не сбежит.
– Труп-то не сбежит, а трупные явления куда убегут за лишние полсуток? И соседям праздник обонять все эти ароматы, а уж судмедэкспертам просто счастье.
– Ладно, ладно, не бухти.
– Что за огнестрел-то? Кто-то ружье неаккуратно чистил или по пьянке чего не поделили?
Опер помотал головой:
– Суицид, – и, вздохнув, добавил, – главное дело, мужик-то знакомый, вот что пакостно. Жалко. Наш опер бывший, Шубин Егор Степаныч, я тоже с ним работал, пока его на пенсию не ушли. Года два, что ли, назад, или около того. И вот на тебе… Соседка пошла собачку выгуливать и заметила, что у него дверь открыта. Заглянула, а он там на полу.
– Я и постучала, и позвонила, и покричала ему: «Егор Степанович, у вас дверь нараспашку!», а никто не отзывается, – затараторила непонятно откуда подскочившая тетка, прижимавшая к груди маленькую рыжую собачонку. – Ну я зашла, а он лежит… беда-то какая! Ну кому он помешал?! – слово «суицид» дамочка не то не услышала, не то не поняла. – Человек-то хороший был! Нелюдимый, правда, и вообще… – она неопределенно покрутила пухлой ладошкой. – Если каждого пьяницу убивать, это ж никаких кладбищ не напасешься!
– А он сильно пил? – уточнила Арина.
– Ой, ну а кто сейчас не пьет? – бросилась в ответную атаку владелица собачки. – Но вел себя всегда прилично, гулянок не устраивал. Ни шума от него, ни скандалов. И домой всегда своими ногами приходил, под забором не валялся. Правда… – она нахмурилась.
– Правда – что? – Арина насторожилась. – Вы что-то вспомнили?
Тетка, сморщившись, махнула пухлой ладошкой:
– Да пустяки. Недавно возвращаемся с Джиннечкой, а он возле своей двери стоит, лбом в косяк уперся и мычит. Я его за плечо, а он эдак скривился и давай ключом в дверь тыкать, ну вроде как опомнился. Но это же ерунда? А вообще ничего такого никогда, всегда прилично себя вел.
Джиннечка, подумала Арина, это у нас, надо понимать, собачка. Вероятно, Джинджер – как еще могут такую рыженькую назвать. Очень похожа на свою хозяйку. При том что та – дама корпулентная, плечи как у Поддубного, зато носик такой же остренький, и кудряшки встрепанные того же лисьего колеру. Впрочем, это не имеет значения – Арина мотнула головой, возвращаясь к опросу:
– А ночью, ну или вообще вчера вы… – Арина запнулась.
– Руслана Алексеевна, – подсказал из-за ее плеча Молодцоав.
– Руслана Алексеевна, – послушно повторила Арина, – вы вчера ничего подозрительного не видели, не слышали?
– Так я ж и говорю – выстрел слышала! – тетка всплеснула руками, едва не выронив свою ненаглядную Джиннечку.
– Выстрел? Когда именно?
– Ну так в двенадцать, – задумчиво сообщила собачкина хозяйка. – Примерно… Я телевизор выключила и спать собиралась. И тут – бах. А потом тихо.
– И вы не забеспокоились? Все-таки не каждый день вокруг стреляют.
– Ну так я ж думала, телевизор у него, у Егор Степаныча, в телевизоре ж вечно стрельба.
– Понятно, – вздохнула Арина. – Руслана Алексеевна, вы сможете завтра в следственный комитет подойти? Я вас официально допрошу, составлю протокол.
– Какой еще протокол? – насторожилась та. – Зачем меня допрашивать? Вы что, думаете, это я, что ли, его?
Сидевшая у нее на руках собачка вдруг вскинулась, напружинилась и сердито залаяла – мол, отстаньте от моей хозяйки, не думайте, что раз я мелкая, не смогу ее защитить, очень даже смогу! Хозяйка погладила свое сокровище по атласному лбу – успокаивала.
Арина вздохнула:
– Вы же главный свидетель. И тело обнаружили, и живете рядом. Даже выстрел слышали. Может, и еще что-то знаете.
– Ничего я не знаю! – возмутилась Руслана Алексеевна, прижимая к себе собачку, словно ее собирались отнять. – Чего знала, все рассказала уже… вот ему, – она мотнула головой в сторону Молодцова.
– Нужно зафиксировать ваши показания, – терпеливо объяснила Арина. – Так положено, понимаете? – страх потенциального свидетеля перед «допросом», да еще и «на протокол», был, на ее взгляд, явлением совершенно иррациональным, но, увы, весьма распространенным.
– Руслана Алексеевна, – подхватил Молодцов. – Вы просто повторите то, что сейчас рассказывали, Арина Марковна запишет, а вы подпишете.
– Да не стану я ничего подписывать! Мало ли что вы там накалякаете, потом не отмоешься.
– Вы сперва прочитаете, а ваша подпись как раз для того, чтобы ваши показания зафиксировать. Как же без этого?
– Ну… – она недовольно поджала губы. – Если нужно…
– Как же без этого? – повторила Арина молодцов-скую фразу. Ох уж эти осторожные свидетели! Не оперативников же за ней посылать, в самом-то деле. Заявит, что «привели под конвоем», и вовсе замкнется, клещами ничего не вытащишь. А ведь такая многое могла видеть. Если там вправду самоубийство, допрос этот нужен чисто для проформы, ну и для себя. Покончить с собой можно и от невыносимого одиночества, но все-таки хорошо бы какой-нибудь более существенный мотив обнаружить: может, болел старый опер, может, с женщиной расстался, может, кредитов набрал.
– Ладно… – тетка вроде бы расслабилась, даже головой мотнула, соглашаясь. – Куда, вы говорите, приходить?
Арина облегченно вздохнула:
– Вот Иван Сергеевич вам объяснит. Значит, ночью вы слышали выстрел, а потом, уже сегодня, пошли выгуливать Джинни, заметили приоткрытую дверь и вызвали полицию. Так?
– Так, так, – закивали рыжие кудряшки.
Странно, подумала Арина. Что-то не сходится. Собачку-то дамочка, небось, с утра пораньше выводит, а сейчас вечер уже. Сколько ж времени прошло с момента звонка в полицию до выезда? Она миролюбиво, чтоб заполошная тетка, не дай бог, не подумала, что ей не верят, улыбнулась:
– Во сколько это было? Во сколько вы с ней гуляете? В семь, восемь утра? В десять?
– Да вечером же! – воскликнула тетка. – Гуляемто мы и утром и вечером, Джиннечка же не может весь день терпеть… но мне ведь на работу, так мы с утра-то бегом-бегом, по-быстрому… вот и не заметила я ничего, – она сокрушенно вздохнула. – Темно в подъезде было, а я торопилась. А уж вечером пошли, тут я и смотрю – дверь-то приоткрыта… заглянула, а там… он… на полу… и кровь…
– Труп мужчины, одетого… – размеренно диктовал судебный медик Семен Семеныч, которому очень подходила его фамилия. Плюшкин. Не в смысле гоголевской скупости, в смысле уютной пухлости, смягчающей едкость профессионального цинизма. – Успеваешь? Смерть предположительно наступила от огнестрельного ранения в голову. Входное отверстие в височной области… выходного при визуальном осмотре не обнаружено… И это, душа моя, хорошо, значит, пулечка внутри должна быть. Это не пиши, это я так, мысли вслух.
Арина пошевелила затекшими пальцами. Большинство ее сверстников давно уже печатали протоколы сразу на ноутбуках, она же до сих пор писала от руки. Текст на мониторе казался ей каким-то ненастоящим. Посторонним, не имеющим к ней никакого отношения. Не стоящим того, чтобы о нем размышлять. Вот когда собственноручно, когда пальцы немеют от усталости – тогда и мозги включаются, и профессиональные соображения возникать начинают.
Сегодня «включить профессионала» оказалось особенно трудно, хотя она-то Шубина почти не знала, видела пару раз еще в юрфаковские времена. И тем не менее он был – свой. Тяжело.
Опера – просто человеки, вспомнилась Арине фраза с одного из семинаров. Просто человеки. И простым человеческим слабостям подвержены не меньше прочих. Она сделала мысленную памятку – спросить Иван Сергеича, за что Шубина «ушли», не за неудержимое ли пьянство? Хотя судя по состоянию квартиры – вряд ли, что бы там соседка ни говорила.
Кухню Арина еще не видела, но комната была именно комнатой, а не логовом опустившегося алкоголика, каких она немало навидалась: заросших грязью, запущенных, бывало, до плесени. Тут же все было, хоть и небогато, но прилично. Балконное окно не щурится мутными грязными бельмами, а сияет промытыми стеклами, даже сейчас, в темноте видно. Выцветшие до бежевого, когда-то коричневые шторы не пестрят скоплением пятен, не обвисают уныло – складки ровные, чистые. И покрывало на продавленном раскладном диване, хоть и потертое, но не засаленное, явно многажды стиранное. Напротив дивана – неожиданно современный телевизор, экран не в полстены, но довольно большой. С другой стороны балконного окна – письменный стол. Однотумбовый, такой же пожилой, как диван, но тоже чистый, не заляпанный, не захватанный. В угол задвинут системный блок. Персональный компьютер на вид куда старше телевизора, с массивным кубиком старенького ЭЛТ монитора, таких нынче и не увидишь уже. Хотя монитор монитором, а кто его знает, что там в компьютерных мозгах, может, там сплошной завтрашний день, надо изъять и Левушку Оберсдорфа попросить, пусть посмотрит. Клавиатура – тоже на удивление чистая, не залапанная – сдвинута к самой стене, так что стол практически пуст, только аккуратная стопка картонных папок слева, да исписанный лист бумаги посередине. Над столом – фотографии, довольно много, три ряда. На семейный «иконостас» не похоже, больше напоминает рабочую доску из американского полицейского сериала. Напротив стола, возле телевизора, изрядно поцарапанный буфет «под орех», рядом с ним, возле входной двери, темный, скучно полированный гардероб. На полу, почти вплотную к буфетной дверце – невнятная тряпичная кучка грязно-бежевого цвета, протянувшая «щупальце» вверх к горизонтальной полке над дверцей.
Но в целом, если забыть о бежевой кучке с зацепившимся за дверцу «щупальцем», – все чисто, все по местам. Аккуратистом был покойный, не вписывается в образ отчаявшегося пьянчужки.
Мог, впрочем, вычистить квартиру перед смертью. Навести порядок, перед тем как сводить счеты с жизнью – стремление довольно распространенное. Ну как же: придут чужие люди, станут разглядывать, оценивать, быть может, морщиться брезгливо. Нет уж, пусть все выглядит прилично. Хотя, казалось бы, мертвецуто какая разница? Но желание выглядеть после смерти если не красиво, то хотя бы прилично – это да, это очень часто бывает.
– Кожные покровы… – размеренно продолжал Семен Семеныч.
– Из чего он стрелял-то? – перебила его Арина. – Вот из этого? – носком обтянутой синим бахилом кроссовки она показала на валявшийся возле буфета, прямо перед бежевой кучкой с протянутым вверх «щупальцем», маленький, блестящий черными гранями пистолет.
– А это, душа моя, пусть тебе баллистики скажут. Хотя я предполагаю, что именно так, раз выходного отверстия не наблюдается. Но вот залезем к нему в голову, отыщем пульку, – добродушно бормотал медик, – ты к ней гильзочку, что Зверев нашел, добавишь, и вместе с пистолетиком к баллистикам отнесешь, они тебе все в лучшем виде подтвердят.
– Что вы со мной, как с маленькой? – буркнула Арина почти обиженно, хотя Плюшкин так разговаривал со всеми. – В двух словах, что мы тут имеем? Точно самоубийство?
– Да откуда ж мне знать, лапушка? – медик развел обтянутые резиновыми перчатками ладони, даже пальцами пошевелил для убедительности. – Мое дело маленькое, состояние тела описать, а уж выводы делать – твоя работа.
– Ну Семен Семеныч, – протянула Арина жалобно, действительно, как выпрашивающий конфетку ребенок. – Мой опыт – и ваш, никакого ж сравнения. Вы, говорят, даже без аутопсии все насквозь видите. Вот просто на ваш взгляд, навскидку, что тут?
– Ну если только на взгляд… – Плюшкин повел круглым плечом, явно довольный комплиментом; как многие профессионалы, он был неравнодушен к похвалам. – Ну что не несчастный случай, это девяносто девять процентов. И убийство, душа моя, я, пожалуй, тоже исключил бы. Суицид, вот тебе мое «навскидку». Вся обстановка более чем типичная. Загрустил наш бывший коллега и стрельнул в себя. Сам то есть. Без никого. В том смысле, что драться он ни с кем не дрался, следов связывания нет, защитных ран тоже, следов борьбы или хотя бы чьего-то присутствия вокруг не наблюдается. Вон Лерыч пусть подтвердит.
Артем Зверев – криминалист, которого за отчество Валерьевич все звали попросту Лерыч, – сосредоточенно опылявший дактилоскопическим порошком распахнутую настежь балконную дверь, подтверждающе угукнул:
– Чистенько. Пальчики, насколько могу судить, только его, обстановка не нарушена. Бедненько, но аккуратненько. Хотя он, говорят, и пил изрядно, а вот порядок не как у алкаша.
– А он точно пил? – вырвалось у Арины.
– А это я тебе, душенька, после вскрытия скажу, – проворковал Плюшкин. – Посмотрю на печень и прочие субпродукты, сразу ясно будет – злоупотреблял ли наш Егор Степанович или как.
– Вы его знали?
– Кто ж его не знал, – отозвался вместо Плюшкина Артем. – Хороший был опер. Пока не уволили.
– За что его?
– Ну, официально-то сам рапорт подал, но по сути выдавили, конечно. А за что… во-первых, возраст у него уже был вполне пенсионный, сама видишь. Во-вторых, упрямый. Вот и… Хотя по официальной опять же версии – за злоупотребление горячительными напитками в рабочее время. Раз – выговор, два – выговор, и давай на выход, все как обычно. Ха! Прицепиться-то к любому можно. Покажи мне опера, который не употребляет. Но чтоб чрезмерно… нет, это не про Степаныча. Раньше по крайней мере. Как там после увольнения было, кто ж его знает, – Лерыч пожал плечами, продолжая обрабатывать балконную дверь. – Но бутылок я под кухонной раковиной всего четыре штуки нашел. Одну водочную, старую, три из-под пива, довольно свежие. Если и пил, то тару выносил регулярно. Я ж говорю, непохоже, чтоб опустился мужик. Жил явно один, а в доме порядок.
Ага, отметила про себя Арина, Молодцова о причинах шубинского увольнения можно не расспрашивать.
– Порядок-то порядок, но как насчет вот этого? – так же, носком кроссовки, она показала на ту самую бежевую кучку, в которой, вглядевшись, опознала скомканные подтяжки, одна из которых и изображала «щупальце».
– Вершина, тебе чего, работы не хватает? Чего к подтяжкам прицепилась? Мало ли, – Зверев пожал плечами. – Лежали на краю, свешивались, пистолетом отброшенным их зацепило, вот они и свалились.
– На краю буфета лежали? Странное место для подтяжек. При общем-то порядке. И пистолет не в руке, не рядом с телом, а в стороне валяется. Далековато для самоубийства, не находишь? Или предсмертные судороги?
– Вообще-то при ранении в голову судороги не характерны, – хмыкнул из-за Арининой спины Плюшкин. – Но не характерны – не значит, невозможны. Мозги – материя тонкая, непредсказуемая. Если пистолет отброшен, то лежит вполне на месте. Смывы с ладоней я, кстати, сделал. На предмет следов выстрела. Вот если там чисто будет, тогда можешь с такой же чистой совестью начинать задавать вопросы. А пока не вижу оснований сомневаться, самоубийство как оно есть.
– Гильза, кстати, поближе к нему лежала, – напомнил Лерыч. – Как раз там, куда она упала бы при собственноручном выстреле. Ну… если он стоял в это время.
– Но если судороги не характерны, как он его отбросил? – настаивала Арина.
Плюшкин пожал плечами:
– Не знаю, свет моих очей. Но если ты намекаешь на инсценировку, то… – он скептически сморщился. – Первое дело, отсутствие следов борьбы, это я тебе уже сказал.
– А ничего, что у него рукава рубашки расстегнуты?
– Зато пуговки на манжетах на месте, – парировал Плюшкин. – В драке, сама понимаешь, они бы просто оторвались, а тут аккуратненько расстегнуты. Правая манжетка, правда, помята, как будто его за руку кто-то хватал, но следов хватания на запястье я не вижу, по крайней мере невооруженным глазом.
– Посмотришь на вскрытии? – Арина до сих пор еще путалась между «ты» и «вы», самому же медику было, кажется, все равно, как к нему обращаются.
– Куда ж я, душенька, денусь, посмотрю, конечно. Но, в общем и целом, следов борьбы пока не вижу. Потом, гляди, направление выстрела правильное. То есть, не направление раневого канала, конечно, его мы потом на снимочке посмотрим, а место входа пули и форма отверстия. Правда, следов на коже почти нет, в смысле, пистолетик он держал малость поодаль, к виску не прижимал, иначе ожог был бы, порошинки возле, штанцмарка дульная, ну сама знаешь, не маленькая.
– А если кто-то другой держал пистолет на уровне его плеча, – перебила Арина, – тогда направление правильное было бы?
– Точно так, лапушка моя, – согласился медик. – Но гляди опять же сама. В момент выстрела он стоял вот тут, около балконной двери – видишь, брызги как легли, и как он упал? И никто тело, заметь, не двигал, видишь, как кровь из входного отверстия распределяется? И что это значит? Вот просто так стоял, пока кто-то примеривался, как поточнее ему в висок стрельнуть? Все-таки опер, хотя и бывший. И не связывали его. Не били… вроде бы… это тебе поточнее после вскрытия все досконально обрисую, но на беглый взгляд непохоже, чтоб били. Совсем не похоже.
– Может, опоили чем?
– Это пусть токсикологи скажут. Но запахов посторонних я не чую, цвет кожи, склеры и слизистых тоже нормальный. Алкоголь, конечно, может присутствовать, но не в критических дозах, иначе опять же запашок еще остался бы. Дверь входная не заперта – самоубийцы часто так делают.
– А если бы она захлопнулась? – предположила Арина.
– Там такой замок, Арина Марковна, – буркнул Молодцов, – что мама не горюй. Ни открыть просто так, ни закрыть.
– Ключи нашли?
– Найдем, куда они денутся, – хмыкнул опер.
– В карманах покойника ключей нет, – сообщил Плюшкин. – Но, в общем и целом, я бы на твоем месте не сомневался. И записка наличествует, хотя и странного содержания, но собственноручная вроде бы. Я, конечно, не почерковед, но, сама понимаешь, цидулок таких навидался. Твердая рука, ровные строчки – вполне трезвый человек писал. Думаю, найти какие-нибудь бумаги, которые достоверно он писал, и сравнить почерк, с этим проблем не будет.
– Да он это писал, что я, шубинского почерка никогда не видел, что ли, – мрачно сообщил сунувшийся в дверь Молодцов.
– Ладно, ладно, не тупая. – Арина начала сердиться на саму себя. – Я уже осознала, что тут чистый суицид, а у меня профессиональная паранойя. Но ручку, которой он предсмертную записку предположительно писал, изымем для графологов. Семен Семеныч, тогда пульку сразу баллистикам, пусть сравнят – и в архив. Ну и почерк тоже сравним – для очистки совести. А так романтично начиналось… – она вздохнула. – Выстрел в полночь…
– Эй, ты чего, какая полночь? – возмутился Плюшкин.
– Как – какая? Он же в полночь застрелился, разве нет? И соседка слышала. Погодите… А когда он… В смысле, как вы полагаете, когда он…
Медик раздраженно дернул плечиком:
– Ну… по температуре и степени окоченения судя, часов шестнадцать назад. Плюс-минус, конечно.
– Плюс-минус сколько? – Арина рефлекторно взглянула на часы: десять вечера. Двадцать два то есть. Минус шестнадцать… это четыре утра? да нет, не может быть! – Соседка говорит, – уточнила она, – выстрел в районе полуночи слышала.
– Да ты что! – возмутился Плюшкин. – Какой полуночи? Не знаю, чего там соседка слышала, но часа в четыре утра он застрелился. Ну в три еще туда-сюда, хотя уже сомнительно. Сама смотри, если мне не веришь. Он еще до температуры окружающей среды остыть толком не успел. При том, что на дворе отнюдь не плюс тридцать. Уточнить еще уточню, конечно, но ориентировочно я тебе сказал. А ты говоришь – в полночь. Типа почти сутки назад. Не может быть. Выхлоп соседка эта слышала какой-нибудь. Или кто-нибудь боевик смотрел. Так что про полночь забудь.
Размышляя о несоответствии свидетельства судебного медика и показаний соседки – впрочем, та и сама ведь сказала, что выстрел мог быть «из телевизора», – Арина осмотрела скудное содержимое гардероба.
– Слушайте, товарищи, а что тут вообще подтяжки делают, если у него все штаны на ремне?
– Ну, может, какие-то с ремнем носил, а какие-то так, – буркнул Зверев. – Вопрос удобства и личных привычек.
– Хм. Мне казалось, что мужчины предпочитают что-то одно.
– Например, блондинок, – хохотнул Лерыч. – Ты обстановку описала?
– В общем и целом. Остальное – по фототаблицам и изъятым материалам. Ты же все отснял?
– В лучшем виде! Смотреть тебе не пересмотреть. Давай еще под и за диваном поглядим? На всякий случай. А потом уж ящики стола и все, баиньки поедем.
За диваном, вопреки ожиданиям, было довольно чисто. Луч фонарика высветил лепившиеся к плинтусу лохмотья пыли, но ничего похожего на вековые залежи мусора, как можно было бы ожидать у пьющего отставника, не наблюдалось. Лерыч, светя то вдоль пола, то сверху, за диванной спинкой, только хмыкал равнодушно.
Но вдруг тон хмыканья изменился:
– Глянь-ка, Арина Марковна, на стену.
– А что… – но она уже увидела.
Изрядно потертые обои были испещрены многочисленными точечными следами…
– От чего это? Он что, булавки в стену втыкал?
– Именно булавки, – подтвердил Зверев. – Ну и кнопки тоже. А я-то понять не мог, почему в кухонном ведре такая их куча. Погнутые, поломанные, какие-то ржавые, какие-то совсем свежие. Сама поглядишь. Прикалывал что-то на стену, чтобы все время перед глазами было. Над столом оставил, видишь, целый иконостас, а тут поснимал, значит.
Три ряда фотографий, на которые Арина уже обратила внимание, занимали всю стену над столом: семь, восемь и опять семь. Значит, и на другой стене, над диваном, было что-то в этом роде?
– Поснимал, – задумчиво повторила Арина. – И куда дел?
– Думаю, все на столе. Как будто для нас приготовлено… – Лерыч, хмыкнув, покрутил головой.
Действительно, похоже, подумала Арина. Посередине девственно чистого стола под тремя рядами фотографий – предсмертная записка, прижатая толстой ручкой в металлическом корпусе. Слева – аккуратная стопка пухлых канцелярских папок. Арина намеревалась изучить их уже в собственном кабинете. Но сейчас открыла верхнюю – да, Лерыч был прав, на сложенных внутри документах – по крайней мере на верхних – отчетливо виднелись булавочные проколы. Раз Лерыч все уже отснял, значит, можно паковать и изымать «как для нас приготовленные» вещдоки. Даже если дела никакого не будет, но порядок есть порядок.
Зверев тем временем исследовал небогатое содержимое двух ящиков письменного стола. В верхнем аккуратно размещались канцелярские принадлежности и старенький мобильник, в нижнем – пистолет Макарова.
– Арин, а из него недавно стреляли.
Она подшагнула, наклонилась – да, эту струящуюся из распахнутого ящика горько-кислую вонь было вряд ли можно с чем-то перепутать. Из покоящегося в ящике пистолета стреляли совсем недавно.
Квартира встретила Арину тишиной, только дремавший на сдернутом с вешалки шарфе кот Таймыр. приоткрыв один глаз, коротко муркнул – не то поздоровался. не то выразил недовольство поздним возвращением. Неужели все уже спят? Впрочем, из стеклянной кухонной двери тянулась желтая световая дорожка. Сбросив кроссовки, Арина осторожно заглянула внутрь.
Спиной к обеденному столу, точно под центральным плафоном сидела на табуретке племянница Майка. Столбиком, забравшись на сиденье с ногами и подтянув к подбородку худые коленки в развеселых пижамных ромашках. Как воробей на жердочке, подумала Арина и тут же усмехнулась – почему на жердочке? Воробьи сидят на ветках, на подоконниках, на карнизах, в конце концов – откуда взялась эта самая жердочка?
– Ты чего на табуретке ютишься? На диване же мягче.
– Мягче, – согласилась Майка, поелозив остренькими кулачками по явно слипающимся глазам. – Я там засыпаю, – серьезно объяснила она.
– А ничего, что кому-то завтра в школу вставать?
– Вообще-то завтра суббота, – фыркнула та. – Да я бы все равно дождалась. Только тебя все нет и нет, – сонно вздохнула она, подавляя зевок. – Новое дело?
Арина вздернула бровь – мол, с чего ты это взяла? Было у них с Майкой что-то вроде игры: откуда ты это знаешь и почему думаешь, что знаешь? Племяшка была наблюдательна, как почти все дети, и складывать наблюдения в связную «картинку» выучилась быстро. И пусть выводы оказывались иногда довольно неожиданными, в отсутствии логичности их упрекнуть было невозможно.
– Во-первых, тебе позвонили, и ты ушла. Не на свидание – не наряжалась, не выбирала, что надеть. И на свидания ты после Питера, по-моему, и не ходила ни разу. А сейчас у тебя такое лицо… специальное. Как будто глаза не наружу, а внутрь головы смотрят.
– Так, может, я над каким-то из предыдущих дел думаю.
– Не, – Майка помотала головой. – Когда что-то новое, глаза шире. Как будто ты немножко удивляешься… – и тут же деловито перешла к бытовым вопросам. – Лиза котлет накрутила, будешь? – она соскользнула с табуретки, всем видом выражая готовность быть полезной.
– Ужин. Котлеты, – повторила Майка, не дождавшись ответа.
Сморщив нос, Арина помотала головой.
– Неприятное дело? – осторожно спросила племяшка.
– Не знаю пока. Странное. На первый взгляд вроде все очевидно, а присмотришься – что-то не то.
– Тогда тем более нужно поесть, – назидательно сообщила девочка. – Ты же сама мне говорила, что мозг, хоть и маленький, а энергии съедает как все мышцы вместе взятые.
– Не все, а примерно половина, – добродушно уточнила Арина. – Но в общем, да, мозг – прожорливая зверюха. Только не хочется никаких котлет. Может, чаю? – жалобно протянула она.
– И бутерброд, – твердо поправила ее племянница. – С рыбой. Для мозгов полезно. Чтоб лучше соображать.
Безнадежно вздохнув, Арина показала указательный палец – дескать, один только. А то с Майки станется целое блюдо настрогать, да еще и заставить съесть.
Пижамные ромашки превратились в один сплошной вихрь, заполнивший, казалось, всю кухню.
Через несколько минут пузатый расписной чайник исходил вкусным свежим паром, а на тарелочке – с голубой каемочкой, разумеется – красовалось… нечто. Хитрая Майка, приняв к сведению Аринино «один», постаралась на совесть. Назвать это сооружение бутербродом можно было разве только с точки зрения классификации – мол, не торт, не салат и не жаркое. Архитектурный шедевр, а не скромный вечерний «перекус». Хлебного «фундамента» было вовсе не видно, верхние «этажи» золотились шпротными боками, розовели чем-то вроде тунца, алели напластанным помидором, кудрявились натыканными там и сям укропными вихрами. Пахла конструкция столь же сногсшибательно, как выглядела.
– Ты думаешь, я бегемот? – ужаснулась Арина. – Как это есть?
– Ртом.
– Он же в меня не поместится. Или развалится.
Майка презрительно дернула ромашковым плечиком. Впрочем, зная ее, Арина не сомневалась – сооружение достаточно устойчиво. Она предвкушающе принюхалась, примерилась… но в руку ткнулся стакан. С кефиром!
– Ма-ай! Я не просила…
– Вот заработаешь язву… – строго парировала та.
Это было уже бабушкино. То есть мамино. Именно этой фразой Елизавета Владимировна выдергивала мужа из-за рабочего стола.
– Мр-ря! – требовательно протянул явившийся из прихожей Таймыр. Надо полагать, шпроты учуял. Арина потянула было из бутерброда одну, но, покосившись на Майку, остановилась. Девочка строго покачала головой и, выложив на блюдце пару рыбешек, поставила плошку перед Таймыром. Недовольно муркнув – мол, это-то теперь уж не отнимут, но как насчет вон того вкусного, что у вас там – после некоторого размышления все-таки принялся за «собственные» шпроты.
Когда от грандиозного бутерброда не осталось ни крошки, Арина сладко потянулась:
– Чай – потом. Пошли?
Майка спрыгнула с табуретки и засеменила впереди, направляясь в свою «берлогу» – бывшую кладовку, где на трех квадратных метрах разместились кроватьчердак, стол, полочки-ящички и даже узенький гардероб, в который упиралась ведшая на верхний, спальный «этаж» лесенка.
Отход ко сну – если Арина была дома – происходил раз и навсегда заведенным чередом.
Арина усаживалась на верхнюю ступеньку (голова при этом почти упиралась в потолок, но что с того), Майка сворачивалась под одеялом, цеплялась за Аринину руку, и они «разговаривали разговоры».
Сегодня, конечно, никаких разговоров не вышло – племяшка отключилась, едва положив голову на подушку.
Обязательный ритуал, впрочем, нарушен не был, а это – главное, улыбалась Арина, наполняя полулитровую толстостенную кружку не успевшим остыть чаем и плюхая в него толстый кружок лимона. Доставив это богатство в свою комнату, пристроила кружку на ближайший к дивану угол стола, плюхнулась поближе, подоткнула под спину толстую длинную подушку и опять потянулась.
– Ты поужинала? – строго осведомилась, вплывая в комнату, Елизавета Владимировна.
– Угу. От Майки не отвяжешься.
– Я об этом и хотела с тобой поговорить. Да, у них пятидневка, так что завтра можно и подольше поспать. Но с этими «я Арину дождусь» нужно все-таки что-то делать. Девочке нужен режим, ты же понимаешь? С такой наследственностью систематичность и стабильность должны впитаться сызмлада. Во избежание серьезных проблем в более взрослом возрасте.
– Ма-ам! – чуть не взвыла Арина. – Сколько можно? Федькина экс-супруга была просто дура! И ее прыжки по эзотерическим практикам – лишь проявление этой самой дурости. И это, слава всем богам, не наследуется. Ясно, что режим такому активному ребенку нужен. Но, в конце концов, традиция вести разговоры перед сном – это ведь тоже режим, разве нет? Девчонка учится работать с собственным мозгом, и это, на мой взгляд, куда важнее, чем подъем и отбой по одному и тому же свистку будильника. Мы миллион раз все это обсуждали.
– Ну ладно, ладно, – закивала Елизавета Владимировна. – Ты спать?
– В общем и целом.
– Спокойной ночи, – она чмокнула дочь в макушку и отбыла.
Арина облегченно вздохнула. Про котлеты мама не вспомнила, а то пришлось бы еще минут пятнадцать оправдываться. Почему некоторые накручивают столько сложностей вокруг простейших вещей? Так что на действительно важное ни времени, ни сил уже не остается.
– Мр-ряк, – согласился притаившийся в углу Таймыр.
Вспрыгнул мягко на спинку дивана, походил, выбирая место, потоптался немного и улегся, свесив пушистый, не хуже чем у лисы, хвост.
– Та-ай! – возмутилась Арина – кончик хвоста оказался прямо возле ее носа.
– Мы-ыр? – ответил кот. Собственно, именно так он когда-то и получил свое имя.
– Тай! – повторила Арина, поскольку убрать хвост он и не подумал. – Ты красавец, и хвост у тебя всем на зависть, но мне же так неудобно.
– Мы-ыр… – лениво протянул кот, сползая наконец с диванной спинки вниз.
Дернул недовольно плечом, боднул Аринины ноги – подвинься, дескать, раз уж сверху согнала, дай хоть здесь как следует устроиться – и наконец улегся клубком, включив «тарахтелку».
Она погладила шелковый кошачий лоб, пристроила на коленях блокнот и стала быстро-быстро заполнять клетчатые страницы только ей одной понятными каракулями.
Значит, первое – дверь. Слово «дверь» она написала покрупнее и кружочком обвела.
Вполне возможно, покойный сам не стал ее запирать, чтобы тело поскорее нашли. Чего-чего, а «старых» трупов он за свою работу наверняка навидался, наверняка не хотел «гнилушкой» выглядеть. Порядок в квартире, кстати, говорит примерно о том же. Не суть, специально ли перед смертью Шубин чистоту наводил или всегда был аккуратистом, ясно – беспорядок был ему неприятен.
Стоп. Нахмурившись, она написала чуть ниже «пыль». Раз под диваном – пыльные залежи, пусть и небольшие, но залежи, значит, чистоту Шубин наводил не прямо перед самоубийством. Значит, общий порядок в квартире – это не сиюминутный приступ аккуратизма, скорее привычка.
С дверью, однако, такой ясности нет. Если он не сам застрелился, дверь мог оставить открытой убийца. Но уже не «зачем-то», а «почему-то». Потому что дверь не захлопывается, а ключей он не нашел. Они и сами их едва отыскали – в потайном кармане висевшей в прихожей кожанки – специально ли покойный их так прятал или тоже привычка? Сейчас уже не спросишь. В общем, открытая дверь версию самоубийства ни подтверждает, ни опровергает.
Затем – орудие. Почему – «беретта»? Почему не привычный, как зубная щетка, «макаров»? Да и откуда она взялась, эта «беретта»? Нет, разумеется, ничего необыкновенного в том, чтобы у бывшего опера сохранился неучтенный ствол. Но в то же время… шубинская ли это «беретта»? Ох уж эти опера с «завалявшимися» в сейфе пистолетами. Табельное-то оружие, выходя в отставку, сдают – если не наградное, конечно – а вот «завалявшееся»… И что, если «беретта» – посторонняя? Тогда все очень даже логично: некий посетитель выстрелил… а Шубин даже достать свой ПМ не успел.
Правда, Плюшкин говорит, что угол вхождения пули правильный, а следов борьбы нет. Достать ПМ старый опер, может, и не успевал, но, к примеру, уклониться, упасть, схватить гостя за руку – это ведь на уровне рефлексов, это он успел бы. Разве что доверял владельцу «беретты» и позволил зайти со спины. Балконная дверь нараспашку, значит, и отражение в стекле не предупредило бы об опасности.
Да, так могло быть.
Вот только все это никак не объясняет безумного – семь убийств он, видите ли, совершил! – предсмертного «признания». Или… объясняет? Что, если шубинская записка – никакое не предсмертное признание? Там ведь ни слова о намерении покончить с собой. Может, у него были совсем другие планы?
Планы, которые разрушил неизвестный гость с «береттой» в кармане.
Гость? Посреди ночи? Впрочем, почему нет.
Вытащив телефон, Арина на минуту задумалась. Начало двенадцатого, считается, что в такое время звонить уже неприлично, разве что самым близким людям. Но, с другой стороны, опер и следователь – куда уж ближе. Да и с места они отбыли в одиннадцатом часу, Мишкин только-только до дому успел добраться и поужинать.
И, кстати, она ведь так и не спросила Стаса про «психа», который ее остановил: девушка, сюда нельзя. Забыла. А сейчас вдруг вспомнила.
Номер молодцовского напарника, естественно, размещался в списке самых частых вызовов. Гудки накатывали длинно, протяжно, уныло – пятый, десятый, тринадцатый… неужели Стас уже спать завалился? Ладно, сейчас автоматический голос сообщит, что абонент на вызов не отвечает и тогда уж придется ждать до завтра. Или оставить голосовое сообщение?
Она принялась было формулировать вопрос, но в трубке щелкнуло.
– И тебе не хворать! – весело пожелал голос мишкинской жены.
Отведя телефон от уха, Арина несколько растерянно посмотрела на экран – нет, все правильно, Стас Мишкин.
– И ведь как хорошо мой-то устроился, – продолжала веселиться мишкинская половинка. – Работа, видите ли, и ничего не попишешь. Звонок – и полетел на свидание. Где уж мне, серой мышке, с тобой, молодой и красивой, соперничать? Слушай, Арин, – деловито продолжила она, – давно попросить хотела. Ты меня заранее предупреждай, а? Я тогда бы кого-нибудь приглашала, чтоб меня, брошенную и одинокую утешали. Вон Стефан Робертович уж так соблазнительно мне улыбается, так улыбается, а я все ни-ни-ни, глазки долу, мужняя жена, тишь да гладь, божья благодать, светлых глаз нет приказу поднимать…
Арина опознала упрощенную ахматовскую цитату – опознала не вдруг, с секудной задержкой. Маринка-то «мыслями великих» оперировала легко и свободно. Не оперировала – разговаривала. Как дышала. Ну еще бы, это ж жизнь ее! Стефан же Робертович Лещинский возглавлял гимназию, где мишкинская супруга преподавала русский язык и литературу.
– Насчет молодой, пожалуй, – рассмеялась Арина, – а про красивую перебор, не думаешь? Первая красавица у нас Эльвира.
– Фу-у-у! – перебила Маринка. – Во-первых, она не во вкусе моего дражайшего, больно уж вамп, а во-вторых, она ж с младшим Пахомовым любовь крутит. Стасу благородство не позволит у коллеги девушку отбивать.
По паспорту мишкинская супруга числилась Тамарой, но звали ее почему-то то Марикой, а то и вовсе Маринкой. Лишь сам Стас упрямо именовал супругу Томкой. Арине казалось, что это мягкое имя саркастичной Маринке совсем не подходит, но Мишкин, надо полагать, знал свою ненаглядную лучше. Это для всех она – язва с язычком острее золингеновской бритвы, а с ним, может, нежнее лебяжьего пуха.
– Сам-то где, дражайший и благородный который? – проговорила Арина сквозь смех. – Неужели уже баиньки? И поужинать не успел, бедненький? Уработался?
– В ванне булькает, – собщила Маринка. – Пойду гляну, может, прямо там заснул. Или утонул… тоже вариант… буду молодая вся из себя прекрасная вдова… что добавляет интересности, согласись? – томно протянула «вся из себя прекрасная».
– Не дождешься, – раздался на заднем плане мягкий и округлый, как сам Мишкин, баритон. – Привет, Вершина! – голос приблизился. – Чего людям спать по ночам не даешь?
Он сказал «людям» с ударением на втором слоге. Стас частенько имитировал простонародный говор и вообще любил прикидываться валенком – добродушным недалеким увальнем – уверяя, что лучшей манеры для опера не сыщешь. И в самом деле, разговорить он мог самого равнодушного, а то и откровенно недружелюбного свидетеля.
– Ты ведь, Вершина, разрушаешь семейный очаг бедного опера, – продолжал он совершенно серьезным, даже печальным голосом. – Вот выгонит меня Томка, придется к тебе на иждивение переходить. Ты готовить-то умеешь? Я люблю долму и пирожки с картошкой, только луку чтоб побольше, такого, поджаристого, рыженького, и чтоб жареные, не печеные.
– С твоим пузом только пирожками увлекаться.
– Что б ты понимала! – радостно возмутился Стас. – Борцов сумо видела? Вот у них – пузо. И то ничему не мешает, а наоборот. А у меня – пузико максимум. Меня еще кормить и кормить. Тем более у меня, в отличие от сумоистов, основной рабочий орган – мозг. Ему питание нужно, – вещал он очень серьезным голосом. – Ну так что там у тебя с кулинарными навыками? На случай, если у Томки терпение лопнет.
– Ой, я тебя умоляю! Скорее египетский сфинкс в пляс пустится. Можно подумать, она первый день замужем, и только что открыла для себя странные особенности совместной жизни с опером. Хватит балабонить, давай по делу, а? Пока она тебя за излишне долгие разговоры с молодым красивым следователем – это не я, это она так про меня сказала – пока она тебя без ужина не оставила, – Арина едва удерживалась, чтобы не хихикать.
– Чего хотела-то, молодая красивая? – уже деловито поинтересовался Стас. – Вроде только-только расстались.
– Ну да, только что. Ты ж мне ничего толком и не рассказал.
– Ну мать! – перебил Мишкин. – Ты же знаешь, если б было «чего», на блюдечке бы принес. Всех соседей обошел, весь подъезд то есть. Бесполезняк пока.
– А камеры…
– Какие камеры, окстись! Избаловались вы, господа следователи! Ну и мои коллеги тоже не без греха. Нет чтоб как раньше – топ-топ, поквартирный обход, да не по одному разу, нет, всем сразу записи видеонаблюдения подавай, да еще нос воротить изволят, когда картинка недостаточно четкая. Нету там камер. Нетушки. Простой дом, каких сто тысяч. Даже какой завалящей торговой точки поблизости, и то нет.
Арина задумалась:
– Ну, может… многие домофонные компании свои табло дополняют еще и камерами, ну чтоб домофоны не ломали.
– Не многие, а сугубо некоторые, – хмыкнул в трубке Стас. – На твоем подъезде, кстати, простой домофон, без изысков. Сказал же, нету там камер. Придется по старинке, с живыми свидетелями работать. А их еще поди найди. Пока что никто ничего не видел, не слышал. Мамашка молодая сверху что-то вроде выстрела слышала, так я тебе про то уже доложил.
– С соседями понятно. А как насчет местного контингента? Есть там кто-нибудь?
Контингентом привычно именовались бомжи и прочая неопределенная публика.
– Контингент-то везде есть, как не быть. Но тебе оно надо? Если мы на каждом самоубийстве станем весь могучий оперативный организм задействовать, что ж на серьезные дела останется, износится организм-то, а?
– Ну Стас, лапушка! – жалобно перебила Арина.
– Да ладно, ладно. Я разве против. Степаныча жалко. Кое с кем из местной публики словечком переброситься я нынче успел.
– Солнце мое!
– Покамест не твое, не лапай! – строго осадил Стас. – Шубина контингент, ясен пень, знает. Бывший опер, не абы кто. Но сказать толком про него им нечего. Жил тихо, вдупель не напивался, а если и напивался, исключительно по месту проживания, то есть никто его «на бровях» не видел.
– А соседка говорила, – вспомнила Арина, – что он ключом в скважину попасть не мог, она сама видела.
– Ну, соседка… Может, и видела, а может, показалось. В общем, человек, говорят, был мирный, бомжам от него никаких неприятностей не было. Да и никому вроде бы. Пил или нет – кто его знает, но буйства во дворе не устраивал, даже по голубям с балкона не палил. Как, знаешь, некоторые отставники, вон сегодня тоже один поразвлекался, слышала, небось, спасибо хоть не наш.
Пострелять с пьяных глаз – этим грешили не только отставники, но и действующие сотрудники. Хуже всего, на Аринин взгляд, было то, что на подобные «шалости» начальство, как правило, закрывало глаза, оправдываясь: работа, видишь, у оперов нервная, бывает, что и срываются ребятки. Обошлось? И ладушки. Чего сор из избы выносить, вполне можно за закрытыми дверями разобраться. Разборки за закрытыми дверями заканчивались очередным «больше чтоб такого не было»… и все шло по-прежнему. Все всё понимали и все всё «понимали и прощали». Лишь бы до совсем вопиющих случаев не доходило. Она же была уверена: «вопиющие» случаи – с членовредительством, а то и со смертельными исходами – прямое следствие предыдущего попустительства.
– Да ладно, не горюй, – утешил ее Стас. – Завтра еще с кем-нибудь побалакаю. Хотя на твоем месте я особо ни на что не рассчитывал бы. Тебе ж надо свидетеля, который бы видел кого-то возле шубинской квартиры? А контингент, сама понимаешь, не в подъезде торчит, они если и видят что, то во дворе. Так что сама понимаешь, сколько шансов.
– Да я и не рассчитываю, – устало проговорила Арина. – Просто надо все отработать.
– Вгрызаешься, как будто заказное убийство первого вице-мэра расследуешь. Хотя в чем-то ты, Вершина, и права. Мне и самому трудно представить, чтоб Степаныч вот взял и себе в голову пальнул. Кремень мужик… был. Такого не своротишь. И на тебе. Странно это как-то.
– Кстати, о странностях. Я когда в шубинский двор зашла, на меня какой-то тип наскочил: сюда, говорит, девушка, нельзя. Я думала, из пэпээсников кто-то, но Молодцов божится, что нет. Он, кстати, этого типа видел, только издали, тот, когда патрульная машина свет врубила, моментально смылся, так Иван Сергеич решил, что это меня кто-то провожал до места.
– Из контингента кто-то? – деловито уточнил Мишкин.
– Не думаю. Приличный дядечка. Ну или парень. Одежка чистая, ну, насколько я заметила, и не воняло от него. Вроде и ерунда, но, согласись, тоже немножко странно.
– Может, робкий юноша так знакомится?
– Может. Хотя место странное выбрал.
– Вершина, тебе после Питера везде маньяки теперь будут мерещиться? Не, я не спорю, того ты виртуозно изловила, но они ж не пачками по улицам всех подряд городов бегают.
– И все-таки, согласись, эпизод какой-то мутный.
– Это да, – соглашаясь, вздохнул Мишкин. – Может, псих какой-то местный? Из тихих и безобидных?
– Потому тебе и рассказала. Если местный псих, значит, кто-то из участковых его знает, а у кого с ними лучше всех контакт налажен? Ну просто чтоб выкинуть уже эту ерунду из головы, а?
– Эксплуатируешь, товарищ следователь, безответного опера, – жалобно сообщила трубка и отключилась.
Она вовсе не собиралась спать! Ей нужно было подумать, а вовсе не спать! И глаза она прикрыла просто чтобы сосредоточиться, а вовсе не…
Сон навалился теплой уютной периной, потянул в темную глубину, в глухой морок…
Там, внутри, Арина снова осматривала шубинскую квартиру, слегка поварчивая на то, что все куда-то подевались. Что за фокусы, в самом деле! Ладно Молодцов с Мишкиным, они, наверное, понятых, чтоб протокол осмотра оформить, ищут, но куда делись Зверев с Плюшкиным? Она что, без медика должна осмотр тела дописывать?
Мертвый Шубин никуда не делся, лежал себе на крашеных досках тихонько. Только расстегнутый рукав рубашки слегка шевелился от сквозняка из распахнутой балконной двери.
В самом деле, куда все разбежались?
Нет, ей не было страшно, конечно. Просто… неприятно. Глухое безмолвие пустой квартиры, колеблющаяся манжета рубашки. Неприятно. Хотя чего бояться? Лежащий на полу Шубин давно и бесповоротно мертв.
Да и она – не трепетная девочка-ромашка, а следователь. И пистолет у нее под рукой! Даже два!
«Беретты», однако, на полу не было. И «макарова» в приоткрытом ящике шубинского стола – тоже.
Ах да, мы же их уже изъяли, в смысле упаковали и… И что? Зверев их к себе в сумку положил? Арина нахмурилась, припоминая.
– Девушка, сюда нельзя!
Арина обернулась так стремительно, что в голове зазвенело, а в глазах замелькали острые белые звездочки.
Мертвый Шубин стоял во весь свой немаленький рост и смотрел на нее мутными мертвыми глазами.
Нет, не смотрел.
Целился.
Как будто целился.
В левой руке у него были те самые подтяжки, а правой он их натягивал – как гигантскую рогатку.
Щелк!
Металлическая подтяжечная клипса ударила Арину в щеку – сильно.
И больно.
Шубин опять натянул свою «рогатку» и опять «выстрелил»…
Больно же!
Вздрогнув, она открыла глаза.
Таймыр сидел возле ее головы и уже занес лапу – ударить по щеке еще раз.
– Ты с ума сошел? – возмутилась Арина, уклоняясь и хватаясь за щеку. Царапин под пальцами, как ни странно, не обнаружилось, бил Таймыр мягкой, без когтей, подушечкой.
– М-ну?
Одновременно с кошачьим возгласом раздалось странное глухое жужжание.
На столе что-то светилось. Не что-то – телефон! Точно, она же звук отключила, вот он и… жужжит. С экранчика улыбалась добродушная мишкинская физиономия.
– Ты с ума сошел? – хрипло возмутилась Арина, нажав «принять».
Мишкин – там, на другом конце несуществующего провода – кажется, удивился:
– Ну ни фига себе! Ты уже спишь, что ли? Получаса не прошло.
Отодвинув телефон от уха, Арина взглянула на цифры в углу экрана – оказывается, проспала она совсем чуть-чуть.
– Прости, Стас, сама не знаю, как задремала. Да еще звук у телефона отключила, меня Таймыр разбудил.
– Пора твоего красавца нештатным консультантом оформлять, – засмеялся Мишкин. – Короче. Нету в окрестностях никого похожего на твоего знакомого.
– Какой он мне знакомый?
– Ну незнакомца, – покладисто исправился Стас.
– В окрестностях – это что значит?
– Это значит, что я четыре соседних участка обзвонил. Не с другого же конца города он в этот двор приперся. Это я так думал. Но, получается, мог и с другого. Потому что примерная внешность плюс модус операнди – если псих, он же всегда одинаково будет действовать, правильно? – короче, не знают такого.
– Может, он недавно в этот район переехал?
– Может, – согласился Мишкин. – А может… – он помолчал. – Журналист это не мог быть?
– Посреди темного двора? Ни с того, ни с сего?
– Тоже верно. От него точно ничем не пахло?
– Туалетной водой пахло! – сердито буркнула Арина. – Не помню, как называется, мужское что-то. Алкогольного выхлопа не было. В смысле такого, когда прям спичку подноси. А если он слегка был выпивший, я могла и не учуять, между нами метра два было. Ну и опять же, если под веществами какими-то, тоже не унюхаешь. Только травку, но травкой тоже не пахло. И, знаешь, глаза не как у наркоши.
– Ты и глаза рассмотрела? В темноте?
– Когда Молодцов меня окликнул, а в патрульной машине фары включили. Доля секунды, но да, пожалуй, рассмотрела.
– Кроме глаз еще что-нибудь разглядела? – деловито спросил опер. – На фоторобот хватит?
– Ста-ас! Ну какой фоторобот, зачем?
– На всякий случай. Хотя и впрямь глупо. Ладно. Наркош и алкашей исключаем. А вот если молодой человек принял чуть-чуть и его понесло с девушкой знакомиться, такое возможно?
– Странную фразу он для знакомства выбрал, не находишь?
– Да мало ли! Может, охранником в супермаркете работает или детектив какой-нибудь только что смотрел, прицепилась фразочка. Ну или это твой персональный поклонник. Как вариант.
– Думаю, персонального поклонника тоже исключить можно. Если поклонник, должен был за мной от дома идти, а сам знаешь, когда тебе в спину смотрят, по спине мурашки бегают.
– Тоже верно. Значит, остается не имеющий значения казус?
– Похоже на то, – Арина почувствовала, что давешний «эпизод» из подозрительного превратился наконец в глупую, но незначащую случайность. – Спасибо, Стас.
– Нема за що. Извини, что разбудил.
– Наоборот. Спасибо и за это тоже. Мне какая-то мутная гадость снилась. Представляешь, мертвый Шубин в меня из рогатки стрелял!
– А все почему? Потому что ты у нас девушка одинокая. Мне когда кошмары снятся – с нашей-то работой не редкость – меня Томка сразу торк в бочок. Или просто обнимет, никакой кошмар против этого не устоит. Так что жениться вам надо, барин. Вредно спать одной, Арина Марковна. Может, тебе коньячку на сон грядущий принять? Или хоть валерьяночки? Для успокоения нервов?
– Да нет, сейчас под душем постою и окончательно все пройдет. Спокойной ночи.
– И тебе не хворать, – засмеялся, отключаясь, Мишкин.
День второй
– Ты, часом, не возбуждаться ли собралась?
Арину всегда веселило специфическое использование глагола «возбудить-возбуждать» в профессиональном контексте. Ясно, что речь в подобных случаях шла о возбуждении дела, но звучало забавно. Сейчас, однако, было не до квазилингвистического веселья. Не время и не место.
Полковника юстиции Павла Шайдаровича Пахомова за глаза называли ППШ. Как знаменитый пистолетпулемет. Не забалуешь.
– Не знаю, Пал Шайдарович. Пока вроде явное самоубийство, но…
Кабинет был просторный, угловой, о два окна. Одно, полускрытое бледно-желтой кудрявой шторой тонкого шелка, из-за чего даже в пасмурный день кабинет наполнял теплый «солнечный» свет, располагалось прямо за спинкой пахомовского кресла, другое – слева от двери. Рядом с этим окном висел здоровенный телевизор, под ним – пухлый кожаный диван цвета кофе с молоком. Арине это казалось нелогичным. Диван должен ведь располагаться напротив экрана, разве нет? Но стену напротив телевизора сплошь занимали скучные черные стеллажи – даже не застекленные! На полках – ни статуэточки, ни сувенирчика – только кодексы, справочники и бесконечные ряды массивных пластмассовых папок. Часть их периодически перекочевывала на стол – такой же темный, как стеллажи, громадный, подковообразный, развернутый несколько вкось. Под доходящей почти до окна частью подковы прятался сейф, а из передней выпуклости росла длинная «совещательная» столешница, из-под которой торчали темно-серые спинки стульев. Как акульи плавники из волн, думала иногда Арина.
Единственным, кажется, личным предметом в этом царстве официальности была небольшая фотография в простой стальной рамке, как правило, невидимая за покрывавшими стол стопками и россыпями бумаг, книг и папок. Разве что иногда солнечный луч из-за спины Пахомова дотягивался до рамки. Скользящий серебристый взблеск тоже почему-то напоминал о море. На снимке – Арине рассказала Ева – была пахомовская жена. Погибшая лет пятнадцать назад. Погибшая глупо, бессмысленно. Да, так можно сказать про любую смерть, но… неудачно удаленный зуб, воспаление, по распространенной женской привычке не принятое всерьез, ураганный сепсис… что это, как не глупейшая ухмылка дурацкой судьбы? Их сына, Виктора, опера того же РУВД, что и Молодцов с Мишкиным, за глаза именовали Сыночком.
– Докладывай, – поторопил ее владелец кабинета.
– Во-первых, время. Соседка слышала выстрел около полуночи, а время смерти – около четырех утра.
– Кто выезжал?
– Плюшкин.
Пахомов кивнул.
– А соседка как?
– По-моему, нормальный свидетель. Не сочиняет.
– Телевизор?
– Возможно. Хотя странно. Посмотрел телевизор и застрелился?
ППШ промолчал, только смотрел выжидательно.
– Второе. В квартире порядок. И это не предсмертная генеральная уборка, а… В общем, это не логово отчаявшегося алкоголика, а жилье человека, который свою жизнь контролирует.
– Медкарту запросила? И финансовые дела попроси Оберсдорфа глянуть.
Ну да, если речь заходит о самоубийстве, первая мысль – не было ли у человека болезни какой-нибудь безнадежной и мучительной. Или долгов неподъемных.
– По финансам Левушка мне скоро перезвонит, а по медицине пусть сперва Плюшкин поглядит, может, и без медкарты все ясно будет.
– Мне тоже не верится, чтоб Степаныч вот так… – сказал вдруг Пахомов. – Не тот человек.
– Все так говорят, Пал Шайдарович, слово в слово. Не тот человек. Чужая душа, конечно, потемки, но, по-моему, это было во-вторых. В-третьих, с оружием есть неясность. Летальный выстрел был сделан из «берет-ты», ну, по крайней мере она там рядом лежала, еще подтверждение от баллистиков нужно, когда Плюшкин пулю извлечет.
– Не тяни.
– Из «макарова», что в ящике стола лежал, тоже недавно стреляли.
– Все?
– Если бы. Главное – записка предсмертная. Вот, – Арина протянула ему листок. – Это копия, оригинал я на графологию отдала, хотя Молодцов говорит, шубинская рука.
– Шубинская, – подтвердил Пахомов, пробежал глазами недлинный текст и присвистнул. – Степаныч что, с ума сошел? Хотя если застрелился, может, и сошел. Они же все раскрытые, ладно бы висяки. Но почему… – он провел пальцем по перечню, медленно, останавливаясь на каждом пункте, как будто на ощупь хотел что-то уловить.
– Почему именно эти убийства? Вот и я так же подумала. Даже если у него в мозгах помутнение случилось, все равно непонятно. И главное, Пал Шайдарович, у него папки по всем этим делам полнехоньки, то есть он давно материалы по ним собирал, еще до отставки начал. Я хочу из архива их взять и посмотреть.
– Посмотри. Что еще? – он проглядел листок с планом мероприятий. – Многовато напланировала. Ну почерковедческая и баллистика – это да, а что за следственный эксперимент со стрельбой?
– Во-первых, понять, телевизор соседка в полночь слышала или реальный выстрел. И, во-вторых, проверить, могла ли она не слышать летального выстрела. В четыре утра который. Дом-то панельный.
– Ладно, проверяй. Если это инсценировка… – он помотал головой. – Версии-то есть, зачем такое?
– Пока только бредовые.
– Например?
– Например, кто-то ненавидит правоохранительные органы настолько, что убить ему мало, надо почернее вымазать.
– Ничего так у тебя фантазия, – усмехнулся начальник. – Богатая.
– Или, допустим, кому-то нужно было именно Шубина дискредитировать. Если он что-то такое знал, и после его смерти эта информация могла бы всплыть. Его ж в подобной ситуации даже убить просто так нельзя было.
– Это лучше. Знать он мог много. Ладно, работай. УПК тебе десять дней на решение дает, вот и используй их. Следователь, конечно, лицо процессуально независимое, но лишнего лучше не возбуждать. Чтоб за отсрочками потом не бегать.
Услыхав про независимость следователя, Арина едва не поперхнулась, проглотив смешок. Нет, формально так оно и было, но… как в том анекдоте: съесть-то он съест, да только кто ж ему даст. Но вслух сказала кротко:
– Ясно, Пал Шайдарович.
Она уже взялась за ручку двери, когда Пахомов ее остановил:
– Кстати, об отсрочках. Заберешь у Карасика дело по галерее.
– Художественной? – переспросила зачем-то она.
– У нас другие есть? Попытайся разговорить главную свидетельницу и, если нет, приостанавливай дело.
Арина хотела было выспросить еще какие-нибудь подробности, но Пахомов уже уткнулся в свои бумаги, только рукой махнул и буркнул:
– Иди работай.
Пожав плечами, Арина вышла в приемную.
– Чай будешь? – гостеприимно предложила Ева, тряхнув локонами. На этой неделе – рыжими. Косметикой она пользовалась более чем умеренно, а вот с волосами экспериментировала часто. Может, поэтому выглядела куда моложе своих «около сорока», так что Евой Ричардовной ее не называл никто и никогда. Да и про название должности – завканцелярией – тоже не вспоминали. Хотя на «секретаршу» она иногда обижалась.
Чаю Арине хотелось, но если с Евой, значит, придется «разговаривать разговоры». Она помотала головой:
– Потом, может.
– Что, взгрел?
– Да нет вроде.
– Жалко Степаныча, – завканцелярией пригорюнилась.
– Ты тоже его знала?
– Кто ж его не знал. Хороший был мужик. Основательный такой. Может, он не сам? Может, убили?
– Посмотрим. Карасик тут?
– В тюрьме, – так все называли ИВС, изолятор временного содержания. – Сегодня вряд ли вернется.
– Если вернется, ну или завтра с утра, скажи, чтоб ко мне подошел. И у себя разметь, где положено.
– Галерейное дело забираешь? – догадалась Ева.
– Я, что ли, решаю… – Арина пожала плечами и мотнула головой в сторону двери в пахомовский кабинет.
– Да это понятно. Первое серьезное дело у мальчишки… Ладно. На чай-то приходи, мне вчера Бибика коробку трюфелей презентовал. Хочешь? – она приоткрыла нижний ящик стола, где покоился «презент».
Арина отмахнулась:
– Потом.
Ева начала задвигать ящик, заколебалась, взглянула на свое отражение в стеклянной дверце шкафа – в полтора раза крупнее, чем худенькая, как мальчишка, Арина! – вздохнула и стремительно вытянула из-под крышки конфету. Поколебавшись еще секунду – не положить ли обратно? – оглянулась зачем-то на дверь кабинета и отправила конфету в рот.
Пахомов обвел взглядом стол – обширный, как осеннее поле. Почему-то именно осенью, уже после жатвы – или как там это называется? вспашка зяби? – темные бугристые поля кажутся неприлично огромными. Во всяком случае гораздо просторнее, чем когда «волнуется желтеющая нива».
Открыл папку с текущими докладными «наверх». От цифр зарябило в глазах.
Отодвинув решительно «текучку», перечитал еще раз копию предсмертного – кстати, а почему мы так уверены, что предсмертного? – шубинского «признания». Память у Пахомова была, конечно, не как у знаменитой Яковенко – чего тебе в архивах копаться, спроси у Надежды Константиновны – но дела, упомянутые в «признании», он помнил. Все-таки не убийства «тяжелым тупым предметом (например, он усмехнулся, сковородкой) в процессе совместного употребления алкогольных напитков». Такие уже через пару-тройку лет на следствии начинают сливаться в одно сплошное «нанесение в процессе употребления».
Эти же сливаться совершенно не желали. Он, конечно, ни на мгновение не принял «признание» всерьез. Но почему именно эти убийства Степаныч решил вытащить на поверхность? Что в них общего? Может быть, из предельная очевидность? Каждый «злодей» выпирал из обстоятельств, как мозговая кость из борща – несомненно и бесспорно.
Где-то в глубине сознания проснулся Следователь. Оказывается, бесконечная административная текучка его не убила – только загнала в дальний угол, где он и подремывал, ожидая… Чего – ожидая? Может, как раз такого вот дела? Мимо такого ни один следователь не проскочит равнодушно, начнет прикидывать варианты, строить версии, намечать способы и методы. Если он, конечно, следователь, а не кукла вроде Витькиной пассии. Вот что за имя такое – Эльвира? Как у какой-нибудь редкой змеи – лаково узорчатой, очень красивой. Нет, не ядовитой – от тех хоть какая-то польза есть, из яда лекарства делают. А эта только красуется своей блестящей шкуркой. Красуется, а глядеть неуютно, потому что все-таки змея.
Пахомов с удовольствием бы от Витькиной любовницы избавился. Пусть бы шла в юрисконсульты какие-нибудь. Но кого – вместо нее? С юрфака приходят все больше летуны типа этого, как его? Скачко. Покрутятся слегка, связями обрастут – и давай в адвокатуру или в чью-нибудь корпоративную службу безопасности. Где, разумеется, гораздо сытнее, а мороки гораздо меньше. Или уж являются грезящие о всеобщей справедливости романтики вроде юного Карасика. А романтикам на следствии делать нечего, тут работать надо. Витькина Эльвира работник все-таки не такой уж плохой. Где лучше-то взять вместо нее?
Или вместо гладенького Баклушина? Впрочем, тот и сам уйдет. У него на лбу написано: выгоду свою не упущу, но главное – карьера. Так что рано или поздно – скорее рано – обеспечит себе повышение. А Эльвира так и будет место занимать. Может, надо было ей галерейное дело передать? Приостановила бы спокойненько, и никаких сложностей. Но стоило лишь подумать об этом – и к горлу тошнотно подступило давнее воспоминание. Такое, что и упрекнуть себя вроде не в чем, а все равно пакостно.
Змея как она есть.
Может, рядом с другой женщиной и Витька стал бы другим? И не болело бы так сейчас потрепанное пахомовское сердце? Хотя чего себя обманывать. Рыбак рыбака видит издалека, ну и откуда рядом с Витькой взяться «другой» женщине? Ему именно такая и нужна. Или такие…
Слишком многое ему прощалось, слишком многое сходило с рук. Ну а как иначе? Когда Маша, уже умирая, ненадолго пришла в себя… Он как сейчас помнил и безжалостное сияние трубок дневного света под потолком, и блеклые, серо-зеленые стены, и металлический блеск непонятных «штуковин» вокруг накрытого простыней хрупкого тела, и тяжелые темные веки. Сомкнутые ресницы казались очень длинными – он еще подумал тогда: как это я не замечал, что у Маши такие длинные ресницы? Может, потому что никогда не видел ее с закрытыми глазами? А теперь вот увидел.
Пожилая кряжистая медсестра заходила, поправляла что-то на железной треноге, от которой к телу под простыней шла прозрачная трубка, вздыхала:
– Вы бы пошли отдохнули? В сестринской кушеточка есть. Сколько уже сидите? Она все равно ничего не чувствует.
– Как же… если она очнется, а рядом никого? – пробормотал он с непонятной надеждой, хотя никакой надежды уже не было.
– Ну так мы сразу на мониторе увидим, если что… если очнется, – быстро поправилась она, вздохнула еще раз и ушла.
В сестринскую – на кушетку – он, конечно, не пошел, остался сидеть возле Маши. Даже если она не очнется – похоже, толстая медсестра была в этом уверена – все равно. Уйти – и бросить ее одну среди всех этих мертвых железок?
Когда ресницы дрогнули, он подумал, что зрение его обманывает: устал все-таки сильно. Но они дрогнули еще раз… и поднялись. Открывшиеся вдруг глаза странно блестели. Она вас все равно не узнает, говорила медсестра. Но она узнала:
– Паша… – не голос, а шелест. – Паша… Прости…
Она просила прощения! Он ужаснулся. Хотя понял, конечно – ему ли не понять. За свою слабость она просила прощения, за то, что требует внимания – она, которая сама всегда обо всех заботилась. Если неважно себя чувствовала, никогда не жаловалась, все болячки перехаживала на ногах. Терпела. Вот и дотерпелась. И он, привыкший к ее всегдашней абсолютной надежности, не догадался. Не заметил ничего. А потом стало уже поздно.
– Витя… – он не столько услышал это, сколько догадался по движению потемневших сухих губ. – Береги его… Паша… обещай…
Упав возле узкой белой койки на колени, он прижался губами к высунувшейся из-под простыни ладони – клялся.
И держал потом свое обещание – изо всех сил, изо всех своих умений. Как же! Маша просила сына беречь! Вот только он… не уберег. Ошибся. Думал, беречь – значит, оберегать. Щадить. Прощать.
А сейчас уже и не изменишь ничего.
Сам-то Витька ни о чем таком не задумывается, абсолютно убежденный, что именно он живет правильно. И ведь неглуп, совсем неглуп. Защиты от отца – если вдруг что – ожидает, как чего-то бесспорного, но торопиться с карьерой – и требовать, чтоб отец подтолкнул – не спешит. Ну да. Чего ему по карьерной лестнице карабкаться, ему и в операх удобно и приятно.
Вот Вершина – совсем другая. Морозовская школа. Острая, хваткая, сообразительная. Временами лишнего себе позволяет, но это от избытка рвения.
Эх, жалко, что у них с Машей дочки не было. А может, и хорошо. Если он сына перестаравшись с заботой, проморгал, страшно представить, что в таких условиях могло вырасти из девочки.
– Какие люди!
Арина поморщилась. Бибика – Борька Баклушин – улыбался так радостно, словно лучшего друга встретил. А какие они друзья? Нет, Борька, бесспорно, и симпатичный, и дружелюбный, и в следственном деле отнюдь не идиот, а если по показателям раскрываемости, так и вовсе чуть не лучший следователь управления. Но, как говорят, не по хорошу мил, а по милу хорош. Баклушин был ей не то что не мил – почти неприятен. Как питон за стеклом террариума: и красивый, и грациозный, и глаза пронзительные, однако весь насквозь чужой. Потому и за стеклом.
Необъяснимой своей неприязни Арина, впрочем, старалась не демонстрировать. Хотя иногда хотелось.
– Ну чего там с Шубиным? Отбегался, бедняга? Чего ты там наосматривала? Ты ж выезжала? – Борька сыпал вопросами все с той же радостной улыбкой.
– А откуда ты… – она нахмурилась.
Баклушин засмеялся:
– Так, болтают… Так чего там? Неужели возбудила? И чем так нагрузилась? – он кивнул на стопку папок, которую Арина прижимала к груди одной рукой, второй в это время пытаясь попасть ключом в замочную скважину на двери своего кабинета.
– Ну… так… – она неопределенно помотала головой, покрепче прижав разъезжающиеся папки. – Дела из архива забрала, которые Шубин зачем-то изучал. Глянь, может, помнишь какие-то?
– Тю-у… – отмахнулся Бибика. – Ты б еще про Октябрьскую революцию спросила! Я ж ненамного раньше тебя сюда пришел. А тут, – скользнув взглядом по расползающимся папкам, он изобразил недовольную гримасу. – Откуда мне знать? Пахомов, может, и помнит. Или Морозов, он тут знатно порулил, это теперь на лаврах почивает, а были времена…
– Ты его не любишь? – зачем-то спросила Арина.
– Что он, девка, что ли, любить его? Просто… – Баклушин сморщился, как будто откусил от зеленого лимона. – Является, как будто он еще фигура, важняк, нос везде сует. А все ему подыгрывают, только что духовой оркестр не приглашают и ковровую дорожку не расстилают. Ах, Александр Михайлович, какое счастье вас лицезреть!
Уже свалив на свой стол папки с делами, Арина раздраженно подумала, что не зря она все-таки Борьку недолюбливает. Лыбится дружелюбно, а даже дверь открыть не помог, чего уж там про дела говорить. Откуда мне знать, понимаешь ли! То есть: я не знаю, чего там у тебя, но ко мне с этим не приставай, я себя утруждать не желаю. Удивительное у человека соответствие собственной фамилии – что угодно, лишь бы не перетрудиться. Как он такие показатели выдает: раз – и в суд, раз – и в суд, и ведь на дослед не возвращают, все дела без сюрпризов слушаются! – уму непостижимо.
Изъятые в шубинской квартире папки более-менее дублировали те, что Арина добыла в архиве. Кроме двух: про бизнесмена Транько, застрелившего собственного начальника охраны, и про еще одного бизнесмена, Федяйкина, которого выкинула с балкона собственная красавица-жена.
Арина сравнила даты. Да, точно. Эти убийства случились уже после того, как Шубин уволился. Хотя связи у него, похоже, остались. Вот копия опроса дочери погибшего, вот показания соседей. Такие же, как в основном деле. На этом сходство заканчивалось. А вот и главное отличие – куча газетных вырезок и распечаток из интернета, чего в уголовных делах обычно не бывает. Зачем Шубин их собирал? Вел собственное расследование? Или следил, не появилось ли у следствия других подозрений? Или смеялся над слепотой следователей и восхищался собственной хитростью? Дескать, вон я сколько натворил, и ни у кого никаких подозрений.
М-да. А потом у Шубина внезапно проснулась совесть, и он застрелился, исповедавшись во всех своих грехах? Так не бывает.
Возьмем, к примеру, Федяйкина, которого жена с балкона сбросила. Если верить предсмертной записке, жена ни при чем, а убил несчастного дядечку Шубин. Арина хмыкнула. Вот именно – если верить. Как он в квартиру попал? В изолированный пентхаус. Куда вообще-то просто так не зайдешь. Там, небось, еще и камеры наблюдения везде понатыканы. Хотя записи, пожалуй, надо будет пересмотреть.
Вторая «не-дубль» папочка газетными вырезками и интернет-распечатками была полна еще более. Арина брезгливо пролистала пожелтевшие бумажки. Тьфу. Журналисты, писавшие про убийство корпоративного начальника охраны собственным работодателем, все как один связывали его со случившимся за год до этого убийством заместителя начальника областного наркоконтроля. То убийство было громким, Коломыйцева убили в собственном доме, вместе с семьей – родителями, сестрой и двумя малолетними племянниками. Журналисты, которые, как водится, все знали куда лучше любого следователя, изощрялись в гневных вопросах: почему, мол, тогда, после ареста исполнителей, никто не тронул Транько – заказчика более чем очевидного? А теперь, дескать, организовавший по его приказу убийство Ведекин принялся своего работодателя шантажировать, за что и поплатился. И чего тут расследовать, вопияли журналисты, все же очевидно.
Логически очевидно, хмыкнула Арина, а улики? Улики где? В убийстве Ведекина (по версии СМИ – шантажиста) все было не столь романтично, как излагали журналисты. Господина Транько задержали прямо на месте преступления: прочитав про «наблюдение, начатое по оперативным данным», Арина хмыкнула. В переводе на нормальный язык это означало, что кто-то из Траньковской конторы стукнул кому-то из оперов, что два конторских начальника планируют свидание «на лоне природы». Но не то чтобы шашлыки с девочками на озере, а чисто тет-а-тет. Что, в общем, странно: за каким чертом встречаться в неуютном парке, если вы можете ежедневно видеться в приятном комфорте евро-офиса. Ну и опера, не будь идиоты, решили последить, что там такое интересное намечается. Наблюдали оперативники несколько издали, но на выстрел подбежали. Пистолет Транько, конечно, в кусты закинуть догадался, но, поскольку пистолет был зарегистрирован на его фирму, ни следствие, ни суд особых сомнений не испытывали. Даже с мотивом особо не заморачивались: шантаж, столь очевидный господам журналистам, доказывать не стали, ограничились «личной неприязнью на почве совместной деятельности».
Мотив, отметила Арина, хлипенький. Хотя улики против господина Транько вполне железобетонные – ну не инопланетяне же потерпевшего пристрелили! – поэтому на расплывчатость мотива суд глаза и закрыл.
Правда, если хотя бы часть журналистских воплей соответствует действительности, шантаж там, пожалуй, не исключен…
Погоди, погоди, а при чем тут тогда Шубин? Он там в кустах сидел, что ли? Кстати, отметила Арина, а кусты-то, где обнаружилось орудие убийства, осмотрели поверхностно. И собачек не использовали. Пальчиков-то на пистолете, само собой, нет, а вот запах вполне мог наличествовать. И это была бы действительно железобетонная привязка орудия к убийце. А вот если нужного запаха не было – тогда роковой выстрел мог совершить кто угодно: хоть инопланетяне, хоть бы даже и Шубин.
Ладно, надо все эти залежи исследовать не наскоком, а постепенно. Ну, к примеру, хронологически. Так, как они перечислены в предсмертном признании. Кстати, а почему на стене над столом фотографии выстроены в другом порядке? Надо эту несообразность запомнить, быть может, в ней обнаружится какой-нибудь ключ. Сначала надо просто прочитать дела. Хронологически, значит, хронологически.
Убийство священника было первым во всех смыслах слова.
Арина всмотрелась в снимок «иконостаса» над шубинским письменным столом. Фото убитого священника висело не просто первым в ряду, а как будто чуть поодаль. Может, это что-то означало? Может. А может, и нет, печально усмехнулась она.
Дело вообще было… печальное. По убитому батюшке плакал весь приход. А это о чем-то да говорило, приход был не из бедных, церковь стояла возле элитного поселка. Точнее, церковь-то тут стояла уже лет полтораста, это поселок построился недавно. Таких в последние десятилетия немало возникло: вроде и в черте города, а вроде как и в собственном изолированном мирке. Вроде московской Рублевки. Для людей, что селятся в подобных местах, церковь – вовсе не единственное светлое пятно в жизни. Однако отца Александра любили явно искренне. И отзывались о нем исключительно в превосходных степенях: добрый, отзывчивый, честный, копеечки чужой не возьмет. Что ж, подумала Арина, взглянув на фото принадлежавшей священнику старенькой «восьмерки», похоже, и впрямь честный. На фоне занимавших автостоянку возле церкви дорогих иномарок батюшкина машинка выглядела судомойкой на великосветском балу.
На стоянке его и убили. «Тяжелый тупой предмет», под ударами которого череп бедного священника раскололся, как яичная скорлупа, оказался старым кадилом, заполненным для тяжести пятирублевыми монетами, – этакий импровизированный кистень, орудие простое, но весьма эффективное. Обнаружилось орудие довольно быстро – в дренажной трубе неподалеку от места убийства.
Подозреваемый – церковный староста Ферапонт – вину свою признавать отказывался. Но мужской носок, в который было засунуто утяжеленное кадило, принадлежал именно ему, а контролирующие стоянку камеры слежения записали бурную ссору между ним и отцом Александром. Судя по показаниям некоторых прихожан – староста подворовывал из пожертвований, и батюшка намеревался положить этому конец. Ссору староста не отрицал, но утверждал, что не только не убивал своего настоятеля, но и в растрате неповинен, а запечатленная на камерах «ссора» – всего лишь беседа. Хотя в самом деле бурная – отец Александр по чьему-то наущению заподозрил Ферапонта в воровстве и вызвал для объяснений. Староста сумел оправдаться, и расстались они вполне мирно – правда, увы, уже не в поле зрения камер. Но отец Александр ему после этого звонил, вполне живой, они несколько минут разговаривали, проверьте!
Следователя объяснения Ферапонта не убедили. Мирного завершения беседы камеры не «видели», а звонок… А что – звонок? Наверняка староста, убив своего настоятеля, с его телефона сам себе и позвонил – алиби обеспечить пытался. Весьма неуклюже пытался, подумалось Арине. Странный какой-то этот староста. Использовал собственный носок – ну глупость и глупость несусветная. Да еще и спрятал «кистень» неподалеку – что стоило его подальше отвезти и в канализацию выбросить. Или в речку. И эта попытка создать алиби с помощью телефонного звонка не так чтоб очень умная. И оправдывался по-дурацки: я, мол, не я, и лошадь не моя.
Более того. В шубинской папке сверху лежало письмо четырехлетней давности из колонии. Точнее, из закрытой больницы. Староста Ферапонт писал Шубину, что умирает от туберкулеза, но больше – от горя, потому что батюшку он не убивал! И слезно просил обелить его имя хотя бы после смерти. Но хоть бы альтернативу предложил: если не ты, то кто тогда? А он твердил – никто не мог, все батюшку любили.
Батюшку было жалко…
Следующее дело Арина сразу назвала «Клинок смерти». Эффектная, словно модным писателем сочиненная история. Старому антиквару принесли на экспертизу кинжал, по легенде убивающий всякого, кто прикоснется к нему без должного ритуала. Про легендарную эту смертоносность реликвии следствию рассказал сын антиквара. Правда, ничего загадочного в смерти его отца не было: на руке – свежий порез, в крови – следы яда. Такие же, как на лезвии «убийственного клинка». Причем не какой-нибудь средневековой «аква тофаны», секрет которой не раскрыт до сих пор, нет, отрава была вполне современная. Загадочный же «владелец» кинжала как в воду канул. Как будто и не было. Следователь так и решил: выдумал наследничек этого посетителя, а кинжал сам отцу подсунул. А уж после того как в ноутбуке сына нашлись следы его активности на нескольких антикварных форумах – и везде он обсуждал и уточнял пресловутую «легенду о клинке смерти», сомнений и вовсе не осталось. Тем более, что незадолго перед смертью старика у них с сыном случился конфликт из-за якобы пропавшего из коллекции ценного экспоната. Антиквар собирался подарить раритет – маленькую резную «таблетку», вроде бы очень ценную – какому-то китайскому музею, сыну же «разбазаривание сокровищ» не нравилось. «Таблетку», кстати, среди обширной антикваровой коллекции так и не нашли. То ли тот успел таки осуществить свое намерение, то ли сын ее попросту стащил. А после подсунул отцу отравленный кинжал.
Ну и при чем тут Шубин, хмыкнула Арина, закрывая папку. Он, что ли, антиквару кинжал с отравой принес? По чьей, спрашивается, просьбе? Или вовсе по личной инициативе, полагая коллекционерство грехом сродни обжорству? И описание якобы принесшего кинжал посетителя – невысокий, худощавый, незаметный – на крепкого Шубина не походило и близко.
Папочка с делом об убийстве на охоте была самой тонкой. Странно, кстати, подумала Арина, пролистав скудные материалы. Почему следователь вообще квалифицировал это как убийство? Ситуация-то проще пареной репы. Два владельца крупной фирмы отправились на охоту, где один подстрелил другого. Ну и? Либо случайно попал – тогда это несчастный случай. Либо выстрел был сделан намеренно – тогда имеем чистой воды сто пятую, пункт первый – умышленное причинение смерти без дополнительных отягчающих, от шести до пятнадцати лет. На чем, собственно, обвинение и настаивало.
Но стараниями защиты переквалифицировали на сто девятую – причинение смерти по неосторожности. То, что с легкой руки господ журналистов и в соответствии с импортными полицейскими сериалами народ именует непредумышленным убийством. Хотя статья, строго говоря, не «убийственная». А уж применительно к данному делу – и вовсе напоминает «немножко беременна». Как будто судья план по посадкам стремился выполнить, ей-богу. И, как ни старалась защита, хотя квалификацию и изменили, но дали по максимуму – два года. Не условный срок, не вполне возможные по этой статье исправительные работы. Два полновесных года. При том, что обвиняемый – господин вполне положительный: не судим, в криминале ни в каком не замазан, даже у налоговой к нему претензий не было. Правда, финансовые проблемы наличествовали – а у какого бизнесмена, если он не Абрамович, их нет – якобы хотел фирму продать, а компаньон отказывался. Обвинение настаивало, что сей конфликт и послужил причиной убийства.
Но вообще-то сквозь подлесок, да на приличном расстоянии, угодить из обычного охотничьего ружья точно в голову не так-то легко. Дядька-то, усмехнулась Арина, прямо снайпер. Ну или впрямь случай ему ворожил. В показаниях дядечка путался. Сперва упрямо твердил, что вовсе не стрелял, а после, признавшись, что все-таки стрелял, настаивал, что – в совершенно другую сторону. Не вправо, где стоял его компаньон, а влево от своего «номера». Вроде как кабан там сквозь кусты ломился. А вот егерь говорил, что ружье дядя поднял за несколько минут до того, как кабан на них пошел. И результаты баллистической экспертизы были вполне однозначны: пуля, угодившая в голову убитого, вылетела именно из ружья его бизнес-компаньона.
Может, подумалось Арине, потому и срок реальный, а не условный? Суды не любят, когда обвиняемые отрицают впадение Волги в Каспийское море. Егерьто, может, и ошибся, а вот с результатами экспертизы спорить глупо. Признал бы случайный выстрел – отделался бы условным сроком.
Кстати. Арина нахмурилась. А почему нет отдельного определения в адрес устроителей охоты? По егерю этому тоже сто девятая плачет, только часть вторая – причинение смерти вследствие недолжного исполнения своих обязанностей, халатности и тому подобное. Это ж дело егеря – так участников расставить, чтоб они друг друга не подстрелили. Суд, однако, это почему-то мимо пропустил.
И опять же – при чем тут Шубин? Он что, прятался на охотничьей делянке и, выбрав удобный момент, стащил у «убийцы» ружье, застрелил его компаньона, а ружье назад положил? Ага. А владелец ружья в это время в обмороке лежал? Или мертвецки пьян был? О чем нигде не упомянуто. Значит, трезвый был и в обморок не падал. А стреляли именно из его оружия, с баллистической экспертизой не поспоришь. Вот вам фото контрольной пули, вот летальная, а вот их совмещение. Все, господа, суд удаляется для принятия решения.
Фото с места убийства эстрадного продюсера средней руки напомнило Арине известную формулу «дорого-богато»: финтифлюшки, статуэтки, вазочки, пестрые шелковые накидки, лепнина и бог знает что еще. Винегрет, в общем. И везде – на вазочках и лепнине, на креслицах и вздымающихся там и сям павлиньих перьях – позолота, позолота, позолота. Даже каминная кочерга топорщилась многочисленными завитушками и сверкала обильной позолотой. Во всяком случае, ее рукоятка. Ниже запеклась кровь – этой самой кочергой продюсеру голову и проломили.
Продюсер был личностью довольно сомнительной: в свободное от продвижения «звезд» время расслаблялся, соблазняя (а может, и не только соблазняя, а попросту покупая) юных мальчиков. И, судя по всему, изрядно задолжал поставлявшему живой «товар» посреднику. Того взяли над теплым еще телом с окровавленной кочергой в руках, в почти невменяемом состоянии. Он только блеял что-то невнятное про «должен был деньги отдать, не помню, зашел, а он лежит».
Последним документом в деле была справка о смерти осужденного «в процессе этапирования». Попросту говоря, при перевозке на зону дядечку избили так, что он вскорости помер. Тяжкий вред здоровью, повлекший смерть осужденного и причиненный, вестимо, «неустановленными лицами». Арина усмехнулась. Не то чтобы она приветствовала самосуд, но то, что зеки, мягко говоря, не любят педофилов, – факт общеизвестный. Тьфу, пакость какая, поморщилась она, закрывая папку. Собакам собачья смерть.
Дело о поджоге на первый взгляд выглядело еще проще. Трое молодых парней устроили на даче шашлыки с банькой, поссорились, один, разозлившись, влез в машину и укатил – невзирая на бурлящие в крови градусы. А может, и подчиняясь им. Но перед отъездом, судя по всему, баньку поджег. Выбраться его приятели не успели. А то и не смогли: пожарные эксперты предположили, что валявшийся подле обгорелых развалин обугленный дрын мог подпирать входную дверь. Мог, правда, и не подпирать. Как бы там ни было, когда встревоженные соседи вызвали пожарных, спасать было уже некого. Третьего же участника «вечеринки» взяли в буквальном смысле слова по горячим следам – точнее, задержали на посту автоинспекции пьяного до полной невменяемости.
В общем, раскрытие принесли следователю практически на блюдечке – думать не о чем, только оформлять.
Полистав нетолстую папку, Арина, однако, призадумалась. Первая странность – почему ребята расслаблялись в чисто мужской компании? Всем троим слегка за двадцать. Не настолько малолетки, чтоб совместно порнушку смотреть, слюни пуская. И не настолько взрослые, чтобы быть равнодушными к дамскому обществу. Все небедные, так что даже если постоянных подруг не имелось, вполне могли для пущего веселья платных девочек прихватить. Не верилось ей, что три здоровых молодых парня после выпивки не захотели сексуальных утех. Может, поссорились как раз из-за девушек? Или из-за одной девушки? Или вообще никого приглашать не собирались – может, у них ориентация другая? Но в деле об этом не было ни слова.
Не менее странно, на ее взгляд, выглядел и поджог. По словам пожарного эксперта, пожар начался с того, что в трубу баньки бросили пластиковую бутыль с бензином. Арина готова была поверить, что «рассерженный», сколько бы он ни выпил, забрался на крышу баньки – дело нехитрое, судя по фототаблицам, у боковой стены имелась поленница. Машиной-то этот «поджигатель» потом как-то управлял, значит, мог бы и на крышу забраться. Но почему у него ни на руках, ни на одежде следов бензина не осталось? Для такой вот аккуратности требуется трезвая голова.
Пожар в бане был единственным, пожалуй, делом, к которому Шубин – хотя бы теоретически мог быть причастен. Глядя же на прочие дела, хотелось пальцем у виска покрутить – вы что, с ума сошли? Там, в папочках, не все, конечно, было идеально, но старый опер туда как-то… не вписывался. А в некоторые – вроде «охотничьего» дела – не вписывался и вовсе никто, кроме уже означенных фигурантов.
Как же Шубин эти убийства выбирал? По громкости? Ей вдруг вспомнилось, как лет десять назад почтенный российский бизнесмен и финансист, примерный отец и супруг, зарезал свою юную содержанку на вилле в Черногории. Изрезал красавицу самым большим ножом из дорогого кухонного набора и сидел, баюкая на коленях истекающую кровью жертву. Генетическая экспертиза собранных на месте преступления биологических следов неожиданно обнаружила вовсе уж леденящую подробность: юная красотка приходилась бизнесмену дочерью, прямо мексиканский сериал или шансон «дочь прокурора». Морозов на одном из семинаров на примере этого дела объяснял им разницу между психической и юридической невменяемостью.
Впрочем, где мы, а где та Черногория. Шубин же не стал признаваться в убийстве Улофа Пальме? Все дела из его списка были, так сказать, местными.
Арина опять уставилась в фототаблицу, запечатлевшую «иконостас» над шубинским столом. Двадцать два снимка: семь прижизненных, восемь, поскольку в бане сгорели двое, посмертных. Действительно, как на «рабочих» досках в американских полицейских сериалах. Нижний ряд составляли фотографии собственно «злодеев» в количестве семи штук.
Двадцать два, подумалось ей вдруг, в карточной терминологии означает «перебор». Имеет ли это значение? И что тут вообще имеет значение? Какой логикой руководствовался застрелившийся (да и застрелившийся ли) старый опер? И это странное несоответствие хронологии и «иконостаса».
Сперва Шубин хронологию соблюдал: священник, антиквар, бизнесмен, застреленный на охоте, бизнесмен, выпавший с собственного балкона. Затем, однако, стену «украшало» фото продюсера-педофила, рядом – снимок троих развеселых приятелей, один из которых вскоре спалит в баньке двух других. Хотя по времени пожар предшествовал выпавшему с балкона Федяйкину, а продюсера убили сразу после антиквара, перед «драмой на охоте». Начальник охраны, убитый собственным работодателем, замыкал и «иконостас», и признание.
Словно к четырем первым убийствам кто-то добавил еще три – неаккуратно добавил, как попало. Кто-то! Сам Шубин и добавил – потому что в признании фигурируют все семь. Но почему?
Нельзя было даже предположить, что галерею составляют две отдельные хронологические последовательности: пожар в загородной бане случился раньше убийства «господина» продюсера.
Что-то с этим пожаром, при всей его очевидности, было не то…
– Вот после этого дела я почти уверовала в то, что высшая справедливость существует.
Услышав над собой голос, Арина чуть не подпрыгнула, захлопнула автоматически папку, но через секунду облегченно перевела дух.
Надежду Константиновну Яковенко за глаза называли, разумеется, Крупской. Хотя, кроме имени-отчества, ничем другим ленинскую соратницу она не напоминала, а была похожа на управдомшу, в смысле жену управдома из бессмертного «Иван Васильевич меняет профессию». «И тебя вылечат», – улыбалась Крачковская, стягивая с себя парик и обнажая короткую, ежиком стрижку. Ну копия наша Надежда Константиновна.
Притом хватка у «Крупской» была бульдожья, о ее допросах рассказывали легенды. А коротко остриженная, густо припорошенная сединой голова была надежней любого архива: Яковенко помнила все дела за все время своей длинной следовательской биографии – и не только собственные, но и коллег. При этом она запросто могла забыть в «общественном» холодильнике купленный на ужин творог или пельмени. Однажды забыла даже припасенный для внуков тортик, а потом перепугала дежурного на вахте полуночным стуком в двери. Впрочем, про гостинцы для внуков она обычно помнила, а самих внуков обожала. Но в бабушку превращаться не торопилась, посмеиваясь: куда мне на пенсию, я там со скуки через неделю помру.
Сейчас она, должно быть, собиралась домой и забежала «на огонек», удивляясь, что Арина засиделась так долго. И разумеется, заглянула в разложенные перед молодой коллегой папки.
– Высшая справедливость? – удивилась Арина.
– Ну ты-то не в курсе, – хмыкнула Надежда Константиновна, тяжело опускаясь на «свидетельский» стул. – Эти, которые сгорели… вот как будто их небесная молния покарала, честное слово. И тот, кого за поджог посадили, тоже ведь такой же был.
– Кого посадили… То есть вы думаете, что не он пожар устроил? Что его безвинно осудили?
– Безвинно, как же! Помнишь, как Жеглов говорил? Вор должен сидеть в тюрьме! А по этим и вовсе стенка плакала, жаль, что у нас теперь мораторий на смертную. И не смотри так на меня. Не знаю я, он ли приятелей своих поджег или кто-то из соседей постарался. А может, и впрямь этот… как его… Кузьменко! Жалко, что он вместе с приятелями своими не сгорел там. Двенадцать лет ему дали – не так уж и много, он молодой еще, выйдет и опять гадить поползет. Одна надежда – что на зоне тишком прикопают, там таких борзых не любят. Что, не ожидала от старой перечницы? – она усмехнулась. – Думала, Надежда Константиновна добрейшая душа? Добрая-то я добрая, да эти приятели – и сгоревшие, и поджигатель – те еще отморозки были. Золотая молодежь, – она выцедила это резко, как сплюнула. – Знаешь, как они развлекались? В парке подстерегали мамочек молодых, что с детишками гуляли, и маму по кругу пускали – втроем. Прямо на глазах у дитенка.
– А почему же… как же… почему ни одного дела об изнасиловании? Нет, я знаю, что заявления далеко не все пишут, не хотят еще больше пачкаться, позора боятся. Но неужели никто-никто не обращался?
– Кое-кто обращался. А толку? Мальчики-то действительно «золотые». Один – депутатский сынок, у другого – мама судьиха. Она, кстати, до сих пор… судействует.
– Надежда Константиновна, а откуда вообще известно… если их так и не… ну если заявлениям хода не давали…
Яковенко вздохнула:
– Одну мамочку снасильничать не успели – как раз муж ее с работы возвращался, отбил.
– И что? Тоже не стали заявление писать? Все-таки попытка изнасилования – это совсем по-другому воспринимается.
– Попытка… Там другое заявление моментально возникло. Три хороших мальчика гуляли в парке, а ненормальный дядька кинулся на них с кулаками. И еще, кажется, с обломком доски. Вот парня и закрыли по полной. Ладно хоть тяжкие телесные удалось до средних спустить, но… А! – Яковенко безнадежно махнула рукой. – Так что, когда они в баньке-то напились да друг дружку поубивали, я было и впрямь подумала – есть Бог. Все видит.
– То есть, может быть, это и не Кузьменко приятелей спалил?
Крупская покачала головой:
– Ну… были там кое-какие нестыковки. Я-то думала тогда, да и сейчас, в общем, думаю, это кто-то из родни тех девчонок отомстил. Ну или кто-то из соседей. Отморозки-то эти и в дачном поселке многим нагадили. Да какая разница… Значит, Шубин и этим делом интересовался? Может, хотел что-то найти, чтоб последнему, кто живым из троих остался, срок до пожизненного поднять? Или, может… Нет, не знаю… – она помолчала, вздыхая. – Эх, жалко Егора. Как же он так… Хороший мужик был. И сыскарь хороший. Сейчас таких, пожалуй, и не делают уже. Хотя… не слушай. Это я, наверное, по-стариковски уже, мол, в наше время и трава была зеленее, и сахар слаще, и, главное, мы моложе были.
– Раз хороший сыскарь, значит, вряд ли бессмысленно стал бы из пустого в порожнее перекладывать?
– Ты о чем?
– Да вот голову ломаю над материалами, что после него остались. Почему, ну почему он эти дела выстроил в таком диком порядке? В беспорядке даже. Но он же о чем-то при этом думал? А? – Арина посмотрела на свою визави просительно. Точно надеялась, что та сейчас моментально ей все по полочкам разложит. Да пусть хоть и не моментально!
– Не знаю, деточка, – безмятежно отозвалась Яковенко. – Он же опер был. А там совсем другая логика. Тебе бы с Халычем про эти дела поговорить…
– С… Морозовым? – от неожиданности Арина вздрогнула. Вот и Баклушин про Александра Михайловича так же поминал. Вроде бы и ничего удивительного, кого и спрашивать о старых делах, как не того, кто тогда работал. Но Арине это совпадение показалось почему-то странным.
– Чего это ты подпрыгиваешь? – усмехнулась Надежда Константиновна. – Его все Халычем кличут. Ах да, ты ж у него училась? И до сих пор почтительно трепещешь? Ладно-ладно, не смущайся. Морозов и следователем отличным был, и преподавателем, насколько я понимаю, не хуже сделался. Есть за что уважать. Кстати, вот это дело, – Яковенко ткнула в «продюсерскую» папку, – как раз у Халыча в производстве было. Только я тебя к нему не потому посылаю. А… вообще. Посоветуйся. У Халыча – глазалмаз. Если есть тут что видеть, он разглядит.
Конечно, было бы гораздо проще, если бы разбираться со смертью старого Шубина пришлось ему. Не повезло. Впрочем, Баклушин к везению относился скептически, искренне полагая, что сказками про фортуну утешают себя лодыри и тупицы, не способные даже понять, как все в жизни устроено, не говоря уж о том, чтобы заставить это… устройство работать на себя. Но он-то, слава богу, не такой! Ну подумаешь, дело Вершиной поручили, было бы о чем печалиться. Подумаешь, маньяка она в Питере изловила! Повезло просто. Уж конечно, эта девчонка со своими дурацкими «благородными» идеями ни черта в шубинской истории не поймет. Где уж что-то разглядеть, когда «благородство» глаза застит.
Не слишком, конечно, хорошо было, что старая грымза Яковенко заинтересовалась изъятыми у Шубина документами, – он видел ее через неплотно прикрытую дверь вершинского кабинета. Яковенко – все что угодно, только не дура. Некстати она подвернулась, совсем некстати. Но, если подумать, и это тоже пустяки. Старуха, конечно, кладезь информации, но много ли она расскажет? И самое главное, цельной картины у нее все равно нет. А вот он меж тем отлично понимает, что к чему, когда за какую ниточку потянуть – и в какую сторону.
Чего слишком беспокоиться, если даже старого лиса Шубина сумел вокруг пальца обвести и заставить под свою дудку плясать. Тот и не догадался, что «пляшет», и уж тем более – не допер, кто музыку заказывает. А музыку-то – по крайней мере нужную для себя часть – ему Баклушин насвистел. А тот и заслушался. Нет, Борис не такой дурак, чтобы изображать перед Шубиным честного-благородного, радеющего за дело следака вроде этой Вершиной. Старик, хоть и сдал в последнее время, все ж опер был, каких мало. И наблюдательность не растерял, и выводы делать не разучился. И про баклушинскую репутацию все знал, конечно. Да только что с того! Подумаешь – репутация! Не пойман – не вор, а в глазах начальства, которое ценит только гладкие отчеты, и вовсе – герой и примерный работник. В смысле – пример для всех. Так что мало ли чего там Шубин знал! Где он теперь, с этим знанием?
Да и голова у него в последнее время все ж похуже работала. Будь старик в былой форме, вряд ли у Баклушина что-то получилось бы. Может, и не раскусил бы его старый дурак, но… повелся бы или наоборот, насторожился – это еще вопрос. Надо ведь было подсунуть – аккуратно-аккуратно, чтоб не спугнуть – нужную информацию, которой мало, увы, ох как мало, да осторожными подсказками повернуть шубинские мысли в нужном направлении… И ведь повелся, повелся старый лис! Пошел, как ослик за морковкой!
Теперь осталось всего ничего – грамотно использовать его смерть.
Он достал телефон, выбрал номер.
– Есть информация.
День третий
Аринин кабинет был невелик, в четверть пахомовского, а то и меньше. Стеллажи с папками, кодексами и кое-какими справочниками, рабочий стол, перед ним – стул для посетителей, за ним, в углу, сейф. В противоположном углу втиснулся небольшой диванчик. Свободного места посередине оставалось немного. Если в кабинете, кроме оперов, появлялся еще кто-то из экспертов, начинало казаться, что присутствует целая толпа. Впрочем, Арину кабинет вполне устраивал. Вот если бы еще посветлее был… Солнце заглядывало сюда лишь после обеда, и то ненадолго, мешала торчащая с западной стороны высотка. Утром же комнатку заполнял сумрак, из-за неказистой мебели казавшийся почему-то угловатым. Приходя, Арина сразу щелкала и придверным выключателем, и кнопкой настольной лампы – и неприятно канцелярское пространство становилось почти уютным.
Карасик, должно быть, подсматривал из своего кабинета: Арина только и успела повесить куртку и нажать кнопку электрического чайника, как на ее пороге появился самый молодой следователь управления. Он и выглядел как десятиклассник: невысокого росточка, розовощекий, с длинными «девчачьими» ресницами и вечно смущенной улыбкой. Поначалу его по пять раз на дню спрашивали: «Мальчик, ты кого-то ищешь?», да и сейчас называли исключительно Андрюшенькой. Арина с высоты своего следовательского стажа поглядывала на «мальчика» несколько снисходительно, особенно когда он сбивался с давно договоренного «ты» на «вы». Хотя видела: за щенячьей робостью таится неплохой потенциал. Как только восторженная романтичность начнет замещаться здоровым цинизмом – хороший следователь получится. Если не сбежит, конечно.
– Материалы по галерейному убийству принес? Вот и молодец. Кофе будешь?
Он замотал головой. Арина извлекла из нижнего ящика банку, сыпанула в кружку мелкого, тройного помола кофейного порошка, бросила два сахарных кубика, залила кипятком, накрыла блюдечком. Такой способ заваривания назывался почему-то «по-офицерски». Примитивно, но уж всяко лучше, чем растворимый.
Пристроившийся на «свидетельском» стуле Карасик только что носом не шмыгал:
– Ну как же это! – жалобно восклицал он, кивая на «материалы». – Какое же тут отсутствие следственных перспектив! Тут же есть что копать!
– И как успехи? Много уже накопал?
Карасик насупился:
– Пока не очень. Свидетелей вроде много, но все вразнобой говорят. И место сразу затоптали, ринулись, как стадо слонов. И до Бриаров не достучишься, они уперлись, как я не знаю кто. Но я же только начал! И сроки еще не подошли. А Ева говорит, Пахомов тебе велел забрать и приостановить. Это же… Мы же следователи, а не собачки дрессированные!
– Андрюшенька, – Арина улыбнулась юному коллеге сочувственно. – Насчет приостановить, это мы еще посмотрим, время действительно еще есть. Но ты бы хоть немножко за пределы глянул. Жизнь – в том числе и следовательская работа – она такая, знаешь… разнообразная. Да, вижу в твоих глазах сомнение, и не исключено, что на Пахомова кто-то надавил. Ну чтоб на тормозах спустили и постепенно в архив переправили. Ты же понимаешь, Бриары – люди непростые, у них достаточно возможностей позвонить кому надо, чтоб оставили несчастную семью в покое.
Карасик возмутился так, что чуть искрами из глаз не посыпал:
– И вы думаете, что это нормально? Они же потерпевшие, у них дочь убили, им полагается обрывать телефоны – и наши, и повыше – требовать, чтоб дело на особый контроль взяли. А они уперлись. Что они скрывают?
– Люди разные, Андрюш, – примирительно заметила Арина. – В том числе и потерпевшие. Кто-то возмездия жаждет, кто-то забыть трагедию поскорее стремится. Вряд ли стоит делать из этого далеко идущие выводы. Я посмотрю, но, пойми, не факт, что кто-то что-то скрывает. Может, и на Пахомова никто не давит, может, он попросту, раз уж Бриары во все колокола не бьют, отчетную цифирь старается в более презентабельный вид привести, до конца года не так много осталось.
Пассаж про отчетную цифирь Карасик пропустил мимо ушей:
– Но если на него давят, это же… Эх, как же я не догадался! Это же значит, что кто-то заинтересован… это же ниточка!
Арина покачала головой:
– Вовсе нет. Дела обстоят так, как они обстоят. Не надо с выводами торопиться, версии не должны опережать факты, в нашей работе это не полезно. А вот взглянуть на дело свежим глазом – совсем наоборот. Так что не обижайся и не высматривай везде признаки вселенского заговора. Ты сам-то как думаешь, что там?
– Ну… скорее всего, какой-то… ну как этот, как его, Чемпион.
– Какой чемпион? – не сразу поняла Арина. – А, Чепмен? Который Джона Леннона застрелил?
– Ну да. Софи же… Вокруг знаменитостей всегда какие-нибудь психи крутятся.
– И что ты в этом направлении нашел? Преследование? Угрозы в интернете или в жизни?
Карасик помотал головой:
– Ничего. Но не зря же Бриары отказываются разговаривать! Наверняка что-то было!
– И ты всерьез полагаешь, что они теперь гипотетического преследователя покрывают? Убийцу.
– Ну… если они его знают, то вполне могут… А что?
– Ничего. Бывает и такое. Бытовые мотивы исключаешь?
– Да ну… Ее смерть никому выгоды не приносила.
– Вот как? То есть ты уже выбрал генеральную версию? Вот именно поэтому иногда и надо на дело свежим глазом посмотреть. Иди работай. И не обижайся на весь мир.
Шмыгнув носом, Карасик удалился.
Ее смерть, значит, никому выгоды не приносила? Что это, если не предвзятость? Ах, Андрюшенька, Андрюшенька! Все для себя уже решил. А ведь дело-то может еще совсем другой стороной повернуться. Прямо противоположной. Впрочем, надо поглядеть.
Людьми Бриары были действительно «непростыми». Папа – бывший ученый, заработавший в профессиональных кругах определенную известность, ныне – не менее успешный бизнесмен. Мама – бывший искусствовед, ныне непременная участница престижных благотворительных фондов, тоже личность заметная. Дочка Софи – умница, красавица и к своим двадцати годам уже весьма популярная художница.
Вот на открытии ее выставки и прозвучал роковой выстрел, оборвавший жизнь не то самой художницы, не то ее сестры Николь. Девушки – видимо, в качестве рекламного хода – были одеты и причесаны одинаково, так что понять, кого, собственно, убили, до сих пор не удалось. Идентичные близнецы, чтоб их!
Та, что осталась в живых, впала, по словам обихаживающих ее медиков, в «посттравматический ступор», и разговаривать с ней было невозможно. Даже родители были в полной растерянности. И Карасику от нее ничего добиться не удалось.
Девушка не то чтобы не могла ничего вспомнить или отказывалась отвечать. Она не отказывалась. Просто не реагировала почти ни на что, в том числе на вопросы следователя. Вероятно, именно это медики и назвали «ступор», отказываясь даже приблизительно предположить, сколько он продлится. Неудивительно, что следствие впало в такой же «ступор».
Карасик-то убежден, что убили знаменитую Софи, но Карасику явно хочется «убийство Джона Леннона». И свидетелей он опрашивал в рамках именно этой версии. А ведь у «незаметной» Николь вполне могли иметься свои недоброжелатели. Как ни крути, вздохнула Арина, а кроме попытки разговорить «царевну Несмеяну», придется еще и других свидетелей пере-опросить. Хотя бы некоторых. И место преступления осмотреть, пусть там вряд ли что-то сохранилось, но личное впечатление лучше любых фототаблиц.
После некоторых мытарств ей удалось дозвониться до мамы близняшек. Точнее, ее «помощницы». Та ледяным тоном сообщила, что с «девочкой» побеседовать никак нельзя, ибо она «под наблюдением врачей». Арина согласилась начать с самой мамы Бриар, но и это оказалось «совершенно невозможно». Вроде бы как девочка где-то в закрытом санатории, а мама при ней. Только когда Арина, тоже подпустив в голос холода, напомнила о создании препятствий следствию, помощница согласилась устроить ей аудиенцию у госпожи Бриар. Дня через три.
Тоже мне, заоблачная аристократия, фыркнула Арина. Вытащила чистый лист бумаги, принялась рисовать кружочки и стрелки – не слишком осмысленные, но это помогало думать.
Погрузившись в размышления, Арина не сразу сообразила, от которого из телефонных аппаратов исходит пронзительная трель. Оказалось, из темно-зеленого – внутреннего. Звонил дежурный с проходной:
– Арина Марковна, к вам тут… – говоривший забубнил что-то в сторону, видимо, уточняя. – Павлюченко…
– Павлюченко? – переспросила, недоумевая, Арина. – Вроде не вызывала такого.
– Ну да, без повестки, – согласился дежурный.
Павлюченко? Арине представился здоровенный краснолицый крепыш с пшеничными усами и в непонятного вида форме. Охранник, что ли, откуда-то? Да вроде ни по одному из дел охранники не проходили, и фамилии такой не попадалось. Незапланированный свидетель?
– А по какому хоть вопросу-то?
Слышно было, как дежурный требовательно спросил у кого-то: «По какому вопросу вам следователь понадобился?»
– Говорит, вы велели прийти… – растерянно сообщил он и после короткой паузы добавил. – Вчера, говорит…
– Что за… Никому я не велела… Погодите… Руслана Алексеевна?
– Точно так. Павлюченко Руслана Алексеевна. Так чего, пускать?
– Пускать-пускать, – засмеялась Арина.
Минуты через три дверь кабинета приотворилась. Слегка – даже местная кошка Дактокарта, попросту Дашка, и то, кажется, шире распахивала. Шубинской соседке, однако, хватило и этого. Арина наблюдала за соседкиными манипуляциями с интересом. Дверь приоткрыла чуть-чуть – значит, смущается. Но пришла сама – значит, вряд ли боится. Скорее, ей просто неловко.
Квадратная фигура – скорее основательная, нежели грузная – в светлокоричневом тренче с туго затянутым поясом напоминала две поставленные друг на друга копны побывавшего под дождями сена. Рыжие кудри, настолько ненатуральные, что выглядели париком, были причесаны явно с максимальным тщанием, но без особого успеха. А ведь если ее переодеть и перекрасить волосы, могла бы быть вполне симпатичной, подумалось вдруг Арине. Вчера Руслана Алексеевна показалась ей почти пенсионеркой, но сейчас было ясно – той, скорее всего, и сорока еще нет.
Остановившись возле Арининого стола, она глубоко вдохнула – отчего у прижатой к груди собачки заколыхались лохматые ушки – и затараторила:
– Вы меня прямо сейчас арестуете? Мне бы сперва Джиннечку пристроить, а никто пока не соглашается, кого не спрошу, у всех кошки… может, Зинка разве что… Или нет, у нее хахаль такой, что… нет, к Зинке нельзя. Может, к Александре Палне? Или у ее внучка аллергия? – она разговаривала словно сама с собой.
– Погодите-погодите, – остановила Арина плещущий эмоциями монолог. – Вы присядьте сперва. С чего вы взяли, что я буду вас арестовывать? Вы свидетель, важный свидетель, да, но арестовывать? С какой стати? Что за странная идея? Ведь не вы же Шубина убили. Или… вы?
– Зачем мне… чего это вы такое говорите… – забормотала женщина, пристраиваясь на краешек «посетительского» стула.
– Ну вот и славно, – улыбнулась Арина. – И зачем же мне вас арестовывать?
– Ну… я же… – Руслана Алексеевна точно растерялась, но после секундной заминки, справившись с собой, выпалила. – Нельзя же в чужой дом заходить… а я вот прямо…
– Руслана Алексеевна, если бы вы не заметили открытую дверь… – Арина вздохнула, поняв, что беседа с этой свидетельницей легкой быть не обещает. – Ведь дверь была открыта? Или это вы ее открыли?
– Почему это я?! Открыта была. Ну как открыта? Не так чтоб нараспашку стояла, приотворена немножко. Но это же все равно?
– Все равно, все равно, – успокоила ее Арина. – Так вот. Если бы вы, заметив открытую дверь, не зашли, Егор Степанович там так и лежал бы. До тех пор пока кто-то не обратил бы внимание уже на запах, и все равно кому-то пришлось бы туда зайти. Но чем больше времени бы прошло, тем труднее нам было бы установить, что там произошло, – про себя Арина подумала, что было бы еще лучше, если бы соседка заглянула к Шубину еще утром, но и так тоже неплохо, а то и впрямь неизвестно, сколько бы труп пролежал необнаруженным.