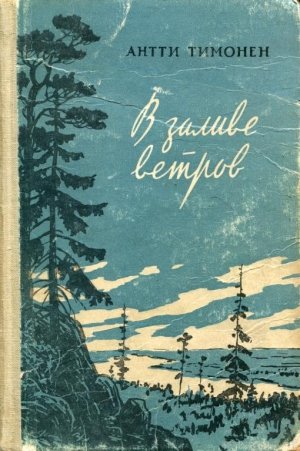
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Берег реки щетинился зарослями ивняка. Большие капли воды сверкали на его голых ветках. В тени кустов кое-где еще лежал талый снег. Земля была черная, размокшая.
Дождь начался вечером и шел всю ночь. Только на рассвете небо прояснилось, но потянувший от реки ветерок, покачивая ветки деревьев, все еще ронял на землю тяжелые капли. В зарослях вереска, подходивших кое-где к самому берегу реки, зеркалами блестели огромные лужи. Между кустами журчали ручьи, стекая на залитую водой болотистую луговину, на которой торчали только рыжеватые макушки моховых кочек.
Сквозь кусты на луговину выбралась остромордая легавая собака. Она остановилась, понюхала воздух и, перепрыгивая с кочки на кочку, подбежала к реке. На берегу она заскулила, кружась на одном месте. Вскоре на луг вышел рослый мужчина в высоких сапогах, с рюкзаком за плечами. Его серый парусиновый плащ задубел от дождя и не гнулся, цепляясь за ветки. Собака, завидя мужчину, завизжала, замахала хвостом.
Человек миновал луговину и остановился на берегу, глядя на мутную, вздувшуюся реку.
— Что же мы теперь будем делать, Зорька?
Собака, вслушиваясь в голос хозяина, потерлась о его ногу.
Положение действительно было трудным. Вечером они перешли реку по брошенным на лед жердям. Теперь не было ни льда, ни жерди. Мчалась мутная вода, закручиваясь в водовороты, да изредка проплывали поднятые наводнением бревна, подмытые и рухнувшие в воду лесины, топыря в голубоватом воздухе обломанные сучья, точно руки.
Одно бревно зацепилось за кочку и остановилось вблизи берега. Человек походил по берегу, нашел брошенный сплавщиками шест, затем подтянул голенища сапог повыше и зашагал к бревну вброд. Зорька следовала за хозяином, барахтаясь в воде. Человек столкнул бревно с кочки и проворно вскочил на него.
— Ну, Зорька, влезай сюда!
Собака, визжа, вскарабкалась. Человек оттолкнулся шестом, направляясь к противоположному берегу реки. Бревно относило течением, но все-таки они понемногу передвигались. Однако тонкий конец бревна постепенно погружался в воду. Зорька поползла поближе к хозяину, но потеряла равновесие и шлепнулась в воду.
— Эх, ты… тоже мне собака сплавщика! — усмехнулся хозяин.
Собака уже и не пыталась влезть на бревно, а решительно поплыла к берегу. Там она, отряхнувшись, села на обрыв, поглядывая на хозяина, словно хотела сказать: «Давай-ка и ты вплавь, скорей доберешься!»
Приблизившись к берегу, хозяин оперся на шест и выскочил на сухое место. Он поднялся на обрыв и зашагал по тропинке, проложенной сплавщиками. Легкий, прозрачный туман, висевший над рекой, медленно сползал вниз по течению. Было безоблачно, все предвещало жаркий день. Человек с удовольствием распахнул мокрый плащ.
В это раннее весеннее утро среди молодого сосняка, пропитанного запахом свежей смолы, талого снега и сырой земли, дышалось как-то особенно легко. Человек не чувствовал усталости, хотя всю ночь не сомкнул глаз, как это подобает разведчику. Он был чуть взволнован. Бывало так он чувствовал себя на фронте, когда обходил исходные позиции своего батальона. Здесь он тоже проверял исходные позиции — на извилистой семидесятикилометровой трассе начинался весенний сплав.
Он медленно шел по тропинке, отдыхая от блужданий по болотам и невылазным чащобам. От плаща исходил пар, парило и от реки, теперь это был уже не туман, а тонкие струйки, неохотно отрывавшиеся от воды и медленно растворявшиеся в воздухе. Длинные тени деревьев еще хранили острый холод не успевшей оттаять земли, и там, где тени были гуще, воздух оставался колким, как зимой. Но на прогалинах и полянах уже пахло нагретой смолой и тонким ароматом молодой травы.
Впереди, на берегу реки, возвышались длинные штабеля леса. На противоположном берегу против каждого штабеля виднелись лебедки. Около них копошились люди.
Зорька залаяла весело, задорно. Хозяин понял: она увидела знакомых.
Вдруг хозяин собаки нахмурил черные пушистые брови и крикнул через реку:
— Александров! Какой черт и зачем тебя сюда принес?
Человек на том берегу выпрямился, вытер длиннопалой рукой пот со лба, отбросил назад темные волосы, упавшие на глаза, и весело усмехнулся:
— Меня не черт привез, а грузовая машина, товарищ Воронов. А зачем — дело ясное. Наступает, как любит говорить Кирьянен, исторический момент: начало сплава! Сами понимаете, что я не мог упустить такого события!
— Не понимаю и понимать не хочу! — сердито, не принимая шутки, ответил Воронов. — Твое место на запани, в мастерских! Перебирайся сюда, живо!
Они переговаривались через реку, достигавшую в этом месте едва ли двадцати метров. Но прибывающая вода размывала нависшие крутые берега, в реку то и дело с шумом падали глыбы земли, волны плескались и шипели, и оба собеседника невольно повышали голос, как будто разговаривали с глухим.
— Подождите минутку! — ответил Александров и опять нагнулся к лебедке, зазвенел гаечным ключом, искоса поглядывая на сердитого начальника. Воронову ничего не оставалось, как ждать, и он уселся на бревно.
Александров включил мотор, лебедка взвизгнула и закрутилась. Затем он выключил мотор, распрямился, с тем же веселым выражением поглядел через реку, отвернулся, деловитым жестом подозвал лебедочника, что-то сказал ему, и тот бегом бросился исполнять его приказание.
Мимо Воронова пролетели несколько щепок и упали в воду. Одна из них чуть не задела его по лицу.
— Это еще что за баловство! — крикнул Воронов и, обернувшись к штабелям, смутился до того, что румянец пробился сквозь смуглую кожу на щеках.
На штабеле сидела девушка в легком демисезонном пальто. Мохнатый шерстяной платок был откинут на плечи, открывая спутанные ветром каштановые волосы. Смеющееся лицо ее с удлиненными бровями и крупными губами, с тонким прямым носом и несколько тяжеловатым подбородком выглядело необычайно оживленным. Она отбросила приготовленную для продолжения бомбардировки щепку и помахала Воронову тонкой рукой.
— Вы и на меня рассердитесь?
— На врачей сердятся только умирающие! — слабо улыбнулся Воронов. — Но скажите, ради бога, Айно Андреевна, вы-то зачем приехали? Или тут оказались больные?
— Тоже к началу сплава! — с некоторым вызовом сказала девушка. — И хорошо, что приехала. У вас тут даже аптечки нет! Что это такое, товарищ начальник?
Воронов сердито буркнул:
— Здесь аптечка мне одному нужна! Голова кругом идет, только и остается лекарства глотать. Главный механик бросает мастерскую и мчится за тридевять земель и тридцать километров неизвестно зачем…
— Да еще с врачом… — в тон ему продолжила девушка, но сразу осеклась, увидев глаза Воронова.
Он и самому себе не хотел признаться, что еще сильнее рассердился на Александрова, когда понял, что тот приехал вместе с Айно Андреевной. Потому, видно, и вырядился, как на прогулку. Не пожалел свой выходной синий бостоновый костюм, а он, Воронов, в телогрейке и ватных штанах, имеет, наверное, неказистый вид. И на кой черт Александрова понесло сюда? Главному механику следовало быть в Туулилахти, на сплавном рейде, готовиться к приему древесины. Воронов оглядел бледное лицо Александрова, — даже работа не вызвала на нем румянца, — и крикнул снова:
— Сколько же мне тебя ждать? Или прикажешь вести дипломатические переговоры через реку?
— Сейчас иду! — ответил Александров и оглядел берег.
Чтобы переправиться через реку, надо было взять единственную лодку, стоявшую у лебедок. Но зачем ему лодка? Он переправится так, как делают все карельские сплавщики — на бревне. Пусть начальник увидит, что главный механик не хуже других сплавщиков. Не плохо, если увидит и Айно! Александров взял с лодки багор и, столкнув в воду толстое бревно, прыгнул на него.
— Александров, не дури! — крикнул начальник.
— Петр Иванович, что вы делаете! — закричала Айно Андреевна и вскочила на ноги, но в ее голосе была не столько тревога, сколько восхищение.
Течение подхватило бревно, и Александров сразу очутился на середине реки. Он попробовал достать дно багром, но было глубоко. Тогда он принялся грести, течение могло унести слишком далеко. Вдруг бревно предательски повернулось под ним. Он не успел даже сообразить, что случилось, и еле успел закрыть рот. В ушах зашумела ледяная вода, холод, казалось, охватил даже сердце.
Когда Александров сильным рывком вынырнул на поверхность, он увидел, что бревно уже далеко, а Воронов, стоя в лодке, отталкивается от берега. Не прошло и минуты, как сильные руки Воронова схватили его за воротник и выволокли в лодку.
На берегу, у самой воды, их поджидала Айно Андреевна. Воронову было и жаль механика, с которого потоком стекала вода, превратившая щегольской костюм в жеваную тряпку, и хотелось выругать его на чем свет стоит. Но, увидев взволнованное лицо Айно Андреевны, он только прикусил губу. Едва Александров шагнул на берег, девушка бросилась к нему:
— Петя!
Тут она заметила удивленный взгляд Воронова и, покраснев, заговорила подчеркнуто официально:
— Петр Иванович, да разве так можно? При вашем-то здоровье! Бегите быстрее в барак. Надо немедленно переодеться!
Она схватила руку Александрова, нащупывая пульс, но Воронов видел, что даже этот жест совсем не похож на привычное движение врача. Нет, она с торопливой нежностью трогала руку любимого человека, чтобы еще раз убедиться, что тот, за кого она так отчаянно испугалась, жив, здоров и в самом деле рядом с нею. Воронов криво усмехнулся и пошел впереди них.
За штабелями бревен стоял низенький бревенчатый дом. Воронов швырнул на перильца свой мокрый плащ, дождался Александрова, еле поспевавшего за ним в своей мокрой одежде, и втолкнул его в маленькую, жарко натопленную комнату. Айно остановилась на пороге.
Посреди комнаты, у печки, над большим бурлящим котлом склонился широкоплечий пожилой бородач.
— Вот, полюбуйтесь! — обратился Воронов к бородачу, показывая на Александрова. — Главный механик открыл купальный сезон.
— Ну и правильно! — засмеялся бородач. — А то что это за начало сплава без крещения! — И обратился к Александрову: — Идите в ту комнату, переоденьтесь.
Девушка взволнованно комкала носовой платок. Александров стоял пристыженный, жалкий, и ей казалось, что бородач смеется над ним. Конечно, сплавщикам ничего не стоило выкупаться в ледяной воде, Айно знала это с детства, она всю жизнь прожила среди сплавщиков. Но у Александрова слабое здоровье. В последний год войны осколки вражеской мины пробили ему легкое. Она порывисто открыла свою сумку и стала рыться в лекарствах.
— Ничего, Айно Андреевна, у нас свое лекарство есть! — спокойно сказал бородач. Он извлек откуда-то бутылку водки, налил полный стакан и протянул Александрову. — Ну-ка, погрейтесь, Петр Иванович! Здесь двадцать капель с гаком, а гак двести граммов.
Александров извиняющимися глазами взглянул на девушку и выпил водку. Бородач подал ему воды.
Кашляя и морщась, Александров пошел в соседнюю комнату переодеться, а бородач снова наклонился над котлом.
— Что это ты колдуешь? Есть ведь кухарка, — заметил Воронов.
— Есть, — согласился бородач, — да откуда бы она свежую рыбу достала? А я такую уху сварил, что если ее поешь, так уж никакой ветер тебя не качнет. Да и щука такая попалась, что, когда я ее вытащил, воды в реке сразу убавилось! Наверно, как раз из челюсти такой щуки Вяйнямейнен свою кантеле смастерил.
— Это, я понимаю, щука! — усмехнулся Воронов, сбрасывая рюкзак на пол, и добавил: — Вот тебе еще и глухарь, зажарь уж и его.
Бородач раскрыл рюкзак.
— Хорош! Где взял?
— Недалеко от плотины. Зорька своим лаем чуть не испортила все дело.
Открыв дверь, ведущую в соседнюю комнату, бородач крикнул:
— Вставайте, ребята! Получите такой завтрак, что дух захватит. И уха есть, и глухаря Михаил Матвеевич подстрелил!
Послышалось сонное бормотанье:
— Ведь и шести часов нет.
— А лед не спросил, сколько времени, взял да и тронулся! — сказал Воронов.
Послышались оживленные возгласы:
— Кончился зимний курорт, ребята! Наш главный механик уже открыл купальный сезон! Кто следующий?
— Не спеши! Не всем же в один день штаны мочить. Будет воды и завтра.
— А почему нас раньше не разбудили? — Молодой рябоватый парень выскочил в первую комнату, засуетился, перебирая ватники, развешанные у печки. — Где мой ватник?
— А свой багор ты узнаешь? Если и его потерял, тогда из тебя сплавщика не выйдет.
— Нашел, нашел! — Парень набросил на плечи ватник и выскочил за дверь.
Айно Андреевна растерянно стояла у окна. Александров все не появлялся. Люди вели себя так, словно с ним ничего не случилось.
Ни к кому не обращаясь, она тихо сказала:
— Пойду осмотрю столовую. Надо проверить, как хранятся продукты.
— Возвращайтесь поскорей завтракать с нами! — крикнул ей вслед бородач.
Сплавщики начали с шумом усаживаться за стол. Рябой парень заглянул в котел, понюхал, покрутил головой и с одобрением сказал:
— Бросай-ка ты, Кюллиев, свой сельсовет да иди к нам в кухари! Вот бы жизнь для нас настала!
Никто не поддержал шутки. И парень, видно смутившись, принялся резать хлеб.
Воронов, первым получивший миску ухи, нетерпеливо спросил:
— А где же Потапов? Того и гляди проспит завтрак!
Бородач с некоторой обидой ответил:
— Потапов еще час назад ушел на реку проверить, нет ли где заторов. Сплав любит чистую воду!
Воронов промолчал. Раздражение понемногу проходило. Он усердно поглощал уху и теперь уже посмеивался над своим утренним состоянием: «Страсти какие… Что это — ревность или зависть?..» За столом рябой парень уверял, что он бы один управился с этим «котелком» ухи. Но когда парень прикончил третью миску, Кюллиев под смех сплавщиков выхватил у него ее и ласково сказал: «Лопнешь».
Вскоре в комнату вошел пожилой сутулый человек с высоким лбом, изрезанным глубокими, словно затвердевшими от морозов и ветров, морщинами. Это и был бригадир сплавщиков Пуорустаёки Потапов.
Воронову пришлось долго уговаривать этого человека стать бригадиром. В первый год своей работы на сплаве Воронов, сам того не зная, крепко обидел его. Тогда Потапов работал мастером по сплаву и считался одним из лучших. Но Воронов, боясь за успех своего первого сплава, на все участки разослал уполномоченных. Уполномоченный принялся распоряжаться, не считаясь с мнением мастера. Однажды он велел отправить на озеро плот, забракованный Потаповым. Плот на середине озера, рассыпался. Потапов тотчас же отказался от должности мастера и ушел в бригаду сплавщиком. Он заявил, что не желает быть начальством для виду, когда все кому не лень вмешиваются, а ему остается только соглашаться. И вообще в конторе ни в грош не ставят младших начальников. И вот в этом году Воронову все же удалось уговорить Потапова стать бригадиром. Потапов потребовал, чтобы никто не вмешивался в его дела. Самолюбивому начальнику не очень понравилось такое условие, но все же обещание было дано.
Потапов спокойно снял блестевший от воды плащ, причесал волосы, погладил свои короткие, пожелтевшие от табачного дыма усы и только тогда обратился к начальнику рейда:
— Можно начать скатку бревен, Михаил Матвеевич. Все в порядке.
— Погрейся немного, — сказал Воронов. — А я пока поговорю с нашим купальщиком. — Он усмехнулся и отправился в соседнюю комнату, но в дверях остановился. — Пошлите кого-нибудь на порог ниже плотины. Там может образоваться затор.
— Знаю. Туда пойдут Койвунен и Никулин, — сухо ответил бригадир и обратился к пожилому сплавщику, молча сосавшему свою трубку в углу комнаты: — Не забудьте взять с собой пешни!
Койвунен помолчал, словно что-то решая про себя, потом кивнул головой:
— Можно взять. Без них туго.
— Ну, скажи толком, зачем ты приехал? — спросил Воронов, войдя в ту комнату, где Александров обсыхал после купанья.
Александров все еще дрожал от холода.
— Чтобы установить лебедки, — кратко ответил он.
— А механик Кирьянен не мог бы этого сделать? Я же ему поручил.
— Механик! — с усмешкой повторил Александров. — Механиком по приказу не делаются! Секретарь парторганизации он, может, и хороший, а до механика ему еще далеко! Вот теперь, когда я сам осмотрел, я спокоен, что лебедки будут работать.
— Слушай, Петр Иванович, не нравится мне это. Как будто земля вертится только вокруг тебя! — вскипел Воронов.
— Земля не земля, а машины вертятся!
— Ну вот что! Немедленно поезжай в поселок, а оттуда в сплавную контору за оборудованием. А то все прозеваем.
— Я хотел бы посмотреть, как лебедки начнут работать…
— Лебедки будут работать и без тебя. Кирьянен здесь, наконец я здесь… Если еще и ты останешься, что люди скажут? Вон, мол, сколько начальства понаехало! Бездельничают…
— Никто так не скажет. Сегодня здесь начался сплав, завтра на другом участке. И мы с тобой должны…
— Где у тебя машина? На дороге? Ну и прекрасно. Отправишься через час.
Воронов хлопнул дверью и вернулся на кухню. Потапов, должно быть слышавший этот разговор с Александровым, спокойно сушил свои рукавицы над плитой. Воронов спросил:
— Значит, все готово?
— Постольку поскольку, — уклончиво ответил Потапов. — Вот как бы плотина не подвела…
— Далась тебе эта плотина! — усмехнулся Воронов. — Десять лет стояла, а теперь вдруг уплывет?
— Может и уплыть, — пожал плечами Потапов. — Есть же акт вашего заместителя.
— Ну, Мякелев составляет актов больше, чем успеваешь читать, — буркнул Воронов. — Пойдем на берег?
— А мое дело? — встревожился Кюллиев. — Я же не для того, чтобы уху варить, приехал.
— Что там у тебя? — с досадой спросил Воронов.
— Мне нужно человек пять на посевную…
— Пять человек? Не дам! Вот кончим сплав, тогда забирай всех!
Потапов недовольно покачал головой.
— Михаил Матвеевич, у нас людей хватает. Пять-то человек можно и отпустить.
— У тебя, может, и хватает, а у меня нет! — отрезал Воронов.
Кюллиев и Потапов обменялись взглядами. Оба нахмурились, но ничего больше не сказали. Воронов поспешил на улицу, зная, что там этот неприятный разговор не продолжится.
Действительно, деловитая суета, охватившая здесь всех перед началом сплава, казалось, таила в себе всеобщее примирение. На штабелях бревен уже стояли сплавщики с короткими баграми в руках, готовясь сбросить первые бревна. Лебедочники на том берегу последний раз проверяли тросы. Потапов и Воронов спустили на воду маленькую лодку и переправились к лебедкам.
Воронов остановился возле человека, копавшегося у одной из лебедок. В старом солдатском обмундировании он резко выделялся среди сплавщиков, одетых в ватные штаны и телогрейки. Маленького роста, с обнаженной лысой головой, даже, выпрямившись, он смотрел на Воронова снизу вверх. Широкое обветренное лицо его со слишком маленьким носом и круглыми доверчивыми глазами казалось печальным.
— Ну, как дела, товарищ Кирьянен? — спросил Воронов.
— Мы готовы, — как-то уныло ответил Кирьянен.
— А что с тобой? — Воронов удивленно посмотрел на механика.
— Ровным счетом ничего. — Кирьянен наклонился к машине, зачем-то потрогал ее, потом, глядя прямо в глаза начальнику, признался: — Обидно, Михаил Матвеевич. Если Александров не доверяет мне установку лебедок, так пусть скажет об этом.
— Ну, это ты брось! — Воронов рассердился. — В самом деле, что за помощники! У одного мальчишеские выходки, другой никакого начальства не признает, третий капризничает. Только нянек и не хватает.
Кирьянен насупился и ничего не ответил.
Сплавщики, по два человека против каждой лебедки, поднялись на штабеля, продели концы тросов под широкий ряд бревен, прикрепили крюки и теперь ожидали команды. На берег вышли и кладовщики и даже кухарка в белом халате. Всем хотелось увидеть, как лебедки сбросят со штабелей в воду первые бревна.
— Ну, готовы? — крикнул Потапов через реку.
— Готовы! — ответили со штабелей. — Вертись, катушка!
Бригадир, еще раз взглянув на штабеля, на лебедки, решительно махнул рукой:
— Давай!..
Катушки лебедок завертелись. Тросы, погруженные в воду, натянулись. Дрогнули бревна на одном штабеле, на другом, потом заскользили по каткам и с грохотом упали в воду. Фонтан, поднятый ими, смыл с берега кору и щепки, обрызгал штабеля и стоявших на берегу людей. Бревна вынырнули из глубины на поверхность, одно мгновение постояли на месте и медленно поплыли вниз по течению. Постепенно скорость их росла, словно они уверились в правильности своей дороги. Люди махали им вслед, желая счастливого пути.
Воронов, стоя у лебедки, тоже смотрел на весенний поток и уходившие в дальний путь бревна. С тех пор как здесь начали рубить лес и сплавлять его по рекам, скатка бревен всегда производилась вручную. Сейчас люди впервые увидели, как бревна падают в воду силой машин. Как же не гордиться ему, начальнику рейда!
Мокрые от брызг люди улыбались. В воду падали все новые ряды бревен. Бревна грохотали, вода плескалась и шумела. Рабочие на штабелях весело перекликались. Сплавщики побежали с поднятыми баграми вдоль берега к своим местам. Некоторые вскакивали на плывущие бревна и, взмахивая руками, чтобы сохранить равновесие, мчались по течению. Вскоре у мыска послышался громкий смех и ойканье. Оказалось, что кто-то из смельчаков упал в воду. Обычно за это ругали, потому что сушка одежды у костра отнимала дорогое время. Но сейчас, в первый день сплава, над неудачником лишь добродушно посмеялись:
— Ну, значит, сплав действительно начался, коли вторые штаны в реке промокли!
Полюбовавшись вдосталь сбросом первых бревен, Воронов вернулся в контору участка. Надо было составить план дальнейших действий. В этот час на всех участках рейда готовились к сплаву.
Нигде нет таких сплавных трасс, как в Карелии, где река переходит в озеро, а из озера опять вырывается река и тянется на десятки, а то и сотни километров. Там, за озером Пуорустаярви, о сплаве можно было не беспокоиться — река широкая, и воды хватит до самого ледостава. А здесь, на истоке Пуорустаёки, где вода держится от силы две-три недели и лес сплавляют врассыпную, сплав всегда под угрозой. Немало хлопот и с озером. Лес там надо проводить кошелями да еще построить десятки километров боновых заграждений, так называемых оплотников, чтобы бревна не разбросало по береговым отмелям. И только в нижнем течении реки начинается спокойный путь леса до сплавной запани. А уж там сплоточная машина свяжет из бревен крепкие пучки для дальнего сплава. Часть бревен будет переработана на месте, превратится в шпалы, баланс, рудные стойки и попадет в вагоны. Но как долог путь бревен до сплавной запани!
Кирьянен, довольный работой лебедок, уже был в конторе и кричал в телефонную трубку:
— Алло, Мякелев? Позвони в редакцию районной газеты и скажи, что скатка бревен на реке Пуорустаёки началась! Сегодня, в шесть тридцать. Скажи, что впервые в истории нашего сплавного рейда скатка бревен производится при помощи лебедок… — Потом он понизил голос и, как бы стесняясь чего-то, спросил: — Нет ли мне писем? Нет? Ну, тогда все…
Воронов сочувственно взглянул на погрустневшего Кирьянена.
— Опять дочь не пишет?
— Ей, наверно, некогда, не до писем сейчас, скоро экзамены. А вообще-то я на нее не обижаюсь.
— Не обижаешься, а навстречу почтальону бегом бежишь! — усмехнулся Воронов. — А когда писем нет, так вместо того, чтобы ее ругать, почту бранишь! Верно ведь? — Кирьянен невольно улыбнулся. — Ну, как она учится?
— Ничего! Даже хорошо! Дочка настойчивая, в покойную мать. А что касается писем… так ты и сам их ждешь!
Теперь смутился Воронов, и Кирьянен, меняя тему, другим тоном сказал:
— Вечером я, пожалуй, отправлюсь к Большой заводи. И Анни захвачу с собой.
— А что? — насторожился Воронов. — Я же вчера там был!
— Да ведь у нас разный взгляд на вещи! — полушутливо-полусерьезно ответил Кирьянен. — С твоей точки зрения, если бревна в воду падают и плывут, значит все хорошо, а мне вон пишут, что туда даже газеты не доходят, кружок по изучению истории партии совсем распался. Да и бытовые дела у них не устроены…
Рассказывая все это, Кирьянен исподтишка поглядывал на Воронова, но лицо начальника сплавного рейда оставалось равнодушным. Он и в самом деле считал, что главное — сплав. И ответил спокойно:
— Что ж, поезжай. Не знаю только, как будут работать кружки, когда сплавщики рассыплются по всему участку. Не будешь же ты вызывать их за десять верст?
— Что-нибудь придумаем, — ответил Кирьянен.
В эту минуту его больше беспокоило то, что Воронов так равнодушен ко всему, что не связано с производством. Однако убедительных слов почему-то не было. Может, потому, что слишком недавно стал он секретарем партийной организации и все еще робел перед Вороновым? Это и сердило его и обижало.
Расставаясь, и начальник и секретарь явно почувствовали какое-то недовольство друг другом.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Никулин стоял у дверей кухни с рюкзаком за плечами и нетерпеливо ждал Койвунена, чтобы отправиться на дальний порог Пуорустаёки.
Наконец-то он увидит настоящий молевой сплав! Он будет, как заправский сплавщик, прыгать с бревна на бревно, переплывать пороги, стоя на бревне, как на спине лошади, вооруженный одним багром! Вот это жизнь!
Правда, в свои девятнадцать лет он уже был машинистом сплоточной машины «Унжелесовец», но теперь даже эта огромная машина не казалась ему такой привлекательной. Конечно, она неплоха, что и говорить, но машина стоит в самом конце сплава…
Вот почему он так обрадовался, когда Воронов приказал отправить часть рабочих запани на помощь сплавщикам. Сплоточная машина находилась в ремонте. Никулину хватало дела и в мастерских, но там главный механик Александров завел такой порядок, что без его приказа и шагу ступить нельзя, а какому же механизатору понравится глядеть на все из рук начальника? И Никулин отпросился на сплав.
Кроме того, была еще одна причина и, пожалуй, самая важная, но, конечно, секретная. Правда, мать догадалась… Ведь он уже недели две не видел Анни. Комсомольский секретарь и заведующая клубом, она не могла усидеть в поселке в эти дни. Где-то бродит она на дальних участках. Сплавная трасса большая, в главную реку впадает больше десятка речушек, и на каждой из них начались работы. Но появится она и у них…
Достаточно было и пяти минут, чтобы Никулин собрался. Рюкзак был за плечами, в рюкзаке — запасная пара белья и портянки, на случай, если придется выкупаться, как это случилось с Александровым; спички заложены под подкладку шапки, чтобы не промокли, если он свалится в воду, — известно, что человек старается держать голову над водой. Николай собрал и еды, зная, что может случиться и такое, что не скоро вернешься сюда. И вот он стоял в дверях, поджидая Койвунена, который все еще сидел в раздумье у стола.
— Ну, что же, пойдем! — не вытерпел юноша.
Койвунен, ничего не ответив, подошел к плите, сел возле нее на табурет и начал тщательно скоблить о камень кусок проволоки, прикрепленный к кисету. Потом он принялся чистить проволокой трубку. Несколько раз продул ее, набил табаком и разжег. «Наконец-то!» — облегченно вздохнул Никулин, надеясь, что Койвунен сейчас встанет и они пойдут. Но Койвунен, докурив трубку, поднялся с табурета, подтянул брючный ремень, открыл рюкзак и снова словно застыл. Затем, вынув из рюкзака какой-то сверток, он положил его на стол. Николай следил за ним с нескрываемым раздражением, но сказать что-нибудь стеснялся — ведь Койвунен старше его. Наконец он все-таки не выдержал.
— Долго ли мы будем собираться? Пожалуй, надо идти?
— Пожалуй, — кивнул головой Койвунен и развернул сверток, в котором оказались самые разнообразные инструменты. Он нашел среди них брусок и начал точить свой нож.
Дальше следить за Койвуненом у Никулина уже не хватило терпения. Он крепко хлопнул дверью и вышел.
Вспомнив распоряжение Потапова, Никулин прошел на склад, взял там первую попавшуюся под руки пешню для сколки льда, и опять ему нечего было делать.
— Вот проклятый старик! — выругался он. — С таким напарником, если случится что на пороге, трудно придется.
Но вот, наконец, и Койвунен пришел на склад. Ни слова не говоря, он взял из руки Никулина пешню, взвесил ее в руке и пробурчал:
— Не годится!
Он отдал ее кладовщику и принялся выбирать другую, по своему вкусу.
— Надо брать такие пешни, которые могут заменить и лом, — пояснил он Никулину, поднял багор и пешню на крепкое плечо и, ссутулясь, неторопливо зашагал по тропке.
Никулин сначала шел позади, как и полагается молодому, когда он сопровождает старшего. Но Койвунен шел так медленно, что Никулину опять стало невтерпеж, и он обогнал его. Пусть Койвунен приходит, когда хочет, а он найдет и сам дорогу!
До порога было не менее двух километров. Тропинка вела через сосняк, потом через болото, где под водой еще чувствовался лед, вывела на ровную пустошь и нырнула в густой березняк. Слева доносился сильный шум воды. Никулин, чтобы сократить путь, свернул с тропинки и пробрался сквозь березняк к реке.
К прибрежным камням прибило целую гору льда. Льдины, омытые водой и подтаявшие, сверкали на солнце. Никулин невольно остановился: «Как красиво! Вот бы Анни поглядела!» И тут же подумал: сколько раз видел он эту лесную реку — и зимой, и летом, и вот в такую пору, когда она освобождается от зимней спячки, и не замечал ведь, что льдины на солнце так красивы… Надо бы об этом сказать Анни… И вдруг испугался: может, Анни уже вернулась с трассы в поселок, а он здесь и ничего не успеет ей сказать — ему ведь скоро уезжать в армию… И будет ли Анни его ждать? Ждать… Откуда он взял, что она его любит? Она ведь образованная… Сколько ему нужно заниматься, читать, чтобы догнать ее… Ну и что ж! Обязательно догонит. Он ведь упрямый. Разве легко ему было научиться управлять сплоточной машиной, а научился… Хороша все-таки эта машина! Тросы поднимают из воды сразу по десятку бревен; люди обвязывают бревна проволокой, и машина опускает их в воду уже в виде звеньев будущего плота. Плотовщикам остается только связать эти звенья, прикрепить к буксиру — и отправляйся в далекий путь!.. Вот бы поплыть на таком плоту… вместе с Анни…
Он так размечтался, что и не заметил, как красивый ледяной барьер разросся и перегородил почти всю реку. Свободным остался только узенький проход, а по течению плыли все новые льдины. Они со звоном сталкивались с ледяным валом. Вода давила на вал, он грохотал и скрипел, но становился все крепче и плотней. Никулин понял, что ледяные глыбы могут с минуты на минуту закупорить весь порог, и тогда для бревен не останется прохода. А лебедки уже, наверно, начали сбрасывать лес, он вот-вот подойдет сюда, и перед льдиной может образоваться такой затор, что для разбора понадобится много времени.
Надо было спешить.
Никулин швырнул на землю рюкзак и стал осторожно пробираться по ледяным кромкам к краю мыса. Ледяной вал трещал под ногами. Стало страшно, но Никулин знал, что разбирать затор надо с нижнего края. Он вдруг поскользнулся, ушиб колено об лед и чуть было не упал в бурлящую черную воду. Хорошо, что ухватился за край льдины, но пешня выскользнула из рук и понеслась по течению, покачивая деревянной рукояткой. В то же мгновение Никулин услышал сердитый голос Койвунена.
— Назад! Какой черт тебя понес туда?
Никулин пополз обратно. Койвунен, с топором в руках, внимательно рассматривал ледяной вал, трубка его усиленно дымила. Когда юноша взобрался на берег, Койвунен сунул ему в руки топор.
— Выруби себе хоть шест.
Никулин побежал к лесу. Вернувшись с крепкой жердью, он увидел, что Койвунен стоит на прибрежном камне и долбит своей пешней осевшую глубоко в воде глыбу льда.
Никулин подсунул свою жердь и стал поднимать льдину. Койвунен отделил от затора большую глыбу, которая держалась за камень. Ледяной вал начал вздрагивать и трещать. Они едва успели выскочить на берег, как льды двинулись мощной лавиной и вдруг распались на тысячи сверкающих осколков, гонимых быстрым течением.
В нескольких десятках метров ниже порог запирала отвесная скала, и оттуда река поворачивала влево спокойным плесом. Они молча смотрели, как льды неслись по порогу, прыгали в бурлящей воде, на полном ходу ударялись о гранитную стену скалы и разбивались, мелодично звеня. В заводь текла густая масса из маленьких сверкающих льдинок, похожих на гвозди.
— Вот так! — усмехнулся Койвунен и перешел с камня на берег.
Он выбил из своей трубки золу о каблук сапога, набил ее снова и, затянувшись свежим дымком, начал объяснять юноше:
— Вот так нужно разбирать затор, все равно какой — из льда или бревен. Надо найти нижнее бревно или ледяную глыбу, которые задерживают. А как отделишь ее, так остальные уже сами сдвинутся. — Немного подумав, он добавил: — Главное — найти, что держит… И в жизни так…
«Да ты, оказывается, и философ!» — подумал Никулин и взглянул на старика.
Парню стало неловко, что он так плохо начал работу, еще и пешню потерял. Койвунен, словно поняв его волнение, спокойно сказал:
— Пешня найдется. Она там, в низовье, в заводи.
— Откуда ты знаешь?
— Такая железная штука далеко не уплывет.
Никулин пошел к порогу. Взобравшись на скалу, он сразу увидел пешню, плавающую в заводи вверх рукояткой. Она остановилась метрах в двух от берега. Никулин забрался в воду и вытащил ее. Вернувшись на порог, он заметил темные полоски на сверкающей воде. Они исчертили всю реку, с каждым мгновением приближаясь. Никулин обрадованно закричал:
— Вон они, плывут!
С верховьев реки действительно плыли первые бревна. При приближении к порогу скорость их возрастала. Койвунен поднялся с камня, на котором сидел, покуривая.
— Да, плывут.
Добравшись до порога, бревна исчезли в его стремнине и вновь появились на поверхности лишь под скалой. Теперь они шли во всю ширину реки.
— Счастливого пути! — воскликнул Никулин и помахал рукой мчавшимся в потоке бревнам. Койвунен поддакнул:
— Да, долгий путь у них впереди.
Одно бревно ударилось о камень, задержавший недавно льды. Бревно встало поперек и остановилось. Койвунен оттолкнул его от камня, но не отпустил, а вытянул один конец бревна на берег так, что оно прикрыло камень, доставивший столько неприятностей.
— Что ты делаешь? — удивился Никулин.
— Коссу[1], — ответил Койвунен. — Дай-ка еще бревен.
Никулин начал багром вытаскивать их из воды. Койвунен сложил друг на друга полдесятка бревен. Одна толстая сосна ударилась о коссу, но тут же соскользнула и, не останавливаясь, поплыла дальше.
— Вот видишь, как получается, — проговорил Койвунен. — Мы оставили сосну с носом — она камень-то и не нашла.
Никулину захотелось повторить давешние слова Койвунена: «Как в жизни!», но он промолчал. Постепенно рождалось все большее уважение к этому молчаливому человеку.
— А ты давно на сплаве? — спросил он.
Старик тянул дым из своей трубки и словно высчитывал:
— Да нет, не очень-то давно… Примерно, тридцать пять лет, — ответил он наконец.
— О-ох! — вырвалось у Николая. — А я совсем новичок.
— Это ничего! — успокаивал Койвунен. — Сегодня и я новичок. В наше время скатывали иначе. На каждом штабеле стояло по два человека. Семь потов прольешь, бревна по одному перекатываешь и так и этак, пока оно упадет в воду. А тут десяток, а то и больше, одним разом и — бух в воду! Вот что значат машины!
Редко кто слышал от этого неразговорчивого финна такую длинную речь. Но вот он умолк, задумчиво поглядывая на плывущие бревна, потом спохватился и уже по-деловому сказал:
— Я пойду посмотрю на плотину, это тут недалеко. Там один Пекшуев. Может быть, ему помочь нужно. А ты тут смотри. Главное — не давай бревнам останавливаться. Река не любит, чтобы на ней останавливались.
Никулин остался один. «Где-то сейчас Анни?» — подумал он снова. И сейчас же волна воспоминаний подхватила его и увлекла так далеко, что он перестал видеть реку.
Конечно, это Анни настояла на том, чтобы доклад о строительстве новых гидростанций комсомольцы поручили Николаю. Теперь-то он понимал, почему так сделала Анни. Никогда он не засиживался за книгами, если и читал, то только по технике, тут уж иначе нельзя! Если ты чего-нибудь не понимаешь или не знаешь, каждый может сказать: какой же ты мастер! Но гидростанции! Николай растерялся: «Какой из меня докладчик!» — сказал он Анни, когда ребята разошлись и они остались одни.
— А я-то считала тебя смельчаком! — посмеялась тогда над ним Анни. И примирительно предложила: — Начнем готовить вместе!
Анни принесла из библиотеки книги, брошюры, подшивки газет.
— Давай будем сперва читать вслух. А потом составим план доклада.
…Какая упрямая прядь волос была в тот вечер у Анни! Читая, она все время откидывала ее назад, прятала за ухо, а прядь снова лезла на лоб, закрывая глаза.
— Дай я буду держать твои волосы, — пошутил Николай.
— Не мешай! Записывай! — коротко ответила Анни, но Николаю показалось, что она вовсе не сердится.
Он осмелел, пододвинулся к девушке и стал руками придерживать эту прядь. Анни отбросила его руку, а когда он снова положил ладонь на ее голову, как будто и не заметила этого.
Анни читала какую-то статью, но Николай ничего не слышал, ему хотелось одного: чтобы эта статья была бесконечной. Ведь когда Анни прочтет ее до конца, она встанет и скажет: «На сегодня хватит».
Однако этого не случилось. Прочитав статью, Анни долго сидела задумчивая, потом сказала:
— Давай будем мечтать!
— О чем? — Николай не понял.
— Мечтают всегда о хорошем, только о хорошем, — ответила девушка.
Однако мечтать они так и не стали. Анни стала рассказывать, как она училась в Петрозаводске в техникуме и жила у тети, о своих подругах, о том, что они любили пускать по классу бумажных голубей.
— Мы были озорные! — не то с сожалением, не то с гордостью сказала она.
Такие вечера стали частыми. Николай читал с Анни о крупных гидростанциях, делал выписки, вместе они составляли и план. Услышав как-то от Воронова, что с Туулилахтинского сплавного рейда будут отправлять древесину в Каховку, он поспешил к Анни:
— Знаешь, что я хочу включить в доклад? Мы, туулилахтинские сплавщики, тоже строители Каховки. Ведь это здорово!
Никулин перешел с коссы на камень и стал следить оттуда за ходом древесины. Мелькнула мысль: хорошо бы на этом пороге построить из камней и цемента такую запруду, какая только что образовалась из льда. Вода поднялась бы еще выше, и ее можно бы направить в турбины. На реке много порогов. Вот бы поставить на них гидростанции! Он, пожалуй, скажет об этом в докладе.
Вдруг Николай услышал шаги за спиной. Он быстро обернулся. Из лесу вышла девушка в синем лыжном костюме, с кожаной полевой сумкой в руке.
— Анни?
Девушка остановилась и почему-то прижала руки к груди.
— Николай, как ты сюда попал?
— Я? Я в бригаде Потапова. Сплоточную машину нам еще не вернули, — говорил он быстро, словно оправдываясь. — Где ты была? Хоть бы позвонила!
— Куда же мне было звонить? Я ведь не знала, что ты здесь…
— А где же сплавщику быть, как не на сплаве! — не без бахвальства произнес он. — Вот помогаю бревнам пройти! Тут очень трудный участок. — Потом растерянно признался: — Я поехал на сплав еще и потому, что знал, ты где-то здесь…
Анни усмехнулась:
— Где же ты собирался найти меня? Вчера я была на озере, сегодня на реке Пуорустаёки, вечером пойду на Большую заводь вместе с Кирьяненом.
— Побудь здесь хоть завтрашний день! — попросил Николай.
Анни присела на камень рядом с ним. Николай взял ее маленькие загорелые руки в свои. Он словно боялся, что Анни убежит от него, и торопливо заговорил:
— Все-таки я нашел тебя! А если бы я торчал в поселке, когда бы мы еще встретились? Мать у меня догадливая: когда я собирался сюда, она вдруг сказала: «Зачем ты пойдешь? Жди здесь, она сама придет!» То есть ты. Как она догадалась?
— А ты что?
— Я ей про сплав и всякое такое.
— Матери надо всегда говорить правду, — задумчиво сказала Анни. Потом, улыбнувшись, добавила: — И надо слушаться!
— Ну уж нет! Она говорит: жди. Я ждал. Просыпаюсь утром, первым делом смотрю, топится ли у вас печь. И как вижу густой дым, думаю: может, приехала, может, это тебе завтрак готовят? Бегу в клуб, — может, там знают? Смотрю, не выходишь ли ты из дома. А тебя все нет и нет!
Анни слушала Николая и задумчиво смотрела на реку, текущую у их ног. Ей хотелось сказать ему что-нибудь хорошее. Она взглянула на юношу, но через его плечо вдруг увидела, что на пороге началось что-то неладное.
Льдины, которых уже давно не было видно на реке, показались снова. Они плыли к порогу сплошной массой, и среди них чернели бревна, какие-то обломки балок, сваи… Вода, еще минуту тому назад такая кристально чистая, теперь стала мутной и грязной. Она все прибывала и прибывала. Камни, по которым Николай карабкался на ледяной вал, теперь покрывались водой.
Николай и Анни вскочили на ноги и, пораженные, стали отступать к берегу. Где-то далеко вверх по течению раздавались неразборчивые крики.
— Коля, плотина рухнула! — тихо, с широко раскрытыми глазами шепнула девушка. Было страшно высказать вслух эту догадку.
— Почему ты думаешь? — Николай боялся поверить ей.
— А откуда балки? Вода прибывает? Ты знаешь, где плотина? Тут, недалеко. Ой, не слушали отца! Он предупреждал, что надо ремонтировать.
Толстое бревно, плывущее поперек течения, стукнуло о камень, на котором они только что сидели и который уже успел покрыться водой. Перед бревном остановилась льдина и начала погружаться в воду, на эту льдину взгромоздилась другая, потом еще бревно.
Нельзя было медлить ни секунды. Николай схватил пешню и ринулся к реке. Анни закричала:
— Подожди, не так, не так! Надо шестом приподнять бревно…
Она притащила из прибрежного леса длинную жердь с сучками. Николай, стоя по колено в холодной воде, тем временем старался приподнять конец бревна, но безуспешно. Вдвоем они сумели перекатить бревно через камень, и оно поплыло дальше, освобождая путь льдинам и бревнам. Но на этот же камень наталкивались все новые и новые бревна, льдины, балки, их надо было отталкивать, направлять дальше. Долго пришлось им стоять по колено в ледяной воде, но они не чувствовали холода. Наконец вода стала заметно убывать, русло делалось все уже и уже. От коссы, сооруженной Койвуненом, не осталось и следа. Николай стал делать новую коссу. Анни, поняв его намерение, принялась помогать, работая умело, как бывалый сплавщик…
Воронов и Потапов осматривали штабеля бревен, назначенные к сбросу в воду. Нужно было рассчитать, когда лебедочники закончат свою работу. Половодье на Пуорустаёки длится недолго, а леса вывезли много.
— Будем сбрасывать в три смены, — сказал Воронов. — Ночи теперь светлые. Кончится половодье, откроем плотину и погоним бревна по летней воде.
— А если не хватит воды? — Потапов был хмур, неразговорчив, и Воронов уже несколько раз с неудовольствием поглядывал на бригадира.
— На плечах перенесете бревна! — жестко отрезал Воронов.
— Ну что же, нам не привыкать! — осуждающе сказал Потапов.
Воронов сделал вид, что не расслышал слов Потапова. В прошлые годы, когда сплав задерживался, рабочие на некоторых плесах реки и в самом деле баграми проталкивали меж отмелей и камней бревно за бревном. Но теперь другое дело; придется сплавлять древесину трех лесопунктов… Воронов пошел к берегу, выбирая дорогу посуше.
Снизу по реке вдруг послышались тревожные возгласы, кто-то бежал по берегу, разбрызгивая сапогами грязь и мутную воду. Воронов окликнул:
— Эй, что там?
Рябой парень, завтракавший утром вместе с Вороновым, остановился, поскользнувшись на бегу, и выпалил одним духом:
— Плотина полетела ко всем чертям!
Задыхающиеся, мокрые от пота, добрались Воронов с Потаповым к месту происшествия. Плотины не было и в помине. Не было и озерка, служившего раньше небольшим водохранилищем. Широкой полосой лежала черная голая земля — дно бывшего водохранилища, да узкое, как сабля, посверкивало под солнцем русло реки. На берегах остались разворошенные груды бревен, вздыбленных балок, покачнувшиеся и поломанные сваи.
Десятки людей стояли на берегу в угрюмом молчании. Лишь длинный, худощавый сплавщик Пекшуев, который дежурил у плотины с утра, продолжал работать, отталкивая подальше бревна, которые цеплялись за сваи. На другом берегу тем же занимался Койвунен.
— Так я и знал! — нарушил молчание Потапов, сняв кепку, будто прощался с покойником.
— Ни черта ты не знал! — резко обернулся к нему Воронов, словно нашел виновника. — Обрадовался, что успел акт подписать.
— Радоваться-то нечему. Я бы скорее поплакал, да слез не хватает. Ведь лес-то все равно придется сплавлять! Если бы я не чувствовал, что так может случиться, так и акта не подписал бы.
— Чувствовал! — протянул презрительно Воронов.
— Ну, мне не поверили, так можно же было поверить Мякелеву?
— А у Мякелева, наверно, заготовлен акт и на случай своей смерти. Ну, хорошо, вы правы! — закричал Воронов. — Вы правы, а я виноват! Доволен?
Бригадир потупил глаза и ничего не ответил. Пекшуев отдал свой багор одному из сплавщиков и подошел к начальнику.
— Михаил Матвеевич, позвольте, я скажу, как получилось, я ведь видел, — робко начал он, словно именно его обвиняли в несчастье.
Потапов посмотрел на него с любопытством, Воронов равнодушно. Что нового он мог сказать?
— Ну, ну? — поторопил Потапов.
— Я эту плотину знаю уже три года, — обстоятельно начал Пекшуев. — Каждую весну тут работал. И видел ледоход. Лед разбивался вон там, о камни, — он показал рукой вверх по реке, где не было никаких камней. — Лед разбивался о камни, а теперь камней нет. Правда, они мешали сплаву, но зато при них плотина стояла… как сани без полозьев, но все-таки стояла.
— Ну-ка, ну-ка? — Потапов поворошил пальцами волосы. — Говоришь, камни? Позволь, позволь, а мы, то есть Михаил Матвеевич и я, велели их взорвать…
Пекшуев продолжал оправдываться:
— Ей-богу, я бы вас предупредил, если бы знал. Но я про камни узнал только сегодня. Смотрю — их нет. Думаю, пропала наша старушка, и так еле скрипела…
— Выходит, и я виноват. — с каким-то облегчением сказал Потапов, как будто был рад, что может оправдать начальника.
Но Воронов, не глядя на бригадира, сказал:
— Ну, довольно. Давай теперь выпутываться из беды. Как будем сплавлять лес без плотины?
— Попросите старика Кюллиева, чтобы выделил еще несколько человек из колхоза.
— В колхозах и так мало народу, — вздохнул Воронов, потом сказал решительно: — Своими силами должны справиться. Я пришлю людей с озера и еще откуда можно. Первая задача: по всей реке соорудить коссы по берегам и вдоль мелей. Вторая задача: приступить к строительству новой плотины.
Он отчеканивал каждое слово, словно хотел заранее отбить всякую охоту возражать.
Потапов ответил поговоркой:
— Еловым веником не напаришься и искрами избу не натопишь!
— Я поговорки и сам знаю! — сердито сказал Воронов. — Сейчас надо спасать положение! Пойдем к тебе и займемся распределением людей заново.
Они понуро поплелись туда, где утром так весело начинали скатку бревен.
Анни и Николай сидели у костра и сушили обувь, то и дело поглядывая на порог, но теперь все было спокойно. Сооруженная ими косса прикрыла камни, и бревна тихо проплывали мимо, покачиваясь на волнах. Любуясь рекою, Николай предложил:
— Анни, давай останемся здесь до конца сплава! Вот хорошо было бы!
— И не надо нам ни сплоточной машины, ни комсомольской работы, да?
— Ну зачем ты смеешься? — Николай смутился. — Я ведь только о том, что мы так мало вместе. Может быть, хоть сегодня останешься?
— Зачем? — лукаво спросила девушка.
— Мы бы «молнию» выпустили…
— И только?
— Поговорили бы, провели бы вместе вечер, — ведь давно не виделись…
— Так бы и сказал! — засмеялась Анни. — А то — «молния»! — И мягко добавила: — Мы будем вместе весь вечер. Не могу же я уехать, когда здесь такой переполох.
Николай крепко пожал ее руку, посмотрел в глаза и притянул ее к себе. Анни покраснела, вырвала руку — и кстати: из леса вышел Койвунен.
— А я-то боялся, что́ тут и как, — начал он. — Оказывается, даже косса стоит на месте! И Анни здесь? Э, вы, наверно, и не заметили, что у нас там плотина рухнула?
— Как не заметишь, когда тут затор чуть не до неба рос, — проворчал Никулин, притворяясь, что недоволен долгим отсутствием Койвунена.
Анни попрощалась и побежала на сплавной пункт, словно только на минутку задержалась здесь.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Анни еще издали услышала грохот падавших со штабелей бревен, возгласы сплавщиков и равномерный стрекот машин.
Ее, как всегда, встретили шутливыми возгласами:
— Где это ты пропадаешь, Анни? Разве можно начинать сплав без тебя?
— Видишь, что получилось, — плотину унесло. Почему не пришла днем раньше?
— Купальный костюм захватила? Мы уже открыли сезон.
— Не хочешь ли прокатиться? Жесткая плацкарта, без пересадки до Туулилахти. Для удобства свяжем для тебя два бревна.
— Нет, мы тебя не отпустим. С кем же мы здесь танцевать будем?
Посмеиваясь над шутками сплавщиков, она вымыла сапоги, вытерла руки и пошла искать Воронова.
— Смотри-ка, Воронов, весенняя птичка! — улыбнулся Потапов, когда веселая, краснощекая Анни вошла в комнату.
Анни открыла полевую сумку и подала Воронову письмо.
Воронов так обрадовался письму, что Анни даже пожалела его. Она знала, что Воронов ждет письма из Ростова-на-Дону, а это письмо здешнее, от бригады, работающей на озере. Воронов помрачнел, быстро пробежал письмо, потом выругался.
— Что случилось? — Потапов поднял на него глаза.
— На озере поломали сверло, попало на осколок снаряда, — неохотно объяснил Воронов. — Не могут получить нового. Этот черт Мякелев не дает, пока не будет составлен акт и пока я его не утвержу.
Взглянув на Анни, он виновато опустил глаза. Анни сделала вид, что ничего не слышала. Воронов принялся крутить ручку телефона.
— Соедините с Туулилахти, с конторой сплавного рейда! Мякелев? Надо немедленно отправить сверло для сверлильной машины на озеро… Что, письменное распоряжение? Ладно, получишь письменное распоряжение, только не медли! Что у тебя нового? Почему в больнице? Вот как! Да, Анни здесь. Скажу, скажу.
— Что случилось? — испуганно спросила Анни.
Воронов опустил трубку на рычаг, взглянул на девушку.
— Анни, тебе надо ехать в Туулилахти. Твоя мать в больнице. Отец просит приехать. Поедешь с Александровым.
— Он давно уехал, — заметил Потапов. — Ты же дал ему час времени. Они и так медлили с отъездом.
— Кто «они»?
— Александров и врач. Вместе уехали.
— Что это у них — свадебное путешествие на казенной машине? — вырвалось у Воронова.
— Нет, не свадебное, а деловое! — спокойно заметил Потапов. — Айно Андреевна была здесь по делу, а потом ей позвонили по телефону, чтобы она немедленно возвращалась. Она хороший врач и хорошая девушка.
Воронов поморщился. Анни испуганно вскрикнула:
— Что же с мамой? Наверно, плохо, если Айно Андреевну вызвали… А мне еще надо на Большую заводь ехать…
— А вот хныкать совсем ни к чему! — деловито сказал Воронов. — На Большой заводи Кирьянен и твои дела сделает. А ты возьми его лошадь и поедешь со мной в Туулилахти.
Кирьянен и Мийтрей Кюллиев только что вернулись с плотины и сушили перед огнем носки.
— Значит, ты думаешь, что в этом году будет хороший урожай? — спросил Кирьянен.
— Да, если верить старым приметам, — подтвердил Кюллиев. — Старики говорят: много было еловых шишек — значит лето урожайное будет.
Он понаблюдал за игрой пламени в печи, потом тяжело вздохнул:
— На поля тянет, особенно весной. Зря меня в Совет посадили. Земледелец я, мне бы, самое лучшее, в бригадиры полевой бригады…
— Тебя выбрал народ, — внушительно сказал Кирьянен. Он любил такие веские выражения.
— Да, тут ничего не поделаешь, — согласился Кюллиев. — Небось ты тоже думал: я, мол, шофер — и только. А вот теперь и механиком и секретарем парторганизации… Тяжело?
— Чем дальше живем, тем сложнее жизнь становится, — уклонился Кирьянен от ответа. — Но ведь и мы меняемся! Разве ты не замечаешь?
— Да уж куда больше! — усмехнулся Кюллиев. — Вот собрались у камелька два мужика, а разговор-то у них совсем не о выпивке! Скажи правду, ведь о плотине думаешь?
— А ты?
— И я о ней. Вот Воронов не отпустил моих колхозников, когда плотина еще жива была. А ты, должно быть, обдумываешь, как бы у меня еще несколько человек попросить…
— Дашь? — вдруг с силой вскрикнул Кирьянен и вскочил, роняя поленья, на которых были развешаны носки:
— Ишь какой быстрый! — недовольно сказал Кюллиев. — Чуть носки не сжег! — Он поставил поленья стоймя. — Вот и получается, говорю я, что были мы мужики, а стали государственными людьми. Хоть и маленькие задачи перед нами, а поди-ка реши их!
— Ты ответишь мне?
— А что с вами сделаешь? Придется с женщинами поговорить, работали же они в войну одни. Человек до десятка еще наберу…
Кирьянен хотел поблагодарить Кюллиева, но трудно было найти слова. Да и нужно ли это? Дело общее! Он прищурил и без того маленькие глазки и уважительно промолвил:
— Вот видишь, народ знает, какого человека выбирать председателем сельсовета.
Кюллиев поморщился. Не любил он благодарственных слов. Наступило неловкое молчание, которое нарушила Анни. Она вбежала в комнату и от порога заговорила:
— Товарищ Кирьянен! Маму положили в больницу! Я не смогу с вами ехать на Большую заводь.
Кюллиев вскочил, подошел к ней.
— Что с ней случилось? Да присядь к печке, посушись хоть немного. Расскажи толком.
Анни стала всхлипывать. Кирьянен подошел к девушке, неуклюже попытался утешить:
— Ты же еще и не знаешь, может, болезнь совсем и не опасная! Айно Андреевна вылечит ее. Дела твои на Большой заводи я сделаю сам, а ты забирай мою лошадь и поезжай.
— Поезжай, поезжай, — заторопил Кюллиев. — Маме привет от меня передай. Скажи — от молодого человека, с которым когда-то танцевала. Да и моему сыну там и всему его семейству кланяйся. Пусть в гости приедут.
Анни ушла. Кирьянен заговорил о сыне Кюллиева:
— Хороший мастер! Он теперь монтирует новую круглую пилу. Хочет, чтобы у нас вырабатывали дранку для оштукатурки.
— Такой он был и маленький, — довольный похвалой, улыбнулся Кюллиев, поглаживая свою бороду. — Всегда ему надо было что-то придумывать да мастерить.
— Ты бы навестил его, внуков своих посмотрел бы.
— Все дела. — Старик задумался. — В колхозах весенний сев на носу, и тут… Боюсь я, как бы вы теперь без плотины не сели на мель. Пуорустаёки — ненадежная. Шумит, шумит, а в один прекрасный день, смотришь, уже отшумела, примирилась. Здесь вода идет очень быстро.
Анни садилась на коня. Конь фыркал и увертывался от незнакомой всадницы. Девушке было трудно вдеть ногу в высоко подвязанное стремя. Воронов поднял ее в седло, как ребенка. Конь попытался сбросить Анни, но она ударила его поводом по крупу. Конь прижал уши и присмирел.
Воронов вскочил в седло с легкостью привычного ездока.
Смолистое благоухание весеннего леса и равномерный цокот копыт понемногу успокоили Анни. Где-то неподалеку залаяла Зорька. Из леса выбежал серый заяц, на мгновение остановился и длинным прыжком перепрыгнул через канаву. Собака, вытянув морду, помчалась за ним.
— Не вернуться ли нам назад? Плохая примета! — сказал Воронов, смесь.
— Почему плохая? — спросила Анни. — Это же заяц, а не кошка! Да и та опасна, если черная.
— Русские считают, что все равно — заяц или кошка.
— А у нас дурная примета, если заяц по поселку бежит. — Анни посмотрела в сторону леса. — А мне его жаль. Как он испугался! Я зла на вашу Зорьку.
— Может, еще не поймает, — успокоил девушку Воронов, потом позвал: — Зорька! Зорька!
Зорьки не было видно. Подождав минуту, они поехали дальше.
От Пуорустаёки до Туулилахти примерно тридцать километров. Лесная тропинка привела их к шоссе. Цокот копыт стал звучнее. Из камней то и дело сыпались искры. Понемногу лошади начали уставать и пошли шагом. Зорька вернулась из леса и теперь бежала впереди.
Воронов почувствовал, что веки его закрываются. Всю прошлую ночь он бродил вдоль трассы в ожидании ледохода и весь день был на ногах. Сейчас его разморило. Скорей бы добраться до дома. Чтобы отогнать сон, Воронов закурил папиросу. Теплый ночной ветер шевелил спутанную гриву коня.
Дорога была знакомая. Он знал здесь каждый холмик и болотную кочку, угадывал силуэты знакомых сосен, по которым, вместо верстовых столбов, отсчитывал пройденный путь. Но сейчас он думал о других лесах, мало похожих на эти. Те леса были расчищены, деревья в них перенумерованы, как в парке, ни сучка, ни шишки не валялось на земле. Такими были леса по ту сторону Одера, где ранило Ольгу…
Они встретились снова после войны, в Ленинграде, уже студентами: Ольга — на медицинском, он — в лесотехническом. За небогатым студенческим столом сыграли шумную и веселую свадьбу. Друзья предсказывали им долгую и счастливую жизнь, обещали собраться и на серебряную и на золотую свадьбу.
Много раз Воронов спрашивал себя: почему Ольга не захотела поехать с ним в Карелию? Ей он боялся задать этот вопрос, Ольга могла ответить: «Потому что разлюбила!» Или: «Наша свадьба была только продолжением тех обманчивых отношений, что сложились во время войны: я жалела тебя, как ты жалел меня, теперь пришло время разобраться во всем…» И вот кончилось тем, что, побоявшись сказать правду, они разъехались в разные места: он в Карелию, она в Ростов-на-Дону. Воронову до сих пор тяжело вспоминать их последний вечер на берегу Невы. Ольга шла рядом, а ему казалось, что она где-то далеко и с каждым шагом все отдаляется и отдаляется от него. «Мало ли нам пришлось мытарствовать на фронте? — говорила Ольга. — Человеку хочется и хорошей жизни, тепла, счастья. А ты предлагаешь — лес. Быть может, снова в землянку?» Воронов чувствовал фальшь в ее словах. Он знал ее совсем иной, знал, что она смелая, не ищет легкой жизни и не побоялась бы идти с ним даже на смерть. Значит, что-то случилось. Она говорила, что человеку нужно счастье, а голос был сухой — так о счастье не говорят. Говорила о тепле, а от голоса веяло холодом.
Расстались они, ничего не решив. Переписывались изредка. Письма Ольги были сухие, стоило зачеркнуть даты, и можно было бы перепутать, когда какое написано. Теперь писем не было уже больше двух месяцев.
Опять, уже который раз, Воронов решил, что сразу, как приедет домой, напишет Ольге и потребует решительного ответа. Если вместе, так здесь, в Карелии, и не откладывая, а если уж отдельно, то навсегда. И он опять начинал надеяться на ее приезд. Ольга полюбила бы этот край, ей же не страшны ни леса, ни расстояния. И вместо сухих, резких слов снова складывалось теплое письмо о тяжелом вместе пройденном пути, обо всем, что их связывало…
Анни была занята своими мыслями. Она мало жила с матерью, воспитывалась у тетки, но всегда думала о доме и скучала. Что могло случиться? Может быть, действительно только простуда? Потом ее мысли вернулись к Николаю. Какой он смешной! Поехал на реку, чтобы встретиться с ней, с Анни! Сейчас, наверно, ищет ее, ведь она обещала побыть с ним этот вечер. А она с каждым шагом удаляется все дальше и дальше. Конечно, он узнает, что у нее мать заболела, но все же жаль его.
Анни прервала молчание:
— Мы едем, как лунатики. Вы так задумались…
— Ты тоже задумалась и, наверное, не скажешь, о чем? — усмехнулся Воронов.
— Нет, скажу! — возразила Анни.
— Ну-ка, попробуй!
— Скоро сплоточную машину привезут в запань?
— Вот видишь! — рассмеялся Воронов. — Ты говоришь о сплоточной машине, а думаешь о ее машинисте. Разве я не угадал? Но не волнуйся, сплоточная машина и Николай будут в запани, как только сойдут льды с озера. — И поддразнил: — Не скучай, не скучай, наскучаешься вдоволь, когда он уйдет в армию.
Начали пригревать первые лучи солнца. Лошади оживились и ускорили шаг. Уставшая Зорька снова припустилась вперед. Дорога поднялась на песчаный кряж, за которым раскинулся построенный в густом сосняке лесной поселок. Прямая улица вела к большому двухэтажному дому. В одной половине его была контора сплавного рейда, в другом — столовая, а наверху комнаты для приезжих.
Воронов с удовольствием оглядел поселок. Это был результат его трудов. Поселок построили совсем недавно. Повсюду еще виднелись пни, из которых сочилась смола; капли смолы сверкали и на стенах зданий.
Воронов сам выбирал и место для поселка. Широкая река Туулиёки подковой огибала дома. Река была еще покрыта льдом. Даже воздух здесь казался более прохладным, чем в лесу.
В поселке еще спали. Лишь в одном доме приоткрылась занавеска, но тут же ее спешно задернули. «Рано же проснулась сегодня Матрена Павловна», — подумала Анни, зная, что Матрена Павловна Воронова, клубный библиотекарь, любит поспать.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
На улицу вышел высокий мужчина лет сорока пяти в черном костюме, с непокрытой головой. Лицо у него было маленькое, на кончике короткого носа едва держались большие очки. Он смотрел на всадников, откинув голову, словно боялся, что очки упадут.
Анни остановила коня и спрыгнула на землю, но тут же ухватилась за седельные ремни — онемевшие ноги не держали ее.
— Туатто, что с мамой? Почему она в больнице? — спросила Анни.
Отец Анни придержал за узду лошадь Воронова, чтобы помочь начальнику спуститься с седла. Но Воронов соскочил на землю, не дожидаясь его помощи.
— Мать простудилась. Поднялась температура, — ответил Мякелев на вопрос дочери. — Айно Андреевна говорит, что у нее воспаление легких.
— Воспаление легких? — испугалась Анни.
— Теперь ей лучше, — поспешно сказал отец.
Анни сунула поводья в руки отца и побежала через улицу к больнице. Мякелев предложил Воронову:
— Заходи к нам! Почаевничаем.
— Спасибо, с удовольствием… Только сдам лошадей.
Конюх уже спешил к ним. Воронов отдал ему лошадей и пошел вслед за Мякелевым.
— Ну, что там делается? — спросил Мякелев.
Он так гремел посудой в шкафу, что казалось, ничего не должен был расслышать, но когда Воронов сказал: «Плотина рухнула», — круто повернулся от шкафа:
— Это та самая плотина, которая на Пуорустаёки?
— Та самая.
— О которой я составил акт?
Было похоже, что он скорей обрадовался, чем опечалился. Воронов ничего не ответил. Нахмурившись, он молча отхлебывал чай. Мякелев подошел к столу и начал разрезать свежий рыбник.
— Так, значит, рухнула? — заговорил он. — А я ведь видел — перекладины гнилые, вода подмывает плотину… У меня все записано в акте. Когда придешь в контору, мы можем еще раз проверить. Там три подписи — моя, Койвунена, Потапова… Все оформлено, как полагается.
— Да, все в порядке, — угрюмо промолвил Воронов. — Кроме плотины.
— Один экземпляр находится у нас, второй — в сплавной конторе…
Воронов нетерпеливо прервал Мякелева:
— Надо сегодня же отправить сверло и сплоточные цепи на Пуорустаярви.
Мякелев вновь заговорил об акте, и Воронов вновь его прервал:
— Александров поедет в сплавную контору. Сделай с утра заявку. Он сам скажет, что нужно заказать. Я отдохну часок, а потом пойду на рейд. Понтонные оплотники должны быть готовы как можно скорее.
— Тебе надо бы самому проверить, что Александров хочет заказать, — заметил Мякелев. — А то каждый заказывает по своему усмотрению, для себя.
— Не для себя, а для нас все это нужно! — Воронов почувствовал в голосе Мякелева неприязнь к главному механику.
Мякелев записал что-то в свой блокнот и начал перелистывать его.
— Позавчера в восемь часов вечера Степаненко опять видели пьяным. Мне не удалось выяснить, с кем он пил. Но это уже третий случай после того, как он дал обещание на общем собрании.
Мякелев замолчал и взглянул на Воронова с таким видом, будто знал заранее, что Степаненко не выполнит обещания, и теперь был доволен, что так оно и случилось.
— Степаненко был пьян не три раза, а гораздо больше. Я сам однажды угощал его, — с усмешкой посмотрел Воронов на Мякелева.
— Ты? — испугался Мякелев. — Только никому не говори, а то могут подумать…
— Что я его спаиваю? Про кого еще у тебя тут записано? — кивнул он на блокнот, который Мякелев держал в руке.
— Тебе надо отдыхать, — обиженно сказал Мякелев и сунул блокнот в карман.
На крыльце дома, где находилась квартира Воронова, сидела Зорька с понурой мордой.
— Бедняжка, ты же голодная! — вспомнил Воронов.
Он взял ключ, лежавший над дверью, и вошел в комнату. Зорька прошла следом и направилась прямо к шкафу. Воронов открыл, его, достал кусок засохшей колбасы и дал Зорьке. Та бережно взяла зубами колбасу и забралась в угол.
В комнате было так тепло и чисто, что Воронов сразу же вернулся к двери и снял сапоги. На полу перед кроватью раскинута огромная медвежья шкура. В углу маленькая красивая этажерка. На письменном столе газеты. В вазу, стоящую на приемнике, кто-то поставил букет густых пушистых верб. Рядом с ними тикал будильник, хотя Воронов не заводил его уже несколько дней.
— Посмотри-ка, Зорька, как хорошо о нас заботится Оути Ивановна!
Но Зорька уже спала на своем коврике у двери. Воронов тщательно умылся и залез под чистую простыню.
Анни вернулась из больницы вскоре после ухода Воронова.
— Мама еще спит, — ответила она на вопросительный взгляд отца. — Айно Андреевна приходила к ней ночью. Температура падает.
Отец и дочь сели за стол. Утомленная дорогой и встревоженная болезнью матери, Анни рассеянно ковыряла вилкой в рыбнике и почти ничего не ела. Отец не замечал ее усталости. Он тоже был взволнован.
— Да, твоя мать стала прихварывать, — проговорил он.
Анни с участием посмотрела на отца. Ее глаза увлажнились. Отец вздохнул:
— Такова уж жизнь — сегодня здоров, как будто все идет хорошо и все ладится, а завтра, того и гляди, справляй панихиду.
— Туатто, что ты, не надо так! — умоляюще воскликнула Анни. — Мама вернется…
— Конечно, вернется, но… — у него дрогнул голос. — Ко всему надо быть готовым.
Анни испуганно посмотрела на отца. Он кашлянул и спросил словно мимоходом:
— Ты всю дорогу ехала одна с Михаилом Матвеевичем?
— Зорька была третья, — Анни старалась улыбнуться.
— Что он говорил обо мне? — Мякелев внимательно смотрел на дочь, наклонившись к ней.
— Туатто, да неужели это важно?
— А как же? Он не говорил, что я плохо работаю? — допытывался Мякелев.
Анни грустно сказала:
— Отец, ты слишком закопался в своих бумагах. Ну почему ты не хотел отправить сверло на Пуорустаярви?
— А почему они поломали? Пусть сперва составят акт об этом.
— Разве это так важно, будет акт или не будет?
Мякелев отодвинул от себя тарелку и осуждающе заговорил:
— Ты еще ребенок, Анни! Акт — это документ! Вот, к примеру, плотина. Ведь она же рухнула! Понимаешь, что это значит? Вдруг начнется расследование? Кто прав, кто виноват, почему не ремонтировали? А я могу быть спокойным. Пусть попробуют обвинить меня. Не выйдет! У меня все оформлено как полагается, подписано, зарегистрировано, второй экземпляр отправлен в сплавную контору. Никакая комиссия под меня не подкопается.
«Опять то же самое! — думала Анни. — Кто-то хочет под него подкопаться, а у него все в порядке!»
Она встала из-за стола, собираясь идти к себе, но отец снова спросил:
— Так о чем же вы говорили с Михаилом Матвеевичем?
— Ни о чем. Лошади всю дорогу бежали рысью. Да нам и не о чем говорить.
— Ну, посматривал он на тебя? Улыбался?
Анни рассмеялась.
— Что ты смеешься? — обиделся Мякелев. — Михаил Матвеевич человек с положением…
— Я знаю, что с положением!.. — еще пытаясь сдержаться, сказала Анни с усмешкой. — Он хороший начальник и так далее…
— И он почти холост.
— Что это значит — «почти»?
— Его жена откажется от него. Ей сюда ехать не с руки, а его отсюда не отпустят…
— Ну и что же?
— И ты ничего не думаешь о нем?
— Как же не думаю? Такой приятный, такой хороший человек, а жизнь у него складывается плохо!
— Он нравится тебе?
— Очень даже. Мне все хорошие люди нравятся!
— Не дури! Я спрашиваю серьезно.
— Я и говорю серьезно. Люблю хороших людей… Но ведь не один твой начальник хороший… Потом, туатто, разве тебе твоя дочь уже надоела? — попробовала Анни перевести на шутку. — А я-то собиралась еще долго-долго с вами пожить.
Но отец не унимался.
— Возишься ты со своими книжками, доклады за других пишешь. Парки еще думаешь вместе с Александровым разводить… А пора тебе о себе подумать, да и об отце не мешало бы. Молокососы все на уме… Тоже мне женихи… ни веса, ни положения…
Анни вспыхнула, гордо встряхнула головой так, что волосы упали назад, и огрызнулась:
— Вес! Положение! Да тут на дворе лежит гнилой чурбан. Вес имеет — и не поднимешь. И положение — рядом с изгородью. Но мне он не нужен!
Отец скупо усмехнулся.
— Вон ты как разговариваешь! Но не думай, что правда на твоей стороне. А насчет чурбана…
Анни вдруг стало жаль отца. Не надо было так. Он, видно, о матери беспокоится. И примиряюще сказала:
— Я немного посплю. Может, и ты отдохнешь? Потом вместе пойдем в больницу.
Но отец ничего не ответил. Он сидел, задумавшись, и лицо у него было надутое, недовольное.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Воронов проснулся оттого, что Зорька царапала дверь и беспокойно визжала. Она все-таки выскочила на улицу. Воронов поднялся, чтобы закрыть дверь, и снова улегся. Однако уснуть больше не мог. Он оглянулся кругом: в комнате чисто и уютно, а он в ней словно гость… Потом вспомнился весь вчерашний день, так хорошо начавшийся… людей, мрачно смотревших на него, когда плотину смыло. И Воронову совсем стало не по себе. Он поднялся, сделал несколько гимнастических упражнений и быстро оделся. На лестнице послышались нерешительные шаги и затем стук в дверь.
— Кто там? — спросил Воронов. — Войдите!
В комнату вошел Александров в синем комбинезоне машиниста. Короткие черные усы его сегодня особенно сильно выделялись на бледном лице, из-под густых бровей нездоровым блеском сияли темные глаза.
— Не хотелось вас будить, — сказал Александров. — Но Зорька сообщила, что вы уже на ногах.
— Вот проказница! А она не сказала, что сама и разбудила меня своим визгом? Значит, тоже не любит признавать свои проступки.
Воронов шутил, а сам тревожно посматривал на главного механика.
— Что с тобой, Петр Иванович? Выглядишь ты, прямо говоря, паршиво.
— Кажется, простудился во время «купанья». Немножко поднялась температура, — ответил Александров. — Айно Андреевна велела лежать, а я боюсь — ляжешь и проваляешься неделю. Болезнь лучше всего перебороть.
— Врачей надо слушаться, — сухо сказал Воронов и добавил, уже не скрывая раздражения: — Тем более Айно Андреевну. Ведь она так заботится о тебе, что даже на трассу одного не пускает.
Александров, видно не поняв намека, небрежно ответил:
— Наслушался я врачей! Чего они только не наговорили и отцу и матери. Предсказывали, что я долго не проживу. В детстве я был очень слабым. И все оказалось ерундой. Учился я не хуже других, и армию и войну прошел. И даже пятидесятимиллиметровая мина не могла меня убить.
— Хороший ты парень, да хвастовства у тебя хоть отбавляй, — буркнул Воронов.
— Я не к тому, чтобы хвастаться, — смутился Александров. — Сам знаю, что не очень-то крепок. Потому после ранения приехал сюда. Спасибо, нашелся умный врач, сказал: перемени климат, поезжай в лес. А валяться в постели не собираюсь. Знаю себя.
— Смотри! — Воронов покачал головой и переменил тему: — Ну, что у тебя, рассказывай!
Пока Воронов умывался, главный механик разложил на столе большой рулон бумаги. Воронов взглянул на чертежи, продолжая растирать лицо мохнатым полотенцем.
— Чертежи электростанции. Что скажешь? — и Александров выжидающе посмотрел на начальника.
Но что Воронов мог сказать, когда знал, что строить ее пока некому — людей надо отправить на восстановление плотины.
— Вот здесь список, чего еще не хватает, — продолжал Александров, приунывший от этого молчания. — И вот список оборудования для механической мастерской…
— Ну что ж, поезжай, закажи все, что нужно, — сказал Воронов. «Пусть оборудование будет на месте, — подумал он, — есть не просит, а потом, когда пройдет горячка сплавных работ, можно будет заняться и электростанцией».
— Мякелев не подписывает.
— Он только хотел узнать мое мнение, — оправдал Воронов своего заместителя. — В понедельник можешь ехать. А тут что у тебя? — Воронов кивнул на другой рулон, аккуратно завязанный шпагатом.
— Тут будущий Туулилахти, — шутливо ответил Александров и развернул перед Вороновым лист.
— Да ты, оказывается, и архитектор! А помнишь, что тут было?
Как же Александрову не помнить! Он приехал сюда еще в военной форме, только без погон. У входа в оставшуюся от войны землянку висела вывеска: «Контора сплавного рейда». Воронов, тоже еще в военном кителе, сидел на кровати, перед ним стоял его «письменный стол», сколоченный из грубых досок. За этим столом они вместе составили первую заявку на машины — на локомобиль и пилораму, тут же набросали чертежи первого здания — столовой, общежития и конторы — все под одной крышей. А теперь Туулилахти уже большой поселок с широкими прямыми улицами, с магазинами, клубом, библиотекой, больницей, школой… В запани работают передвижные электростанции, большая сплоточная машина «Унжелесовец», много циркульных пил, лебедок. На окраине поселка грохочут бульдозеры, расчищая строительные площадки для новых домов.
Да, все это нужно, и машины и дома, но сейчас Воронову не до них. В этом году предстояло сплавить древесину трех лесопунктов, вдвое больше, чем в прошлом году. С весны начнут расчищать мелкие реки, чтобы увеличить сплавную магистраль. В будущем году откроется еще один крупный мастерский участок, древесину которого будут сплавлять по реке Туулиёки. И за всем надо присмотреть… Но Александрову до этого дела нет. Оно и понятно — ведь не ему за план отвечать. Теперь он даже не без удовольствия представил себе, как вытянется лицо Александрова, когда он ему скажет об электростанции. А главный механик, ни о чем не подозревая, развертывал один рулон за другим.
— Здесь будет наш завод по переработке леса, а здесь, — и Александров ткнул пальцем куда-то в середину чертежа, — парк. Анни прямо загорелась насчет парка. Комсомольский воскресник замышляет. — Александров с задором посмотрел на Воронова. — Да ты меня и не слушаешь?
Александров свернул рулоны, сунул их в угол, сел снова к столу и сказал:
— Что-то не клеится у нас с тобой, Михаил Матвеевич. Прежде мы все вопросы решали вместе, вместе строили Туулилахти, а теперь… — он махнул рукой.
— Мы и сейчас вместе будем решать. С электростанцией придется немного повременить…
— Так, — сказал, словно выстрелил, Александров.
— На Пуорустаёки сорвало плотину.
— Знаю, но не понимаю связи, — упрямо ответил главный механик.
— Что ж тут непонятного? Плотину надо восстанавливать.
— Да, ты прав, что ж тут непонятного? Все слишком понятно, — с недоброжелательной интонацией в голосе заговорил Александров. — Получается, что электростанция — на последнем месте. Что ни случись, всегда страдают электростанция, механическая мастерская.
— Ну, пошел! — протянул Воронов. — Разве тебе мало помогали? Как ты можешь говорить!
— Могу и говорю! — еще больше разволновался Александров. — Тебе нет дела до того, что на запани работает столько же силовых установок, сколько машин. Это ведь стыдно! В наш век и такая кустарщина! А отходы: горбыли, кора, опилки! Горы топлива гниют на месте, а мы расходуем бензин!..
— Знаю, все это я знаю…
— Не спорю. Конечно, знаешь. Но тебе проще сжигать к чертям бензин, чем возиться со строительством электростанции. Лишь бы день прожить, а завтра пусть хоть землетрясение! — Александров усмехнулся и заговорил немного мягче: — А ведь мы вместе с тобой, Михаил Матвеевич, этой же зимой обдумывали, строили планы — и об электростанции и о заводе по переработке леса, настоящем, современном… Выходит, ты, просто так, чтобы… зимний вечер скоротать…
Ну, это было уж слишком… Но, как ни странно, Воронов не рассердился. Вспомнился первый год работы здесь на сплаве. Горячие разговоры с Александровым обо всем — о прошедшей войне, о механизации, о будущем поселка. Он порадовался тогда зоркому глазу своего главного механика, его темпераменту. Вместе с Александровым он возмущался тем, как расточительно расходуют лес и на сплаве и еще больше там, где его рубят. Ведь действительно больше половины древесной массы остается на лесосеке: вершины деревьев, сучья, пень. Часть древесины еще уходит на изготовление лежневых дорог. А у них на сплаве? Когда дерево попадает на запань, снова часть древесины уходит в отвал: горбыль, опилки, кора. Что же остается от двадцатиметровой красавицы сосны для потребления? Два шестиметровых бруса?
Да, ему нравилась мысль Александрова о передвижных установках, которые перерабатывали бы отходы древесины; они вместе мечтали о тех временах, когда часть отходов пойдет на питание электростанции, а часть будет здесь же, у них в поселке, перерабатываться в химические продукты. Воронов и сейчас уверен, что так оно и будет. Но сказал совсем другое:
— Ты пойми, от нас требуют как можно быстрее сплавить срубленный лес, а уж как его рубят — не с нас спросят, да, да, не качай головой. Ты говоришь — мне наплевать, что я жгу бензин… Неверно. Я не меньше тебя хочу, чтобы у нас была электростанция. И мы ее построим обязательно, еще в этом году, дай только из аварии выйти. Что же касается всего остального, то оно тоже будет. Но не обязательно в этом году или в следующем. А тебе все вынь да положь тотчас же. Вот ты с комсомольцами уже собираешься парк устраивать, — Воронов все сильнее горячился, — а мне приходится ломать голову, как нам сплавить древесину! Что же делать, куда нам до тебя… наше дело такое — бревна считать. А пока что… в понедельник поедешь за оборудованием.
— На кой черт они теперь нужны, машины и оборудование?! — Александров, тяжело дыша, отошел к окну.
— И все-таки поедешь, — сказал Воронов. — Там не только оборудование для электростанции, есть много другого. Надо получить, пока дают. Ну, пойдем в столовую.
Александров молча поплелся за Вороновым, хотя есть ему не хотелось.
В столовой было пусто. Лишь за одним столиком сидел рослый мужчина в поношенном пальто. Он нехотя помешивал ложкой суп. Это был подрывник Степаненко, хмурый и сонный. Официантка принесла ему стакан водки. Он выпил залпом, понюхал хлеб и начал есть. Через некоторое время он попросил еще водки.
— Микола Петрович, пора бы это уже бросить! — сказал Воронов, кивком головы указывая на стакан.
— А мне больше нечего делать, — буркнул Степаненко. — Когда не пью, занимаюсь вредительством.
— Ты что это? С ума спятил? — Александров удивленно поднял голову.
— Сойдешь тут, — пробормотал Степаненко. — Вот взрывал камни на реке Пуорустаёки, а плотину и унесло! Чем это не вредительство?
— Нашел предлог, чтобы выпить! — с досадой сказал Воронов. — Никто тебя в этом не обвиняет.
— Зато я сам себя обвиняю! — резко сказал Степаненко, расплатился и вышел из столовой, не попрощавшись.
— Вот бы тебе помощник! — Воронов вздохнул. — Знающий человек. Если бы только отучить его от водки!
— Можешь взять его хоть в заместители, а я с пьяницами не желаю иметь дела! — сердито ответил Александров.
— Ну и характер! — заметил Воронов. — Прямо кремень. И тебе не жалко, что пропадает человек, да еще знающий, способный?
— Не люблю людей, которые себя распускают. Нянькой быть не намерен. Да и у тебя не замечал таких склонностей.
Воронов усмехнулся. Александров действительно сторонился Степаненко. Но все-таки никогда не говорил о нем так неприязненно. Главный механик явно не в духе. И в этом, кажется, он, Воронов, виноват. Ну и пусть ершится. А он все же сделает по-своему. Восстановить плотину сейчас самое важное.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Оути Ивановна Никулина выглядела значительно моложе своих лет, несмотря на полноту. С чистого, почти без морщинок, лба поднимался вверх украшенный серебряными нитками карельский кокошник, под которым прятались короткие и тонкие косы, завязанные узлом на макушке. Ее большие ласковые глаза всегда были чуть влажными, словно она только что плакала или от души смеялась. В будни она надевала просторный, уже сильно поношенный сарафан, но такой чистый, что в сочетании с белым передником он казался новым.
Ночью Оути Ивановна мыла полы в конторе, рано утром топила там печи, а остальное время хлопотала дома. Она жила со своим сыном Николаем в маленьком двухкомнатном домике, сверкавшем чистотой. Сын много раз предлагал покрасить в комнате полы, но мать ни за что не соглашалась. По ее мнению, некрашеный пол, отмытый добела, гораздо красивей.
Оути Ивановна любила пить крепкий чай. На ее столе почти всегда шумел начищенный медный самовар, и даже на неделе она пекла калитки[2], шаньги, рыбники. Но она не умела есть одна, ей всегда хотелось заполучить кого-нибудь в компанию. Ей нравилось беседовать с людьми за столом, порасспросить о новостях и рассказать о своих заботах.
Оути Ивановна уже долго стоит на крыльце. Сегодня все так спешат, что никого не удается остановить. Но вот она спустилась с крыльца.
— Айно, родненькая, подожди-ка!
Девушка дружески улыбнулась Оути Ивановне и протянула руку для приветствия, но Оути, ухватив эту узкую руку, не выпускала ее, а потащила Айно в дом. Айно упиралась, объясняя, что ей нужно в кузницу и потом вернуться в больницу.
— Зайди хоть на минутку! — упрашивала Оути Ивановна, не останавливаясь.
Она усадила Айно в широкое кресло, разлила по стаканам крепкий чай и придвинула гостье свои изделия — блестящие от масла калитки, испеченный из свежего сига рыбник и топленое молоко.
— Смотрю на тебя — и не верится, как время-то идет! — говорила Оути Ивановна. — Давно ли ты сидела в кошеле и поглядывала оттуда, как котенок! Смешная такая, глазенки большие, удивленные! Помнишь? Да откуда тебе помнить, тебе был годик, не больше…
Айно, конечно, не могла помнить того времени, когда ее мать и Оути Ивановна, хорошие подруги, по очереди носили ее в берестяном кошеле. Они косили сено в тридцати верстах от дома. Жили там с понедельника до субботы. Ребенка не с кем было оставлять, и маленькую Айно брали с собой. Ребенок ползал целые дни на земляном полу лесной низенькой избушки, высотой в три бревна, топившейся по-черному. Такие избушки строятся в несколько часов. Девочку не оставляли в покое комары и муравьи, она плакала, тыльной стороной ручонок смешивая на щеках слезы с сажей.
Отца Айно не помнит — вскоре после ее рождения старый сплавщик погиб. Он разбирал затор, и его ударило в грудь бревном.
Теперь мать Айно заведует молочно-товарной фермой в родном колхозе, в ста километрах от Туулилахти. Оути Ивановна давно не видела свою подругу, с тех пор как переехала с сыном в этот новый поселок.
— Кушай, дочка, кушай. Ведь о тебе, бедняжке, некому позаботиться, хоть ты и заботишься обо всех нас, чтобы бог нам здоровья дал, — приговаривала Оути Ивановна. — А как Акулина себя чувствует?
— Да теперь уже все хорошо, — ответила Айно.
— Ешь, дочка, ешь! — уговаривала Оути Ивановна. — Попробуй рыбничка.
— Хорошо, всего попробую, — улыбаясь, согласилась Айно. — Но с одним условием: поговорим о нашем давнем деле. Когда вы придете работать к нам в больницу?
— Пошла бы, детка, с удовольствием пошла бы, да не могу. Уж больно жалостливая я. Такая я чудачка, как увижу — человек плачет, так и мне хочется заплакать. Руки сразу слабеют, и ничего делать не могу. Чем же я тебе тогда помогу?
— К этому можно привыкнуть. Зато сколько радости, когда больной выздоравливает!
— Да не все ведь выздоравливают! — вздохнула Оути Ивановна.
Айно Андреевна замолчала. Вспомнился случай, который все еще волновал ее. Несколько недель назад из деревни привезли роженицу. Женщина мечтала стать матерью, а ребенок родился мертвый. Женщина плакала так горько, и Айно с трудом удерживалась от слез. Ей и сейчас было тяжело вспоминать об этом…
— Что с тобой, деточка? — озабоченно спросила Оути Ивановна.
— Ничего, ничего. Я, наверно, такая же чудачка, как и вы, — ответила она, прикоснувшись к глазам платком.
За окном застучали громкие неровные шаги. Оути Ивановна выглянула в окно. По деревянному тротуару, сдвинув старую меховую шапку на затылок, тяжелыми, неверными шагами шел Степаненко.
— Ох, бедняга, — вздохнула Оути Ивановна, — загубит его водка.
Айно тоже посмотрела на улицу. К Степаненко она раньше относилась неприязненно, как все молодые девушки к пьяницам, но однажды она увидела, как Степаненко, сидя на крыльце одного домика, нежно гладил головку маленькой курчавой девочки и девочка не боялась его. «У человека, любящего детей, должно быть доброе сердце», — подумала тогда Айно.
— Я позову его сюда, — и Оути Ивановна, выбежав на крыльцо, крикнула: — Микола Петрович, иди чай пить!
Степаненко, пошатываясь, остановился, посмотрел на нее мутными глазами и все же подошел к крыльцу.
Айно тоже встала в дверях, но, увидев, в каком состоянии Степаненко, сконфуженно проговорила:
— Нет, пожалуй, вам лучше пойти спать, Микола Петрович! У вас усталый вид.
— Я знаю, когда мне надо спать, — угрюмо ответил Степаненко.
— Не хочешь ли стаканчик крепкого чая? — участливо спросила Оути Ивановна.
— Чай бабье питье, — уныло усмехнулся Степаненко.
Он поплелся дальше тяжелыми шагами. Айно Андреевна, обняв Оути, тоже ушла.
Она направилась к расположенному позади кузницы длинному зданию, из которого доносился громкий лязг металла и стрекот моторов. Сквозь окно поблескивало ослепляюще яркое пламя. Большие ворота были закрыты. В одной из створок виднелась маленькая дверь. Айно открыла ее. Свободное от верстаков пространство мастерской занимал грузовик, с которого был снят мотор, за грузовиком стоял трактор.
Александров вышел из-за машины, протянул Айно руку, но тут же смущенно отдернул ее. Она была черной от машинного масла.
— Тебе нужно быть в постели, а не в кузнице, — строго сказала Айно, словно оправдывая свой приход.
— Я сейчас уйду. Я только на минутку.
Айно с тревогой посмотрела на лицо Александрова.
— Мне кажется, у тебя температура. Дай-ка руку!..
— Нет, нет! — Александров спрятал руку за спину. — Руки у меня в масле, а лицо пылает оттого, что я только что от горна.
Александров на самом деле чувствовал себя лучше, чем утром. Быть может, подействовал свежий воздух и то, что он все время двигался. Да и работа сегодня шла хорошо.
— Пойдем, я тебе покажу, что у нас здесь творится! — Он провел ее к окну. — Вот наш москвич!
На прочном цементном постаменте стоял новый токарный станок.
— Изделие завода «Красный пролетарий», — объяснил Александров. — Чудесный механизм! Теперь мы можем выточить любую деталь.
Провожая Айно к воротам, Александров чуть прикоснулся к ее руке:
— Спасибо, родная, что пришла… Ведь завтра воскресенье. Не пойти ли нам посмотреть ледоход? Послезавтра я еду в командировку…
Айно засмеялась.
— В таком случае попроси Мякелева издать приказ: «Принимая во внимание то, что главный механик сплавного рейда отправляется в командировку в понедельник, ледоход назначается на воскресенье»!
Александров тоже засмеялся:
— Ладно, не ледоход смотреть, а просто так, на берег. В лесу теперь чудесно! Пойдем?
Девушка молча кивнула.
— В двенадцать я буду. Можно? Я ведь так давно не был у тебя…
Айно улыбнулась, подняла руку и помахала на прощанье. Потом повернулась и быстро зашагала к больнице.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В больнице было тепло и усыпляюще тихо. Больных было только двое — Акулина Мякелева и молодая женщина, ожидавшая ребенка. Она вошла в палату вслед за Айно.
— Как вы себя чувствуете? — спросила Айно.
— Да что же мне? — ответила женщина. — Только бы все кончилось благополучно.
— Все будет хорошо, — подбодрила Айно Андреевна. — Нужно только лежать.
— Кого тебе хочется, мальчика или девочку? — спросила Мякелева.
— Муж хочет сына, а по мне — лишь бы ребеночек был здоровым.
— Я думаю, у вас будет мальчик, — проговорила Айно.
Женщина благодарно улыбнулась.
Мякелева приподнялась, но Айно движением руки заставила ее лечь.
В комнату беззвучными шагами вошла сестра и, взглянув вопросительно на Айно, подала Акулине порошок сульфидина.
Акулина робко попросила:
— Отпусти меня, Айно Андреевна! Что мне здесь делать, здоровому человеку? Дома беспорядок — корова не доена, старик и дочка голодные…
— Корову вашу доит Оути Ивановна, — успокоила Айно старушку.
Разговаривая с Мякелевой, она все смотрела на задернутое шторой окно. Потом подошла к окну, раздвинула занавески и стала напряженно вглядываться в даль. У механической мастерской, видневшейся на берегу реки, копошились люди, но было невозможно распознать их.
— Хорошо, я тебя выпишу, но с условием лежать побольше, — продолжала она, стоя у окна. Против обыкновения она говорила рассеянно. Ушел ли Петр или все еще там? В ушах все еще звучал его мягкий голос: «Пойдем смотреть ледоход…» Как хорошо, что завтра воскресенье!..
Мякелева глядела на потолок и разговаривала как бы сама с собой, не обращая внимания, слушает ее Айно или нет. У нее были свои заботы.
— Мой старик, бедняга, все вечера сидит в конторе, даже избу истопить некому… И в кого только Анни? Я всегда была домоседкой. Надо мной подружки даже посмеивались. А она все в дороге да в дороге. Опять завтра собирается на реку. Неужто без нее не справятся?..
— Нет, нет, она не должна уезжать, — перебила ее Айно и подошла к постели. — Я же не смогу вас выписать. За вами уход нужен.
— Что ты, что ты, дочка! Как я здесь буду? А корова, старик, хозяйство?
— Вот я и хочу, чтобы Анни помогла вам на первых порах.
— Ты уж удержи ее! — жалобно попросила Акулина. — Хоть для нее. Ей ведь тоже отдохнуть надо!
Айно засмеялась, потом ласково потрогала у старушки лоб — температура упала.
— Удержу, удержу!
Она оживилась, развязала тесемки халата. Если пойти сейчас к Анни в клуб, по дороге она может взглянуть, дома ли Петр. Ей стало немного не по себе, что приходится отыскивать повод, чтобы пройти мимо дверей Петра. Еще недавно все было так просто!..
На дверях домика, где жил Петр, висел замок. Айно ускорила шаги.
Анни, сердитая, с пылающими щеками, разбирала книги. Одни она швыряла как попало в угол, другие — их было немного — складывала стопкой на столе. Айно показалось, что заведующая клубом вот-вот заплачет. Она обняла девушку.
— Кто это нас обидел?
Анни отвернула лицо. Непослушная прядь упала на щеку. Девушка сердито подобрала ее и продолжала раскладывать книги. Потом жалобно сказала:
— Ой, как мне трудно с Матреной Павловной! Она со мной совсем не считается. Еще в прошлом месяце я попросила ее собрать передвижную библиотеку по передаче технического опыта, а она все не соглашалась — ненужная, мол, затея, а когда согласилась, так вот что отобрала!
Айно не могла удержаться от улыбки. Вместе с двумя-тремя брошюрами лежали потрепанные романы, повести, сборники рассказов. Да, у Матрены Павловны странные представления о технике!
— Если бы я не догадалась проверить, так меня на сплаве насмех бы подняли! — глаза Анни подозрительно заблестели. — Посмотрим, что она скажет сама читателям! А я обязательно заставлю ее провести читательскую конференцию, вот только пройдет горячка на сплаве. Я уж ей об этом говорила.
Айно вспомнила первый год своей работы в участковой больнице. Ей также не хотели подчиняться. Сколько слез она пролила…
— Ну, Анни, с Матреной Павловной все обойдется. Будь только сама потверже, понастойчивей. А теперь о другом. Нельзя тебе сейчас уезжать. Побудь дома дней хоть пять-шесть. Надо помочь матери. Она еще слаба. Как это ты сама не сообразила, ведь знаешь, что я ее выписываю! — не удержалась она от упрека.
Анни растерянно теребила шпагат.
— Да ведь меня ждут… Я обещала…
И вспомнила, как испугалась за мать, когда узнала о ее болезни, как бранила себя, что не была к ней внимательна, давала себе слово, что все будет по-иному… Ненадолго же ее хватило… И ведь Анни хорошо знает — себя-то не обманешь! — почему она так торопится на реку… Нет ведь такой спешки… да и в поселке дела много. Насчет парка, надо поговорить с ребятами — она обещала Александрову воскресник, — и еще много всего.
Айно поняла, что упрек ее больно задел девушку.
— Ну, Анни, не огорчайся! Это со многими случается! Когда человек чем-нибудь увлекается, он не замечает, как близкие ему люди иногда страдают от его невнимания. — Анни уловила в голосе врача горечь. — Ну, пошли в библиотеку. Только ты не робей. Говори с Матреной Павловной решительно!
И Айно, подобрав с пола несколько книг, пошла к двери.
— Я постараюсь. При тебе мне с ней легче разговаривать, — сказала Анни, но слова ее прозвучали довольно уныло.
Матрена Павловна, увидав Айно, так и расцвела в приветливой улыбке. Сухое лицо ее с маленькими глазками оживилось легким румянцем. Морщинки затрепетали. На Анни она не обратила никакого внимания.
— Айно Андреевна, — запела она, — как приятно встретить вас! Теперь в поселке так одиноко, не с кем поговорить! Учителя заняты экзаменами, начальство все на сплаве. А вас и не залучишь, все спешите, спешите. Как вы только не устаете! Хотя это понятно, вы так молоды! Но нельзя же забывать меня…
Она взяла из рук Айно книги, с усмешкой спросила:
— Это вы, Айно Андреевна, образумили нашу Анни? Я же говорила ей, что сплавщикам не нужны книги. Но меня наша заведующая не слушает. — Матрена Павловна поджала губы.
— Эти книги, — с ударением сказала Анни, — им действительно не нужны. Я просила вас подобрать новинки и техническую литературу.
— О боже мой! — каким-то усталым голосом сказала Матрена Павловна. — Можно подумать, что у них там университет! Ничего из вашей затеи, милая девочка, не выйдет! Они только замусолят и изорвут книги! Могут и раскурить, а отвечать мне придется.
Айно в разговор не вмешивалась. Анни как будто в помощи не нуждается, взяла верный тон. Айно стала рассматривать библиотеку, хотя была здесь не раз. В комнате был полумрак. Окна до половины закрывали книжные шкафы, а фрамуги к тому же затянуты тяжелыми занавесями. Похоже, что Матрена Павловна этими занавесями решила отгородиться от людей. А как она держится! В длинном черном жакете, в широкополой шляпе с большим бантом, — кажется, она эту шляпу никогда не снимает — библиотекарь была олицетворением важности и спокойствия. Только поджатые тонкие губы да розовый румянец, выступавший на впалых щеках, показывали, что она сердится.
Но Анни не сдавалась. Небрежно свалив принесенные книги, она сухо сказала:
— Я еще раз прошу вас, Матрена Павловна, приготовить передвижку. Я не прошу вас ехать на сплав, это я могу сделать сама, но отобрать книги, притом хорошие, вы обязаны! — Она взглянула на Айно Андреевну, словно спрашивая, правильно ли действует, и закончила: — Дней через пять я поеду снова на Пуорустаёки, к этому времени передвижка должна быть собрана. И пожалуйста, без этого старья! — Сообразив, что это наилучший конец разговора, она, резко повернувшись, вышла из библиотеки.
Матрена Павловна подняла глаза к небу и вздохнула, готовясь произнести речь, но Айно, перебиравшая брошенные Анни книги, лукаво спросила:
— Неужели вам эти романы нравятся?
— Ах, иногда так хочется забыться! Вот и потянешься к старому роману…
— Да вы ведь сами замкнулись в четырех стенах, никуда не ходите…
— А к кому ходить? К соседям? Так у меня сосед — Степаненко. С ним даже говорить не хочется. Хоть между нами стена, но я все равно боюсь, когда он там грохочет, пьяный.
— Да, Степаненко… это очень несчастный человек, — сказала Айно. И, немного подумав, добавила: — На вашем месте я попыталась бы помочь ему. И кто знает… Простое человеческое сочувствие так много значит… А к тому же… У нас, карелов, говорят: «Если надоело быть одному, разведи огонь, всегда путник подсядет…» Вот и было бы вам с кем вечера коротать, — шуткой закончила Айно.
— Нет, нет, увольте! — Матрена Павловна презрительно пожала плечами. — Я не гожусь в сестры милосердия.
Айно ничего не ответила. Отобрала для себя книгу и, попрощавшись, вышла из этой комнаты, где сам воздух, душный, пропыленный, казалось, источал скуку. А по дороге в больницу думала о том, какие разные люди собрались здесь, в этом маленьком поселке, живут бок о бок с ней…
Оставшись одна, Матрена Павловна приоткрыла занавеску и поглядела в окно. Под окном на спортплощадке мальчишки играли в волейбол, хотя земля была еще сырая. Воронова быстро задернула занавеску и отошла от окна. Доносившийся со спортплощадки шум раздражал ее. Не любила Матрена Павловна мальчишек. Они всегда приходили в библиотеку гурьбой и, выбирая книги, так галдели, что голова шла кругом. Она не могла простить им и того, что они упорно называли ее «тетя Мотя», а не по имени и отчеству, как она им велела.
Впрочем, в памяти Матрены Павловны сохранился один мальчик, о котором у нее остались добрые воспоминания. Ей было тогда лет двадцать. Она только что окончила педагогический техникум и приехала в отпуск к родителям. Отец в те годы жил хорошо и не жалел денег на наряды дочери. По хозяйству ей тоже не давали трудиться, — она ведь была уже учительницей. Матрена ходила по деревне в коричневых полуботинках, легком шелковом платье и в широкополой шляпе, украшенной большим бантом. В руках у нее всегда была какая-нибудь книга и зонтик.
Отец в то лето нанял в пастухи сына одной бедной вдовы, четырнадцатилетнего мальчика Мишу. Он бегал босиком, в домотканных штанах. Однажды, сидя у раскрытого окна со своей книгой, Матрена почувствовала чей-то взгляд. Она подняла голову. Под окном стоял Миша, уставившись на нее большими, задумчивыми глазами. Матрена отметила про себя, что этот пастушонок очень красив, жаль только, что плохо одет.
— Что тебе, Миша? — дружески спросила она.
Мальчик покраснел и отошел.
На следующий вечер Матрена увидела, что мальчик опять стоит у окна.
Она ласково спросила:
— Ну что, Миша? Почему ты ничего не скажешь?
— Я принес вам землянику, — ответил мальчик и протянул корзинку с красными, сочными ягодами.
Тронутая подарком, Матрена позвала его в комнату. Миша вошел, стесняясь, и начал жадно рассматривать лежавшие на столе книги. Матрена протянула ему «Приключения Робинзона Крузо». На другой день Миша вернул книгу и робко попросил дать еще что-нибудь.
Матрене льстило, что Миша смотрит на нее с особым уважением. Однажды она сказала ему:
— Да, Миша, я уже учительница. И скоро буду заведующей школой. Хочешь, я устрою так, чтобы ты смог поехать туда, куда меня назначат? Скажи своей маме, что я приму ее уборщицей, и она может жить у меня сколько захочет.
Она не поняла, почему Миша обиделся.
— Я сам возьму маму к себе, когда буду большим!
С тех пор Миша больше не приходил к ней.
Матрена поехала учительствовать. Проработала год, и работа ей не понравилась. Мальчишки не слушались ее, баловались, шумели на уроках. Она стала работать в библиотеке. Там, казалось ей, будет поспокойнее. О Мише она узнала как-то, что он вступил в комсомол и после смерти матери уехал куда-то учиться. А у нее жизнь складывалась скучная, однообразная, без друзей. И вот Матрена вообразила, что она была первой и единственной любовью Миши, и стала гордиться тем, что верна этой первой любви. Она уверила себя, что этот красивый мальчик с большими задумчивыми глазами разыскивает ее. И Матрена любила мечтать о том, как они вдруг встретятся, и каждый раз эта встреча проходила по-иному.
Матрена уже работала в Туулилахти, когда приехал начальник сплавного рейда Михаил Матвеевич Воронов.
Она увидела его во дворе конторы и почему-то узнала с первого взгляда. От радости у нее даже захватило дыхание. Маленький пастушок превратился в высокого интересного мужчину. Прежнего Мишу напоминали только глаза, но и они стали другими — более проницательными, почему-то насмешливыми.
— Миша! — почти шепотом произнесла она.
Воронов удивленно посмотрел на нее. Лишь после того, как Матрена сказала, кто она, Воронов вспомнил и, казалось, тоже обрадовался встрече. Он спросил, как Матрена прожила эти двадцать с лишним лет. Она принялась было подробно рассказывать, но Воронов, не дослушав, перебил:
— Значит, на библиотечной работе? Это хорошая специальность!
И вот Матрена все пыталась поговорить с Вороновым по душам, но прошло уже два года, и все не удавалось. Он всегда куда-то спешил. При встречах он иногда спрашивал, что у нее нового, как работается, но часто уходил, так и не дослушав.
Матрена снова стала носить широкополую шляпу с яркой лентой, такую же, как тогда, в деревне. Но Воронов, кажется, и этого не замечал. А она издали следила за каждым его шагом и, когда он выезжал из Туулилахти, начинала скучать.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Кирьянен жил вместе с Койвуненом в просторной комнате. Хозяйством они занимались по очереди и делали все сами. Кирьянен боялся, что чужой человек может перепутать его бумаги, Койвунен же доказывал, что женщина никогда не вымоет пол так чисто, как мужчина.
Оба они были вдовцами, считались даже родственниками. Койвунен был женат на сестре Кирьянена. Жена умерла еще задолго до войны, но Койвунен так и не завел новой семьи. А жена Кирьянена, уехав в эвакуацию тяжело больной, умерла в пути, оставив маленькую дочь Марию. Девочку взяли к себе знакомые. Теперь Мария уже заканчивала университет в Петрозаводске.
Кирьянен, поднявшись на крыльцо, торопливо открыл почтовый ящик. Оттуда выпал синенький конверт. Он сразу узнал почерк и с довольным видом сунул письмо в карман. Ему очень хотелось прочитать письмо немедленно, но сдержался — у него вошло в привычку читать письма дочери перед пылающим очагом, пока кипит кофе. Сняв шинель, он проворно затопил печь, наполнил чайник водой и пододвинул качалку к печке. Теперь можно было приняться за чтение.
Письмо было, как всегда, короткое, но, по мнению отца, в нем было сказано все, что следовало. Такими же были и его письма к дочери. Оба они писали друг другу, что здоровы, один работает, а другая учится попрежнему и что ничего нового не произошло. Никто из них не писал, что скучает и ждет встречи. В сегодняшнем письме, однако, было и кое-что новое. Мария писала, что ей предлагают путевку в дом отдыха на юг и, если отец не возражает, она поедет туда сразу же после экзаменов и лишь под осень приедет в Туулилахти. Что он мог возразить? Кирьянен даже самому себе не хотел признаться, как это опечалило его. Он начал деловито подсчитывать, сколько денег надо отправить на дорогу Марии, хотя дочь и не просила об этом.
Кирьянен и не заметил, как мысли его вернулись к привычным делам. Он поморщился, вспомнив свой утренний разговор с Александровым. Нет, не так нужно было с ним говорить. Все эта проклятая неуверенность. «Всегда наше дело с тобой страдает, — сказал Александров, когда Кирьянен сообщил ему об аварии плотины. — Людей нам теперь не дадут, а может, даже отнимут». Правда, Кирьянен тут же ответил и, пожалуй, неплохо, что плотина тоже н а ш е дело. Но тот только презрительно прищурил глаза. Вот воспитывай такого… эгоиста производственного. Да еще когда чувствуешь, что он тебе в работе не очень доверяет… Может, не надо было Кирьянену уходить из гаража? Эта мысль не раз уже мелькала у него в голове. Нет, это было бы неправильно. Кирьянен даже мотнул головой. Не так уж плохо идут у него дела. Лебедки он ведь сам наладил. Александров и так и этак осматривал — все было правильно… И, в конце концов, не надо уж так переживать, что Александров не согласился, когда Кирьянен посоветовал ему привлечь к монтажу станции Колю Никулина и Кюллиева. «Ничего, Петр Иванович, думаешь, ты один шьешь, а другие только порют? Может, и из нас швецы выйдут!»
Кирьянен взял со стола письмо дочери, чтобы спрятать его. «Надо бы съездить в Петрозаводск, повидать Марию. Не скоро теперь увидимся». Но эту мысль он тотчас отстранил. Не время, да еще секретарю парторганизации. Он побывал пока только в двух бригадах. Что-то случилось с людьми после аварии плотины. Не то чтобы работать стали меньше, даже наоборот, но какой-то холодок чувствуется. Собрал коммунистов бригады — надеялся, что будет разговор по душам, и не получилось, надо прямо это признать. Не нашел, видно, настоящих слов. И опять он вспомнил то время, когда работал шофером, вспомнил последнюю зиму. Дорога была плохая и вывозка леса задерживалась. Потом дорогу отремонтировали, но уже трудно было наверстать упущенное. Кирьянен договорился с напарником сделать вместо трех рейсов четыре. На другой день еще два шофера сделали по четыре рейса. А потом в четвертый рейс поехали все. И разговор с людьми был короткий, куда короче вчерашнего. Но тогда он действовал примером, — сам себе ответил Кирьянен. Потому-то и было проще… И вновь вспомнился утренний разговор с Александровым. Кирьянен и раньше замечал, что Александров любит говорить: «Моя мастерская… Я сделаю…» «Надо будет ему сказать, что так говорить нехорошо, — подумал Кирьянен. — А Воронов такой же: «Я решил, я приказываю»… Вот и расхолаживают они людей».
За дверью кто-то уже довольно давно шаркал сапогами. Кирьянену хотелось побыть одному, подумать еще над своими сложными заботами, но он уже привык, что люди идут к нему и днем и поздно вечером, и для каждого он должен найти доброе слово. Он приподнялся, чтобы открыть дверь гостю, который, словно от смущения, все еще очищал обувь на крыльце, и удивленно расширил свои маленькие глаза. Это был Степаненко.
Подрывник зашел к нему впервые. Он еще раз вытер свои сапоги, теперь уже о коврик у порога, прошел вперед и сел, кивнув хозяину.
— Ну, как самочувствие, Микола Петрович? — спросил Кирьянен и выжидающе посмотрел на подрывника.
— Паршиво, — пробормотал Степаненко. От него несло перегаром.
— Наверно, голова болит? — прямо спросил Кирьянен.
— Болит, — подтвердил Степаненко.
— Ничем помочь не могу, — сухо сказал Кирьянен.
— А я не за водкой пришел, — Степаненко почувствовал обиду. — Представьте, что у меня дело есть. Странно?
— Что ты, Микола Петрович, зачем ты так?
Степаненко сидел с плотно сжатыми губами и сосредоточенно смотрел на носки своих сапог, видимо размышляя, стоит ли говорить.
— Это я виноват, что плотина рухнула. Мне приказали взорвать камни перед плотиной, а я и не подумал…
— Но тебя никто не обвиняет.
— Пусть не обвиняют. Я думал, думал и вот что решил: перед плотиной, если ее будут строить, надо сделать заграждение вроде тех камней, которые были раньше.
— Интересно! А ты говорил Воронову?
— Разве Воронова когда-нибудь найдешь? Скажите вы сами. Вас Воронов послушает.
— Ну, зачем ты так? Он и к твоим словам прислушается.
— Куда уж тут! Какой я советчик! — с болью в голосе сказал Степаненко. Встал, надел кепку и вышел сутулясь, даже не попрощавшись с хозяином.
Кирьянен задумчиво посмотрел ему вслед. Что-то новое увидел он в этом человеке. Говорят, был Степаненко когда-то великолепным механиком, но постепенно опустился и вот падает все ниже и ниже…
Кирьянен невольно вспомнил, что когда приходит время Степаненко трудиться на его опасной работе подрывника, он совсем не пьет. Пусть это бывает всего лишь несколько дней, но все-таки он может удержаться. Почему же никто не пытается помочь этому человеку бросить пить? А ведь если удержать Степаненко от пьянства, то лучшего помощника Александрову и не подберешь.
Впрочем, это уже другое дело — сначала надо посоветоваться со знающими людьми, чем и как можно вылечить его. И, размышляя об этом, секретарь проворно задвигался по комнате, убирая посуду, обуваясь.
Айно жила одна в деревянном домике неподалеку от больницы.
Это было обычное девичье жилище, украшенное теми наивными вышивками, салфеточками, фотографиями, которые так любят развешивать все девушки, но в то же время и чем-то отличавшееся. Прежде всего в комнате довольно резко пахло лекарствами, в углу висел белый докторский халат, на комоде рядом с флаконами духов лежала коробка со шприцем. На книжной полке большинство книг были закованы в серые и темные переплеты, в каких выпускают обычно справочники, в том числе и медицинские, и цветастые обложки беллетристических книг выглядели довольно сиротливо.
Айно что-то читала, когда зашел Кирьянен. Кирьянен повесил кепку на вешалку, уселся и оглядел комнату.
— А тесновато у вас, — проговорил он, словно подвел итог этому осмотру.
Айно извинилась за беспорядок в комнате, с любопытством поглядывая на гостя.
— А вы, я вижу, собираете медицинскую литературу? — сказал Кирьянен, с уважением оглядывая груды книг с непонятными, как будто на чужом языке написанными, названиями.
— Как и всякий специалист, — пожала плечами девушка. — У нас скоро районное совещание медработников. Я взялась подготовить доклад, и так оказалось интересно…
Кирьянен слушал со скрытой улыбкой. Его дочь также увлекается своей наукой. Айно уже второй год работает врачом, а сколько у нее еще студенческого жара! Да он и сам, с тех пор как начал учиться, каждую истину принимает с таким волнением, словно сам и открыл ее.
Поговорили о районной конференции, о больнице, аптеке. Кирьянен, придя к кому-нибудь по делу, всегда начинал издалека. Так и теперь, только выяснив все заботы молодого врача, он сказал:
— Тут ко мне заходил Степаненко…
— Я видела его позавчера. Он был…
— Понятно. Он почти всегда пьян. А вы хорошо знаете его?
— Только как врач. У него нервы в очень плохом состоянии. Бессонницей страдает.
Айно мало что знала об этом своеобразном туулилахтинском жителе. Она слышала, что Степаненко настоящий виртуоз по взрывным работам. Зарабатывал он хорошо, но обычно пропивал все свои деньги в первые же дни после получки. И тем не менее его уважали за уменье и бесстрашие, жалели, как жалеют неудачников и несчастных людей. Если он приходил в чей-нибудь дом во время обеда, его сразу усаживали за стол. Почти никогда не разговаривал он о своей прошлой жизни, и его старались не волновать расспросами.
Человек он, видно, мягкий, отзывчивый на чужую беду. Степаненко мог часами возиться с детьми, и дети, в свою очередь, любили бывать с ним. Зимой он вместе с ребятами лепил снежных баб, чинил санки, а весной мастерил игрушечные пароходики. И дети любили этого огромного неуклюжего человека, который умел делать занятные игрушки и играл с таким же увлечением, как и они.
Кирьянен рассказал Айно то, что сам знал о Степаненко. Когда-то у Степаненко была большая семья. Он работал где-то на Украине в ремонтной мастерской, был отличным механиком, уважаемым человеком. В самом начале войны вся его семья погибла. Он ушел в партизаны, взрывал военные склады и железнодорожные мосты. Войну он закончил на севере и не захотел возвращаться на родину, где каждый камень будет напоминать ему о потерянном.
— Я видел однажды в клубе, как он слушает украинские песни. Казалось, вот-вот заплачет, — промолвил Кирьянен.
Оба сидели, задумавшись. Потом Кирьянен глухим голосом сказал:
— Не у него одного война исковеркала жизнь. Но не все это выдерживают.
Айно подумала о Кирьянене: «Да, другие выдерживают лучше!»
Но разговор шел о Степаненко. Айно спросила:
— Нельзя ли его отучить от водки?
— Об этом я и хотел поговорить с вами.
— Вообще-то есть специальные лечебницы, но они не всегда помогают. Найти ключ к его сердцу, вдохнуть в него жизнь — лучшее лекарство.
— Вот, вот, об этом я как раз и думал. Нельзя оставлять человека на произвол судьбы. У меня есть мысль привлечь его к одному интересному делу. А если еще женщины позаботятся о нем… У него мягкое сердце, и он ценит… Давайте попробуем. Пусть это будет наш маленький заговор… Согласны?
Айно Андреевна улыбнулась и протянула руку.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Проводив Кирьянена, Айно долго сидела неподвижно, глядя на часы. Было уже половина второго. А Петр обещал быть в двенадцать. Айно прибрала комнату, опять посидела у окна — Петр должен был пройти мимо, если вышел из дома, — но улица была пуста. И Айно уже почти уверилась, что он заболел или еще что-нибудь с ним случилось.
Он пришел только в три часа. Ничего с ним не случилось, это было видно и по тому, что он был в праздничном костюме, и по тому, как беззаботно он ей улыбнулся, взяв ее за обе руки. Айно смотрела выжидающе, но он ничего не сказал, даже на часы не посмотрел. И девушка ни о чем не спросила, только прикусила губу и начала возиться у плиты.
— Мы же условились, что пойдем на озеро, — с упреком сказал Александров.
— Мы условились пойти в двенадцать, а сейчас уже три часа, — не удержалась Айно. Александров опять промолчал. — У тебя усталый вид, что-нибудь произошло?
— Ровно ничего. Я хочу отдохнуть в лесу. А почему ты спрашиваешь?
— Может быть, выпьешь чаю или кофе?
— Мы вскипятим чай в лесу, на костре, — настаивал Александров.
Айно больше не стала расспрашивать. Молча надела пальто, собрала рюкзак. Вскоре они шагали к возвышенности, видневшейся за поселком, потом по узенькой тропинке к озеру. В лесу пахло смолой. Мелкий песок на берегу был теплый, как летом.
Найдя защищенное от ветра место, Александров принялся раскладывать костер. Айно расстелила свой плащ на стволе упавшей сосны. Александров наломал веток и растянулся на них возле костра.
— Земля еще сырая, простудишься, — предупредила Айно.
— Пустяки. Вы, врачи, воображаете, что человека на каждом шагу подстерегают болезни, — усмехнулся Александров. — А я ничего не боюсь, и никакие бациллы ко мне не пристают.
— Не хвались! — остановила его Айно. Но она и сама не могла представить деятельного и жизнерадостного Петра больным.
Александров отгонял сосновой веткой дым от Айно. Потом подкинул в костер несколько толстых коряг, поднялся и подсел к девушке. Айно не шевелилась, только внимательные ее глаза следили за каждым движением Александрова. Вот сейчас он расскажет, почему опоздал, извинится, и Айно поймет, что его не за что укорять. И будет снова так хорошо вдвоем, когда оба думают друг о друге, когда угадываются даже невысказанные мысли и желания.
— А я сегодня закончил план монтажа электростанции, — вдруг сказал Александров. — Понимаешь, в мастерской никого не было, никто не лезет с расспросами, хорошо работалось! — Он удовлетворенно вздохнул и закинул руки за голову, откидываясь назад, как усталый человек. Потом вдруг поежился, словно ему стало холодно, и вернулся к костру.
«Вот и все его оправдания! — с грустной усмешкой подумала Айно. — И так будет всю жизнь. Он будет забывать обо мне, о нашем доме… Нет, нет, нет, — быстро, как бы чураясь, проговорила она про себя, — нашего дома еще нет». И, поднявшись со ствола, накинула плащ.
— Пойдем на берег, Петр, хочешь?
Он с сожалением оторвался от костра. Его знобило все сильнее. Подумал: «Повидимому, все-таки простудился». Спал он прошлой ночью плохо. То в жар бросало, то все тело покрывалось холодным потом. Но ему не хотелось говорить об этом Айно. Он испытующе взглянул на девушку. Сегодня она казалась какой-то уж очень спокойной.
Они вышли на недавно освободившуюся от снега, но уже обсохшую песчаную отмель. Озерный лед далеко отступил от берега и лежал гладкий, почти черный, не отражая солнца.
— Смотри, Петя, как лед потемнел. Скоро его прибьет к берегу.
— А знаешь, с какой силой напирают льды на берег? — оживился Александров. — Если бы ее можно было использовать…
— В механической мастерской? — рассмеялась Айно. — Неужели ты не видишь в ледоходе ничего другого, — ну, просто, скажем, красивого.
— Да, он красив. — Александров задумался. — Я помню ледоход на Волге во время войны. Село, куда мы попали, стояло на самом берегу. Так и казалось, что его снесет. Вот бы посмотреть, что там делается теперь.
— Ну что же… Можешь поехать прямо из Карелии водным путем до Волги. — Вдруг она перебила себя: — А ведь, правда, это удивительно? Кажется, будто Карелия становится все ближе к Москве.
Со стороны поселка донесся гудок паровоза, потом стук колес.
— Но ведь ты обещала поехать вместе со мной в Крым? — с беспокойством спросил Александров.
— Ну, до отпуска еще далеко.
Айно подняла на Александрова глаза, и ее длинные ресницы заколебались.
— В жизни случается всякое, Петя. Я бы не хотела, чтобы мы ошиблись. Подумаем еще…
— А ты что, сомневаешься? Ведь мы уже условились, что в начале отпуска поженимся.
Айно отрицательно покачала головой:
— Нет, я не сомневаюсь… Просто хочу, чтобы мы еще подумали.
— Мы же хорошо знаем друг друга, — взволнованно заговорил он. — Ты знаешь, о чем я думаю, что хочу сделать в жизни… И я тоже знаю…
Александров крепко сжал ее руку. Но Айно тихо отняла ее. Долго шли они молча, прислушиваясь к звукам журчавшего где-то неподалеку ручья. Вдоль берега виднелась широкая полоса воды. Слышался плеск волн в сухих прибрежных камышах.
Когда они вернулись к костру, он почти погас. Петр подбросил в костер дров. Сухие сучья сразу же вспыхнули.
Александров наломал пучок вербы.
— Возьми на память о сегодняшнем дне.
— А знаешь, Петя, я никогда не видела ни гор, ни моря. Говорят, что Черное море зеленоватого цвета…
— А я был в Алупке, каждый день купался в море, а цвета не помню, — усмехнулся Александров. — Помню только, что когда буря, лучше всего плавать подальше от берега, среди волн. И ведь в жизни так же, правда, Айно?
— Я бы побоялась заплывать далеко.
— А со мной? Ты так и не ответила мне. Почему ты молчишь?
Уже начало смеркаться. В прибрежной безлесной полосе отражались огни Туулилахти. Стало прохладно. Они остановились на обрыве. Петр взял ее за плечи. Айно посмотрела ему в глаза. Он притянул ее к себе, наклонился и поцеловал полные губы девушки. Но вдруг она резко вырвалась из его объятий.
— Пора домой! — И торопливо пошла в гору, к поселку.
Александров отстал. Она слышала, как тяжело он дышит.
— Что с тобой? — испуганно спросила Айно. — Ты, наверное, в самом деле болен? — Она уже жалела, что обидела его.
— Я ждал от тебя не врачебной заботы, — сухо ответил Александров. — Я так был счастлив сегодня, что побудем вместе!.. Даже работалось по-особенному.
— Мы еще будем, будем счастливы.
Но он все шел позади, не приближаясь к ней.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Этой ночью Александров спал совсем плохо. Его опять сильно знобило. Погружаясь в дремоту, он видел во сне какой-то запутанный клубок ниток, который никак не мог распутать, и мучился от этого. Проснувшись, он вспомнил проведенный на берегу вечер и жалел, что обидел Айно.
Утром он уехал в сплавную контору за оборудованием.
Начальник сплавной конторы, молодой инженер, только год назад окончивший лесотехнический институт, встретил Александрова тревожным вопросом.
— Что у вас там случилось с плотиной?
— Рухнула, — кратко ответил Александров.
— Это я знаю, — обиделся начальник. — Объясните мне другое: как это так получилось, вы сами пришли к выводу, что плотина не выдержит, и ничего не сделали? Почему не отремонтировали?
— Вы же знаете, я занимаюсь только механизмами.
— А что Воронов думает?
Мрачный, усталый Александров чуть не высказал всю обиду на Воронова, но сдержался. Ответил неопределенно:
— Положение у него тяжелое. — Подумав немного, он добавил: — Решил восстанавливать плотину.
— А справитесь вы со строительством и с восстановлением плотины?
Александров нерешительно пожал плечами и, чтобы избежать дальнейших расспросов, протянул заказы на оборудование. Начальник нехотя отпустил его, решив поговорить с Вороновым.
Оформив наряды и побродив по отделам и складам, Александров пошел в дом для приезжих.
Ночью он метался без сна на постели, потом встал и взял у дежурного градусник. Ртутный столбик поднялся выше тридцати восьми. Пришлось пойти утром в районную больницу. Седой старичок в очках с широкой оправой выслушал его, постукал по груди. Не сказав ничего, велел сдать анализы и послал на рентген.
На следующий день врач встретил его с озабоченным видом. Он молча снял очки, повертел их в руках и начал расспрашивать:
— Чем вы болели в детстве?
Александров усмехнулся:
— Как все дети: коклюшем, корью.
— Как у вас раньше было с легкими? До ранения?
Александров уклонился от ответа:
— А что с ними? — спросил он.
— Видите ли… — Врач зачем-то надел очки и коротко сказал: — Вам надо ехать в санаторий. Чем скорей, тем лучше. Идите в райком союза, попросите путевку в Крым. Я уже звонил туда.
— Что же со мной? — спросил Александров, не в силах скрыть волнение.
— Туберкулез легких. Процесс, небольшой. Не расстраивайтесь, Крым вас вылечит.
— Мне нельзя сейчас уезжать.
Врач спокойно объяснил:
— Повидимому, вы перенесли тяжелую простуду на ногах. Но болезнь еще в такой стадии, когда ее легко остановить, если вы не будете медлить. До отъезда придется полежать в постели.
— Я не могу лежать — мне же надо монтировать электростанцию…
Врач развел руками.
Александров зачем-то прошел в дом приезжих, но там ему не сиделось, отправился на склад сплавной конторы, но и там задержался не больше часа. Он долго кружил по улицам, пока, наконец, решился и зашагал в профсоюзный комитет. Председатель комитета сочувственно посмотрел на Александрова. Это сочувствие совсем расстроило его.
— Мы уже знаем, нам звонили из больницы. Как только получим путевку, сразу сообщим вам…
Он снова вернулся в дом приезжих, закрыл дверь на крючок и улегся. С улицы доносилась веселая возня играющих детей. Он поднялся и закрыл форточку. Но теперь в комнате стало угнетающе тихо.
Не первый раз врачи говорили Александрову о его слабом здоровье. Но ему всегда казалось, что врачи обманываются и напрасно пугают его. Сколько уже прошло времени после ранения, он и не вспоминал о тяжелых госпитальных днях. Он работал, жил, думал о том, что на его век дней хватит, их, правда, запасено не с решето, как говорит хорошая поговорка, но все самые большие его дела были еще впереди. Он не думал о смерти, хотя понимал, что она существует где-то рядом с жизнью. Ему почему-то казалось, что умирают только те, кто уже все сделали, или те, кому и делать нечего, кто не сопротивляется смерти. Но сам-то он еще только собирался начать жить.
Все, что было до сих пор, было лишь подготовкой к какому-то большому делу. К этому он готовился в институте; не успев кончить ученье, взял в руки винтовку, чтобы поскорее покончить с войной и вернуться к исполнению мечты. И вот, когда пришло время для осуществления этого дела, пусть и небольшого, в это время как раз и прозвучал пожарный сигнал…
Да, ворчливый, мрачноватый голос доктора прозвучал как сигнал. И Александров не мог успокоиться, представляя, какие страшные вещи происходят в нем, как разрушается его тело, как слабеет его кровь. Ведь это уходит, медленно, по каплям, но уходит его жизнь.
Он взглянул на свои пальцы и представил, какими прозрачными, синеватыми станут они, как будут они беспомощны, а ведь этим рукам надо было еще столько сделать.
Конечно, может быть и так, что врачи спасут его, но сколько времени уйдет даром? И кто заменит его? Он еще только получал оборудование и машины для своей будущей электростанции. И какая теперь польза от всех его планов? Оборудование будет лежать, эти машины некому смонтировать, пустить в ход. И зачем только он выписал их? Пусть бы уж эти машины дали тем, кто сможет немедленно их использовать.
Ему стало не по себе, когда он подумал о том, как тихо будет теперь в механической мастерской. Без него механики, конечно, не будут знать, что делать, и, возможно, Воронов пошлет и их на другие работы. Новый токарный станок умрет без движения, и некому будет даже пыль стереть с него, на окнах повиснет паутина. И чертежи круглой пилы нового образца останутся тоже на бумаге.
Он отгонял от себя мысли об Айно, но они упорно возвращались. Он вдруг вспомнил: ведь он поцеловал ее. При мысли о том, что она может тоже заболеть, его охватил ужас. Теперь ему казалось, что он накликал несчастье не только на себя, но и на нее…
Вернувшись в Туулилахти, он первой на улице увидел Айно. Хотя он много думал об этой встрече, но еще не решил, как скажет ей о случившемся. Он остановился, беспомощно взглянул на нее и опустил голову, сосредоточенно рассматривая носки своих ботинок.
— У тебя неприятности? — озабоченно спросила Айно.
— Нет, но нам надо поговорить, — коротко ответил Александров. Он поднял глаза и вдруг сказал: — Наверно, я скоро уеду…
— Скоро? Почему? Мы же условились… — заговорила Айно, но он, словно не слыша, прервал:
— Поговорим попозже. Мне нужно сейчас к Воронову.
Айно растерянно повернулась и пошла в больницу. Александров зашагал к конторе, все больше замедляя шаги. С Вороновым разговаривать будет не легче, чем с Айно.
Начальник о чем-то расспрашивал мастера Кюллиева, сына председателя сельсовета. Увидев Александрова, он сразу отпустил мастера. Воронову хотелось услышать, что нового в сплавной конторе. Но Александров ничего не говорил, и когда молчание затянулось, Воронов удивленно спросил:
— Что-то с тобой неладно. Устал?
Александров зажег папиросу, но тут же вмял ее в пепельницу.
— Оборудование я получил, — сказал он и резко добавил: — А веселиться мне не с чего. У меня, как выяснилось, туберкулез легких.
Воронов даже привстал от изумления. Александров сухо добавил:
— Впрочем, хоронить меня еще рано. Обнаружены каверны, но чахоточные, как ты знаешь, умирают медленно.
— Пожалуйста, без шуток! — сердито сказал Воронов. Он все еще не мог прийти в себя. — Значит, тебе надо немедленно ехать лечиться.
— Поеду… Как только получу путевку…
Оба замолчали. Александров с тоской поглядел на чертежи, оставленные им в кабинете Воронова в тот день, когда они так горячо поспорили. Пыль уже покрыла черный круглый футляр, стоявший в углу возле шкафа. А Воронов думал о том, что их спор так странно решен этой болезнью. Александров уедет, и само собой приостановится строительство электростанции, и можно будет послать строителей на плотину… И в то же время подумал, как трудно будет этому деятельному человеку надолго оторваться от жизни. В таком санатории от одной тоски с ума сойдешь. Про себя Воронов уже решил, что будет постоянно писать ему туда. Конечно, писать придется осторожно, но к осени, может быть, удастся его и порадовать. Наконец Воронов прогнал эти несуразные мысли.
— Когда обещают путевку?
— Еще ничего не известно, — ответил Александров. — Пока буду работать.
— Ты с ума сошел! — воскликнул Воронов. — Разве можно в таком состоянии работать? Да я подниму на ноги и райком и центральный комитет союза, но добьюсь путевки. А пока мы предоставим тебе отпуск. Никакой работы.
Он говорил вполне искренне, озабоченный судьбой товарища, его болезнью. Но где-то в глубине души скользила и маленькая мыслишка о том, что если Александров, при его теперешнем положении, будет продолжать работать, то опять начнутся бесконечные споры. И по лицу Александрова он видел, что тот это понимает. И он горячился все больше. Не слушая возражений Александрова, он схватил трубку телефона. Александров встал и ушел, не желая слушать этот разговор, в котором опять будет упоминаться о его болезни, вдруг изменившей всю его судьбу.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Кирьянен видел, как Александров прошел в контору, затем вышел оттуда и направился домой. Почему он не зашел к ним, в механическую мастерскую? Ведь всем интересно, какие механизмы он получил и когда оборудование прибудет в Туулилахти.
Кирьянен тщательно вымыл руки и пошел сам в контору.
— Интересуюсь, какие вести привез главный механик? — спросил он Воронова.
— Хорошие вести, — пробурчал Воронов.
Кирьянен понял, что Воронов чего-то не договаривает, и присел, ожидая, когда он пояснит.
— Помощь обещали? — спросил он, чувствуя, что молчание слишком затянулось.
— Обещали. Александрову надо ехать в Крым.
Кирьянен ничего не понял.
— А машины, электростанция, мастерская?
— Речь идет не о машинах, а о человеке, товарищ Кирьянен, — словно обвиняя, произнес Воронов. — Александров заболел туберкулезом.
Маленькие глаза на широком лице Кирьянена округлились.
— Как это так — туберкулезом? Ни с того ни с сего?
Он встал и прошел к окну, собираясь с мыслями.
Воронов хмуро сказал:
— Легкие слабые, а тут еще ранение на фронте. Но опасности нет. Я только что говорил с врачом. Путевку я ему достану. А до отъезда он должен быть в постели. Твоя задача — позаботиться о том, чтобы его не вызывали в мастерскую. Ты же знаешь его характер.
Еще не понимая, как это могло случиться, что здоровый человек вдруг заболел туберкулезом, Кирьянен подумал о другом. Александрова ведь дома не удержишь.
— Тогда поторопись с путевкой. Не могу же я сидеть возле него и держать его за руки. Вот, например, на буксирном пароходе будут менять поршневые кольца… Он же обязательно захочет туда поехать сам.
— Да, захочет, — согласился Воронов. — Но на буксир его пускать нельзя. Снова простудится. А это для него очень опасно.
Кирьянен все думал о случившемся. И как все перевернулось! Несколько дней назад Кирьянен просился у Александрова на ремонт буксирного парохода, и главный механик довольно ясно дал понять, что это не его ума дело. А теперь он должен взять всю ответственность за ремонт на себя. «Ну что же, — думал Кирьянен. — Я не буду говорить: «Я сделаю… мой буксир»… Я попробую подыскать людей, которые могут помочь. На буксире есть способный машинист, есть еще машинист сплоточной машины Никулин…»
Поразмыслив, Кирьянен попросил начальника:
— Позвоните на Пуорустаёки, чтобы Никулин тоже поехал на буксир. Я отвезу поршневые кольца, попробуем установить сами.
От Воронова он прошел в гараж. Попутная машина заправлялась бензином перед долгим рейсом. Кирьянен взял с собой поршневые кольца для парохода, отдал нужные распоряжения рабочим в мастерской и через несколько минут выехал на озеро. Мимо дома Александрова он проехал пригнувшись, словно совершал недостойный поступок.
Грузовик давно уже миновал Туулилахти, а Кирьянен все оглядывался назад, как будто боялся, что Александров вот-вот бросится в погоню за ним.
Льды озера Пуорустаярви были в движении. Ветер гнал их к устью реки, нажимая на пороги Хаукикоски. Поперек порога была построена плотина электростанции объединенного колхоза. Громадные ледяные глыбы дробились о цементную стену плотины.
Пароход стоял в глубине бухты на якоре. На палубе дежурили вахтенные, с тревогой поглядывая на льды. Пароход не дымил, машина была разобрана.
Кирьянен, машинист парохода и Николай Никулин заканчивали ремонт. Слышался только торопливый стук деревянных колотушек, которыми насаживали поршневые кольца. С палубы крикнул вахтенный:
— На берегу сигналят!
— Кто это может быть?
Кирьянен и машинист вылезли по узкому трапу наверх. На берегу стоял человек и повелительно размахивал рукой, вызывая лодку. Поодаль щипал еле зазеленевшую траву гнедой конь.
Кирьянен вздохнул. Машинист усмехнулся, спросил:
— Он?
— Конечно! — пожал плечами Кирьянен.
Машинист одернул свой старый комбинезон, прыгнул в лодку, привязанную к борту парохода, и поспешил к берегу, взмахивая длинными веслами. На берегу стоял Александров, нетерпеливо переступая с ноги на ногу.
— Что, не ждали? — с усмешкой спросил он.
— Честно говоря, нет, — признался машинист. — Но вообще я рад.
Александров влез в лодку и кивнул: отталкивай. Машинист, неприметно посмеиваясь, взмахнул веслом. Для него было даже лучше, что сам главный механик проверит машину. Хотя он и полагался на Кирьянена и Никулина, однако «лишний глаз приглядит и за нас».
Кирьянену Александров только кивнул, как малознакомому человеку. На Никулина даже не взглянул.
О том, что Кирьянен выехал на озеро, Александров узнал только днем. Он бросился к Воронову.
— Быстро же вы меня отстранили! — зло сказал он начальнику.
Воронов пожал плечами, осторожно дотронулся до горячей руки Александрова.
— Не понимаю, что врач смотрит. Тебе надо лежать.
— А вы думаете, ремонт паровой машины такой пустяк, что, кого ни пошли, всяк справится? — ядовито спросил Александров.
— Там и без тебя довольно механиков.
— Кирьянен пока еще не механик! — окончательно рассердившись, выкрикнул Александров.
— Я еще раз предлагаю тебе пойти домой, — стараясь быть спокойным, ответил Воронов.
Александров вышел из конторы, ничего не ответив. Через пять минут он был на конюшне. Конюх оседлал для него лучшего жеребца.
И вот он здесь, он проверит все, что тут успел сделать Кирьянен, и уж наверняка обнаружит ошибку, если она допущена, устранит ее и не позволит опозорить ни себя, ни свои мастерские. И пусть Кирьянен дуется, пусть молчит этот мальчишка Никулин, он, главный механик, пока еще на посту.
В машинном отделении было тихо. За бортом плескались волны. Александров молча осматривал машину, короткими жестами указывая, какие части надо разобрать. Кирьянен и машинист буксира понуро стояли в стороне. Молчание нарушил Кирьянен.
— А что же нам делать? Мы вроде лишние.
— Это я тут лишний, — съязвил Александров. — Отстраненный.
Кирьянен тяжело вздохнул, с трудом сдерживая нарастающий гнев, потом взял себя в руки и мягко, дружески сказал:
— Петр Иванович, зачем ты так? Ведь тебе лежать надо, и не очень-то полезно возиться с холодным металлом да еще на воде. Неужели мы не справились бы одни?
— Каждая машина, товарищ Кирьянен, имеет свои особенности. Паровая машина — это одно, мотор внутреннего сгорания — другое. Ты имел дело только с моторами внутреннего сгорания. Это ты учел?
— Здесь еще два машиниста паровых машин, вот что я учел.
Пришел капитан буксира.
— Это еще что за диспут? Двое работают, двое митингуют. Давайте все за дело. На берегу ждет нас уха.
Кирьянен молча взялся за работу. Дело нашлось всем, даже капитану буксира.
Стемнело. С берега в люки падали отблески костра. Закончив работу, Александров обтер руки пучком пакли.
Капитан поднялся на мостик и потянул кольцо, висевшее под потолком рубки. Резкий свисток прорезал ночную тишину. Это был первый сигнал наступившей весны на озере. Эхо покатилось по мысам и заливам. Одинокая утка испуганно взлетела из прибрежных кустов.
Механики перебрались на берег и уселись около костра.
— А теперь, ребята, ложки в руки и попробуем, годится ли уха сплавщику в пищу! — воскликнул машинист, умывшись и энергично вытирая руки полотенцем.
Рядом с костром расстелили парусину. На ней появились тарелки, хлеб, масло, молоко. Дымящуюся миску с рыбой поставили посредине. Откуда-то появилась бутылка водки.
Капитан косо посмотрел на бутылку и сердито буркнул:
— Это еще что такое?
— Пусть уж в честь первого гудка, — защищался машинист.
Капитан пожал плечами.
— Тоже мне! Сам не пьет, а говорит: «В честь первого гудка».
Однако, когда водку разлили, капитан и сам взялся за стакан. Выпив и выплеснув воображаемые остатки на землю, он кашлянул, словно требуя внимания.
— Я вам вот что скажу, товарищи. Теперь начинается такая пора, что бутылки надо забыть. В этом году мы должны отбуксировать древесину трех леспромхозов. Так что помните: мы здесь не в доме отдыха и не на увеселительной прогулке. Ну, что, все выпили? Больше не осталось? Ну и не надо. Налегайте на уху.
Александрова знобило. Он встал и попросил Кирьянена устроить его на машину. Ехать верхом он не мог. Пусть лошадь пригонят потом.
— А уха? — всполошился машинист. — Да вы же и не выпили.
Кирьянен посмотрел на Александрова. Тот был бледен и заметно дрожал. Кирьянен кликнул шофера, поручил капитану пригнать лошадь в Туулилахти. Александров сел в кабину и закрыл за собой дверцу. Зашумел мотор. Никулин и Кирьянен влезли в кузов грузовика.
Они добрались до Туулилахти ночью. Лишь в нескольких домах мелькали огоньки. Это все же не означало, что повсюду спали. Светлой весенней ночью на севере видно и без света.
В окнах Айно занавески еще не были задернуты. Александров вышел из машины и остановился перед ее крыльцом. Он постоял немного, оправдываясь, что неудобно зайти к ней прямо с дороги, да и поздно. И в конце концов отправился к Воронову.
Воронов лежал на диване с книгой в руке. Он сердито спросил Александрова:
— Какая нечистая сила понесла тебя на озеро?
Александров молча подвинул стул к печке, но печка была нетоплена.
— У вас холодно, — проговорил он.
— Это у тебя температура. Надо было лежать в постели, а не шататься по лесам. Обошлись бы и без тебя.
— Кто его знает.
— Опять?
Александров закурил, но папироса показалась горькой. Он бросил ее в печку.
Воронов достал из шкафа термос.
— Выпей горячего чая, разогреешься.
Александров молча отхлебывал чай. Лоб его покрылся капельками пота. Воронов задумчиво смотрел на него, потом вздохнул:
— М-да. Так они и идут, годы… Помнишь, каким ты приехал сюда? Дай тебе горы — ты бы и их свернул…
— Ты это о чем? — Александров поднял покрытый испариной лоб. — Думаешь над некрологом?
— Да ну тебя! До некролога нам с тобой далеко, еще по сотне нагоняев успеем получить, и много раз с тобой поспорить, потом только будет некролог. Что у нас сейчас получается? Думали, в этом году все пойдет на славу. Механизировали скатку древесины, электростанцию начали строить, еще многое запроектировали… И все пошло прахом.
— Ну, дальше?
— Что дальше? Не надо летать очень высоко — падать больнее.
— А ты помнишь, Михаил Матвеевич, одну военную истину: «С позиций, которые построены с расчетом на возможный отход, труднее перейти в наступление»?
Воронов снисходительно улыбнулся.
— Я, кажется, наступал больше, чем ты, больше взрывал препятствий, на то и командир саперов.
Он встал, прошелся по комнате, потом решительно сказал:
— Поеду завтра на Пуорустаёки, надо начинать постройку плотины. Но ты чтобы был в постели. Слышишь?
— Ну и везет же тебе! — грустно улыбнулся Александров.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Воронов вброд перебирался через болото. Порою нога проваливалась так глубоко, что приходилось цепляться руками за кочки и одиноко растущие чахлые сосенки.
Зорька, измазанная болотным илом, устало волочила по земле мокрый хвост, изредка пошевеливая им, как рулевым веслом. Временами она печально поглядывала в сторону дороги, видневшейся сквозь деревья.
Воронов шел напрямик к разрушенной плотине. В свое время эта плотина преграждала реку, а теперь ее обломки сохранились лишь на берегах. Когда ее размыло, Степаненко расчистил посредине проход. С обоих берегов к проходу были установлены направляющие бревенчатые боны, между которыми в быстром течении реки проскакивали редкие бревна.
У Пуорустаёки был свой характер. После ледохода она шумела — широкая и быстрая, как бы хвастаясь своей неиссякаемой силой, разливалась по лугам и болотам, образуя множество заливов и проток. Но не проходило и нескольких недель, как она смирялась, и от всего ее разлива оставались только мелкие озерки да лужи. Теперь, правда, воды было еще много, но она угрожающе спадала. Сплавщики обычно бранили Пуорустаёки, как живое существо:
— Ну и хвастунья же ты!
На других реках, где были плотины, вода подчинялась воле сплавщиков, уровень ее можно было поднимать и опускать по мере надобности. Но на Пуорустаёки люди теперь оказались в полной зависимости от ее капризов.
Воронов измерил взглядом ширину русла разлившейся реки и простирающихся по ее берегам болот. Ниже болота река пересекала возвышенность. Если бы продолжить эту возвышенность плотиной, как советует бригадир Потапов, то вода затопила бы болото и создала здесь водохранилище. Но постройка такой плотины обойдется дорого, а главное — займет много времени, да и людей потребует немало. Это дело будущего, и не близкого. А надо спасать сплав этого года. Воронов внимательно осмотрел разрушенную плотину.
«Придется восстановить на старом месте», — решил он.
Он пошел к сплавщикам. Впереди простиралось сухое и ровное урочище, которое называли Пожарищем. В этом месте русло реки было у́же, а течение быстрее. На берегу стоял длинный худощавый сплавщик в больших сапогах, голенища которых расширялись выше колен, как воронки. Козырек фуражки торчал у него на затылке. Воронов узнал Пекшуева, который и зимой и летом носил фуражку козырьком назад.
Пекшуев сталкивал в воду толстую сосну, застрявшую на камне.
Воронов нашел шест и стал помогать ему. Когда течение подхватило бревно, он спросил:
— Много их застряло на камнях?
— Хватает, — ответил Пекшуев. — Вода начала спадать.
По полосам мусора, оставленного половодьем на береговых откосах, Воронов увидел, что вода спадает быстро. Нет, надо срочно восстановить плотину, а то древесина осядет на берегах. Он спросил, как думает Пекшуев, много ли древесины останется в этом году?
— На берегах? — переспросил Пекшуев, приглаживая волосы. — Нет, мы древесину на камнях никогда не оставляли и не оставим.
Воронов усмехнулся. Очевидно, он задел за живое сплавщика. Но одним самолюбием много не возьмешь. На себе бревна не перетащишь. Мысленно он прикидывал, сколько еще потребуется рабочих и откуда их взять. Да, единственный выход — послать сюда плотников со строительства электростанции.
Ночевать он пошел на Пожарище, где расположились сплавщики. Никто не знал, почему это место называлось Пожарищем. Возможно, здесь в давние времена бушевал лесной пожар. Но теперь на всей возвышенности не виднелось ни одного почерневшего дерева, ни одного горелого пня. Кругом стоял стройный сосновый лес. Стволы деревьев были голые, и только на вершинах раскидывались кроны, образуя красивый зеленый шатер, защищавший мелкий подлесок от дневного зноя. Местность была ровная, покрытая мягким вереском.
Воронов присел к полузатухшему костру, около которого спали два сплавщика, закутавшись в свои парусиновые плащи. Плащ Потапова и его мешок лежали тут же, сам он еще не вернулся.
От другого костра доносилась песня.
Воронов подбросил в огонь сухих сучьев. Они затрещали и вспыхнули веселыми язычками пламени. Один из спавших приоткрыл глаза, лениво приподнялся и, сидя, начал закуривать цыгарку. Раскурив ее, он взял мокрую котомку и протянул Воронову:
— Тут есть рыба, зажарьте себе.
Воронов уже поужинал, но он любил жареную на костре свежую рыбу. Поджидая Потапова, он положил несколько окуней на угли. Сплавщик расспросил о новостях в Туулилахти и снова улегся.
Кругом стало тихо, песня смолкла, раздавался лишь треск горевших костров и доносилось глухое журчанье воды.
Потапов наконец пришел. Подбросив дров в костер, он подсел к Воронову, взял поджаренного окуня и стал молча вытаскивать из него кости.
— Тут у меня есть хлеб и масло, — Воронов пододвинул к нему свою раскрытую котомку.
Потапов встал и вернулся с алюминиевой фляжкой.
— Давайте вашу кружку, — сказал он.
У Потапова всегда имелась во фляге водка, хотя он сам редко употреблял ее. Воронов тоже пил мало, но здесь, на реке, не отказался от глотка. Он подставил свою кружку, выпил и вытащил из костра большого окуня.
В ночные часы в лесу, у костра, люди обычно разговаривают тихо, даже шепотом, прислушиваясь к мягкому шуму ветра в вершинах сосен и к приглушенному журчанью воды в реке. Осторожно потрескивают дрова в костре, и яркие искры, вырываясь из пламени, нерешительно кружатся над головой, словно не зная, в какую сторону податься, и потом гаснут.
Воронов лениво покуривал, лежа на боку, и с любопытством наблюдал за Потаповым. Такие люди, как Потапов, не пропадут от какого-нибудь неловкого шага. Они все делают обдуманно. Вот он подостлал еловые ветки, чтобы лечь на них. Это же сделал и Воронов, но совсем иначе: просто взял охапку ветвей, заготовленных кем-то, бросил на землю, разровнял немного и прилег. А Потапов брал ветки по одной и клал их так, что комли сучков легли по сторонам, а мягкие верхушки веток — к середине.
Когда Потапов прилег и закурил, Воронову захотелось поговорить с ним по душам. Ему вдруг пришла в голову странная мысль: сделал ли Потапов в жизни какой-нибудь поступок, о котором потом пожалел? Наверно, нет. А вот у Воронова много было нескладного. Воронов даже улыбнулся, представив себе, как удивился бы Потапов, если бы он его об этом спросил. Воронов заговорил о плотине. Потапов пробурчал в ответ что-то неопределенное. Но Воронову захотелось почему-то с ним поспорить.
— Надо сделать такую же плотину, какая была, и на том же месте.
Потапов завернул колпачок фляжки.
— От такой плотины ложка воды и кружка неприятностей. И строить-то некому.
— Мы пошлем вам строителей из Туулилахти.
— И какую-нибудь работу приостановите?
— Да, строительство электростанции.
Потапов оперся на локоть, поправил рюкзак, подложенный вместо подушки, и сказал:
— Нет, из-за плотины не надо приостанавливать. Справимся и так.
Воронову показалось, что бригадир возражал не совсем уверенно.
— Тут рисковать нельзя. Срыв сплава — это еще хуже, чем невыполнение заготовок. Если сплавщик не доведет до потребителя тысячу фестметров, он подведет не только себя, но и лесорубов. Ты должен думать прежде всего об этом.
Потапов ничего не ответил.
— Тем более, что ты готовишься в партию.
Обветренное, морщинистое лицо Потапова смягчилось. Он задумался, потом тихо сказал:
— Заявление-то я подал, но не преждевременно ли? — Он сел, прислонившись к пню, и, глядя на костер, продолжал: — Я уже однажды подавал заявление в партию, но без рекомендаций. Это было на войне, перед уходом в одну разведку. На тот случай, если бы не вернулся… У нас на Карельском фронте тогда шло наступление. В тот раз мы ходили в разведку почти до Пуораярви. А при возвращении меня ранило, в ту часть я больше не вернулся. Так все и осталось.
Ночной ветер шумел в вершинах деревьев. Костер потрескивал.
— Да, я ведь тоже вступил на войне, — сказал Воронов. — Накануне заседания бюро мне дали задание с небольшой группой саперов разминировать проход через минное поле перед самым носом у фашистов. Ночь, туман — это хорошо, а когда то и дело вражеские ракеты — это плохо. Как вспыхнет ракета — замри, словно ты пень, а не живой человек. Ничего, разминировали. Вот так, товарищ Потапов, — Воронов приподнялся, опираясь на локти, — так нужно и в мирное время. Теперь ты готовишься в партию. Допустим, ты хорошо знаешь историю партии, вызубрил устав, вся твоя жизнь без пятнышка, а ноль цена всему этому, если ты провалишь сплав на своем участке.
Потапов поправил головешки в костре и после долгого молчания сказал:
— Нет, неправильно так рассуждать. Получается — думай только о себе… Что же до древесины на Пуорустаёки, то ни одного бревнышка не оставим на берегу, пусть и без плотины.
За спиной Воронова хрустнул сухой сучок. Он обернулся. Зорька стояла, с любопытством всматриваясь в огромную сосну. Потом из-за дерева показалось что-то большое и мохнатое. Воронов схватился за ружье. Потапов тоже приподнялся и сел. На его губах играла лукавая усмешка. Наконец из-за дерева показалась солидная фигура Мийтрея Кюллиева. Он наклонился к собаке, пугая ее своей большой черной бородой.
— Ну, потявкай, потявкай хоть немного, если ты собакой называешься.
— С какой стати она на знакомых лаять будет? — сконфузился Воронов, опуская ружье на место.
— А хозяин-то за ружье схватился, — рассмеялся Кюллиев. — Нашел подходящую мишень.
Он уселся на пенек и, заметив на земле фляжку, осуждающе посмотрел на нее, потом поднял и принялся отвинчивать пробку.
— Если не предлагают, то приходится брать самому.
Он взял окуня и принялся выплевывать рыбьи кости в огонь.
— Какие новости в Туулилахти? Как там моя сноха, Мария Андреевна, не подумывает ли опять о прибавлении семейства? — спросил Кюллиев, с довольным видом поглаживая бороду. — Мы, род Кюллиевых, плодовитый. У меня пять дочерей и четыре сына, да у каждого из них детей почти столько же. Сосчитай-ка, сколько это будет всего?
Потапов, позевывая, спросил, что заставило председателя сельсовета отшагать десять километров.
— Пришел просто так, посмотреть, как последние бревнышки в свой долгий путь отправятся, — не торопясь, ответил Кюллиев.
— До последних бревен еще далеко, — проворчал Потапов. — Наверное, на уме-то у тебя другое. Выкладывай начистоту.
— Да нет у меня ничего особенного… — Кюллиев колебался. — Пройдут последние бревна, как и первые. Работы тут у вас уж немного.
— Вот оно что, — Потапов подмигнул Воронову. — Отпустите, значит, колхозников?.. Ну что, отгадал?
— Тут и отгадывать нечего, — признался Кюллиев. — Посевная площадь у нас в этом году больше, чем в прошлом. Приехал новый агроном и говорит: разве можно с землей шутки шутить? И выдал нам план. Одних мелиоративных работ столько, что я только охнул. А кто работать будет?
Воронов торопливо сказал:
— Видите, как быстро спадает вода? Как же отпускать людей?
— Лень плотину сделать, вот и спадает, — пробурчал Кюллиев.
— Сделаем, — заверил Воронов. — А людей вы все-таки пока оставьте.
Потапов молча курил, потом нерешительно предложил:
— Может быть, отпустить, Михаил Матвеевич, человек пять? Как думаете?
— Ни одного человека, — сердито ответил Воронов.
Спорили долго — Кюллиев говорил о мелиоративных работах, Воронов о капризах Пуорустаёки. Наконец Кюллиев с досадой воскликнул:
— Эх ты, хозяин! Хоть бы сказал, когда мне ждать моих людей. — Он махнул рукой и пошел разыскивать своих односельчан, чтобы передать им приветы, письма и гостинцы.
Оставшись вдвоём, Воронов и Потапов снова заспорили.
— Я же вам говорю, что справимся без плотины и колхозников можно отпустить. А в будущем году придется сплавлять больше, вот тогда и нужна будет плотина, да не такая, как была, а большая, ниже болота… — говорил Потапов.
— Хватит, я твердо решил. Пусть заготовляют материал там, где сказано, я пошлю дополнительно людей с озера, с запани.
— За участок отвечаю я…
— Вот и действуй, чтобы не провалить сплав.
Вернулся Кюллиев. Не желая спорить при нем, бригадир и начальник замолчали.
Воронов прилег. Завтра ему предстоял поход на лоток, что ниже озера Пуорустаярви. Там уже буксир переправлял сплавленный лес через озеро. Придется забрать у Потапова Койвунена… Жаль, забыл сказать, опять обидится.
Потапов тоже уснул. Один Кюллиев остался сидеть у костра и поддерживать огонь. С реки поднимался холодный, сырой туман. Еле слышно шумели сосны на Пожарище. Кругом раздавалось только легкое потрескивание костров. Где-то на нижнем течении Пуорустаёки робко перекликались водяные птицы да гулко всплескивали крупные рыбы.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Утром Воронов простился с Потаповым и отправился вместе с Койвуненом в путь. Он решил поставить Койвунена бригадиром на другом опасном участке сплава — у лотка. К удивлению Воронова, Потапов не стал возражать.
Путь предстоял не близкий. Он пролегал рядом с водной дорогой, по которой плыли сейчас бревна с самого верхнего участка сплава.
Речка Пуорустаёки привела их к озеру. Здесь бревна, сплавленные молем, врассыпную, собирали в кошеля, чтобы перетащить через озеро при помощи буксирного парохода. На юго-восточном берегу озера кошеля снова рассыпали и спускали в реку Туулиёки. Там и был тот самый лоток, который так беспокоил Воронова.
Когда на реке Хаукикоски колхозники возвели плотину электростанции, для сплава пришлось искать новую трассу. Вода в озере поднялась и хлынула через небольшую каменистую низменность. Воронов воспользовался этим неожиданным потоком, построил на нем деревянный лоток — длинный желоб, около ста метров, и в метр шириной. По этому желобу сплавщики и спускали теперь древесину в Туулиёки.
Часа через полтора Воронов и Койвунен обогнули озеро. День был на редкость теплый, озеро казалось зеркальным. Прибрежные камни нагрелись на солнцепеке. Распускались почки. С веток ивы, на которые садились птицы, слетал желтый пушок. Между камнями чирикали трясогузки, свивая гнезда. Воронову не хотелось разговаривать, и он был доволен, что спутник его — Койвунен, из которого вообще трудно вытянуть слово. Лоток наискось спускался во впадину среди камней, и в нем, как витая струна, дрожала и гудела вода.
Сплавщики работали в одних рубахах. Бревна неслись по лотку так стремительно, словно их выбрасывали из лука, как стрелы. У ввода в лоток, на озере, скопилось много древесины. Рассыпанные плоты, оберегаемые бонами, занимали почти весь залив. Держать на озере такое количество древесины было опасно — нечаянный шквал или, что еще хуже, буря могли разорвать боны и разметать лес по всему озеру. Воронов остановился на берегу и с неудовольствием оглядел залив, черный от леса, лоток с гудящей водой и сплавщиков в цветных рубахах с баграми в руках, регулировавших подачу бревен.
Койвунен, который за всю дорогу так и не сказал ни слова, вынул трубку изо рта и пробормотал:
— Однако и за кусок хлеба не берутся. Видно, дело важнее еды.
Воронов взглянул на часы. Действительно, время обеденного перерыва. Между тем и на плотах, и на бонах, и на лотке все работали с особенным напряжением.
— Что-то у них неладно, — сказал Воронов.
— Должно быть, у стариков кости ноют, — обеспокоенно заметил Койвунен. — У меня тоже поясница болит…
Постороннему человеку слова Койвунена показались бы странными, а может, и смешными, но Воронов уже изучил и характер и повадку своих сплавщиков. Для них перемена погоды всегда таила опасность. А узнавали они о переменах по привычной ломоте в костях — работа на воде частенько приносит ревматизм. Воронов невольно оглядел небо. Оно было чисто, но вдали, над озером, стало менее прозрачным, словно там в синеве была растворена капля молока.
— Пошли скорее! — торопливо сказал он.
Еще издали он увидел Анни Мякелеву, которая командовала группой комсомольцев, направлявших бревна с озера к лотку. Анни, с коротким багром, бесстрашно пробежала по качающимся бревнам, выскочила на боны и заставила ребят быстрее проталкивать распавшийся плот. Воронов привычным взглядом подсчитал плавающие бревна. Их было не меньше четырех тысяч. А пароход мог подбросить еще несколько плотов. В обычных условиях такое количество леса можно сплавить по лотку до вечера, но, видно, сплавщики чем-то обеспокоены.
У лотка работал самый опытный из собранных здесь сплавщиков, Мийхкалинен, которого за высокий рост прозвали Длинным Василием. Он стоял на деревянном мостике над лотком и с помощью двух парней регулировал ход древесины. В узкий лоток можно было спускать не больше двух-трех бревен одновременно, но Мийхкалинен ухитрялся вталкивать их и по четыре и, главное, почти без перерыва. Оказавшись в горловине лотка, бревна вдруг устремлялись вниз и молниеносно исчезали в зеленоватой пене.
Койвунен должен был заменить Мийхкалинена, жена которого собиралась рожать. Длинный Василий уже раза три просил о замене.
Слышался шум воды и скрежет тросов, державших боны вокруг рассыпанных плотов. Вдоль бон шла лодка, сплавщики стягивали боны по мере того, как уменьшалось количество бревен. Несмотря на то, что во всех движениях людей чувствовалась тревога, они пока еще шутили, держались бодро.
Анни, пришедшая сюда вчера, успела провести собрание комсомольцев и взяла с них слово, что они не упустят ни одного бревна. Сейчас ребята перешучивались с ней.
— Иди-ка сюда, Анни, мы с тобой покажем, как надо работать! — кричали ей из лодки.
Анни добралась до гребца и взялась за второе весло.
Койвунен неодобрительно смотрел на озеро, дымя своей трубкой.
— А, вот он, новый бригадир! — приветствовал его Длинный Василий, довольный, что попадет теперь домой.
— Тут еще и старый бригадир понадобится! — ответил Койвунен, все глядя на озеро.
С запада подул первый, чуть заметный ветерок, приятно освежая вспотевшие лица, но на небе стали появляться темные тучи. Лес зашумел сильнее. Койвунен взял багор и пошел к лотку помогать на спуске. Лица у всех стали еще более озабоченными.
— Ветер с запада, — проговорил Койвунен.
Воронов знал, что это означает. С запада временный рейд совсем открыт… А на восток отсюда расположена Хаукикоскинская электростанция с плотиной. Ветер может оборвать боны и погонит древесину туда.
— Стягивайте скорее оплотники! — крикнул Длинный Василий работавшим в лодке.
Боны и так уже были стянуты до предела.
Воронов посмотрел в сторону порога Хаукикоски.
— Почему перед порогом не протянуты предохранительные оплотники? — спросил он у Мийхкалинена.
— Сверло получили слишком поздно. Оплотники подготовили, но некому было подтянуть их к порогу.
— Как некому? — возмутился Воронов, но сразу осекся: он же сам взял отсюда людей на строительство плотины. Вот так и получилось: оплотники — ряд прикрепленных друг к другу бревен — заготовлены, но они остались на берегу.
— Неужели разорвет боны и бревна пойдут к Хаукикоски? — с волнением сказал Длинный Василий.
Ветер крепчал. Прибрежные сосны начали качаться, березы сгибались дугой. Птицы спрятались в лесу. Белогривые волны бились об оплотник, раскачивая огромное древесное поле, которое начало медленно перемещаться на восток, к Хаукикоски…
— Пошли к Хаукикоски. Надо поставить замыкающий оплотник. И быстро! — скомандовал Воронов.
Анни, услышав команду Воронова, спрыгнула с лодки на оплотник и, пробегая по бревнам на берег, крикнула:
— Комсомольцы, в лодки!.. Э-эй, в лодки! К Хаукикоски… Ставить замыкающий оплотник.
Сверкнула молния. Начался дождь. Одежда промокла, мешая движениям людей.
Воронов посмотрел на озеро. Что будет с лодками на заливе при бортовом ветре? Он посмотрел на Мийхкалинена.
— Лодки-то, может быть, и выдержат. Но если бревнам вздумается идти, то они пойдут, тут ни оплотники, ни черт не помогут! — и Длинный Василий выругался.
Койвунен под дождем казался более сутулым, чем обычно. Но из трубки вылетал дым, как при сухой погоде. «Как это она у него не потухнет под дождем?» — удивился Воронов.
— На залив, пожалуй, надо ехать, — сказал Койвунен как будто самому себе и начал спускать лодку на воду.
Анни прыгнула в лодку Койвунена, Воронов в следующую. Одна лодка за другой отъезжали от берега. Попутный ветер убыстрял ход. Спина Койвунена была насквозь мокрой. Умелыми ударами весел он разбивал гребни больших волн, иначе лодку совсем залило бы водой. «Какими ни кажутся огромными и опасными гребни водяных валов, а простым ударом весла можно усмирить их», — подумала Анни. Но волны наступали одна за другой.
Анни гребла, сжимая весла с такой силой, что побелели пальцы.
Койвунен оглянулся назад и сказал:
— Готово…
Анни поняла, что оплотники не выдержали и лес распался. Она сильней уперлась ногами в дно лодки, приподнимаясь при каждом взмахе весел с сиденья.
Койвунен одобряюще кивнул ей, пошарил в кармане, достал спички и каким-то чудом прикурил, хотя вода ливнем лилась сверху и фонтанами брызг поднималась снизу. Потом он указал вперед дымящейся трубкой:
— Вот это сплавщик!
На корме покачивавшейся впереди лодки стоял Воронов. Он держал тяжелое кормовое весло одной рукой, а другой сигналил им, чтобы шли вперед. Анни задорно мотнула головой и изо всех сил налегла на весла. Теперь она уже не боялась волн. Еще посмотрим, чья возьмет. Жаль только, что Николая здесь нет. Он бы увидел, что Анни умеет не только книжки читать…
Вода заливала лодку и с боков и сверху… Анни принялась вычерпывать ее. От берега медленно двигалась к ним цепь оплотников, подпрыгивая на волнах. Лодку бросало из одной стороны в другую, поднимало и опускало. Вычерпывая воду, Анни одной рукой крепко держалась за борт. Она все-таки немного побаивалась, но, поглядывая на широкую спину Койвунена, успокаивалась.
Койвунен стоял, широко расставив ноги, сутулый, чуть наклонившись вперед, и спокойно, казалось даже слишком медленно, вращал лопасти катушки, подтягивая оплотники все ближе. Он попрежнему сосал трубку, чтобы она не потухла под дождем. Трос натягивался туго, как гигантская струна, и тяжелый оплотник, как волны ни бросали его, неудержимо подчинялся воле этого маленького, старого, сутулого человека и приближался к лодке.
Подошла лодка Воронова. Воронов сам прикрепил трос к концу оплотника. Койвунен подтянул оплотник к самой лодке, и Воронов начал тянуть его дальше. Первые сто метров были побеждены. Койвунен спокойно смотрел в бушующее озеро, лишь мохнатые брови его были нахмурены и рот крепко сжат. Анни поняла его тревогу: вырвавшиеся на свободу бревна могут оказаться здесь раньше, чем люди успеют протянуть оплотник через залив.
Внезапно, перекрывая шум ветра и воды, раздался сильный гудок. Это подходил буксирный пароход.
Буксир остановился, и кто-то бросил оттуда тяжелый конец стального троса. Койвунен на лету поймал его и прикрепил к задней скамье лодки. Он начал крутить катушку, чтобы скорее добраться до оплотника.
— Ну, что скажете теперь? — кричала Анни оплотникам, словно это были живые существа. — Теперь-то вам придется сдвинуться.
Койвунен засмеялся. Он силился прикрепить к оплотнику брошенный с парохода трос, но это оказалось не так-то легко. Лодка и оплотник качались, словно играя друг с другом. От оплотника надо было отцепить прикрепленный к лодкам трос. Койвунен пытался несколько раз ухватиться за цепь в конце оплотника, но волны бросали лодку вверх и вниз.
Койвунен несколько минут стоял неподвижно. Анни с досадой подумала: «Неужели такой опытный сплавщик ничего не придумает? Время идет, их ждут на буксире».
И вдруг, когда лодку опять бросило к оплотнику, Койвунен прыгнул в воду. Анни вскрикнула от ужаса. Высокая волна совсем накрыла старика. Но вот он снова появился на поверхности. Крепко держась за бревно, он уверенными движениями прилаживал конец троса к цепи оплотника. Анни вскочила, бросилась на корму лодки, чтобы помочь ему. Но Койвунен сердито крикнул и махнул рукой. Анни поняла: ей приказано сидеть на месте. Наконец Койвунен забрался обратно в лодку и поднял свое кормовое весло: «Готово».
За кормой буксира забурлила вода. Трос натянулся. Оплотник быстро пошел за буксиром.
Воронов уже был на палубе буксира. Он помог Анни и Койвунену подняться на борт.
Их провели в теплую каюту. Воронов, и сам промокший до нитки, распорядился, чтобы Койвунену немедленно дали сухую одежду. Тот махнул рукой: ничего не надо.
Он похлопал по карману и выругался.
— Что такое?
— Да табак намок.
— Кажется, и трубка погасла? — засмеялась Анни.
— Погасла, — мрачно подтвердил Койвунен. — Дайте-ка табаку.
Воронов торопливо достал свой портсигар, но у него папиросы были сырые. Капитан протянул ему кисет крепкой махорки, и по лицу Койвунена пробежала довольная улыбка.
— Как вы догадались прийти сюда? — с уважением посмотрел Воронов на капитана.
— Погода посоветовала, — ответил капитан. — Мы бы пришли раньше, но вначале надо было отвести кошель в надежное место.
Буря нарушила график. Хотя она и кончилась к вечеру, но все равно задержала сплавщиков.
Воронов осматривал лоток. Вода мчалась сильным потоком, унося бревна с такой быстротой, что они образовали как бы двигающийся пунктир. Ниже лотка открылась тихая широкая заводь. Там из воды выступали камни, похожие на клыки.
Воронов закурил. Надо что-то сделать с камнями внизу лотка, на которые натыкались бревна. Один сплавщик должен был постоянно дежурить возле камней, направляя бревна в реку.
Воронов с досадой подозвал Мийхкалинена:
— Что ты думаешь насчет камней?
— Придется держать человека, чтобы не образовался затор.
— Человека, человека! — передразнил Воронов. — Людей ведь мало. — Он подумал, что вот так и нужно искать резервы: тут высвободить одного, в другом месте — другого. — Камни надо взорвать, вот что! — заключил Воронов. — Передай бригаду Койвунену и отправляйся в Туулилахти. Скажешь там Степаненко, чтобы явился сюда для взрывных работ. Неужели сам не мог додуматься?
— А у нас так уж повелось, что начальство за нас думает! — не то шутя, не то с упреком ответил Длинный Василий.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Айно стояла, прислонившись к комоду. Впервые за это время к ней зашел Александров. Сколько она передумала за эти дни, когда Александров так резко отдалился от нее. Но и сейчас Александров не подошел к ней с протянутой рукой, как обычно, а остановился около двери.
— Айно… Я должен сказать тебе… — начал он, подыскивая нужные слова.
Айно стало жалко его.
— Садись, Петя! — предложила она, стараясь говорить спокойнее.
— Я не мог прийти раньше… — начал Александров. — Со мной случилось такое, что даже трудно…
— Если тебе трудно, не говори. Значит, ты уезжаешь?..
Пусть случилось самое страшное — исчезла любовь, но лучше, если он пока промолчит об этом. Ей еще надо привыкнуть к такому концу. В комнату без стука вошел Мякелев.
— Звонили из Хейняниеми. Там жена Мийхкалинена рожает. Вас просят.
— Мы потом поговорим, Петр Иванович, — обратилась Айно к Александрову так официально, словно предстоял разговор между врачом и пациентом. Она выбежала в сени и постучала в соседнюю квартиру, где жил завхоз больницы.
— Иван Павлович, — крикнула она, — оседлайте лошадь!
Не простившись ни с кем, она побежала в больницу за врачебной сумкой. Александров вышел вместе с Мякелевым, закрыл дверь на замок и тоже направился к больнице. Но Айно уже уехала.
В деревню она добралась на рассвете.
В доме Мийхкалиненов в этот ранний час горел свет и чувствовалось беспокойное движение. Айно сошла с коня и поднялась по высокой лестнице в горницу. Увидев усталое, но счастливое лицо роженицы, она поняла, что все уже свершилось и свершилось благополучно.
Айно вымыла руки, посушила их возле пылающей печи и внимательно осмотрела и мать и новорожденного. Мальчик спал и не желал просыпаться, когда ловкие руки Айно тормошили его. Она расспросила у матери, какое имя дадут мальчику, готово ли для него приданое, сама осмотрела пеленки и распашонки. Айно похвалила Марию Мийхкалинен за красивые распашонки, поздравила со здоровым сыном, а потом сказала уже строго, чтобы та не вздумала вставать раньше времени, как в тот раз, когда родила дочку. И кормить надо мальчика в положенное время, а не когда вздумается малышу. Роженица улыбалась, кивала головой, соглашалась, но Айно по глазам видела, что все будет по-другому. «Надо будет прислать дня через два сестру, — деловито подумала Айно, — а может, и самой наведаться. Тем более что в поселке…» И мысль о Петре, которая дорогой, в тревоге за роженицу, как будто забылась, притаилась, теперь уже вновь дала о себе знать, овладела девушкой целиком. И голос роженицы, которая оживленно стала рассказывать о скором возвращении мужа, об их переезде в поселок, доносился к Айно откуда-то издалека.
Что же хотел сказать Петр?.. Она придумывала за него всякие слова, одну фразу страшнее другой, но смысл был один: он разлюбил ее. Она стала вспоминать минуту за минутой этот вечер. Как она обрадовалась Петру… А потом? Конечно, она могла бы задержаться и все узнать. Но ей стало так страшно, когда Петр заговорил… Да, она попросту струсила… Ну, а вдруг дело совсем в другом?.. Может, ему нужно помочь? Нет, он бы тогда не пришел только на третий день… Ну хорошо, но разве не лучше было бы узнать всю правду, пусть и страшную, чем вот так мучиться?.. Ведь это унизительно. Айно уже где-то говорила эти слова. Да, это было еще в институте, на втором или на третьем курсе. Она сказала подруге, что та попросту трусиха, что она, Айно, никогда так не поступит.
В горницу вошла свекровь Марии и предложила докторше отдохнуть — она ей уже постелила. Айно покорно пошла за старушкой, прилегла на кровать. А все-таки, может, она это придумала? Ведь был же вечер у озера и веточки вербы, которые он ей подарил… И она готова была немедленно седлать коня и скакать обратно.
Уснуть Айно так и не смогла. Она поднялась, еще раз взглянула на Марию, прислушалась к ее дыханию и, чуть не крадучись, вышла из этого дома, где все спали. Она прошла по деревне, заходя в те дома, где бывала прежде с врачебными визитами, осмотрела больных, потом прошла в сельсовет.
Председатель сельсовета Мийтрей Кюллиев сидел один за столом, который явно был мал для него. Большие его руки почти полностью прикрывали зеленое суконце столешницы. Он придерживал обеими руками какую-то маленькую бумажонку, словно боялся, что бумажка может улететь.
— Хорошо, дочка, что зашла, — заговорил он, крепко пожав руку Айно. — Тут один наш колхозник пишет, что не может работать на сплаве, просит вернуть его в колхоз. Ты не зайдешь к сплавщикам?
Айно сказала, что она и сама собиралась на обратном пути зайти к ним и обязательно осмотрит колхозника. Кюллиев расспросил о новостях в Туулилахти, пригласил Айно пить чай, но она отказалась. Ей хотелось как можно скорее попасть домой.
К вечеру она была уже на колхозной электростанции, оставила там лошадь и пошла напрямик по болотистой тропинке к лотку. Воронов заметил ее еще издали и вышел навстречу. Он помог ей спуститься с дощатого мостика и провел в палатку, где отдыхали свободные от смены сплавщики. Там был и колхозник, которого Мийтрей Кюллиев просил осмотреть. У колхозника оказался ревматизм, и Айно сказала Воронову, что его надо отправить домой. Тяжелых больных не нашлось, но жалобы были у многих.
У одного болела поясница, другой натер ногу, Воронов, увидев, что у Айно смыкаются от усталости веки, сам взял бинт и перевязал сплавщику ногу.
Айно вышла на свежий воздух. К ней подошел Воронов.
— Кто вас научил накладывать бинты? — удивленно спросила Айно.
— Вы же сами обучали нас в кружке первой помощи.
— Что-то я редко видела вас там, — заметила Айно.
Воронов объяснил, что еще в армии обучался санитарному минимуму.
— У вас, кажется, и жена врач? — спросила Айно..
— Да, она врач, — сухо ответил Воронов, и Айно увидела, что какая-то тень пробежала по его лицу.
«Интересно, сумел бы Петр оказать первую помощь?» — мелькнуло в голове Айно.
Воронов предложил проводить Айно на лодке до электростанции, ему все равно надо туда.
Айно села на корму, Воронов взялся за весла.
Озеро лежало гладкое, без единой морщинки. Солнце еще не поднялось, но облака уже заалели и бросали на гладь воды красноватые тени. Было совсем светло. Казалось, будто это не озеро, а зеркальная поляна, ослепительно ярко отражающая мельчайшие подробности берега: только что развернувшиеся зеленеющие листья берез, прошлогодний тростник, камни. Берега, казалось, сдвигались, чтобы стать ближе один к другому. Утка поднялась из тростника, недовольно покрякивая на нарушителей тишины. Было так тихо, что каждый звук — падение брызг с весла, стук и скрипение уключин — отдавался необычно громко, и невольно хотелось осторожнее грести. Зорька сидела на носу и подозрительно смотрела в воду, готовая кинуться на собаку, которая выглядывала из воды.
Клонило ко сну. Айно начала дремать.
— Ложитесь на носу. Там есть парусина. А Зорька будет вас охранять, — сказал Воронов.
— Ну что вы, я не устала. А вы-то когда-нибудь отдыхаете?
— Я? — удивился Воронов. — Сейчас, например, отдыхаю. Это же лучший отдых — вот так плыть на лодке. Если бы нам не нужно было спешить, я бы перестал грести. Пусть лодка идет, куда ей хочется.
— Она пошла бы прямо к порогу Хаукикоски, — проговорила Айно. — И понесла бы нас к щукам[3].
— Нет, — засмеялся Воронов, — мы уже протянули там оплотник.
С берега подавал голос кулик. Айно бороздила рукой воду и смотрела на отражавшийся в озере берег. Петр тоже любил грести, но управлялся с веслом хуже Воронова. Айно спросила:
— Не возьмете ли вы меня когда-нибудь покататься на лодке? Правда, я люблю поспать утром.
— Почему же не взять? Приглашу в первое же красивое утро. — Воронов ответил с каким-то нарочитым безразличием, и ему показалось, что Айно почувствовала эту нарочитость, он и сам не понимал, почему так получилось.
Ведь Айно сказала то, о чем он только что подумал. Но в самом деле, почему бы им не покататься по реке Туулиёки, когда выдастся свободная минута?.. Он знает Айно уже больше двух лет. Часто видит ее, разговаривает и по делам и просто так. Но с некоторых пор он при встречах с Айно стал испытывать какую-то неловкость, стесненность, точно виноват в чем-то, может быть, перед ней или, скорее, перед кем-то другим. И вместе с тем Воронов, от природы замкнутый, чувствовал, что с Айно он мог бы быть откровенным. Ему даже хотелось, чтобы Айно узнала и об Ольге и об его одиночестве… Но то ли самолюбие — ведь девушка его будет жалеть, — то ли что-то другое удерживало его. Порою ему казалось, что это был бы дурной поступок — омрачать душу девушки, только начинающей жизнь, своими невзгодами. Но сейчас, на озере, он почувствовал себя легко с ней и собрался было заговорить, как вдруг Зорька, раздраженная собакой, которая плыла под водой впереди нее, громко залаяла.
— Замолчи! — сердито прикрикнул на нее Воронов.
Зорька сконфуженно завиляла хвостом. Момент был упущен, и Воронов продолжал грести молча.
Когда они проехали через протянутый на заливе оплотник, Воронов спросил деловито, как спрашивают врача:
— Скажите, можно ли за два месяца вылечить туберкулез легких?
— Конечно, возможно, — ответила Айно. — А разве у вас что-нибудь с легкими?
— Нет, я говорю об Александрове, — ответил Воронов.
Айно изумленно посмотрела на Воронова:
— Александров? Туберкулез легких?
Воронов по-своему понял изумление Айно.
— Вы думали, что я не знал? Начальник ведь должен знать, почему главный механик в такое время отправляется в санаторий.
Айно испугалась, что Воронов услышал, как забилось ее сердце. Теперь она поняла все: почему так плохо выглядел Александров в тот воскресный вечер на берегу озера, почему он вернулся из командировки таким грустным, вспомнила и вчерашний вечер, когда Петр не осмелился подойти и поздороваться с ней за руку… «Он боялся за меня. Петя… Петя…» На глазах ее навернулись слезы. Она почти грубо сказала Воронову:
— Гребите. Я тороплюсь в Туулилахти.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Степаненко протянул Воронову письмо и начал переносить в лодку свою поклажу.
Воронов, узнав почерк Ольги, сразу разорвал конверт, углубился в чтение, забыв помочь Айно подняться в кузов машины.
Шофер предложил ей сесть в кабину, но она сказала, что не выносит запаха бензина. Ей хотелось быть одной.
Воронов с волнением держал в руках маленький листок бумаги. Это еще не был ответ на его последнее письмо, Ольга, видимо, не успела получить его.
Он остался один на поляне. Машина уже уехала, Степаненко ждал на берегу.
Письмо было такое же, как и другие письма в последнее время, — приветы, стандартные фразы, что жизнь и работа идут попрежнему, и такой же стандартный вопрос: «Как у тебя дела?» А он знал, что его «дела» не так уж сильно ее интересуют. И было очень обидно. Ведь так коротко и сухо можно писать разве что случайному знакомому. Пусть прошла любовь… Ну, а дружба?.. Неужели в ее душе не оставили никаких следов общие дороги войны?.. Ведь не случайными попутчиками они были, а товарищами в долгом и тяжком пути, который связывает людей навеки. Да, так, кажется, кончалось ее письмо в госпиталь, где он лежал раненый. А может, она никогда и не любила его?
В Ленинграде у Воронова был друг по институту. Воронов познакомил его с Ольгой. Они стали встречаться довольно часто. Бывали в театре, то втроем, а если Воронов был занят, то и вдвоем. Воронов не ревновал. Ольга как-то с усмешкой спросила, а не боится ли он за нее? Когда они разъехались, Воронов не раз думал, не было ли там чего-нибудь большего, чем простое знакомство. Потом эту мысль он отбросил. Друг писал ему, что работает в Архангельской области, женился, счастлив.
Воронов опять перечитал письмо. А может, это не равнодушие, а обида на него? Эта мысль тоже иногда возникала. И каждый раз он решал, что поедет к ней в Ростов и выяснит. И почему-то все откладывал, ждал. Он положил письмо в конверт, зачем-то прочел адрес и сунул письмо в карман. Зорька стала тереться о его ногу.
— Пошла прочь! — Воронов сердито прикрикнул, пнул собаку ногой, потом вдруг наклонился и ласково погладил. — Любишь ли хоть ты меня? Ну и то хорошо. Пошли к лодке. Нас Степаненко ждет. Или по берегу пойдешь? — Он взял собаку на руки. Зорька не визжала и лишь старалась лизнуть его в лицо.
Однако в лодку Зорька не влезла. Она не любила Степаненко, который всегда дразнил ее.
Степаненко сел на корму, а Воронов снова взялся за весла. Солнце взошло, и по озеру плыл туман. На поверхности воды играл легкий ветерок. Воронов греб, задумчиво глядя на водный простор.
— Какое красивое утро, — сказал он, чтобы не молчать.
Степаненко ничего не ответил.
— Первая древесина скоро прибудет в Туулилахти, — продолжал он.
Степаненко не откликнулся и на это. «Что за человек? — с любопытством подумал Воронов. — Едет на работу и даже не интересуется, что там надо делать». Он стал рассказывать, в каком месте камни, которые надо взрывать.
— Там увидим, — пробормотал Степаненко.
Когда причалили к лотку, Степаненко попросил одного из сплавщиков постеречь его груз и зашагал к нижнему концу лотка. Воронов и Койвунен следовали за ним. Степаненко остановился и начал рассматривать каменные глыбы, лежавшие ниже лотка.
— Ну, получится тут сток? — спросил Воронов.
— Почему бы нет? С динамитом все получится, — ответил Степаненко.
— А мы не раскрошим лотка?
— Силу взрыва можно учесть, — нехотя объяснил подрывник. — Пошлите несколько человек бурить скважины в камнях.
Скоро с нижнего конца лотка послышались частые звонкие удары молотов по железу.
Степаненко ходил среди бурильщиков хмурый и молчаливый. Бросал короткие замечания то одному, то другому, казалось, что всеми он недоволен. Наконец махнул рукой: хватит. Выпрямился во весь рост, и на лице его появилась озорная улыбка.
— Ну, поработайте-ка теперь ногами. Я люблю оставаться в одиночестве, уж такое мое дело.
Люди поспешно удалились.
Оставшись один, Степаненко еще раз проверил заряды, капсюли и шнуры. Все было в порядке. Между камнями покачивалась рано распустившаяся кувшинка. Степаненко поднялся, осторожно выдернул корни цветка из ила и пустил его по течению. Слышно было лишь тихое журчание воды.
Наконец раздался выстрел в знак того, что люди ушли далеко. Степаненко встал, зажег папироску. Тут он заметил в заводи утку и бросил в утку камешком, чтобы отогнать ее. Еще раз осмотрев все вокруг, он начал зажигать своей папиросой шнуры. Они зашипели, повалил густой искрящийся дым. Степаненко прыгнул на косогор и встал под защиту большой каменной глыбы…
Через мгновение сплавщики, убежавшие в защищенное место, услышали сильный взрыв, потом другой, третий… Над лотком поднялась в воздухе темная туча земли и дыма.
— Вот каков Степаненко, когда сердится, — сказал Койвунен. Улыбка играла на его морщинистом, обветренном лице.
Когда все вернулись к лотку, увидели, что Степаненко бродит в воде и что-то вышаривает длинной палкой. Наконец он поднялся на берег, держа в руке крупного лосося.
— Не догадался удрать, — объяснил Степаненко и протянул рыбу бригадиру. — Вели сварить.
Там, где были огромные камни, зияла теперь яма, наполненная мутной водой, Воронов дал приказ открыть люк лотка. Вода хлынула мощной лавиной и в конце лотка дугой рванулась в новый водоем, поднимая со дна землю, траву, и мутной массой устремилась к заводи. Постепенно вода в водоеме становилась такой же прозрачной, как в лотке.
Воронов смотрел на низвергавшийся из лотка поток воды, которая искрилась на солнце, словно расплавленное железо. «Какая красота! — думал он. — Вот такой бы струей послать воду во все места, где она нужна, — пришла ему в голову фантастическая мысль. — И лес вместе с водой. На Украину, в Туркмению… Если бы можно было сделать такой длинный лоток, на тысячи километров». Воронов усмехнулся. Ребенком он мечтал о машине, на которой можно ехать и по суше, и по воде, и по воздуху. Когда стал юношей, появились новые мечты. А вот о том, что будет начальником сплава, никогда не думал. Но стал — и ничего, работает… и даже фантазировать можно.
Бревна мчались друг за другом прерывающейся линией. Сорвавшись с лотка, они выскакивали из глубины в заводи, некоторое время покачивались на поверхности и устремлялись вниз по реке к запани Туулилахти.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Вернувшись в поселок и побывав в больнице, Айно пошла домой. Петра она так нигде и не встретила. У механической мастерской толпился народ, но там его не было.
По дороге в столовую она нарочно прошла мимо дома Александрова, но дом был на замке.
В столовой Айно подсела к Кирьянену. Тот спросил о новостях на озере.
— Я была там недолго. А что у вас делается? Где Александров?
— На станцию прибыл груз с оборудованием. И вот он пошел принимать. Почему вы не запретите ему? Ведь он же должен лежать.
Айно покраснела. Ей стало больно оттого, что она узнала о болезни Петра последней. Девушка уклончиво сказала:
— Александрову нужен чистый воздух и отдых.
Был уже вечер, когда Петр зашел к ней.
— Наконец-то! — вырвалось у Айно. Она поднялась навстречу к нему и усадила рядом с собой за стол.
Петр начал так же, как и в прошлый раз:
— Я должен сказать тебе, Айно, очень многое…
— Знаю, Петр, знаю. Почему ты не сказал мне сразу? Неужели я для тебя чужая?
Александров опустил голову.
— Почему ты не лежишь в постели? — с укором спросила Айно.
— Я еще належусь. А кто ремонтировал бы буксир на Пуорустаярви? Вот сегодня прибыли механизмы для электростанции. Кто проверит их без меня?
— Почему ты считаешь, что никто другой не может этого сделать? — мягко упрекнула его Айно.
— То же самое только что говорил Кирьянен.
— Ну и что?
— А то, что Кирьянен в конце концов признался, что без меня ничего у него не получится. А успокаивает. Психолог.
— Ах, Петя, Петя… — Айно ласково покачала головой и подумала, как трудно ей будет с ним и как это в нем уживается — самовлюбленность и самоотверженность в работе. Но сейчас не время упрекать его. Они посидели молча — Петр, опустив глаза на пол, Айно, ласково глядя на него. Потом Петр встал, подошел к комоду и потрогал вербы, стоявшие в вазочке. Айно грустно улыбнулась.
— Помнишь, откуда мы их принесли?
— Как это было давно! Тогда мне казалось, что я здоров, равный человек среди равных…
— Зачем ты так говоришь? Болезнь никого не унижает. Поправишься — и вернешься на работу…
— Долг врача утешать больного, — сказал он с неловкой усмешкой.
Айно вдруг поднялась и подошла к окну. Он сообразил, что обидел ее.
— Значит, я для тебя только врач? — спросила Айно.
— Я надеялся, что не только…
— А больше не надеешься?
— Куда мне, больному…
Айно вернулась к столу, помолчала, потом задумчиво заговорила:
— Знаешь, Петя, болезнь — не худшее, что может случиться в жизни.
— А что может быть хуже?
— Хуже? — Она задумалась, и Александров понял, что Айно собирается заговорить, о чем-то очень важном для нее. — Например, — продолжала она, — равнодушие к людям… Себялюбие… Эгоизм… К примеру, так: у меня болит зуб — провались весь мир в тартарары. Или… — она чуть заметно усмехнулась, — я думаю о новой машине, следовательно, девушка, с которой я условился встретиться, может подождать…
— О, однакоже, ты злопамятная!
— Нет, нет, — быстро сказала Айно, — я не обвиняю тебя. Я только хотела сказать, что настоящий человек, даже опасно заболев, не может забыть о том, что есть у него товарищи, близкие, которым он нужен. Ну вот, а эгоист… — Она помолчала, взглянула на вербы, на которых, как нахохлившиеся пчелы, сидели желтые соцветия. — Помнишь, о чем мы говорили тогда, у озера?
— Ты сказала, что надо еще подождать. Теперь я понял, о чем ты думала… Ну что ж, я освобождаю тебя от необходимости отвечать.
Она посмотрела в его грустные глаза и тихо сказала:
— Когда ты вернешься, мы будем жить вместе.
Он выпрямился. В глазах его была и радость и затаенный страх.
Айно засмеялась.
— Не думай, что я жертвую собой. Совсем нет. Я уверена, что ты вернешься здоровым. И может быть… чуть повнимательней к другим людям. Понял?
Она ласково положила свои руки на его плечи и улыбнулась.
— Петя, ты обязательно выздоровеешь. Я знаю. Я же врач. Твой личный врач.
Воронов достал путевку. Александров знал, что это стоило ему многих хлопот и ссор. Но когда Воронов вручил ему путевку с некоторой торжественностью, Александров, поблагодарив его, не удержался, чтобы не кольнуть:
— Ну что ж, товарищ начальник, придется ехать, раз ты уж так старался. Но… хотя Крым, как говорится, за горами, за долами, у самого синего моря, а письма доходят — и туда и обратно, да еще по авиа. Так что по мере возможности буду тебе действовать на нервы.
— Как всегда, ты преувеличиваешь, — засмеялся Воронов. — Мы милостью судьбы избавлены от авиапочты.
В последний раз обходил Александров вместе с Кирьяненом механическую мастерскую. Вот стоит долбежный станок, который он сам смонтировал из обломков давно списанных механизмов. Пусть станок довольно-таки примитивный, но здесь не было и такого. Для того чтобы работать на этом «уникальном» станке, надо было знать особые приемы, и Александров всегда сам следил за рабочим, показывал, а иногда и заменял его. Теперь, когда его не будет, за станок может стать случайный человек и в первые же часы поломает его. Придет Мякелев, составит акт о поломке, копия акта останется в деле, а обломки станка покроются ржавчиной и паутиной… А вот токарный станок, который он показывал Айно. Сколько сил он потратил, пока заполучил его… Александров тогда весь день провозился, опоздал в столовую, и Айно, бедняжка, напрасно его прождала. А поздно вечером он снова пошел в мастерскую, чтобы полюбоваться на свободе этим замечательным станком. И теперь неизвестно, в каком состоянии он его увидит, когда вернется из Крыма.
Кирьянен следовал за Александровым, как на похоронах, говорил вполголоса, а то и просто молча кивал, выслушивая распоряжения.
А главный механик обстоятельно, со всеми подробностями, говорил о простых заказах, которые предстояло мастерской выполнить в ближайшее время. Кирьянен с обидой подумал: «Он объясняет нам, как школьникам, которые пришли на экскурсию».
О более сложных заказах Александров не стал и говорить, давая понять, что без него они все равно не справятся. Он отложил в сторону разобранный карбюратор и сказал, что ремонт автомашины надо отложить до его возвращения из Крыма.
Тут Кирьянен не выдержал.
— Но не может же машина стоять два месяца! — воскликнул он.
— Но и доламывать ее я вам не разрешаю, — холодно ответил Александров.
— Петр Иванович, почему вы думаете, что никто из нас не знаком с карбюратором?
— Одно дело — собрать и разобрать мотор, другое — произвести капитальный ремонт, — отрезал Александров.
Кирьянен замолчал. Александров понял по его хмурому виду, что механик с ним не согласился. И это еще больше его рассердило.
Из мастерской они прошли на строительство электростанции. Там, где еще так недавно все полнилось шумом работы, теперь лениво двигалось несколько человек, не спеша доделывавших крышу. Вид этих как будто бесцельно копошащихся людей привел Александрова в полное уныние. Никакой станции тут не будет, думал он, а Кирьянен еще пристает к нему с расспросами, как лучше монтировать генератор, где поставить распределительный щит… Это похоже на насмешку…
Из конторы вышел Воронов. Еще издали помахал рукой.
— Ты не опоздаешь, Петр Иванович? — озабоченно спросил он. — Никак расстаться не можешь со своим детищем? Знаю, о чем думаешь. Забрать бы с собой и мастерские, и станцию, и строителей. И там, у Черного моря, соорудить такое, что все бы ахнули. Нет уж, оставь что-нибудь и нам. Ну, тебе пора. Скоро поезд…
— Как тебе не терпится, — полушутливо вздохнул Александров. — Ну, уж ладно, уеду. Только хоть пиши, как у вас пойдут дела.
— Напишем, напишем. А ты не беспокойся, все будет хорошо.
— Это теперь, наверно, тоже законсервируете? — Александров обвел рукой здание электростанции.
— Как в воду глядел, — засмеялся Воронов. Он как раз в эту минуту подумал, что теперь можно будет всех плотников отправить на плотину. — Но ведь ненадолго. К твоему приезду, а может и раньше, все будут на месте. А теперь ты должен отдыхать, лечиться и ни о чем не думать.
В это время подошла Айно, поглядывая на часы. Воронов и Кирьянен попрощались и ушли, сославшись на дела. Когда молодые люди остались одни, Александров сердито сказал:
— Они даже между собой не спелись. Воронов хочет все прекратить, а Кирьянен, наоборот, собирается все сделать без меня и, конечно, провалит. Плохи мои дела. Только вот на Анни надеюсь, парк, они, наверное, разобьют.
Айно ответила словами Воронова:
— Ты теперь должен отдыхать и ни о чем не думать. — Заметив, как сдвинулись брови Александрова, она извиняющимся тоном добавила: — Ты же знаешь, я в этом ничего не понимаю. Но я буду писать, обязательно буду писать обо всем, что тебя интересует.
— Ты о себе пиши, о своем сердце. — И теплая улыбка пробежала по его лицу.
Айно показала ему на часы. Александров схватил чемодан, пальто его было на руке у Айно. Они быстро пошли на станцию.
Александров вскочил в вагон, когда поезд уже тронулся.
Колеса стучали на стыках все чаще. Двое все еще махали друг другу — один стоял на ступеньках вагона, другая бежала по перрону, словно хотела догнать и остановить поезд.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
В запани Туулилахти все было подготовлено для встречи леса. А лес был еще далеко.
Вечером Воронов один сидел в конторе и отмечал на карте продвижение древесины. Вспомнились давние времена, когда он также сидел над картой, но над другой и в темной землянке, при свете бензиновой коптилки из снарядной гильзы.
«Нет, тогда четыре шага было до Ольги, — вдруг подумал он, — а вот как далеко она сейчас от меня, никто мне не скажет. Даже сама она…»
И, как всегда, он почувствовал боль в сердце.
Вошел Кирьянен. Он остановился за его спиной, молча разглядывая карту. Сделав еще несколько пометок, Воронов наконец отодвинул карту, положил карандаш на стол и задумчиво сказал:
— М-да. А как бы хотелось, чтобы все было лучше, иначе.
Кирьянен ответил, думая о своем:
— Главное — нет Александрова. Прямо не знаешь, с чего начинать.
— Ты вон о чем! — засмеялся Воронов. — А я совсем о другом думал. Ну, а если без Александрова никак нельзя, то знаешь с чего начнем? Установим оплотник поперек реки и напишем на нем: «Сплавной древесине вход в Туулилахти запрещен до возвращения Александрова».
Шутка не понравилась Кирьянену. Он сухо сказал:
— Древесину не остановишь. Пусть даже Воронова не будет.
— Ах так? — слукавил Воронов. — Ну что же, Александрова может заменить Кирьянен, а кто заменит Воронова? Мякелев?
— Не думал над этим.
Кирьянен сел и некоторое время молчал, шевеля губами, словно пережевывал новый вертевшийся на языке вопрос. Затем, повидимому окончательно составив его, спросил:
— Как вы смотрите теперь, без Александрова, на работы, непосредственно со сплавом не связанные?
— Откуда ты выкапываешь такие длинные и путаные фразы? Ты о чем хотел спросить? Об электростанции?
Кирьянен кивнул головой.
— Так бы и спросил: будем строить электростанцию или переждем? Я бы тоже коротко ответил тебе: нет, не будем, некогда, некому, потом, со временем. Вот так, товарищ Кирьянен. Или ты хочешь возразить?
— А по-моему, строительство электростанции надо продолжать, — выпалил Кирьянен.
— А кто установит машины?
— В основном мы сами. Сообща…
— В основном… С кем это? — кривая усмешка играла на губах Воронова. — С Оути Ивановной?
— Товарищ начальник, — в голосе Кирьянена прозвучала обида. — Неужели со мной нельзя говорить серьезно?
— Ну, не обижайся, я слушаю, — мягко сказал Воронов.
— Не с Оути Ивановной, а, например, с ее сыном Николаем, со Степаненко, с Кюллиевым…
— Ну, дальше? — Воронов все же не мог скрыть усмешки. — Имена у тебя текут потоком.
— Это не только имена, это живые люди, — передернул плечами Кирьянен:
— Люди, люди! — передразнил Воронов. — Нам нужны не просто люди, а тех-ни-ки. Ты же сам хотел говорить серьезно. Так давай будем говорить серьезно. Ты же механик.
— Я не только механик. А кроме того и, пожалуй, прежде всего коммунист.
— И секретарь партийной организации, — добавил Воронов. — Вот и решай вопрос со всех точек зрения.
— А я его так и решаю! — рассердился Кирьянен. — Для установки механизмов, для консультации нам, конечно, понадобится на несколько дней знающий человек, но основные работы мы можем произвести сами. Возьмем, например, Никулина. Разве он не дельный парень? Давно работает на сплоточной машине, а зимой в механической мастерской…
Воронов с досадой прервал его:
— Что-то у тебя все слишком легко получается. И люди есть, и уменье, и время, и средства, только сиди и наблюдай, как идет работа. А у меня никогда ничего так легко не получалось. И теперь у нас с тобой более трудный путь, чем ты представляешь. Надо выполнить план, хотя у нас рухнула плотина, уехал главный механик, на озере бури… И сколько бурь еще впереди. А рисковать временем, людьми, средствами для того, что осилить мы все равно не можем, нам нельзя. Вот так, товарищ Кирьянен.
Воронов стал искать что-то в ящике письменного стола, давая понять, что разговор окончен. Кирьянен еще собирался с мыслями, как ему возразить, но Воронов, воспользовавшись паузой, спросил:
— Куда ты сейчас идешь? Домой? Тогда пошли, пожалуйста, ко мне Кюллиева. Он же по соседству с тобой живет, — добавил Воронов, как бы извиняясь.
Оставшись один, Воронов вновь стал разглядывать карту. Он и радовался тому, как быстро растут на участке люди, и посмеивался над их самомнением. Вот хотя бы Кирьянен. Он коммунист с довоенным стажем, лучший шофер сплавного рейда, серьезный, принципиальный человек. И это ведь Воронов начал выдвигать Кирьянена, предложил назначить его механиком. А когда секретарь партийной организации уехал в партийную школу, это он, Воронов, предложил избрать секретарем партийной организации Кирьянена. Он и теперь не жалеет об этом. Его забавляло только то, что Кирьянен думает, будто сплав такое простое дело. Да, Кирьянен переоценивает свои силы и силы людей, это ясно. На кого он надеется? На Никулина? Ничего не скажешь — парень хороший, любит свое дело так, что можно подумать, будто сплоточная машина для него живое существо. Но кто из любознательных юношей в возрасте Никулина не любит машин? Даже мальчишки любят возиться с ними. В магазине сразу расхватывают все заводные игрушки — тракторы, автомобили, паровозики. А когда эти мальчишки подрастают, их первое желание — управлять какой-нибудь машиной. Но не из всех же выйдут механизаторы. Кирьянен надеется на мастера Кюллиева. Ничего не скажешь — опытный мастер и хороший коммунист. Он работал мастером еще в те времена, когда сплотку древесины производили вручную, потом воротом, силой лошади. Теперь на запани много машин, Кюллиев руководит их работой, и не плохо. Но не он же устанавливал эти машины, а Петр Иванович; и не он работает на машинах, а ученики Александрова — Никулин, сын того же Кюллиева — Пааво. Кирьянен надеется на Степаненко. И тут ничего не скажешь — Степаненко знает машины, он технически грамотный человек. Но разве можно доверить такие ценности, как машины, человеку, который изо дня в день пьет? Он может натворить такое, что голову потеряешь из-за него.
Нет, дорогой товарищ Кирьянен, механизация — не уборка урожая, где действительно можно справиться быстро и хорошо, стоит только поднять во-время людей. Механизация — это знания…
Николай и не подозревал, что у начальства шел о нем разговор. Возвратясь с работы и поужинав, он достал с полочки свой почти готовый доклад, перелистал страницы, но положил обратно. Сегодня он что-то не мог сосредоточиться. То и дело посматривал на улицу. Ему же скоро идти с матерью на озеро, а до этого надо обязательно…
Наконец он увидел Анни. Она шла с группой комсомольцев к клубу. Николай выбежал на улицу.
В руках у Анни был большой рулон бумаги. Она развернула его, и все склонились над листом, придерживая углы в четыре руки.
Анни сказала:
— Смотрите, каков будет наш Туулилахти. Вот здесь мы устроим замечательный парк. Надо уже сейчас выкорчевать пни, дорожки посыпать песком, установить скамейки. В других местах разбивают сады даже там, где нет ни одного дерева. А нам это проще простого.
— Откуда у тебя этот план? — Николай кивнул на бумагу.
— Александров дал. Правда, хорошо? Вот получить бы хоть немного средств.
— А ты поговори с отцом о средствах, — посоветовал Николай.
Комсомольцы переглянулись. Анни заговорила резко:
— Государство лучше знает, куда расходовать свои средства, и тут никакой начальник ничего сделать не может, если сметой не предусмотрено. Но мы пока можем обойтись без денег. Организуем воскресники и начнем подготовку. Начальники увидят, что мы всерьез беремся за устройство парка, и, может, впоследствии и помогут материально. Кирьянен именно так советует.
— Ну и горячая же ты! — усмехнулся кто-то из ребят. — Сначала все-таки надо все обдумать.
Комсомольцы пошли осматривать прилегающий к клубу лес. Анни, немножко отстав, озабоченно взглянула на Николая.
— Ты что такой скучный?
— Весь вечер тебя ищу, — пожаловался он. — Мы с муамо пойдем спускать сети, а когда вернемся, давай покатаемся вдвоем на лодке?..
— Возвращайся поскорее, — быстро шепнула Анни. — Я буду ждать на берегу.
Комсомольцы снова окружили ее. Николай пошел к озеру.
Сети были спущены. Николай с матерью повернули лодку к дому.
Мать сидела на корме и медленно гребла коротким веслом, помогая сыну. Когда на реке буря или дождь, рыбаки работают молча, лишь изредка перекидываясь словом, а когда тихо, вот как сейчас, хочется долго плыть, слушать спокойное журчание воды, падающей с весел, и высказывать вслух самые заветные мысли.
— Твоему покойному брату Пуавила было тогда семь лет, — тихо рассказывала Оути Ивановна. — У нас ничего не было — белофинны забрали последнюю корову. Отец твой был на войне, у красных. Я пилила дрова для Мурманской железной дороги, а весной так захотелось домой, что трудно сказать. Я и пошла. Надо было идти пешком двести верст, в распутицу. Ни дорог, ни тропинок. Нас было трое женщин. Мать Айно была с нами. Она очень скучала по сыну, который остался у чужих людей. Шли мы лесами, ночевали у костра, голодали. У меня был маленький кусок белого хлеба. А тогда пекли хлеб пополам с сосновой корой. Ну, я и берегла этот кусок. Когда я пришла, наконец, домой, хлеб был твердый, точно камень, но Пуавила все равно радовался. Он сказал, что никогда такого вкусного хлеба не ел. Да и где он мог его попробовать? Ведь у нас и не сеяли пшеницы. Это вот теперь сеют.
Николай хорошо помнил своего старшего брата Пуавила, который сделал ему незадолго до войны маленькие лыжи, научил кататься с самой высокой горы. А если кто обижал Николая, Пуавила горой стоял за маленького брата.
В начале войны Пуавила заезжал еще домой. В серой шинели, в кожаных ремнях… Как Николай тогда завидовал брату! Мать была очень грустная, а брат старался шутить и казался веселым.
Пуавила не вернулся. Мать получила похоронную, потом письмо от командира батальона. Брат был похоронен далеко от родной реки Туулиёки, на берегу русской реки Волги, в Сталинграде. Мать все собиралась поехать в Сталинград, но соседи отговаривали: найдет ли она в Сталинграде могилу сына? Многие матери ищут там могилы своих сыновей, ищут и найдут ли?..
— А отца ты помнишь? — спросила мать. — Тебе было годика два, когда кулаки, будь они прокляты, убили его…
Нет, Николай, конечно, не помнил отца, но ему казалось, что он знал во всех подробностях, его жизнь. На рыбной ловле, зимой у пылающей печи, иногда среди ночи, когда сон не идет, мать вдруг спрашивала: «А отца ты помнишь?» И никогда не ждала ответа, а принималась рассказывать о нем, и Николаю приятно было слушать тихий, плавный голос матери.
— Прямой человек был твой отец и отважный, — продолжала мать, тихо гребя кормовым веслом и смотря куда-то на берег. — Когда кулаки его ранили, он сказал: «Меня они могут убить, но на мое место станет другой, и колхоз будет расти и богатеть, нет, не остановить им наше дело…» Вот какой отец был у тебя.
Лодка приближалась к Туулилахти. С берега доносились звуки гармони. Николай подумал, что скоро он должен расстаться с поселком. Будет ли Анни ждать его возвращения?
Сегодня он и решил с ней поговорить об этом. Если Анни даст слово, они будут долго кататься по реке и по озеру. Если же Анни промолчит, лучше расстаться тут же, на берегу.
Николай начал усиленно нажимать на весла.
На вершине холма стояла Анни.
— Иди домой, муамо, — сказал Николай матери. — Я покатаюсь еще немного.
Оути Ивановна, как будто не заметив Анни, сказала:
— Покатайся, только помни, что вставать тебе надо рано.
— Возможно, я вернусь домой очень быстро, — ответил Николай, думая о предстоящем разговоре. — А возможно, и задержусь.
…Прошел час, другой. В домиках Туулилахти давно погасли огни. А по озеру все еще скользила лодка. Было заполночь, когда лодка направилась к реке, но и теперь она не причалила к поселку, а стала подниматься все выше и выше. Потом весла неподвижно легли на воду, и течение повлекло ее назад, к поселку.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Первая древесина прибыла в Туулилахти. Слегка покачиваемые спокойным течением реки, бревна робко и боязливо приближались к запани. Перед ними находились сооружения, каких они до сих пор не встречали в пути. Отходящие от обоих берегов, связанные между собой бревна образовали широкий коридор, шириной в десять метров, куда и вплывала древесина с реки. Над коридором были переброшены мостки. Так выглядели главные ворота запани.
Бревна, подплывая к воротам, скользили все так же неуверенно, как будто намеревались спросить, сюда ли им входить. Сплавщики баграми направляли прибывавшие бревна, ловко поворачивая их поперек фарватера.
По правой стороне заграждения через определенные промежутки были оставлены отверстия; сплавщики называли их «карманами».
Рабочие стояли на мостках и подтаскивали баграми бревна из главного коридора, отбирая в один «карман» те, что пойдут на шпалы, в другой — крепежный лес, в третий — пиловочный материал.
Деревья, выросшие на одних и тех же песчаных склонах, лежавшие в ожидании весны на одних и тех же складах, проплыв десятки километров по одним и тем же водным путям, через пороги и заводи, прибывали теперь на перепутье, где им надо было расставаться, Отсюда они пойдут уже разными путями: одни в виде желтоватых шпал, баланса и коротких крепежных балок повезут в товарных вагонах, другие, перевязанные металлическими цепями, пустят открытой водой.
У левого берега стояло на причале тупорылое, похожее на большое корыто судно — сплоточная машина с высокой трубой. Часть древесины сплавщики направляли сюда. Машина поднимала из воды на стальных тросах большие связки бревен, и когда их перевязывали железными цепями, машинист нажимал на рычаг, и связки снова падали в воду.
Николай и Анни поднялись на палубу сплоточной машины.
— Вот и дождался! — сказала Анни Николаю.
Николай словно только и ждал ее слов. Он протянул руку к сигналу, и резкий и Долгий гудок заглушил тихие всплески волн и постукивание багров. Широкий, ведущий к вороту лебедки приводной ремень засвистел. Два рослых сплавщика взялись за тросы и захватили ими около двух десятков толстых бревен. Взглянув на Анни, Николай нажал рычаг лебедки, бревна стянулись в один крепкий пучок, как в руках умелой вязальщицы березовые прутья превращаются в метлу.
Первый пучок был готов. Он тихо поплыл по течению к месту формирования плотов. Анни некоторое время смотрела ему вслед, потом повернулась к Николаю.
— Ну, теперь пора и мне в путь, — тихо сказала она.
Николай печально взглянул на нее и потом стал наблюдать, как рабочие готовят новый пучок.
— Только на три или на четыре дня, — добавила Анни. — А как приеду, устроим воскресник.
Анни подождала, пока ворот поднял из воды новый пучок, потом сказала:
— В Пуорустаёки работает кружок самодеятельности. Когда последние бревна прибудут к дамбе, там хотят организовать веселый вечер. Концерт в парке Пуорустаёки. Вход свободный… А как у тебя с докладом?
— Ничего, — уныло ответил он.
— Что это значит — «ничего»? — Анни вызывающе посмотрела на Николая. — Или ты уже остыл? А помнишь, как мы начинали?
— Нет, я не остыл, — оправдывался Николай. — Дело не в этом.
Но он не сказал, в чем же было дело, даже и сам себе не хотел признаться. Анни говорила, что уезжает на три или четыре дня, а Николай знал, что она будет бродить по трассе целую неделю, а то и больше. И он попрежнему будет наблюдать, какой дым поднимается из трубы дома Мякелевых — обычный ли мягкий серый дымок, когда готовят завтрак, обед и ужин, или густой дым, когда на самых сухих, смолистых дровах на скорую руку готовят пищу для возвратившегося после долгой дороги человека. Конечно, Николай понимал, что у Анни дела и она должна ехать, но стоило ли так радоваться? «Концерт в парке Пуорустаёки. Вход свободный…» Неужели ей так легко уезжать? Ну что ж, он не станет хныкать перед ней. С деланым равнодушием он сказал:
— А мы тут с ребятами решили танцы закатить в честь первой древесины. В клубе можно будет? — Ни с какими ребятами он не разговаривал, это ему только сейчас пришло в голову, но пусть Анни не думает, что он только и станет смотреть на дорогу да на дымок над ее крышей.
— Договоритесь с Матреной Павловной. Она замещает меня, — как ни в чем не бывало ответила Анни.
Николай еще больше огорчился, увидев, что ей безразлично, с кем он тут будет танцевать. Анни пожала Николаю руку и сошла на берег.
Теперь вся жизнь поселка была связана с запанью. Туда, на берег, везли товары со склада, а из механической мастерской — машинное масло и запасные части. Туда же прошел и письмоносец со своими письмами и газетами. Оути Ивановна тоже пришла на палубу сплоточной машины и оставила сыну узелочек, «для почина», с еще горячими, только что смазанными калитками.
Время подошло к обеду. Со стороны поселка донеслись звуки ударов о рельс, подвешенный к дереву. За ним последовал гудок сплоточной машины. Первая смена закончилась.
На место Никулина машинистом стал старший сын мастера Кюллиева — Пааво Кюллиев. Он был ровесник Николаю, но выглядел гораздо моложе. Они вместе призывались, и Пааво не взяли в армию из-за слабого здоровья. Самолюбивый парень, вообще не очень разговорчивый, с того дня стал еще молчаливее.
Проверив машину, Пааво кивнул Николаю, что тот может идти. Но Николай не спешил уходить. Что он будет делать дома? Поглядывать в сторону дома Мякелевых, хотя знает, что Анни уже уехала? Нет, лучше остаться здесь. Тем более, что есть и дела. Надо обдумать, как установить рядом с машиной резервуар, чтобы подавать воду в паровой котел в теплом виде — тогда машина станет работать быстрее. Вероятно, лучше всего поставить его с левой стороны от парового котла.
Сплоточный коридор перед машиной заполнился бревнами. Связка первого пучка Пааво не удавалась — трос соскальзывал с бревен три раза.
В это время сортировщики пропустили к машине бревна для следующего пучка. Трос соскользнул с места в четвертый раз. Его опять опустили в воду, и теперь петли троса захватили древесину почти двух пучков. Пааво раздраженно нажал на рычаг.
Зубчатое колесо завертелось, кронштейны приподняли из воды небывало большой пучок.
Судно осело назад, и бревна ударились о прямые бортовые упоры. Раздался оглушительный треск, и приподнявшийся было над водой пучок упал под судно.
Со всех сторон закричали, но было уже поздно. Бортовые упоры сломались. Пааво побледнел. Прошлым летом, когда случилась такая авария, изготовление и установка новых упоров заняли несколько дней.
На запани поднялся шум. Сплоточный коридор закрыли. Люди с поднятыми баграми бежали к машине, как будто могли чем-то помочь.
Шум и беготню на запани заметили в поселке. Предположили, что произошел несчастный случай. Побежали за Айно Андреевной, а кто-то поспешил в контору.
На сплоточной машине появился отец Пааво, мастер Кюллиев — худощавый человек лет сорока, узколицый, длинноусый, немного сутуловатый. Увидев сломанные упоры, он искоса взглянул на сына и молча покачал головой.
Пааво остановил машину и, ни на кого не глядя, присел на барабан лебедки. Наступило тяжелое молчание. Николай тихо сказал Пааво:
— Это в последний раз у нас такая авария. Теперь мы сделаем железные упоры.
— Брось ты меня утешать. — Пааво махнул рукой.
К сплоточной машине подошел Мякелев. Он поправил очки и полез в портфель за бумагой. Николай сердито подумал: «Сейчас будет акты составлять». Кюллиев повернулся к Мякелеву.
— Где Михаил Матвеевич? Мне нужны плотники.
— Михаил Матвеевич на трассе, — сказал Мякелев. — Вместе с секретарем поехал. И почти всех плотников взял с собой.
— А кто же сделает новые бортовые упоры?
Мякелев пожал плечами:
— Надо было смотреть как следует. Как это у вас произошло? Кто виноват?
— Все мы виноваты, — ответил Николай. — Надо сделать такие бортовые упоры, чтобы не ремонтировать их каждую неделю. Александров обещал поговорить об этом с начальником.
— Это не твое дело, — заметил Мякелев. — Начальство само решит, что надо делать.
Николай отошел в сторону. Мякелев быстро писал, поглядывая на Пааво.
— Я сломал, — буркнул Пааво. — Слишком круто дал полный ход, пучок был большой. Пишите, пишите…
— Да ты не путай тут, — вмешался один из сплавщиков. — Надо разъяснить, как было дело. Трос соскочил с бревен, пучок развалился, а древесина для следующего пучка была уже подана…
Заместитель начальника писал долго. Пааво подписал, не читая.
Затем Мякелев вместе с мастером отправился в контору. Николай тоже собирался уходить, но пришла Айно Андреевна. Увидев, что с людьми ничего не случилось, она успокоилась.
— Что же вы теперь будете делать? — спросила она у Николая.
— Бортовые упоры надо установить из железных рельсов, — упрямо сказал Николай. — Александров согласился со мной. — Они пошли по скрепленным бревнам на правый берег реки. — И чертежи имеются. Главный механик оставил их мне, — продолжал Николай, гордо подчеркивая последнее слово.
Айно улыбнулась, подумав о том, как было бы приятно Пете узнать, что люди помнят о нем. Она обязательно напишет ему об этом.
— Я зайду вечером к вам, — сказала Айно. — Покажешь мне чертежи.
— Покажу, — ответил Николай. — Приходите, и муамо будет очень рада.
В конторе, когда зашел Николай, Мякелев и Кюллиев продолжали спор о ремонте. Мякелев раздраженно взглянул на Николая, но тот и не собирался уходить.
— Почему ты не хочешь понять простой вещи? — кипятился Мякелев. — У нас осталось два плотника, и они выполняют приказ Михаила Матвеевича — делают ворота для новой плотины. Завтра он вернется, тогда и разрешим этот вопрос.
Николай торопливо сказал:
— У нас с Александровым есть предложение. Кормовые упоры надо сделать из железных брусьев и установить их наискось. Тогда они дольше выдержат.
— «У нас с Александровым»? — усмехнулся Мякелев. — А мы-то и не знали, кого назначить главным механиком вместо него. А носового платка он тебе не оставил?
— Знаете что? — Николай задохнулся от гнева. И вдруг замолчал. Он знал, что каждое слово, которое он скажет, Мякелев передаст Анни.
— Ну, что?
— Я хотел, чтобы вы выслушали меня. Не хотите — не надо. Найду, кому сказать. Найду.
— Скажи, скажи, а у меня есть дела и без тебя.
Николай вышел, хлопнув дверью.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Айно шла домой из больницы, мимоходом взглянула на березу возле своего дома и остановилась. Какими большими и пушистыми стали листья! А ведь совсем недавно они были еще маленькие, с мышиные ушки. Тогда еще Петя был здесь. И вот лето уже в полном разгаре. Каково теперь в Крыму? Она никогда не была там и, по правде говоря, не очень стремилась, а теперь все чаще думала о Крыме. Петя пишет, что долины все в цветах, темнозеленые кипарисы стоят стройные, как Айно. «Тоже нашел сравнение!» — усмехнулась девушка, но, нечего греха таить, оно ей понравилось. Говорят, кипарисы — очень красивые деревья. Он облюбовал там какой-то кипарис возле корпуса и назвал ее именем. Каждое утро, идя к морю купаться, он говорит: «С добрым утром, Айно», — а вечером, перед сном, взглянет и скажет: «Спокойной ночи, Айно».
Девушка заторопилась в дом. Ведь надо написать Пете длинное-длинное письмо. Сев за стол, она отодвинула в сторону книги, достала пачку розовой бумаги. Обдумывая начало, она взглянула в окно. По улице проходил, наклонив голову, Степаненко. Жалко было отрываться от письма, но она вспомнила, что Николаю нужна помощь. Не попросить ли Степаненко? А вдруг это поможет самому Степаненко стать на ноги?
Она крикнула в окно:
— Микола Петрович, зайдите на минуточку.
Степаненко остановился в нерешительности. Потом нехотя вошел в дом. Айно предложила сесть. Степаненко осмотрел свою одежду и обувь, на которые обычно не обращал особого внимания, но все-таки сел.
— Вы никогда не заходите ко мне ни домой, ни в больницу, — упрекнула Айно.
Степаненко, усмехнувшись, пробурчал:
— Нам, кажется, не о чем разговаривать. У вас нечего взрывать, мне нечего лечить.
Айно невольно улыбнулась. Чтобы поддержать разговор, она спросила, какие цветы лучше посадить под окнами больницы и какие перед верандой. Степаненко ответил, что он уже давно не занимается цветами, и в свою очередь задал вопрос таким тоном, по которому трудно было судить, шутит он или говорит всерьез:
— А нет ли у вас в больнице спирта? Может, выпишете стаканчик?
Айно, смеясь, покачала головой.
Степаненко взглянул на стоявший на столе испорченный будильник и привычным движением снял с него крышку. Лицо его деловито нахмурилось.
— Винт у маятника ослаб, — заключил он. — Надо бы маленькие плоскогубцы.
У Айно мелькнула мысль.
— Наверно, у Николая найдутся, — сказала она небрежно. — Пойдем-ка к ним. Или вы спешите куда-нибудь?
— Куда мне спешить?..
Он сунул будильник в объемистый карман своего пальто, и они вышли.
Оути Ивановна уже накрывала на стол. Увидев с Айно Степаненко, она поспешила поставить еще один стакан и тарелку.
Степаненко, видно, чувствовал себя неловко. Он долго вытирал ноги у порога и не знал, куда положить фуражку. Наконец нашел для нее место, затем он вытащил будильник и попросил у Николая плоскогубцы.
Степаненко и Николай уселись за кухонный столик. Открыв крышку, Николай собирался сразу же вытащить механизм, но Степаненко удержал его.
…Бывают мгновения, когда в памяти воскресают какие-то картины, о которых раньше никогда не вспоминал. Иное маленькое событие покажется тогда более значительным, чем большие переживания, о которых помнишь всегда. В памяти Степаненко и всплыло далекое воспоминание.
Как-то дома он чинил такой же будильник. Его сынишка, тоже Микола, жадно следил за работой отца. Починив часы, Степаненко вышел в другую комнату. Когда он вернулся, то увидел, что сын, взволнованно сопя, закручивает винтики на будильнике большими клещами. Степаненко не решился побранить сына, он никогда не говорил детям грубого слова. Он взял у сына часы и показал, как надо закручивать винтики, и, конечно, не клещами, а плоскогубцами. Маленький Микола, затаив дыхание и прижав головку к щеке отца, наблюдал за его движениями…
Николай старательно закрутил винт маятника, как показал Степаненко. Тот проверил маятник и завел часы. Будильник весело затикал.
— Которого же мастера благодарить за это? — спросила довольная Айно.
Мужчины пересели за стол.
Ели молча, потом Степаненко спросил:
— Значит, уходишь в армию?
Николай кивнул. Степаненко добавил как бы про себя:
— В этом году и мой Микола пошел бы в армию.
Оути Ивановна вздохнула, вытерла глаза уголком передника и спросила у Степаненко:
— Как же он погиб-то, твой Микола?
— Во время эвакуации… Все погибли от одной бомбы… Двенадцать с половиной километров только и успели отъехать от своей хаты…
Он отвернулся и начал откашливаться, как будто чем-то поперхнулся, потом вышел из-за стола, подошел к плите и стал спиной к ужинающим. Николай нахмурился. Ласковое лицо Оути Ивановны подергивалось. Айно кусала губы.
— Микола Петрович, правда, что взрывчатые вещества имеют страшную силу? — спросила Айно.
Степаненко сел снова за стол и сказал слегка охрипшим голосом:
— Да, у динамита, тола, у аммонала… великая сила. Перед ними не устоит и железобетон. Они разносили ко всем чертям и «Тигров» и «Фердинандов»…
Оути Ивановна тихо вздохнула.
— А ведь человек не из железобетона, — сказала Айно, пристально глядя на Степаненко. — Человек крепче. Человека никакие удары не должны сокрушить.
Степаненко вопросительно взглянул на Айно. Он понял, что эта молодая девушка, которую, как он считал, интересуют только больные, книги и цветы, думала сейчас о нем, о взрослом и здоровом человеке. В словах Айно была не только жалость, в них был заботливо высказанный упрек. Человек — не из железобетона. Человек должен быть крепче. Почему же ты так ослаб душой?
— Погиб и мой Пуаво, — вздохнула Оути Ивановна. — Да, многие потеряли сыновей…
Степаненко опять промолчал. Айно он мог бы возразить, что утешать легко. Оути Ивановне он этого не мог сказать. Но у Оути остался все-таки Николай…
Айно попросила у Николая чертежи Александрова и протянула их Степаненко.
— Посмотрите-ка, что Николай хочет сделать.
— Николай? — переспросил Степаненко.
— Я хочу попробовать, но нужна помощь, — сказал Николай.
Десять с лишним лет прошло с тех пор, как Степаненко в последний раз держал в руках чертежи. Эти бумажки, конечно, нельзя было назвать чертежами, это скорее были наброски, но Степаненко сразу увидел, что сделаны они рукой специалиста.
— Тебе поручили сделать эти упоры? — спросил Степаненко, подозрительно посмотрев на Никулина.
— Ну да… — Николай замялся, потом признался: — Никто не поручил, но нужно. Машина-то стоит. Только один я не справлюсь.
— Ничего, справишься, — ободрил Степаненко. — Пойдем попросим кузнецов.
— Я пойду попрошу, — предложила Айно.
— Зачем, мы уж сами… — Степаненко встал. — На это, вероятно, надо разрешение Мякелева?
— Обойдемся, — сказал Николай решительно. — Сделаем под мою личную ответственность.
— Ну что ж, сделаем под твою личную ответственность, — улыбнулся Степаненко.
— Такой же был его покойный отец, — улыбаясь влажными глазами, заметила Оути Ивановна. — Упорный.
Они вышли. Степаненко пошел в кузницу, а Николай зашел к Кюллиевым, чтобы взять Пааво с собой.
Самого мастера не было дома. Пааво сидел у подоконника с какой-то тетрадью в руках. Когда вошел Николай, он торопливо закрыл тетрадь и вопросительно посмотрел на Николая.
— Что это у тебя? Конспекты? Почему ты прячешь?
Николай в шутку вырвал тетрадь из рук Пааво, открыл первую попавшуюся страницу и прочитал: «Мои розы угробила буря…»
— Так это же стихи. Твои? А кто это тут написал: «Можно было бы рифмовать «грезы» и «розы»? Чепуха какая-то. Кто это твой советчик?
— Зачем тебе знать? Ну, Матрена Павловна.
— Матрена Павловна? Так она к тому же и поэтесса?
— Оставь, дай тетрадь.
Пааво отобрал тетрадь и спрятал в ящик стола.
— Вот что, поэт. Нам надо самим сделать бортовые упоры. Как ты на это смотришь? Микола Петрович поможет нам.
— Выйдет ли? — усомнился Пааво, но все же пошел с Николаем.
Стояла уже весенняя ночь, когда на сплоточной машине послышались удары металла по металлу.
А под утро в поселке услышали гул работающей машины и грохот лебедки; Николай со своими помощниками открыли сплоточный коридор и опустили тросы в воду. Первый пучок связали крупнее обычного. Николай нажал на рычаг лебедки. Большая связка бревен ударилась о новые, железные бортовые упоры. Судно вздрогнуло, корма его осела, но крепкие упоры выдержали. Первый пучок с шумом плюхнулся в воду.
Из поселка стали доноситься голоса. Рабочий день начался. Из домов выходили люди. Сплавщики шли к направляющим бонам, к сортировочным воротам, к электролебедкам, к транспортерам и циркульным пилам.
Но никто не шел к сплоточной машине, она ведь вышла из строя. Николай лукаво подмигнул своим помощникам и потянул за кольцо. Протяжный гудок прорезал утреннюю тишину. Люди остановились, удивленно прислушиваясь. Гудок повторился — протяжный, зовущий. Народ побежал на сплотку.
Степаненко никогда не запирал двери в свою квартиру. Обычно он подпирал ее палкой в знак того, что дома никого нет. Он откинул палку, дернул дверь и остановился на пороге. Пол был чист, еще чуть влажен после мытья. На столе лежала белая скатерть, на окнах висели тюлевые занавески. Даже постель была застлана покрывалом с синими цветочками, которое он видел когда-то на веревке во дворе у Айно Андреевны. На гвоздике у двери висела забытая вязаная кофточка Оути Ивановны.
Степаненко нерешительно присел к столу и опустил голову на руки.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Кирьянен и Воронов вернулись с трассы ночью. Утром, узнав о новых бортовых упорах, Кирьянен сразу пошел в контору к Воронову. Он так хотел обрадовать начальника, что не обратил внимания на его хмурый вид.
— Слышал, что люди сделали? — Кирьянен сиял. — Степаненко и Никулин. Я тебе скажу: молодцы они!
— Слышал. Об этих упорах мне Александров еще говорил, — сухо ответил Воронов.
— Ну, а ты, видно, решил, что обойдутся со старыми? Опять ведь просчитался. И опять тебя поправили. Что же ты не похвалишь людей? — Лицо Кирьянена снова просияло.
Воронов сердито прервал:
— Ну ладно, хвалю, хвалю. Но все это пустяки. Только что разговаривал с Потаповым, плохи у него дела. Нос вытащишь, хвост увязнет — вот что у нас делается.
— А что у него? — Кирьянен встревожился, и улыбка исчезла с его лица.
— Вода все убывает. Десятки тысяч кубометров под угрозой. На кой черт нужны будут эти новые упоры, если древесина застрянет в верховьях?
— А как плотина?
— Пока заготовляют для нее материал, но и то не там, где нужно. Придется поехать, посмотреть на месте.
— Может быть, поедем вместе? — предложил Кирьянен. — У меня там много дел. Потапов подал заявление о вступлении в партию. Надо анкету ему дать. Заодно поговорю с людьми, подниму дух…
— И когда ты только выучил эти стандартные слова: «поговорить с людьми», «поднять дух»… — с досадой сказал Воронов. — Нам надо оценить обстановку, принять решение и действовать.
— А вот эти слова ты выучил в армии, в Боевом уставе пехоты, — рассмеялся Кирьянен. — Но и в тех и в других словах — замечательная мысль. Дело не в словах…
— Ну ладно, некогда лингвистикой заниматься. — Воронов встал. — Вместе так вместе. Правда, тебе и тут дела много. На Мякелева я мало надеюсь. Вчера, вместо того, чтобы сразу ремонтировать упоры, он опять принялся акты сочинять.
Кирьянен удивленно слушал Воронова. В первый раз тот заговорил о своем заместителе так недоброжелательно.
Моросил мелкий дождь. Верхушки высоких сосен как будто сливались с тяжелыми, массивными, неподвижными облаками. Река казалась черной. Бревна плыли только по середине реки, и то лениво, а стоило им приблизиться к берегу, как они тут же останавливались. Багорщикам приходилось отталкивать их, и тогда они покорно плыли дальше и опять где-нибудь останавливались.
Ничто не напоминало той бурной реки, которая бушевала в начале весны и несла на своих волнах древесину непрерывным потоком.
Неподалеку от берега торчала из воды аккуратно выстроганная палка с маленькими зарубками. Потапов поднял широкие голенища сапог повыше, подошел к палке и показал Воронову и Кирьянену последнюю зарубку.
— Тут была вода вчера, а сегодня — видите?
Он достал из кривых кожаных ножен большой нож с массивной рукояткой из карельской березы и сделал новую зарубку, отметив убыль воды.
Кирьянен удивился, что Потапов спокоен. Если вода будет убывать с такой быстротой, то скоро останется маленький ручеек.
Воронов, словно угадав мысли Кирьянена, сердито спросил:
— Ну, и что дальше? Как ты справишься без воды?
— В иных местах убыль воды даже к лучшему. Прибрежные мели обсохнут, а в русле воды еще хватит. Но вообще-то дела неважные.
— И ты говоришь: не надо плотины. Зачем я послал к тебе плотников? Для строительства плотины. А что они делают?
— Вы же видели — заготовляют материал.
Потапов наклонился, чтобы спустить высокие голенища. Встретившись глазами с Кирьяненом, он хитро улыбнулся. Воронов заметил это и рассвирепел:
— Что тут, заговор? Где плотники заготовляют материал? Ну, где? И на кой черт так много? Город, что ли, ты решил тут строить?
— Не город, а настоящую плотину с водохранилищем, — устало, но твердо сказал Потапов.
— Для какой это пятилетки?
— Для будущего года.
— А в этом году оставишь лес на берегу?
— Как-нибудь справимся.
— «Как-нибудь, как-нибудь», — повысил голос Воронов. — Мне нужно не как-нибудь, а в срок и до последнего бревнышка. Понятно?
— Это я и сам знаю.
— Ну, так вот, — жестко сказал Воронов, — с утра приступай к строительству плотины на старом месте. Заготовленный материал перетащите сюда трактором. Понятно? — и, не ожидая ответа, пошел по берегу.
Сегодня ему все не нравилось в бригаде. На плесе он увидел Пекшуева. Тот стоял с багром в руке на тихом месте, где древесина могла идти и без дежурного багорщика. Воронов сердито подумал, что Потапов нарочно расставил людей по всему берегу, создал видимость работы, лишь бы не строить плотину. Какой здесь может быть затор? Каждая рабочая минута и так дорога, а тут — на чистом плесе — дежурство. Нет, Потапов стал невозможен. Придется снять его, если он и дальше будет так самовольничать.
— Идите отдыхать, — сказал Воронов Пекшуеву.
— Нельзя, — ответил Пекшуев. — Вдруг затор…
— Какой тут может быть затор? — рассердился Воронов. — Идите.
— Да меня бригадир поставил.
— Скажешь бригадиру, что я приказал. — И сердито подумал: «Вот как он распустил людей. Я для них уже не начальник. Ну, ничего, я наведу тут порядок».
Пекшуев медленно побрел за начальником, время от времени оглядываясь на свой оставленный пост.
Близилась полночь, и стало чуть-чуть темнеть. Но эта темень шла от туч. Белые ночи в карельском лесу отличаются от дня только тем, что исчезают тени от деревьев и деревья, кусты и камни словно отдаляются да слышнее становятся лесные шумы. То донесется приглушенный скрип наклонившихся один к другому стволов, то с глухим шумом из веток выпорхнет птица.
Сегодня сумерки были гуще, чем в другие белые ночи, и тем ярче светил костер на берегу. В вершинах сосен шумел ветер, а беспокойные искры кружились над костром почти на одном месте. Возле костра было мало людей. Но по берегу двигались темные силуэты багорщиков. Часть сплавщиков сооружали коссы.
— В три смены работаете? — спросил Воронов у Пекшуева, подходя вместе с ним к костру.
— Какие тут смены? Отдыхаем немножко по очереди — и все.
Один из сплавщиков, увидев Воронова, поднялся.
— При трехсменной работе время распределяют поровну: восемь часов — на работу, восемь часов — на сон и восемь — на культурный отдых. А у нас театров и кино нет, так что мы работаем по шестнадцать часов, да еще у сна время приворовываем…
— Перестань зубоскалить, — прервал его Пекшуев и объяснил Воронову: — Хороший парень, да язык подводит — болтается, словно без привязи. Мы тут решили бригадой, что когда кончится сплав, женим его. И найдем такую жену, чтобы установила для него норму: три слова в сутки — и больше не пикни.
Воронов растянулся у костра, подложив под голову рюкзак, и сразу почувствовал, как закачалась под ним земля. Он проснулся оттого, что Потапов отодвигал его ноги подальше от костра. Ногам действительно было очень жарко. Воронов быстро сел и удивленно посмотрел на бригадира: неужели тот совсем не спал?
У костра спали уже другие сплавщики. В лесу стало светлее. Здесь же сидел и Кирьянен с незаполненной анкетой в руках. Воронов понял: он собирается оформить заявление Потапова. Но бригадир не торопился. Он принес откуда-то большой лист фанеры, долго и тщательно очищал пень, выбирал место для чернильницы, словно она должна была стоять тут до конца сплава. Перо он попробовал на обрывке бумаги, потом посмотрел на него против света.
— Нет, мое перо лучше пишет, — заключил он и полез в полевую сумку, в которой носил свою канцелярию.
Начав писать, он вдруг задумался. Кирьянен подсказал ему:
— Здесь говорится о социальном происхождении родителей.
Словно не расслышав, Потапов обратился к Воронову:
— Я все-таки думаю, что напрасно вы сомневаетесь. Ни одного бревна мы не оставим на берегу. Я тут с ребятами советовался…
— Советы советами, а приказы надо выполнять, — прервал его Воронов.
— Я-то их выполняю, а вот вы зря сняли Пекшуева с дежурства, — упрямо продолжал Потапов.
— А зачем людей мучить? Никакого затора не будет.
— Вода спадает быстро, — объяснил Потапов. — Из-за каждого маленького камня может образоваться затор.
— В том-то и дело. — Воронов переменил тему. — Потому и нужна плотина.
Потапов пожал плечами и наклонился над анкетой.
Воронов встал, подбросил сучьев в огонь и стал тихо напевать свою любимую песню о тонкой рябине, которая никак не может перебраться к сильному дубу…
— Может быть, вздремнете немного? — прервал его Потапов, покашливая. — Не люблю я эту песню.
— Почему? — удивился Воронов. — Это же красивая песня.
— У нас был один молодой сержант, — объяснил Потапов, — он хорошо пел, откровенно говоря, лучше, чем вы. Когда мы отправились в разведку на Пуораярви, он пел про рябину. И она оказалась его последней песней…
— Многие ее пели, но не для всех она оказалась последней, — сказал Воронов, растянувшись у костра.
Задремав, он сквозь сон слушал разговор Потапова и Кирьянена. Они что-то говорили о Пуорустаярви. В памяти Воронова возникло озеро и то, как они с Айно Андреевной плыли на лодке от дамбы к электростанции. Айно вспомнилась именно такой, какой она сидела тогда на корме лодки. И белый халат тоже очень идет к Айно. Задремав, он видел перед собой два женских лица — лицо Айно, нежное, улыбающееся, с мечтательными глазами, и лицо Ольги — красивое, задумчивое и… холодное. Потом Ольга исчезла и осталась только Айно… И вдруг откуда-то выплыл его друг и помощник — Александров…
Он проснулся от громкого тревожного крика, приоткрыл глаза и сел. У костра никого не было, видно, случилось что-то неладное. Сплавщики группами и в одиночку бежали вниз по реке. Воронов тоже побежал туда.
— Где Потапов? — окликнул он, догоняя сплавщика, бежавшего с багром на плечах.
— На заторе.
— На заторе?
Только тут Воронов сообразил, что произошло. Там, где должен был дежурить Пекшуев, образовался затор.
Протекавшая через Пожарище черная река скрылась под бревнами, сгрудившимися сплошной массой. Под напором воды бревна поднимались дыбом, и все новые и новые нагромождения образовывались около них.
Все сплавщики были на ногах — одни беспомощно смотрели на бригадира, другие толпились у нижнего конца затора, обсуждая, как бы разобрать его. Вокруг Потапова собрались наиболее опытные сплавщики и ожидали, кому из них будет дан приказ идти разбирать затор. Пекшуев был уверен, что это трудное и опасное задание будет дано именно ему, тем более, что он считал себя виновником. Опираясь на багор, он внимательно вглядывался в нижний край затора и обдумывал, как бы туда пробраться.
— Вот видите, что получилось, — укоризненно обратился Потапов к Воронову.
Воронов частенько ходил разбирать заторы, когда это было опасно. Так он поступал и на фронте. Если во время боя создавалось трудное положение, он оставлял командный пункт на своего заместителя, а сам шел в то подразделение, где положение оказывалось наиболее сложным.
Он выхватил у Пекшуева багор. Потапов преградил ему дорогу:
— Вы куда? В бригаде командую я. Отдайте багор.
Воронов отстранил его и, опершись на багор, сделал длинный прыжок с берега на ближайшие бревна. Потапов пробурчал крепкое ругательство, уселся на камень и закурил. Пекшуев отобрал багор у соседа и прыгнул вслед за Вороновым.
Воронов спешил к нижнему краю затора, перепрыгивая с бревна на бревно, огибая те, что торчали дыбом. Но вот он увидел застрявшую в камнях сосну, которая и задерживала всю древесину. «Как же я не увидел этого камня, когда снимал Пекшуева с поста?» — подумал он и с досадой всадил свой багор в сосну.
— Нет, так мы не сдвинем. Надо ее приподнять, — услышал он голос Пекшуева.
Они вместе начали приподнимать бревно, которое крепко держалось за камни. Вода бурлила, и бревна угрожающе качались. Вдруг вся гора бревен вздрогнула, и затор начал с треском и грохотом разваливаться.
— К берегу! Быстрее! — вскрикнул Пекшуев. Он помчался вперед, перепрыгивая с бревна на бревно с такой быстротой, что казалось, едва касался их ногами. Освободившиеся бревна сталкивались друг с другом, вода бурлила между ними, вскипая белой пеной. Воронов побежал вслед за Пекшуевым, но бревна уже начали расходиться под его ногами. Он потерял равновесие и упал в воду. Неплохой пловец, он быстро вынырнул на поверхность, но в это время проносившееся мимо бревно сильно ударило его по голове…
Пекшуев, уже достигнув берега, оглянулся и увидел, что с Вороновым беда. Он вскочил обратно на плывущие бревна, добрался до Воронова и зацепил его своим багром за ворот пиджака. Стоя на двух бревнах, он втащил на них Воронова.
Сплавщики бежали вдоль берега, перепрыгивая через камни и валежник. Первым к заводи подбежал Потапов. Он спустился в воду и, по пояс в воде, побрел навстречу Пекшуеву.
Потапову очень хотелось сказать, что начальник получил по заслугам, но он промолчал. Открыл фляжку и, наливая водку в кружку, сказал примиряюще:
— Правду я говорил, что не нужно было тебе петь про тонкую рябину. — И сердито стал отсылать народ к костру: — Идите, идите отсюда. Дайте покой человеку. Вдруг у него сотрясение мозга?
Воронов произнес слабым голосом:
— Никакого сотрясения. Надо вызвать сюда Степаненко. Пусть взорвет к черту эти камни. А плотину мы обязательно восстановим… и немедленно.
— Хорошо, хорошо, отдыхай пока, — успокаивал его Потапов.
Через час Воронова отправили в Туулилахти.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Луч солнца, пробравшийся в щелочку между занавесками, прочертил светлую полосу на шкафчике с посудой. Из кухни доносилось потрескивание горящих дров и шипение масла на сковородке. Мать опять пекла каккара[4]. Тихое постукивание, от которого Николай проснулся, повторилось. Он вспомнил, что на шесте в кухне висел невод, который мать собиралась чинить. Вероятно, кот играет поплавками. Потом из кухни начал доноситься тихий разговор. Мать уговаривала кота вести себя потише и не будить Николая.
Стукнула дверь. Кто-то вошел в кухню.
— А ты все жаришь и печешь, — донеслась фраза, сказанная Матреной Павловной вместо приветствия. — Закормишь ты сына на прощание.
Мать, вероятно, предупредила, чтобы гостья говорила потише, и Матрена Павловна продолжала вполголоса:
— А я пришла попросить: не дашь ли немного каккара для Миши? Больному так хотелось бы чего-нибудь вкусненького. Я бы принесла тебе муки взамен…
— Зачем мне твоя мука? — упрекнула Оути Ивановна. — Неужели я пожалею для Михаила Матвеевича? Сама каждый день ношу ему, и сегодня собиралась пойти.
— Я тоже… мы ведь с ним из одной деревни. У нас с Мишей общие воспоминания детства и юности. Эти времена я никогда не забуду.
— И почему его не положили в больницу? — спросила мать. — Айно Андреевне было бы легче присматривать за ним.
— Она и так присматривает, и даже слишком много. Она, верно, потому его в больницу не взяла, что дома навещать удобнее, — голос Матрены зазвучал злобно. — Люди всякое могут подумать…
— Об Айно? Об Айно никто ничего плохого не подумает.
Видно было, что Оути Ивановна обиделась.
«До чего же эта Матрена Павловна злая! — подумал Николай. — Ни о ком не скажет она доброго слова». Поднялся, когда услышал, что соседка ушла. Вымылся до пояса холодной водой и поспешил за стол. Сегодня у него предстояло большое дело… Впрочем, не только дело ободряло его. Вчера он узнал, что Анни должна вот-вот вернуться с трассы. Николай представил себе, какой она вернется, — загорелая, подвижная, как белка, и мысленно уже слышал ее громкий голос и звонкий смех. После каждой поездки на трассу Анни говорила громче и смеялась задорнее. В лесу и на реке люди привыкают не стесняться своего голоса.
За то время, пока Анни была на трассе, Николай успел получить от нее два небольших письмеца. Ничего особенного в них не было. Она, словно для памяти, рассказывала коротко обо всем, что делала на реке. Но раньше она вообще ему не писала ничего. Значит, хоть немного да скучает… Конечно, Анни не скажет ему, что скучала. А если спросить у нее, так высмеет, что лучше уж помалкивать. При встрече, Николай знал, Анни будет, как и в письмах, рассказывать только о делах, а потом начнет расспрашивать, чем занимался он, Николай. Что он скажет ей? Работал на сплоточной машине и ждал ее приезда? А что он еще может рассказать? Над докладом работал мало. Это она понимает, ведь они же договорились вместе готовиться. До приезда Анни надо закончить хотя бы давно задуманное дело — подогрев воды. Вот таким делом можно и похвалиться. А для этого нужны металлические трубы. Их можно получить только с разрешения Мякелева, потому что Воронов еще болеет. И Николай, хотя и был обижен на Мякелева, решил пойти к нему. Ведь Мякелев — тоже надо понять — человек старый, дел у него много… И, главное, отец Анни…
Быстро позавтракав, он пошел в контору.
Однако переговорить с Мякелевым не удалось. Делопроизводитель, молоденькая девушка, шепнула, что у Мякелева представитель из сплавной конторы. Николай в ожидании присел у двери, которая была приоткрыта.
— Мне нет никакого дела до того, где находится Александров, — повышенным голосом говорил незнакомый человек. — На заказе имеется подпись начальника рейда. Мы прислали вам почти все, что вы просили. А что вы сделали, например, с оборудованием и машинами для электростанции? Все это лежит под открытым небом. Это не государственный подход к делу…
— Я понимаю, что не государственный… — промямлил Мякелев. — Это же Александров выписал…
— Опять Александров.
— Поверьте, я говорил тогда начальнику, что надо подумать, прежде чем подписывать. Но он не послушался. Взял и подписал…
— Ну и порядки у вас! Сидите, как собака на сене: ни себе, ни другим.
Было слышно, как Мякелев шагал из угла в угол, повторяя вполголоса:
— Это не моя вина, поверьте. Я отказывался подписывать… Могу это доказать. Воронов был на рейде. Это вы увидите по приказам. Я задерживал заказ, сколько мог. Но приехал Воронов, подписал…
— Это после аварии плотины?
— Кажется, да.
— И заказали оборудование, хотя знали, что строительство электростанции приостановится?
— Во, во. А чья это вина, что плотина рухнула? Я там еще зимой акт составил. Могу вам и копии показать. Меня тогда не послушали — и результат налицо.
— Это мы знаем, — ответил незнакомец.
— А затор? Воронов снял багорщика…
— И про это знаем. Воронов за свою ошибку получил бревном по голове. Думаю, что достаточно, — засмеялся представитель. Потом он спросил: — Что же думает Кирьянен про оборудование? Ему бы надо теперь заботиться о таких делах.
— Ничего он не думает. — Мякелев презрительно фыркнул. — Кирьянен простой шофер. Хотя он и пытается прибрать к рукам все дела, но больше путает, чем помогает. Как и с этой плотиной на Пуорустаёки. Воронов дал распоряжение восстановить ее. Мы послали туда плотников. А Кирьянен начал мутить, что плотина сейчас не нужна, что ее надо будет построить в другом месте и все такое. Как будто это его касается. Сидел бы лучше у себя в мастерской, если его в механики выдвинули. И автомашина стоит там у них, не могут отремонтировать целый месяц.
Кто-то забарабанил пальцами по столу. Николай знал, что это не Мякелев. Так делает человек, сосредоточенно обдумывающий выход из положения, перед тем как высказать определенное решение. Вскоре Николай услышал и решение.
— Мы заберем у вас машины и оборудование. Подготовьтесь к сдаче.
— С удовольствием, — согласился Мякелев.
Николай вскочил и выбежал на улицу, решив про себя: «Ну нет, этого не будет».
Кирьянен лежал под разобранной автомашиной и проверял раму, когда Николай прибежал в мастерскую.
— У нас забирают механизмы! — закричал Николай с порога мастерской, как будто его грабили средь бела дня и он просил помощи.
Кирьянен как будто не слышал и продолжал пыхтеть под машиной.
«Такой же, как Койвунен. Ничем не проймешь. «Посидим, пока баня сгорит. А потом будем думать, где париться», — вспомнил Николай с раздражением любимую присказку Койвунена.
Но вот наконец Кирьянен вылез из-под машины. Но он еще долго отряхивал комбинезон, тщательно тер руки и только после этого обернулся к Николаю.
— Ну, расскажи толком. Кто забирает? Какие механизмы? Почему?
— Из сплавной конторы приехали! — уже с отчаянием в голосе и размахивая руками, прокричал Николай. — Забирают электростанцию, то есть оборудование. И Мякелев согласился.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Воронов лежал в постели. Он поднимался ненадолго только в те часы, когда приносили почту. Вот и сейчас он быстро разобрал ее, газеты положил рядом на стул. Разорвал конверт. Это был, наконец, ответ Ольги на его письмо, длинный ответ, написанный без помарок, — видно, письмо это она переписывала и, может быть, не раз.
«Миша, для того чтобы решить, как нам быть дальше, надо встретиться, — писала Ольга. «Значит, опять ни да, ни нет», — подосадовал Воронов и начал читать дальше. — Изменился ли ты, изменилась ли я — мы не знаем, а без этого нельзя жить вместе. — «Вот уже ближе к откровенному разговору», — заключил Воронов и присел на постели, опираясь на локти. — До знакомства с тобой мне казалось, что я никогда никого не смогу полюбить. Ты был первый, кого я полюбила. Полюбила так сильно, что даже твои недостатки казались мне достоинствами. Я восхищалась тем, что ты прям и резок, что ни с кем и ни с чем не считаешься, когда этого требует дело. И разве можно было не уважать в тебе эту силу характера, когда речь шла о выполнении боевых заданий? Меня трогало до умиления, когда солдаты говорили перед боем: «Ничего, наш майор не подкачает». «Наш майор…» — ведь это надо заслужить. И ты заслужил смелостью, честностью, храбростью — всем тем, чем завоевывают сердце солдата.
Но вот кончилась война, а характер твой не изменился. И оказалось, что ты груб, резок, даже несправедлив к другим. А среди других была ведь и я… Ты ни разу не советовался со мной, как нам жить, ты всегда приказывал, а я послушно подчинялась. Все мои попытки высказать свое мнение никогда ни к чему не приводили. Только на одном я настояла. Я все-таки стала терапевтом, а не хирургом, как ты требовал. Ты же не мог даже объяснить, почему я должна стать хирургом, но требовал и сердился, что я не соглашаюсь. Помнишь один из наших последних разговоров на берегу Невы? Ты сказал, что надо ехать в Карелию. Я нарочно стала возражать, чтобы… подразнить… Мне хотелось, чтобы ты убеждал меня, звал, сказал бы, что ты без меня жить не можешь. Но ты сразу обиделся. И вместо серьезного, доброго разговора произошла глупая ссора. Как ты сделал мне больно!.. Понимаешь ли ты?..»
Воронов, дочитав письмо, сунул его между страницами книги и с досадой подумал: «Капризы, одни капризы». Но какой-то червяк сомнения все-таки грыз его сердце. А вдруг Ольга права, и он сам во всем виноват? Тяжело вздохнув, Воронов оглядел комнату. Вот он лежит сейчас в этой угнетающей тишине, совсем одинокий и никому не нужный. Потом вспомнил, что, наверное, сейчас придет Айно… И стало чуть светлее вокруг… Что же с ним происходит?.. Нет, Ольгу он попрежнему любит…
Раздался стук в дверь, и в комнату вошла Матрена Павловна. Воронов недовольно сунул книгу под подушку.
— Я тут каккара принесла, Миша, — Матрена Павловна поставила блюдо на стоящий у кровати стул. — Не хочешь ли молока или чаю?
— К чему вы утруждаете себя, Матрена Павловна? — ответил Воронов. — У меня всего вдоволь.
— Может быть, принести еще чего-нибудь почитать?
Матрена Павловна подсунула руку под голову Воронова.
— Я поправлю тебе подушку.
— Мне хорошо и так, не беспокойтесь, пожалуйста.
В дверь снова постучали, и в комнату вошла Айно Андреевна. Матрена Павловна увидела, что лицо Воронова осветилось улыбкой. Айно, ни слова не говоря, вынула книгу из-под его подушки и положила на этажерку.
Воронов усмехнулся: «Вот, оказывается, умею и подчиняться». Айно взяла его за руку и проверила пульс. Ему показалось, что эта минута, когда он ощущал на своей руке теплые кончики пальцев Айно, была слишком коротка.
Опустив его руку, Айно сказала:
— Вам нельзя читать.
— Ну, а разговаривать можно? — спросил Воронов. — Садитесь, Айно Андреевна. Вы, наверное, устали.
Взгляд его вдруг остановился на библиотекарше, которая грустно стояла в сторонке, опираясь кистями рук о стол.
— Матрена Павловна, можете унести ваши книги. Они там на столе. Видите, начальство мне не разрешает читать.
Матрена Павловна взяла книги, остановилась в нерешительности, как будто желая что-то сказать, но промолчала и, не прощаясь, вышла из комнаты с поднятой головой.
Айно присела к столу.
Просторный белый халат не скрывал ее красивой девичьей фигуры. Айно задумчиво смотрела куда-то поверх головы Воронова. Из-под белой косынки выбились два русых локона и мягкой линией опускались с высокого чистого лба. Яркий румянец играл на щеках, полные губы слегка полураскрылись.
Айно опустила руки на колени и промолвила, как бы оправдываясь:
— Я не устала, но иногда хочется полентяйничать. Особенно теперь, летом.
— Вы не умеете лентяйничать. В вас так много энергии. — Воронов смутился. Не те слова он говорит — разучился ли он разговаривать не о делах, или что-то другое. — О чем вы сейчас думали?
— Вы и не отгадали бы, — улыбнулась Айно. — Я представила себе, как красиво сейчас должно быть на юге. Море. Горы, долины, и много, много цветов. Я никогда не видела гор, наверно, они очень красивы.
Кто-то вошел в переднюю и долго вытирал там ноги. На пороге появился Кирьянен. Он взял стул, осторожно подставил к кровати, видно готовясь к долгому разговору. Присмотревшись к осунувшемуся лицу Воронова, он начал расспрашивать о состоянии его здоровья, но не у него самого, а у Айно Андреевны.
Наконец он приступил к делу:
— Ну вот и помогла нам сплавная контора, ничего не скажешь…
— То есть как это?
— Приехал представитель и твердит одно: заберу оборудование электростанции, электромотор, все запасные части, которые привез Александров. Никаких объяснений не хочет слушать.
— Кто это приехал?
— Ипатов. Я с ним только что разговаривал и так и этак, а он ни с места. Согласился только послушать рабочих. Сегодня вечером созываем.
Воронов нахмурился, Айно укоризненно взглянула на Кирьянена.
— Ну что ж, созывай людей… Но все равно ничего не отдадим, — решительно сказал Воронов. — Вот Александров вернется…
— Но работы на электростанции прекращены. Тут не Александров нужен, а плотники, — прервал его Кирьянен.
— Плотина нам нужнее сейчас, чем электростанция. — В голосе Воронова зазвучали раздраженные нотки, руки нервно сжали край одеяла. — Если древесина останется на суше, то…
— Потапов обещает, что не останется…
— Ты сходи к Мякелеву. — Воронов приподнялся. — Скажи, чтобы гнал в шею всех этих представителей и чтобы дал приказ перенести оборудование со двора в сарай, что за кузницей. Там место найдется, если только навести порядок. Потом, когда Александров вернется…
— А если сделать все до его приезда? — вдруг спросила молчавшая до сих пор Айно Андреевна.
— Вы о чем это? — Воронов взглянул на нее чуть удивленно.
— Ну, установить эти самые машины на место. Пустить их в ход, что ли, — неуверенно ответила Айно. — А то он волнуется. Мы бы написали ему: все будет в порядке. Знаете, как он обрадуется?
— Ведь это верно, — подхватил Кирьянен. — Ей-богу, мы могли бы много сделать. Я же говорил тебе. Хотя бы с электростанцией.
— Ну, пошло, — Воронов нетерпеливо пожимал плечами.
Айно снова взглянула на Кирьянена. Тот замялся, но все же продолжал, правда уже не так уверенно:
— То, что нужно сделать в механической мастерской, мы сделаем и без него. Да и по остальным объектам Александров оставил нам свои наметки. Есть еще и предложения рабочих, помнишь, я тебе передал их? Это было незадолго до твоей болезни. — Воронов приподнялся, но Кирьянен испуганно положил руки на его плечи. — Нет, нет, лежи, лежи.
— Ничего вы без Александрова не сделаете, — проворчал Воронов. — Да и людей я не смогу дать.
— А почему бы им не попробовать? — Вдруг вмешалась Айно Андреевна. — Хотите, сходим вместе к Кюллиеву? — сказала она Кирьянену. — Кстати, давно я Марию Андреевну не видела. Я только забегу домой, сниму халат.
— Ну вот, еще и врача превратили в помощника механика, — недовольным тоном сказал Воронов.
Но Кирьянен с удивлением уловил в голосе начальника какую-то новую нотку, похожую на удивление. Впрочем, Воронов и сам не понимал своего состояния. Ему хотелось накричать на Кирьянена, сказать, чтобы он не лез не в свое дело, однако где-то в душе, пока еще робко, пробивалось сомнение в своей правоте. Не об этой ли его грубости и недоверии к людям писала Ольга? Воронов отвернулся к стене, притворившись утомленным, и секретарь парторганизации вышел вместе с доктором, не добившись от него ясного ответа.
Дома Айно сняла халат, положила в карман жакетки кулек с конфетами для детей Кюллиева и вышла. Кирьянен ждал ее на улице.
Семья Кюллиевых сидела за обедом. Мастер на одном конце длинного стола, а на другом — Мария Андреевна, женщина лет тридцати, в мягком, с синими цветами, домашнем халате. Во всем облике Марии Андреевны, в ее круглой фигуре, в мягких щеках с ямочками, как у маленьких детей, было что-то такое, что вызывало добрую располагающую улыбку. У нее были такие же темнорусые волосы, как у Айно, и даже в очертаниях их лиц и особенно в маленьких улыбчивых ямочках было много общего. Они в шутку называли себя сестрами, так как отчество у них было одинаковое.
Первая жена Кюллиева, мать Пааво, умерла в эвакуации. Сам Кюллиев уже в конце войны был тяжело ранен и провел много месяцев в военном госпитале далеко в тылу, в городе Кирове. Там он встретил и полюбил учительницу Марию Андреевну, которая со своей школой шефствовала над госпиталем. Выйдя из госпиталя, Кюллиев взял сына из детского дома и приехал с ним на родину в деревню Пуорустаярви. Оттуда они перебрались на сплавной участок в Туулилахти, потом он съездил в Киров и привез Марию Андреевну, которая теперь преподавала русский язык в Туулилахтинской школе.
Пааво сидел рядом с отцом, а его четверо маленьких братьев и сестричек, все в одинаковых костюмчиках, очень похожие на мать, сидели на высоких стульчиках по обеим сторонам стола. Пятый, самый маленький, еще грудной, был на руках у матери.
Увидев Айно, малыши быстро соскочили со своих стульчиков и закричали:
— Тетя Айно пришла! Папа, мама, тетя Айно, тетя Айно пришла!
Айно села на скамеечку, обняв всех четверых сразу. Ребятишки пыхтели и толкались, они все сразу хотели взобраться к ней на колени. Айно с трудом удалось засунуть руку в карман и вытащить оттуда кулек с конфетами. Ребята начали шумно делить лакомства.
Мария Андреевна, улыбаясь, смотрела на эту возню. Потом спросила у трехлетней девочки.
— Лида, ты чья дочка?
— Папина, мамина и тети Айно, — бойко ответила девочка.
— Тете Айно надо своей семьей обзавестись, если она так детей любит, — усмехнулся Кюллиев.
— Это что, отцовская ревность? — пошутила Айно.
Кирьянен рассказал о приезде Ипатова из сплавной конторы и об угрозе забрать механизмы.
— Что ты думаешь об этом? — заключил он свой рассказ. — Я решил сегодня же собрать рабочих.
— Я-то? — Кюллиев вытер усы, встал из-за стола и закурил. — Я думаю, что у сплавной конторы есть дела поважнее, чем возить оборудование взад и вперед.
— Вот-вот, — поддакнул Кирьянен. — Тем более, что все это нам нужно.
— Кое-что есть и лишнее, пусть это и забирает.
— Ты о чем? — настороженно спросил Кирьянен.
— Я говорю о лебедках.
— Как это так? Сам работаешь на лебедках, а говоришь — лишние.
— Нам на запани хватит и двух лебедок, а у нас — четыре. А есть сплавные участки, где их не хватает.
Кирьянен помолчал, потом спросил:
— А механизмы для электростанции? Они ведь тоже лежат пока без дела.
Кюллиев взял малыша у матери, поднял высоко и зашевелил усами. Ребенок засмеялся и обеими ручонками поймал отца за усы. Кирьянен невольно улыбнулся, продолжая выжидательно смотреть на мастера. Наконец тот отдал ребенка матери, ответил:
— Это плохо, что лежат. Их надо скорее пристроить к делу. Эх, проклятая плотина! Когда же плотники вернутся оттуда?
— Потапов обещал вернуть их, — уверенно сказал Кирьянен.
Недоверчиво посмотрев на Кирьянена, Кюллиев продолжал:
— Александров привез и другие машины, очень нужные нам, а к делу пристроить не успел.
Кирьянен ударил ладонями по коленям:
— Вот что, посоветуемся с рабочими, что мы сможем сделать сами без Александрова. Ведь у людей много предложений. Никулин, например, обещает…
— Мало ли чего он обещает, — прервал его рядом сидящий Пааво.
— А что, не получается? — спросил Кирьянен.
Пааво пожал плечами, встал из-за стола и начал одеваться.
Айно удивленно взглянула на него. Пааво всегда держался тихо, незаметно. Очевидно, сегодня его что-то особенно угнетает, если он так резок. Мария Андреевна опустила голову и еле слышно вздохнула. Кюллиев попытался отвлечь внимание от сына:
— Рационализаторских-то предложений много. Например, изготовление дисковой пилой дранки для штукатурных работ. Александров и маленький электродвигатель выписал, а он тоже лежит пока без дела.
— А предложение о новых вагонетках? — добавил Кирьянен. — Тоже хорошее предложение.
Отец и сын собрались на работу. Айно вышла вместе с ними. Кирьянен делал вид, что ищет свою кепку. Мария Андреевна уложила малыша в кроватку и стала книжкой отгонять от него мух. Кирьянен вспомнил, что его дочку в детстве качали в колыбельке. «Теперь в колыбельках не качают, и это, пожалуй, лучше», — решил Кирьянен.
Мария Андреевна вопросительно взглянула на него. Вероятно, у Кирьянена было дело лично к ней.
— Что такое с Пааво? — спросил Кирьянен.
Мария Андреевна тихо вздохнула.
— Не знаю, что вам и сказать. Много я думала о нем, с отцом говорили. Скрытный он очень и самолюбивый. У других — друзья, товарищи, а он все один. В клуб никогда не ходит.
— А читает?
— Читает, да не то. Матрена Павловна дает ему какие-то сентиментальные книги. Откуда она только выкапывает их? Начал стихи писать. Да, да, стихи! И такие слезливые. Не понимаю, что с ним делается. Ну, был бы он влюблен, тогда другое дело, но и этого нет…
— М-да, — промолвил Кирьянен. — Может быть, он все еще горюет по матери?
Мария Андреевна подняла на Кирьянена влажные, взволнованные глаза.
— Разве я не понимаю? Очень хорошо понимаю, потому что сама выросла без матери, у мачехи. Как это было больно, когда мачеха покупает своей родной дочери одно платье за другим, а я хожу в тряпках! А в детстве ее дочери дарят новые куклы, а мне не дают ни минуты отдохнуть от домашних дел. Ведь я тоже хотела играть! А потом, когда стало туго жить, мачеха выгнала меня из дому. Помню, какой скандал мачеха устроила отцу, который дал мне три рубля на дорогу. Так что я знаю, как чувствуют себя дети при мачехе. Но я ведь старалась быть внимательной к Пааво, когда он был маленьким.
— Что вы, Мария Андреевна, мы же все знаем, как хорошо вы к нему относились. У меня дочь тоже без матери осталась, да и я сам недолго с ней был. Мне рассказывали, когда везли ее без матери в Архангельскую область, как она, бедненькая, сидела одна в уголочке! — Голос Кирьянена дрогнул. — А ведь она была живая и бойкая. Ребенок нуждается не только в пище и в крыше над головой. А попала к добрым людям и ожила. Хозяйка сшила ей куклу, кукле — платье с кармашками и платочки, девочка даже смеяться начала… Конечно, Пааво уже взрослый парень. Может быть, к нему труднее подойти?
По лицу Марии Андреевны снова разлился слабый румянец. Она сама казалась взрослым ребенком, которого зря обидели. Кирьянен попытался было как-то смягчить свои слова, но он был слишком медлителен, и Мария Андреевна успела опередить его:
— Я не бессердечный человек! Вы не можете этого утверждать. Но я просто не знаю, как угодить ему. С маленьким я сумела бы…
— Когда у меня мать умерла, мне было уже под сорок. Но мать все считала, что я еще мальчишка, который может простудиться, если выйдет во двор в тоненьких рукавичках. Этим матери и отличаются от других людей…
Кирьянен взглянул на часы и заторопился:
— А ведь Ипатов-то меня ждет! Скоро начнется совещание. Хорошо, если бы Пааво тоже пришел. Ведь он неплохой машинист. Его бы надо втянуть в наши дела! Как думаете?
— Да, если бы только можно было его увлечь. Он, кроме того, такой мнительный, все ему кажется, что над ним смеются…
Было уже поздно, когда наконец народ собрался. Многие задержались на запани после смены, у других нашлись неотложные дела дома.
Совещание открыл Мякелев. Слегка запрокинув голову, он сквозь очки в толстой оправе окинул взглядом присутствующих и начал скрипучим голосом:
— Руководство собрало вас, чтобы сообщить о том безобразном положении, которое у нас создалось в области хранения машин и механизмов. По требованию уехавшего в отпуск главного механика Александрова мы получили следующие машины и запасные части…
Мякелев взял в руки лист бумаги и начал перечислять. Некоторые машины и части были ему совсем незнакомы, и он не мог даже произнести названий. Кирьянен чувствовал себя неловко за него и пытался подсказывать ему. Кое-как дочитав список до конца, Мякелев продолжал тем же сухим тоном:
— Как показала практика, мы не нуждаемся в этом оборудовании и решили отослать его обратно. Акт на передачу готов. Есть ли вопросы?
Кирьянен тревожно всматривался в лица присутствующих. Неужели все смолчат? Кюллиев перелистывал какие-то бумаги, как будто и не слушал Мякелева. Николай вопросительно посмотрел на Кирьянена, потом на соседей и язвительно спросил:
— Ну, мы все выслушали. Значит, можно расходиться?
Мякелев только усмехнулся. Он не считал нужным отвечать на этот дерзкий вопрос.
— Для чего же нас на совещание созывали, если уже все решено? — продолжал Николай.
— Что ты-то размахался? Пусть Кирьянен скажет! — шепнула ему сидящая рядом Анни и покраснела: подумает, что она защищает отца.
Кирьянен не торопился высказать свою точку зрения. Он настойчиво спрашивал:
— Что вы думаете, товарищи, об этом?
Кюллиев поднялся, кашлянул и, перебирая бумаги, начал:
— Мне кажется, что надо было сначала обсудить сообща, что отдать и в чем мы нуждаемся сами. Тут у меня кое-какие проекты Александрова и рационализаторские предложения рабочих. Давайте разберем их, — может, кое-что удастся осуществить?
— Вот это уже дело! — поддержал его машинист шпалорезки, молодой, широкоплечий мужчина в синем комбинезоне. Он открыл окно и закурил. — Об этом можно и посовещаться.
Длинный Василий, которого назначили бригадиром на строительстве, поднялся, выпрямился во весь рост и начал говорить:
— Я тоже думаю: неужели нам ничего не нужно, неужели ни один механизм мы не способны сами смонтировать и пустить? Мне сказали: руководи строительством электростанции. А кем я буду руководить? Своей женой?
— Тут бы тебе хватило нагрузки, — усмехнулся кто-то. — Только вожжи-то у нее в руках.
— Это тебя не касается! — рассердился Длинный Василий. — Почему плотников задерживают на Пуорустаёки? При такой неразберихе у нас не будет ни плотины, ни электростанции.
— И новую дисковую пилу надо установить.
— И новые вагонетки сделать!
Мякелев совсем не ожидал, что совещание получит такое направление. Он любил строгий порядок. Начальство сообщает свою точку зрения, рабочие соглашаются — и точка. А тут предложения сыпались одно за другим. И все это натворил Кирьянен. Надо будет сказать Воронову. А пока он слушал и, часто не понимая о чем идет речь, старался лишь об одном — чтобы чем-нибудь не выдать своего незнания.
О каждом предложении спорили долго. Но были и такие предложения, которые не вызывали разногласий: сразу же постановили просить руководство продолжать строительство электростанции и с завтрашнего дня приступить к установке тех машин, которые уже сейчас можно использовать на производстве. А две лебедки и один мотор внутреннего сгорания решили передать на другие участки.
Мякелев попрежнему молчал, он все силился понять, каково отношение представителя сплавной конторы к этим предложениям. Но на лице Ипатова он не мог ничего прочитать. Наконец Мякелев не выдержал:
— А каково ваше мнение, товарищ Ипатов?
— Я хочу послушать, что скажет народ, — ответил тот, и Мякелев окончательно растерялся.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Когда началось совещание, Пааво еще работал. Придя после обеда, он застал Николая, который возился с каким-то железным баком, устанавливая его возле паровой машины. Пааво поздоровался с ним, но даже не поинтересовался этой его новой выдумкой. Николай, ожидавший, что Пааво начнет расспрашивать его, а потом будет восхищаться и предложит свою помощь, поначалу даже разозлился. Несколько минут он работал молча, лишь искоса поглядывая на приятеля, который в ожидании гудка стоял, опершись на перила, и смотрел куда-то вдоль берега. Николай усмехнулся: наверное, стихи сочиняет, поэт… Николай, парень отходчивый, уже простил Пааво его молчание и, чтобы начать разговор, сказал как бы между прочим:
— Вот оставлю тебе на память этот бак. В конце концов я его, черта, прилажу. И может, когда буду в армии, помянешь меня добрым словом… Мама у меня чудна́я, каждое утро стряпает для меня, будто я уже завтра отправляюсь в армию. Никого к моим книгам не подпускает… Чудачка…
Пааво продолжал молчать. Упоминание об армии, о заботливости Оути Ивановны еще больше растравили душу. Снова нахлынули воспоминания, которые долго печалили его после смерти матери и лишь в последние два-три года немного утихли.
Мать Пааво тоже была заботливая, вечно хлопотала по хозяйству. Пааво ребенком любил говорить, что его мать лучшая мать на всем свете. Он хорошо помнит, как пошел он в первый раз в школу. Мать одела его в новенький синий костюмчик, пригладила его вихры и за ручку отвела к учительнице, — наверное, волновалась не меньше его. А когда уроки кончились, Пааво увидел ее в школьном коридоре. И так продолжалось несколько месяцев, пока Пааво не привык к школе, к ребятам. Он хранил в сердце и более ранние воспоминания. Весенние прогулки на лодке, на Пуорустаярви. Отец гребет, мать тихо напевает, а он, закутанный в большой платок, дремлет, лежа на корме, убаюканный и песней и тихим покачиванием лодки. В поезде, когда они эвакуировались, мать, уже при смерти, не в силах говорить, погладила слабой рукой его голову.
Отец всегда хорошо относился к Пааво, но с тех пор, как у него появилась новая семья, он стал с ним особенно ласков. А подростку казалось, что это все от жалости. На самом же деле сердце отца отдано новой семье — Марии Андреевне и малышам. Он ни в чем не мог упрекнуть и Марию Андреевну. Она была к нему внимательна, ласкова, но это-то и злило его: несмотря на то, что у нее было уже пятеро детей, она сама казалась ребенком. А когда она и теперь старалась проявить материнскую заботу о Пааво, уже о взрослом человеке, это получалось у нее неестественно.
И вот случилось так, что он сдружился с Матреной Павловной. Пааво знал, что одни удивляются, а другие посмеиваются над ним. И он всегда немного смущался, когда Матрена Павловна на людях говорила с ним ласково и как-то доверительно. Уж очень не любили в поселке этого чванливого библиотекаря, который, поджимая губы, почти каждую фразу предварял словами: «Мы, культурные люди…» Но никто не знал, как возникла эта дружба. А дело было так. Однажды, возвращая в библиотеку книгу, он забыл между страницами листок со стихотворением о первом снеге, когда «ветки деревьев закутываются в белую вуаль». Через несколько дней он пришел вновь в библиотеку менять книгу. Матрена Павловна встретила его умиленным взглядом, попросила подождать. А затем сказала, что она растрогана, найдя здесь, в этой глуши, человека, который увлекается таким благородным делом, как поэзия. Она мягко и ласково покритиковала это первое стихотворение Пааво. Первый снег, говорила она, покроет холодным, мертвым покровом все то, что цвело летом, — и розы и незабудки, и у человека останутся лишь красивые воспоминания о прошедшем лете. И с тех пор Пааво стал читать ей каждое свое новое стихотворение и покорно выполнял все ее советы.
С недавних пор он стал остро завидовать Николаю. Николай вечно чем-то увлечен — то подготовкой доклада, то усовершенствованием своей машины. Пааво же было трудно увлечься чем-нибудь. Он быстро уставал на работе. По утрам болела голова, а если он слегка простужался, то сразу поднималась температура и он вынужден был ложиться в постель. Ел он без аппетита. Единственное блюдо, которое он любил, были рыбники из печени налима. Но в их семье никто не рыбачил, а свежего налима не всегда можно было купить.
Перерыв окончился, и Николай ушел, оставив свой бак на палубе. Пааво, сердито пнув его ногой, потянул за кольцо сигнала. Долгий призывающий гудок разнесся над рекой. На сплоточной машине приступили к работе. Пааво, машинально вслушиваясь в команды, поднимал и опускал рычаг лебедки.
Когда смена кончилась, он так же машинально, не обменявшись ни с кем словом, обтер руки паклей и ушел.
На цыпочках вошел он в комнату, чтобы не разбудить спавших в соседней комнате детей. Мария Андреевна сидела за письменным столом и что-то читала. Увидев Пааво, она поднялась и начала накрывать на стол.
— Отец ушел на совещание, — сказала Мария Андреевна. — Просил тебя прийти туда. Кирьянен тоже просил.
Пааво ничего не ответил. Он вымылся, одел мягкую домашнюю куртку и сел за стол.
Мария Андреевна пододвинула свежий, печеный румяный рыбник из печени налима.
— А вы ужинали? — спросил Пааво.
— Нет еще, — ответила Мария Андреевна. — Но рыбник я испекла для тебя.
Пааво молча начал есть.
— Надень утром чистые носки. Они там на стуле, около твоей кровати, — продолжала Мария Андреевна. — У тебя потеют ноги, и ты можешь простудиться.
Пааво снова ничего не ответил. К его молчанию все в доме привыкли, и Мария Андреевна не обижалась. Она подсела к столу и налила себе чаю. Некоторое время Мария Андреевна внимательно следила за Пааво, а потом заговорила:
— Мне кажется, ты в последнее время заметно окреп. Тебе бы надо побольше есть. И побольше бывать на свежем воздухе. У вас такая жара в машинном отделении. Сходил бы покататься на лодке. Мы тут с отцом говорили, что надо будет тебе купить велосипед.
Пааво с удивлением подумал: какой приятный голос у Марии Андреевны, почему-то до сих пор он не замечал.
— И надо больше бывать с молодежью. Подыскал бы себе девушку, подругу, — добавила она, улыбаясь.
— Как раз их мне и не хватает, — сказал Пааво, развеселясь.
Мария Андреевна продолжала:
— И нечего думать, что ты больной. Чем меньше будешь думать об этом, тем скорее окрепнешь. Это действует, спроси у Айно Андреевны.
— Вот еще нашли советчицу! — усмехнулся Пааво. — Попади к ней в руки, так она из больницы не выпустит…
— И Кирьянен говорил о тебе…
— А ему что нужно? — грубовато спросил Пааво.
— Ну и ворчун же ты, — засмеялась Мария Андреевна. — Я уж не знаю, стоит ли тебе рассказывать, что Кирьянен говорил о тебе…
— Нет, почему же, расскажи. Только зачем я ему?
— Ну как же! Ведь сколько есть всякой работы и в мастерской и на вашей сплоточной машине, а знающих людей мало. Вот он и хочет, чтобы ты помог ему.
— Ну, тоже нашел знающего человека. — Но видно было, что Пааво немного польщен.
— Говорит, что надо тебе и Степаненко помогать Николаю.
— Он действительно говорил обо мне? — все еще не хотел верить Пааво.
— Не стану же я выдумывать. Он так и сказал, что тебя ждут на совещании.
Пааво зашагал по комнате, потом вдруг стал переодеваться.
— В самом деле, надо пойти послушать. А завтра, мама, разбуди меня вместе с отцом. Схожу на смену Николая, посмотрю, что у него с этим баком получается.
Слово «мама» он произнес впервые, это вышло у него так неуклюже, что Мария Андреевна невольно улыбнулась.
— Хорошо, разбужу, сынок!
Оба почему-то рассмеялись.
— Пааво, давай дружить! — сказала Мария Андреевна, вдруг поняв, как проще всего завоевать сердце пасынка. — Сыном тебя называть мне уже поздно, — улыбнулась она, — а другом ты будешь хорошим! Ведь правда?
— Вот это другое дело! — согласился Пааво.
Он вдруг почувствовал себя легко и свободно. Ведь можно же полюбить эту милую, добрую женщину как хорошего друга! А играть в матери и сыновья в самом деле ни к чему. И не надо будет притворяться!
Степаненко вернулся с Пуорустаёки усталый и промокший. Столовая была уже закрыта, но его впустили и накормили остывшим супом. Из столовой он прошел прямо домой, переоделся в сухое белье, но озноб не прекращался. Он с удовольствием выпил бы горячего чая, но для этого надо было принести воды, наколоть дров, растопить плиту. Он прилег на кровать. Но вскоре поднялся, прошелся по комнате и остановился у окна. Как раз напротив находился магазин. В двери входили и выходили люди. Степаненко снял с вешалки пальто, но заколебался: если он пойдет в магазин, обязательно купит водки. Особенно сейчас, после дороги.
Степаненко уже мысленно давал обещание себе, Николаю, Оути Ивановне и Айно Андреевне, что больше не будет пить. Он горько усмехнулся: «На что я им со своим обещанием? Им-то какое дело до меня!.. Пойти взять шкалик, выпить, лечь спать — и все к черту… Но ведь на этом не остановишься. Завтра опять выпьешь… Ну, а к чему удерживаться?»
Из-за стенки слышалось шуршанье бумаг и шаги Матрены Павловны. Потом захлопнулась дверь, а через несколько секунд к нему вошла Матрена Павловна. Он посмотрел на нее с удивлением. Соседка никогда раньше не заходила к нему.
Матрена Павловна взглянула на холодную плиту и пустой стол.
— Вы только что вернулись с реки? — спросила она участливо.
— Да.
— У вас и плита холодная и даже чая нет?
— Кто же тут будет мне огонь разжигать и чай кипятить?
Матрена Павловна тихо вздохнула:
— Какие мы с вами сироты!..
Сегодня Матрена Павловна чувствовала себя, как никогда, одиноко. Воронов был единственным человеком, с которым ее связывали воспоминания о молодых годах. Матрена Павловна подходила к Мише всегда с открытым, чистым сердцем, старалась окружить его теплом своего внимания и… любви. Но Миша не понимает ее или не хочет понимать и встречает почти грубо. А ведь она хочет людям только добра. Вот Пааво Кюллиев увлекся стихами. Разве она мало и не от души помогает ему? А что выйдет из этого? Разве она хоть раз услышала от Пааво слова благодарности? Как время меняет людей! Какой Миша был кроткий и милый там, в деревне! Если бы все это можно было вернуть, ей бы ничего и не требовалось больше в жизни. Но Воронов увлекся Айно Андреевной — да, да, это несомненно — и с ней даже разговаривать не желает…
Матрена Павловна попыталась найти успокоение в обществе своих лучших друзей — старых, затрепанных книг, но переживания графов и их прекрасных возлюбленных сегодня не трогали ее.
Матрена Павловна предложила Степаненко:
— Пойдемте ко мне! У меня есть хотя бы горячий чай.
Степаненко машинально накинул пальто на плечи и пошел за Матреной Павловной.
Она усадила гостя за стол и налила чаю. Оба сидели молча. Наконец Матрена Павловна грустно улыбнулась.
— Подождите-ка минутку, я сбегаю в магазин. Я тоже кое-что понимаю в угощении.
Она скоро вернулась с бутылкой водки и поставила ее перед Степаненко. Степаненко с минуту поколебался — выпить или отказаться. Потом открыл бутылку, налил две рюмки, чокнулся и выпил до дна. Матрена Павловна хотела последовать его примеру, но ее остренькое лицо сморщилось в страшную гримасу, и она раскашлялась.
Неожиданно раздался стук в дверь, и в комнату вошла Айно Андреевна. Она хотела спросить у Матрены Павловны, не знает ли та, где Степаненко, и от удивления молча остановилась на пороге. Матрена Павловна залепетала:
— Человек, после длительного пути, промокший, пришел в холодную квартиру, а дома даже горячего чая нет. О человеке, товарищ доктор, надо заботиться и тогда, когда он становится старым и некрасивым, — добавила она язвительно.
— А как же, — ответила Айно Андреевна растерянно. — О всех людях надо заботиться. — Обратившись к Степаненко, она сказала: — А вас, Микола Петрович, ищут. Идет совещание. Кирьянен хотел, чтобы вы пришли.
— А что мне там делать?.. — Степаненко чувствовал себя неловко перед Айно. И зачем нужна была эта бутылка? — Что за совещание? — спросил он.
— О механизации.
Степаненко торопливо встал, надел кепку и сказал Матрене Павловне:
— Спасибо вам. Раз ищут, надо пойти.
Матрена Павловна осталась одна с недопитой бутылкой водки.
Но, очутившись на улице, Степаненко вдруг заупрямился:
— Зачем я пойду на совещание? Ведь оно давно началось.
— Но Кирьянен просил…
— Нет, не пойду. В другой раз. — Степаненко не хотел идти на собрание: от него пахло водкой.
Тогда Айно предложила:
— Пойдемте к Оути Ивановне. Она просила к ужину. А Николай придет и расскажет о совещании.
— Что у нее, именины, что ли? — буркнул Степаненко, но все же направился туда. Айно ускорила шаги, чтобы идти рядом с ним.
— Проходите, проходите, — засуетилась Оути Ивановна, передником обмахивая стулья, хотя они и так были чистые.
— Ну, теперь мы посмотрим, какой у вас сиг! — Айно чувствовала себя здесь, как дома. — А Николай еще не вернулся? Что ж, подождем! Или, может быть, все-таки тоже пойдем на собрание, как думаете, Микола Петрович? — снова спросила она.
— Никуда вы не пойдете! — запротестовала Оути Ивановна. — И ждать с ужином Николая мы не будем. Он, может, до полночи там прозаседает. Останется и ему.
Айно стала подвигать стулья и, словно у себя, повела Степаненко к столу.
— Я очень люблю свежего сига, Оути Ивановна знает. Все мы, карелы, любим рыбу. И вы привыкнете к рыбе.
— Я уже привык и к рыбе и ко всему, — усмехнулся Степаненко.
— Кушайте, кушайте! — Оути Ивановна накладывала на тарелки жареные, зарумянившиеся куски рыбы. — В прошлую ночь бог дал штук двадцать. Даже посолила немного.
— Хороший у вас бог, Оути Ивановна! — засмеялась Айно. — Ласковый такой!
— Насмотрелась я за свою жизнь на его ласки, — горько усмехнулась Оути Ивановна. — Это я так, по привычке.
— И не веруете? — удивился Степаненко.
— А кто его знает, — уклонилась Оути. — Когда жизнь хорошая, благодарю его, а когда худо бывает, приходится самой выбираться из воды на сушу.
Ели молча. Поджаренные сиги оказались действительно вкусными. Степаненко ел с большим аппетитом, и Оути Ивановна незаметно подкладывала ему новые куски.
Забота хозяйки была ему приятна, но, скупой на слова, он не пытался выразить свои чувства. Просто было хорошо после долгой дороги сидеть здесь, в теплой, уютной комнате, за столом умелой, доброй, ласковой хозяйки. И какие люди разные! Всего полчаса назад он слушал вздохи Матрены Павловны: «Нам, культурным людям, тяжелее…» Оути Ивановна не болтает о культуре, она ни на кого не жалуется, она без лишних слов и вздохов старается сделать жизнь приятней и легче каждому, чью беду заметит, а замечает она все.
— Спасибо, спасибо, Оути Ивановна! — говорил Степаненко, отодвигая тарелку. В эту благодарность он невольно вкладывал больше чувства, чем следовало бы за ужин.
Стали пить чай. Вскоре в комнату ворвался Николай — веселый, шумный.
— Что у нас было! — крикнул он с порога. — Утерли нос Мякелеву. Машин не отдадим, решили коллективно! Но это еще не все. Мы должны приставить их к делу. Ипатов сказал: «Ладно, говорит, пусть механизмы останутся у вас, но смотрите!» Это значит, что приедет еще и, если мы не сумеем их использовать, заберет!
— Ну, и как думаешь, сумеете? — спросила Айно.
— Сумеем! Правда, Микола Петрович? А почему ты не пришел на совещание? Про тебя там говорили.
— Про меня? Кто же? — удивился Степаненко.
— Кюллиев говорил, Кирьянен, даже Ипатов, кажется. Говорили, что у нас есть люди, которые умеют обращаться с любым механизмом, и тебя называли…
Степаненко что-то пробормотал про себя, потом произнес вслух:
— А почему бы нам не справиться? Не впервые же!
На следующий день Степаненко и Пааво помогали Николаю устанавливать обогревательный бак. Пааво был весел и оживлен. Таким Николай впервые его видел. Они шутя нападали друг на друга, толкались, как маленькие. Степаненко останавливал их, добродушно ворчал:
— Что же это вы? Давайте уж баловаться после работы. А то я возьму ремень да как дам!
— Ну-ка, давай, Микола Петрович! — смеялся Николай.
— Ты не очень-то задирайся! — Степаненко состроил свирепую гримасу. — Сроду ремня не давал детям, а теперь возьму и дам. Кому пожалуешься? Маме?
Пааво, желая показать свою ловкость, побежал по узкому борту судна и вдруг, потеряв равновесие, упал в воду. Степаненко вытащил его, но рассердился уже всерьез.
— Этак мы ничего не сделаем! — заворчал он. — Можно подумать, что вы оба маленькие. Марш домой, Пааво! — приказал он. — Сделаем без тебя.
Пааво, смущенный, поплелся домой. Но не прошло и часа, как он снова появился у машины.
— Переоделся? Не простудишься? — спросил Степаненко, осмотрев его сухую одежду.
— Хочу — простужусь, хочу — нет, — засмеялся Пааво.
— Ну-ну! Закалять себя, конечно, надо, только не таким способом, — проворчал Степаненко.
— Давай, давай, — поддержал приятеля Николай. — Только в следующий раз перед тем, как прыгать в воду, разденься.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Тяжелые темные тучи, почти касаясь верхушек деревьев, неслись над Пожарищем. Ветер словно большим невидимым гребнем прочесывал густые хвойные вершины, полные ароматной смоляной жизненной силы, отбирал пожелтевшие и утратившие эту силу иглы, отрывал их и бросал на землю. И хотя кругом стоял густой лес, ветру удалось пробраться сквозь Пожарище к реке Пуорустаёки и поднять на ней мелкую рябь, — для волн воды тут уже не хватало, она почти вся ушла. Болото, через которое Воронов дней десять назад пробирался по колено в воде, можно было перейти, едва замочив подошвы. Бревна плыли по реке день ото дня все медленнее, как будто они устали и теперь искали местечка, где бы приткнуться и отдохнуть. Малейшее соприкосновение с отмелью и береговой зарослью останавливало их.
Еще днем Потапова известили, что он должен выехать в Туулилахти на партийное собрание. Но он все не уезжал. Казалось, задерживаться больше не из-за чего. Как ни медленно подвигалась древесина, хвост сплава все же приближался к Пожарищу. Но Потапов все словно ждал чего-то.
Пекшуев не понимал, чего медлит бригадир. Люди работали на славу, продвинулись сегодня на такое расстояние, какого трудно было и ожидать. Когда он заговорил об этом с Потаповым, тот ответил загадочно:
— Слишком быстро махнули.
— А что тут плохого?
— Да нет, это я так…
Потапов задумчиво перекладывал содержимое берестяного кошеля, который всегда брал с собой в поездки.
Пришли плотники и, ничего не говоря, уселись вокруг бригадира. Потапов понял их безмолвный вопрос: что дальше? Все это время они занимались заготовкой материалов для новой плотины, но не там, где приказал начальник сплава, а ниже болота.
— Пойдете со мной в поселок, — промолвил Потапов, завязав клапан кошеля.
— А что мы скажем начальнику? — спросил старший плотник и оглянулся на своих товарищей.
— Я буду говорить, — Потапов сердито выпрямился. — Я ему прямо скажу. Надоело каждое лето канителиться с капризами этой речушки. Нам нужно настоящее водохранилище. Вот это я и скажу ему. Мы не в очко играем, проигрался и ушел, нам тут десятки лет придется лес сплавлять.
— Попадет нам от Михаила Матвеевича, — старший плотник еще колебался. — Обязательно спросит, почему приказа не выполнили.
— А если приказ неправильный? — разгорячился Потапов. — Вам надо закончить строительство электростанции. А то, говорят, там уже хотели машины отобрать.
Наконец подошли сплавщики, зачищавшие хвост сплава, — одни усталые и молчаливые, другие веселые и шумные. Рябой парень, любитель позубоскалить, и сейчас не удержался:
— Эй, бригадир, ты бы велел по чарке раздать в награду за хорошую работу! Как думаете, ребята, а?
Не отвечая на шутку, Потапов спросил:
— Ну, где теперь хвост?
— Смену сдали у Травяной заводи.
— Это хорошо. А Ольховый берег очистили?
— Да вот они там прошли, — один из сплавщиков кивнул на рябого и на его молчаливого товарища.
— Ничего там не осталось. — Рябой почему-то понизил голос, а когда Потапов взглянул на него, отвернулся и принялся старательно обтирать мокрой травой свои сапоги.
— И много там было бревен? — спросил Потапов, словно между прочим.
— Да нет, не так-то… — парень явно уклонялся от ответа.
Потапов молча опустил кошель на землю и сказал:
— Ну что ж, отдыхайте. Я пойду посмотрю.
Пора было отправляться в Туулилахти, но он не мог не проверить этот берег. Да и поведение этого парня было подозрительно. От Пожарища Потапов прошел на топкое болото и, не обходя его, двинулся напрямик, погружаясь по колено в мутную жижу. Карабкаясь по кочкам, он с трудом добрался до суши, раздвигая ветки ольхи, нашел еле заметное среди травы бревно, за ним второе, третье… Он насчитал тридцать штук.
— Работнички! — буркнул он про себя. Долго стоял в раздумье. Что тут делать? Надо, видимо, звать людей. Одному не справиться — бревна остались и за ольхами.
Однако возвращаться за людьми не пришлось. Встревоженные сплавщики уже догнали его. Впереди спешил рябой, только теперь он был не очень-то весел. Запыхавшийся, жалкий, он качал головой и повторял:
— Как же я не заметил? Ведь я тут проходил…
— Не ври! — гневно прервал его Потапов. — Ты обошел болото, ноги побоялся замочить, думал, пусть останутся, хватит и так что сплавлять. Лентяй и болтун ты, а не сплавщик!
— Завтра пусть он один здесь и трудится, — предложил Пекшуев.
— Нет, мы сделаем все сегодня и без него, — уже спокойно сказал Потапов.
— Так тебе же надо ехать.
— Успею, я не поеду, пока тут такое творится. А ему понизим разряд.
Сплавщики взялись за работу. Бревна с шумом и треском перекатывались через ольху в воду. Рябой тоже было взялся за багор. Потапов сердито буркнул:
— Отойди, лентяй!
Парень с дрожащими от обиды губами отошел в сторону.
Когда работу наконец закончили и сплавщики пошли к Пожарищу, Потапов еще раз проверил берега. Вернувшись к костру, он долго сидел молча, посасывая трубку.
— Ну, как там дела? — спросил Пекшуев.
— Паршивые дела… — ответил Потапов. — Надо еще в трех местах установить направляющие боны и коссы вдоль берега, иначе посадим хвост сплава на мель.
Потапов стал распределять людей на строительство дополнительных бонов.
— Ты и сам собираешься туда? — удивился Пекшуев. — Отдохнул бы немного перед дорогой.
— Нашел время для отдыха! — махнул рукой Потапов. — На партийном собрании меня спросят не только об уставе партии, но и о сплаве. Как ты думаешь?
— Да что тут думать! — воскликнул Пекшуев. — Это же не только твое, а наше общее дело. Можешь спокойно уезжать. Да и лодырям наука — теперь станут работать на совесть! А в случае чего, я тут присмотрю.
Ветер над Пуорустаёки все усиливался. Русло, казалось, стало у́же, но тем быстрее текла в нем вода. У камней и отмелей все прибавлялись сооружения. Люди ограждали течение реки, охраняя ее, как дорогу жизни.
В конторе сплавного рейда царила тишина, слышалось только шуршание бумаг и стук костяшек на счетах. Мякелев готовил сводку по сплаву за десятидневку.
Он предупредил сидящего в первой комнате делопроизводителя, чтобы к нему никого не впускали. Заместитель начальника любил одиночество и тишину во время работы.
И все же тишина была нарушена. В комнату делопроизводителя, а оттуда к Мякелеву ввалился Потапов с плотниками. На речных и лесных просторах они привыкли говорить громко, потому и здесь шумели так, будто им надо было перекричать шум ветра и бушующей воды.
Мякелев раздраженно засунул документы в папку, словно испугался, что ветер, который эти люди принесли с собою с реки, сдует бумаги со стола. Он поднялся навстречу рабочим, прижимая папку к столу рукой.
— Мы прибыли! — сказал бригадир плотников. — Здесь ли начальник?
— Разве Михаил Матвеевич еще не поправился? — спросил Потапов.
— Я его заместитель, — заметил Мякелев, обиженный, что спрашивают Воронова, а не его. — Что случилось?
— Только то, что мы прибыли! — повторил плотник.
— Это я вижу. А плотина? А как древесина на Пуорустаёки? Где она? — Мякелев приоткрыл папку и вынул оттуда сводку. — Она должна сейчас быть…
— Нет, она не тут, — заметил бригадир, кивком головы указав на папку. — Она там и направляется сюда! — он указал большим пальцем через плечо куда-то в сторону видневшихся за Туулилахти холмов.
Мякелев положил свои очки на стол.
— Плотину, значит, не строите? — В его голосе послышалась строгость. — А что вы там делали? И где древесина? Будьте добры, объясните. Государственного отношения к делу у вас тут не видно… — Мякелев хотел повторить сказанные ему Ипатовым слова, но еще не знал, в чем можно обвинить этих людей.
— Древесина? Она вот здесь… — Потапов подошел к висящей на стене карте сплавной трассы и показал, где остался хвост сплава.
Мякелев сел снова за стол и внес изменения в сводку.
— А как же плотина? Почему люди вернулись? — Мякелев обвел взглядом плотников.
Потапов стал объяснять, что плотина не восстановлена, но зато заготовлен материал для новой плотины, которую надо ставить ниже болота, а чтобы обеспечить сплав этого года, сделаны боны и коссы… Мякелев не дал ему кончить.
— Боны и коссы — это старина, мой друг. Мы живем в новое время, когда нужно облегчать труд людей машинами и гидротехническими сооружениями. Не пора ли понимать это!
«Смотри-ка, куда загнул!» — подумал Потапов не без удивления. Он чуть растерялся, потом все же заговорил твердо:
— Вот насчет нового времени я и подумал. При новой плотине мы получим настоящее водохранилище.
Мякелев рассердился не на шутку:
— Кто вам дал такой приказ? С каких это пор у нас каждый может приказывать? Если руководитель заболел, то мы обязаны еще больше усилить трудовую дисциплину, работать еще лучше, чем прежде! А вы… Значит, вы хотите построить плотину в новом месте, ниже, где река шире? А сколько это будет стоить? Кто оплатит дополнительные расходы? Вот к чему приводит самоуправство. А еще готовишься к приему в партию! — Мякелев покачал головой. — Я беспартийный, но…
— Партию ты оставь! — резко сказал Потапов и вышел, не попрощавшись. Плотники ушли следом.
Мякелев в сердцах швырнул свою папку в стол. В таких условиях он не может работать. Впрочем, немного успокоившись, он пришел к выводу, что Потапов навредил только себе. Теперь его нетрудно будет поставить на место. А то слишком уж много он о себе думает! И, вполне довольный, принялся писать докладную Воронову.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Вечером в субботу, возвращаясь со смены, Николай заглянул в клуб, чтобы повидаться с Анни.
Возле клуба толпились люди и читали какое-то объявление. Николай взглянул на объявление и обмер. Там было написано:
«Все на воскресник! Украсим наш поселок парком! После окончания воскресника доклад о гидростанциях. Докладчик Николай Никулин. После доклада танцы».
— Здорово, академик! — шутя окликнул Николая Потапов.
Николай побагровел от смущения и прошел мимо, хотя ему очень хотелось узнать, как дела на сплаве. Все-таки он имел к сплаву отношение! И надо бы спросить, как поживает Койвунен.
— Это все Анни! — буркнул он на ходу, протискиваясь через толпу.
— А я бы ей спасибо сказал, — продолжал Потапов вдогонку. — Доклад сделать — это не в орлянку сыграть!
Но Николай уже не слушал. Он протолкнулся в клуб, увидел свет в маленькой комнатке Анни и открыл дверь. Анни рисовала еще один плакат, точно такой же, какой висел у клуба.
— Что ты наделала! — крикнул Николай и протянул руку к плакату.
— А что случилось? — насмешливо сказала Анни, оттолкнув его руку. — Испачкаешь, краска еще не высохла!
— Ты уже афиши развешиваешь, а у меня доклад не готов! — чуть не плача, крикнул Николай.
— Я так и знала! — спокойно сказала Анни.
— Так чего же ты…
— У тебя еще целый вечер в распоряжении, — пожала она плечами. — А не потребуй с тебя, так ты его и к зиме не закончишь.
— Да ведь ты обещала прочесть! — уже в полном отчаянии воскликнул Николай.
— Я не отказываюсь. Хоть сейчас, вот только отдам плакат, чтобы вывесили в столовой.
Нет, не так, не так собирался Николай заканчивать свой доклад!
Ему все казалось, что времени у него горы, что он еще много вечеров просидит рядом с Анни. И вот она сама все оборвала! Разве смогут они теперь встречаться так часто, как это было в последнее время?
Однако он послушно сходил домой за своими тетрадками, отказался от ужина и вернулся в клуб. Мать не удерживала, — она глядела на сына с какой-то затаенной тревогой. Видно, она уже успела прочитать один из Анниных плакатов, — может, тот, что у конторы, или тот, что у магазина… Николаю казалось, что у него в глазах рябит от собственной фамилии, столько плакатов развесила Анни.
Анни ждала его в своей комнатке, а рядом разливался баян и пел хор. Николай мрачно присел к столу, но когда непослушная прядка Анниных волос коснулась его щеки, вся его мрачность пропала.
— Ну, вот видишь, все хорошо! — торопливо сказала Анни, закончив чтение тетрадок. — Ты перепиши грязные страницы, если хочешь, покажи Матрене Павловне. Пусть она посмотрит с точки зрения стиля. А я побегу к Воронову, надо достать разрешение на инвентарь для воскресника. Представляешь, сколько народу придет? Ужас!
— Никто к тебе и не придет! — сердито сказал Николай. — Небо хмурое, может, еще дождь будет…
— И ты не придешь? — лукаво спросила Анни.
Николай промолчал, и Анни, усмехнувшись, ушла. Он с досады прорвал пером страницу, но делать было нечего, теперь уже от доклада не откажешься! — и продолжал переписывать.
Воскресный день и в самом деле оказался дождливым. Холодный сырой ветер хлестал в лицо, когда Николай вышел на улицу. У клуба никого не было. Николай вернулся домой.
Через несколько минут к клубу подошла Анни. Постояв немного, она медленно побрела по улице, пряча лицо от ветра. Никогда ей, видно, ничего не удастся сделать как следует! А ведь она наобещала Александрову, что комсомольцы помогут превратить Туулилахти в настоящий благоустроенный лесной городок.
Навстречу шел Кирьянен. Столкнувшись на узком деревянном тротуаре, они постояли немного, поговорили. Но никто не выходил из домов. Кирьянен стал утешать девушку, лицо которой, казалось, было мокро не столько от дождя, сколько от слез.
— Перенесем на следующее воскресенье, Анни, — сказал он.
— Да, — дрожащим голосом сказала она, — а в следующее воскресенье снег пойдет. Недаром говорят: «Перед неудачливым охотником и река разливается!»
— Ну, на твой век удач еще хватит! — засмеялся Кирьянен.
В конце концов и они разошлись по домам.
В десять часов к клубу подошел Степаненко с лопатой и железным ломом на плече. Не застав никого, он вернулся к конторе и начал неистово колотить ломом по подвешенному к столбу рельсу — сигнал сбора.
Раздавшийся над поселком звон был настолько тревожен, что многие выскочили из своих домов на улицу, предположив, что где-то случился пожар. Скоро весь поселок пришел в движение.
— На воскресник, на воскресник! — зазывал Степаненко.
Люди беззлобно смеялись над поднятой тревогой. Однако, вернувшись домой, многие все-таки взяли рабочий инструмент и шли к клубу. А Степаненко уже корчевал первый пень на распланированной аллее будущего парка. Анни и Кирьянен, первыми прибежавшие на сигнал, разжигали костер из сваленных в кучу сучьев. Николай робко подошел к ним, опасаясь острого язычка Анни: он пришел последним, а сознаться в том, что он уже был и ушел, казалось еще хуже. Впрочем, Анни улыбнулась ему, и сразу день как будто посветлел.
Вскоре густой дым поднялся до верхушек деревьев, поблуждал среди ветвей, как будто ища выхода, и, выбравшись наконец, расстелился по поверхности реки.
Люди кидали в огонь большие охапки сучьев, пожелтевшие верхушки сосен, выкорчеванные кусты можжевельника и целые пни с почерневшими корнями. Другие засыпали ямы, оставшиеся от выкорчеванных кустов и пней. Четверо парней укатывали дорожки катками, сделанными из тяжелых чурок.
Воронов, услышав сигнал тревоги, тоже вышел на улицу. Он впервые после болезни покинул свою комнату. С удивлением смотрел он, как много народу собралось на воскресник.
Когда Анни с несколькими комсомольцами с шумом ворвались в его кабинет (это было вскоре после отъезда Александрова) и принялись наперебой ему рассказывать о будущем парке возле клуба, о воскресниках, Воронов не стал возражать, хотя и считал эту затею преждевременной. По правде говоря, он был уверен, что из этого ничего все равно не выйдет. Люди, уставшие за неделю, предпочтут в воскресенье отдыхать дома. О том же самом подумал он и вчера. Но написал все же бумажку, чтобы выдали комсомольцам инвентарь, и пообещал прийти. И вот, оказывается, получилось! И Степаненко здесь верховодит, говорят, он и сигнал дал. А Кирьянен прямо-таки сияет и с победным выражением на лице то и дело поглядывает на него, Воронова.
Вначале все работали молча. Доносились лишь короткие, отрывистые фразы. Потом кто-то, разогревшись, снял пиджак и повесил его на сучок. Второй последовал его примеру, но уже более проворно: пиджак долетел до ветки и повис, зацепившись карманом, третий бросил свою одежду на перила балкона. Все больше и больше пней и кустов летело в костер, носильщики песка все чаще и чаще припускались бегом, а тяжелые трамбовки взлетали все выше, гулко опускаясь на землю. Воодушевление одного, баловство другого, шутки и смех третьего понемногу захватили всех, громче и дружнее звучали и смех и песни.
Большой куст можжевельника рос на середине будущей дорожки. Николай подрубил разросшиеся в разные стороны корни, но куст упрямо держался за землю. Анни изо всех сил старалась выдернуть этот куст. Ее волосы выбились из-под платка и прилипли к потному и мокрому от дождя лбу. Опираясь ногами о камень и сильно отклонившись назад, Анни попробовала еще раз вытянуть куст, но все было напрасно. Николай шутливо обхватил Анни за талию и стал тянуть ее назад, но куст оставался на месте. На помощь поспешила Айно и ухватилась за Николая, Воронов за Айно, Кирьянен за Воронова… Все тянули, как могли, и громко смеялись.
— Тут совсем, как в старой русской сказке: дедка за репку, бабка за дедку, внучка за бабку, Жучка за внучку!.. — закричала Айно Андреевна.
Пааво Кюллиев уцепился за конец очереди. Девушки бросили носилки с песком и с визгом прибежали на помощь.
— А теперь идет мышь, как в сказке! — подал голос Степаненко и перерубил топором замеченный им толстый корень. Можжевеловый куст взлетел на воздух, Анни упала в объятия к Николаю, Николай к Айно, Айно к Воронову и Воронов к Кирьянену…
— Действительно, мышь пришла!
Звонкий смех раздавался в мокром от дождя лесу, такой звонкий, что Матрена Павловна, сидевшая в библиотеке, не утерпела, чтобы не встать со стула и не приоткрыть занавеску. Она увидела длинную вереницу людей, сидевших на земле, на коленях друг у друга. Никто не спешил подниматься. Матрена Павловна поправила очки и вдруг заметила, что Айно сидит на коленях у Воронова… Она вздрогнула и неодобрительно задернула занавеску, оставив маленькую щелочку, в которую продолжала подглядывать, затаив дыхание. Среди большой толпы она различала только их двоих — Мишу и Айно.
Анни вскинула куст на плечо и торжественно понесла его к костру. Айно преградила ей дорогу.
— Мы украсим этим кустом веранду клуба в честь сегодняшнего воскресника.
Воронов пошел прикреплять куст к перилам веранды.
Решили сделать перерыв и уселись в кружок вокруг костра. Степаненко наклонился над маленьким пеньком.
— Кто оставил этот пень? — крикнул он. — Скажите кто, чтобы я знал, кого помянуть недобрым словом через десять лет.
— Почему именно через десять? — засмеялся Кирьянен.
— Ну, пусть будет через пятнадцать! — согласился Степаненко. — Когда я буду гулять здесь со своей возлюбленной и споткнусь об этот пенек, должен же я знать, кого бранить.
— Ого, с возлюбленной! — рассмеялась Айно, радуясь тому, что и Степаненко сегодня весел и, главное, совсем трезв.
— Миколе Петровичу будет к тому времени шестьдесят шесть лет, — сосчитал Воронов. — Это же лучшая пора для ухаживания.
— Кто же будет твоей возлюбленной? — спросил Николай. — Только не бери Матрену Павловну, иначе мы не придем на свадьбу.
Смеялись все, смеялся и Пааво, но сконфуженно поглядывал в окно библиотеки. Чтобы переменить разговор, он спросил:
— А что сегодня будет в клубе?
— Там же объявление, — ответила Анни. — Доклад Никулина о строительстве крупных гидростанций. Начало в три часа.
Николай покраснел. Ему показалось, что Воронов пренебрежительно усмехнулся. Хоть бы кто-нибудь предложил отложить доклад.
— В восемь партсобрание в клубе, — напомнил Кирьянен коммунистам.
— А танцы после доклада будут? — спросила одна из девушек.
— Что это за воскресник без танцев! — пошутил Воронов. Кирьянену он сказал тихо: — А может, ограничиться одними танцами?
— Почему? — удивился Кирьянен.
— Не поспешили ли вы с докладом Никулина? Это же очень ответственное дело! Кто-нибудь ознакомился с его тезисами, помогал ему?
— Анни помогала. И я с ним беседовал не раз.
— Смотри! — Воронов вздохнул.
Хотя Воронов говорил тихо, но все же Николай понял по отдельным словам, о чем идет речь. Вначале он обрадовался. Но потом почувствовал обиду. И теперь он уже хотел, чтобы доклад состоялся.
— Пора за работу! — подала команду Анни. — Иначе не будет ни парка, ни танцев.
Воскресник продолжался до обеда. После обеда все собрались в клубе. Николай нервничал. Доклад свой он, кажется, помнил наизусть, но боялся, что, поднявшись на сцену, все забудет и станет ловить воздух, как выброшенная на сушу рыба. Ему вспомнились язвительные слова Матрены Павловны, которые та сказала, когда прочла его доклад вчера вечером. Тогда он был убежден, что она порет чушь, и примерно так он ей ответил и даже, уходя, хлопнул дверью. Но сейчас ему стало представляться все в ином свете. Может, действительно, библиотекарь права и доклад не годится.
Тем временем зал заполнился. Пришла не только молодежь, но и пожилые люди, а некоторые привели с собой детей.
Сын Кюллиева, пятилетний Ким, взобрался на четвереньках на сцену.
— Ким, скажи нам речь! — попросил кто-то.
Ким храбро признался:
— Я еще не умею. Но папа умеет, тетя Айно умеет и мама умеет…
«А сумею ли я? — подумал со страхом Николай. — И надо же было, чтобы столько народу пришло…»
Но этот вопрос задавать себе было поздно. Анни Мякелева уже поднималась на сцену.
— Начинаем, товарищи! Николай Иванович Никулин Сделает доклад о строительстве гидростанций.
«Какой официальной стала Анни!» — усмехнулся Николай. Но в этот момент кто-то подтолкнул его в спину, и он оказался на сцене. Он беспомощно оглянулся вокруг, как будто просил кого-нибудь прийти на помощь. В висках стучало, дух захватывало.
— Товарищи! — вымолвил он таким голосом, как будто дальше следовало: «Спасите!» — и взглянул в зал. Вот сидит Степаненко, тот самый человек, который помогает ему в ремонте сплоточной машины, рядом Пааво Кюллиев, дальше Анни, которая знает наперед каждое слово его речи. Айно Андреевна ободряюще улыбнулась ему. Но вдруг у двери, ведущей в библиотеку, с холодным, ничего не выражающим блеском в стеклах очков появилась Матрена Павловна.
Николай перевел глаза на свою тетрадку и начал читать. Потом он опять взглянул в зал и заметил, что Анни одобрительно кивнула ему. Теперь Николай был уже уверен, что ничего не забудет. Он отложил тетрадь и стал рассказывать просто, своими словами о гидростройках на Волге. Увлекшись, он даже пошутил:
— Это не то, что у нас: мы не можем завершить строительство станции на каких-нибудь триста киловатт.
Николай увидел, как Воронов криво усмехнулся, и он немного смутился: может, не надо было… Но Кюллиев поддакнул:
— Правильно, Николай, крой смелее!
Николай сразу воспрянул духом, заговорил о том, что на стройки крупных гидростанций идет лес из Туулилахти. Он повысил голос:
— Значит, и мы строим эти гидростанции. В волжских турбинах заключен и наш труд — туулилахтинских лесорубов и сплавщиков, и все это останется на вечные времена для будущих поколений!
Он начал говорить о том, какую продукцию посылает Туулилахтинский рейд на строительство гидростанций, о тех результатах, которых добились лучшие бригады… Напомнил о недавнем совещании и опять бросил несколько шутливых слов в адрес начальника.
Доклад подходил к концу. Николай теперь пожалел, что он оказался таким коротким. Ему казалось, что можно было рассказать еще о многом, но все это надо было сперва обдумать и изложить на бумаге.
Он начал собирать свои бумаги. Зал дружно аплодировал. Не зная, как надо поступать в таких случаях, он повернулся к большой карте Советского Союза, на которой были отмечены стройки крупных гидростанций и тоже начал аплодировать.
В зале его окружили. Кто-то пожимал руки, другие похлопывали по плечу. Николай заметил влажные от радости глаза матери. Он присел рядом с ней и Анни.
— Ничего прошел доклад, — шепнула Анни. — Только вначале ты слова проглатывал.
Анни встала и подошла к трибуне:
— Товарищи, есть вопросы к докладчику?
Николай заволновался: неужели еще будут вопросы задавать? Об этом он и не подумал. Долго длилось молчание, и он успокоился: очевидно, все обойдется.
Вдруг подняла руку Матрена Павловна:
— В докладе был упущен один важный вопрос, — сурово сказала она. Николай увидел устремленные на него яркие точки ее очков, отражавших падающие через окно солнечные лучи. Она говорила с расстановкой, осуждающе: — Вопрос такой: электрификация всей страны и ее влияние на культурный уровень и моральное состояние трудящихся масс. Этот вопрос должен был стать разделом доклада, а докладчик обошел его скороговоркой.
Теперь все обернулись к Николаю, явно чего-то ожидая от него. Он даже встал, но не знал, что говорить: если это был вопрос, то на него двумя словами не ответишь, если же это критика его доклада, то критику надо слушать. И стоять тоже неловко.
Матрена Павловна заговорила снова, и Николай смущенно сел.
— Товарищ Никулин пришел ко мне, чтобы проконсультироваться. Я предупредила, какое это большое и ответственное дело — выступить с таким докладом. Но товарищ Никулин не посчитался со мной. Он сделал по-своему — и вот результаты налицо.
Она села, строгая и победоносная. Оути Ивановна беспомощно озиралась кругом: неужели никто не заступится за ее сына? Ведь он так старался, вечера и ночи сидел, читал, писал. Неужели все так плохо?
Вдруг встал Воронов. «Ну, все», — подумал Николай. Сейчас он Николая уничтожит одним словом. Николай знал, что Воронов не очень любит, когда его критикуют. И он снова встал, будто собирался спастись бегством. Если бы Анни не дернула его за пиджак и не заставила сесть, кто знает, может, это бы и случилось.
Однако Воронов не уничтожил его ни первым, ни вторым словом. Он укоризненно посмотрел на Матрену Павловну и сказал:
— Мне непонятно, чем вызвана реплика товарища Вороновой. На мой взгляд, Никулин сделал содержательный, хороший доклад. Я думаю, что будет правильнее, если мы поблагодарим его…
Кирьянен первый захлопал в ладоши, за ним Анни, потом Оути Ивановна, потом весь зал. Сердце Николая забилось от радости, но он сообразил, что матери неудобно аплодировать, и взял ее за локоть. Оути Ивановна сконфуженно спрятала руки под передник.
— Докладчик говорил об энтузиазме, с которым весь народ участвует в строительстве гидростанций на Волге. Разве это не проявление культурного уровня и морального состояния наших людей? Чего же вы еще хотели от докладчика, товарищ Воронова?
Теперь все смотрели на Матрену Павловну. Он сидела прямо, словно проглотила палку, и только поджала свои тонкие губы.
Мякелев не был ни на воскреснике, ни на докладе. Не до этого. Он сидел дома сосредоточенный, хмурый и только недовольно кивнул головой, когда Анни с шумом открыла дверь и уже с порога крикнула, что Николай сделал хороший доклад и его сам Воронов похвалил. Наскоро перекусив, Анни умчалась, сказав, что придет сегодня поздно.
Мякелев всегда мало разговаривал с женой, но сегодня Акулина чувствовала, что муж чем-то уж очень сильно озабочен. Она ходила чуть не на цыпочках. Когда замяукала кошка, бедная женщина испугалась, тихо открыла дверь и выпустила кошку на улицу.
Мякелеву нужно было самостоятельно решить сложную проблему. Как быть с Потаповым? Невыполнение неоднократных приказаний начальника рейда о строительстве плотины достаточно веская причина для того, чтобы снять его с должности бригадира. Он, Мякелев, сможет это сделать теперь, потому что Воронов еще на больничном и обязанности начальника рейда лежат на нем, Мякелеве. Но шаг очень ответственный. Мякелев старался взвесить все, что может быть за и против. За — очень многое. Принципиальная постановка вопроса повысит его авторитет среди рабочих. Многие не считаются с ним, а после таких строгих мер увидят, что с ним надо считаться. Что́ может случиться со сплавом после снятия Потапова, Мякелева мало заботило, тут дело ясное: если провалится сплав на реке Пуорустаёки, то это можно свалить на старого бригадира, а если будет удача, то это, конечно, объясняется своевременно принятыми им, Мякелевым, строгими мерами.
Итак, за снятие Потапова с должности бригадира было много доводов. А против? Самое страшное, почему Мякелев так и мучился, было то, что он не знал, что могло быть против этой меры, а быть что-то должно, это он чувствовал. В любом деле всегда есть за и против. Если бы он знал, что может быть против, ему было бы легче, но теперь его страшила неизвестность. Заступников у Потапова много, это он тоже знал, и эти многие подкапываются под него, Мякелева. Они могут выкинуть что-нибудь…
И вдруг стало ясно, как быть! Все очень просто! Хорошие мысли тем и хороши, что они простые. Он собственноручно напишет приказ, сам объявит Потапову — значит приказ будет его, и все, что «за», будет его заслугой. А для того чтобы обезопасить себя от непредвиденных неприятностей, он добьется того, что подпись под приказом будет не его, а Воронова. Случись недоброе, Мякелев отойдет в сторонку и докажет документально, что он тут ни при чем, он только исполнитель воли другого. Так и надо сделать.
Уходя из клуба, Воронов почувствовал, что, пожалуй, для первого дня он был слишком долго на ногах. Голова опять стала разбаливаться, и он решил прилечь. Но только задремал, как в комнату вошел Мякелев с портфелем подмышкой. Он начал расспрашивать о самочувствии начальника, нерешительно теребя замок портфеля.
— Ничего, — отделался Воронов от его расспросов. — Устал немножко. А вообще пора приступать к работе.
— Так тебе понравился доклад Никулина? — спросил Мякелев.
— Да, понравился, — сухо ответил Воронов.
Мякелев понизил голос и наклонился к Воронову:
— Я тебе открою, только по секрету, между нами. Это дочь моя, Анни… Это она сидела над докладом, ее работа. Не мне хвалить, но она у меня умница.
— А почему это по секрету? — Воронов пожал плечами. — Молодые люди должны помогать друг другу. Это настоящая дружба.
— Какая у них дружба! — Мякелев с досадой махнул рукой. — Анни умница, много читает, девушка скромная, а он!..
Воронов прервал его, кивнул на портфель:
— Что у тебя там?
Мякелев деловито сказал:
— Не хотелось тебя беспокоить. Но что мы будем делать с Потаповым? Ведь он же отменил твое распоряжение — плотину не строят. Подумать только! Если мы оставим это так, то завтра, глядишь, все бригадиры начнут поступать, кому как заблагорассудится.
О, Мякелев знал, чем можно поддеть самолюбивого Воронова!
— А справится он без плотины? — сдерживая себя, спросил Воронов.
— Не думаю. Провалит. Я даже считаю, что он и с оформлением приема в партию нарочно спешит. Ведь если он провалит сплав, его не примут! А пока Кирьянен с ним заодно.
Не нравилось Воронову, что Мякелев всех оговаривает, но относительно Кирьянена он готов был согласиться. Давно ли Кирьянен был простым шофером, а теперь вмешивается во все дела? — злился Воронов. Наверное, это он и Николая подучил, чтобы тот упомянул в докладе электростанцию Туулилахти. Конечно, секретарь партийной организации имеет право вмешиваться в производственные дела, но расхлебывать кашу придется ведь только ему, Воронову.
Этих мыслей Воронов не высказал вслух. Об этом он поговорит на партийном собрании. Однако надо что-то решать, заместитель пришел за ответом, даже портфель не забыл захватить.
— Как же нам все-таки быть? — Мякелев нетерпеливо ждал, что скажет начальник.
— А ты-то что думаешь?
— Ну, я! — воскликнул Мякелев. — В этих делах решать надо тебе! — Он словно испугался, что Воронов тут же потребует его к ответу. — Я бы вообще тебя не беспокоил, если бы не боялся за сплав. Правда, у меня все оформлено — по документам видно, что строительство плотины на Пуорустаёки прекращено по вине Потапова и Кирьянена.
— Оформлять-то ты умеешь, знаю, — с насмешкой взглянул Воронов на Мякелева.
— Видишь ли, Потапов — человек с опытом, не так-то просто его с работы снять, мало ли что скажут…
— А когда я боялся разговоров? — с досадой воскликнул Воронов, даже и не заметив, что уже согласился с ловко подброшенным мнением Мякелева. — Пиши приказ!
— Как? Сейчас? — удивился Мякелев. Но тут же открыл портфель и вытащил заблаговременно приготовленную книгу приказов. — А кем его заменить? — спросил он, чиркая автоматической ручкой по странице книги.
— Койвуненом.
— Вот это правильно. Я тоже так думал.
— А Мийхкалинена отправить обратно на лоток. Нечего ему тут делать. Плотников тоже послать обратно, пусть строят плотину. Ясно?
Мякелев уже заканчивал приказ, как вдруг испугался: а что, если Воронов предложит ему самому подписать? Ведь Воронов еще на бюллетене… Но начальник уже протянул руку за книгой приказов. Мякелев взглянул на подпись, сунул книгу в портфель и поспешно удалился. Теперь все было в порядке: он насолил Кирьянену, снял с работы строптивого бригадира, и в то же время никто не может на него обижаться. А если плотину построить немедленно, то сплав будет обеспечен… И мелькнула мысль: «Я-то целый день мучился, думал-гадал, а он решил все в два счета. Вот что значит образование!»
После ухода Мякелева Воронов почувствовал какое-то беспокойство. Конечно, он правильно сделал, что проучил Потапова за его недисциплинированность. Но все же следовало бы посоветоваться с Кирьяненом. Не то чтобы изменить приказ, на это Воронов никогда не пойдет, но надо хоть поставить в известность секретаря парторганизации о том, что наделал его подшефный. Как там ни говори, а с приемом в партию Потапову теперь придется обождать, пока он не оправдает доверия на другой работе.
В конце концов, проще всего сходить к Кирьянену и поговорить с ним начистоту. Пусть он и сам подумает, как воздействовать на бывшего бригадира.
У Кирьянена сидел Потапов. На мгновение Воронов растерялся, потом решил, что так даже лучше.
Не отвечая на вопросы о самочувствии, Воронов сел за стол и сухо сказал:
— Знаете, Потапов, к чему привело вас ваше самоуправство? Сплав на вашем участке под угрозой! Терпеть это и дальше мы не можем! Я только что подписал приказ о снятии вас с должности бригадира. Зайдите к Мякелеву и ознакомьтесь с приказом. Бригадиром на Пуорустаёки назначен Койвунен. Вы останетесь в бригаде в качестве простого сплавщика. Вам все ясно?
— Вот оно что! — Потапов не мог скрыть, как он ошеломлен. Губы его подергивались, он хотел еще что-то сказать или спросить, но промолчал и отошел к окну, словно его заинтересовала пустая улица.
На широком лице Кирьянена выражалось смятение. Он потупил маленькие глаза, словно стыдясь чего-то. Тихо спросил:
— А кто будет на месте Койвунена у лотка?
— Мийхкалинен.
— Значит, на электростанции все работы приостанавливаются?
— Да.
Наступило долгое, неловкое молчание. Потапов все смотрел в окно, Кирьянен сосредоточенно разглядывал стол. Наконец Кирьянен спохватился:
— А сегодня партсобрание и первый вопрос — о приеме Потапова в кандидаты в члены партии.
Воронов пожал плечами. Потапов повернулся к ним и твердо сказал:
— Мое заявление о приеме сегодня нельзя обсуждать.
— Почему же? — удивился Кирьянен. — Вот и поговорили бы обо всем…
— От разговоров толку мало. А цыплят по осени считают. Закончим сплав, тогда и поговорим. — Обратившись к Воронову, спросил: — Где Мякелев? В конторе или дома?
Не дождавшись ответа, он вышел. Пусть начальник и секретарь парторганизации поговорят вдвоем. Он лишний. Лишний… Эта мысль больно ударила его. Лишним его теперь считают и в делах сплава!
Выйдя на улицу, он сел на бревна около дровяного сарая и закурил. В ногах чувствовалась тяжесть, во всем теле — усталость и в мыслях — горькая обида. С ним разговаривали, как со злоумышленником.
И как это складывается в жизни! Второй раз он подает заявление о вступлении в партию, и неудачно. В первый раз это было естественно — попал при ранении в чужую часть. А потом начали одолевать сомнения, готов ли он для вступления в партию. Долго он колебался и теперь и все-таки решил: может быть полезным для партии! Пусть он уже в годах, пусть по утрам в ногах хрустит и нужно время, пока они разомнутся, но для общего дела он еще многое может сделать. Не раз он думал: прямой ли дорогой идет он к партии, или были моменты колебания? Пожалуй, был в его жизни один момент, но тогда он был еще юношей. Они с отцом годами мечтали о собственной лошади, о том, как они будут тогда работать: отец станет заготовлять лес, а он будет возчиком. И вот, наконец, они накопили денег, и смогли купить молодую кобылу. Какой это был радостный день! Год спустя в деревне организовался колхоз. Потаповы не колебались, вступать в колхоз или нет, но он тогда сказал, что вступит при условии, если ему оставят кобылу. Над ним долго смеялись. Кобылу, он, конечно, сдал, но стыд за эти слова долго не покидал его.
Потом он стал думать о бригаде. Как отнесутся ребята к этой новости? Хорошо, что новым бригадиром назначен Койвунен — человек с опытом, настоящий сплавщик. Хорошо, что его, Потапова, оставили в бригаде. Он будет помогать Койвунену всем, чем может. Было бы смешно ставить вопрос так, что он, Потапов, будет в стороне, — посмотрим, мол, как вы справитесь. А потом, когда сплав успешно кончится, — в этом Потапов не сомневался, — можно снова подать заявление и попросить коммунистов рассудить, кто прав, кто виноват…
Мысли Потапова снова текли стройно и спокойно. Мало ли что может случиться в жизни! Не впервые же. За полтора года до финской войны было хуже — нашлись люди, которые хотели приписать ему всякую всячину, его чуть не посадили, хотели обвинить во вредительстве. Но ведь обошлось — человек всегда может доказать свою правоту.
Мякелев встретил Потапова в конторе с дружеским участием. Засуетился, предложил стул, вынул из ящика письменного стола книгу приказов, сказал:
— Мы не могли иначе, понимаешь — дело же не наше частное, а государственное… Михаил Матвеевич отвечает за успех сплава. А ты вот…
— Я тоже работаю для государства, значит я государственный человек. Впрочем, не будем об этом, давай приказ, распишусь.
— Ты уже знаешь?
— Да. Воронов сказал.
Мякелев немного растерялся. Ведь он не знал, какой был у Воронова разговор с Потаповым. Раскрыв перед Потаповым книгу приказов, он сказал:
— Я тут думал сделать так. Дадим тебе отпуск недели на две, съездишь к семье…
— Где расписываться? Я поеду обратно на реку.
— Как хочешь, как хочешь! — соболезнующе сказал Мякелев. Но Потапов видел, что он недоволен его решением.
Оставшись вдвоем с Вороновым, Кирьянен поднял глаза на начальника и медленно, немного смущенно заговорил:
— Михаил Матвеевич, я не хочу вмешиваться в твои дела, но должен сказать, что ты поступил неправильно…
— В чем же эта неправильность? — Воронов снисходительно улыбался.
— Да вот хоть с этой плотиной… Если Потапов утверждает, что справится и без нее, надо было подождать… Да и с электростанцией тоже… Мы тут провели производственное совещание. Весь коллектив решил, что строительство электростанции надо продолжать. А ты уже и Мийхкалинена отправляешь…
— Товарищ Кирьянен, — Воронов говорил сухо, спокойно, — ты действительно вмешиваешься в мои дела.
— Я говорю о нашем коллективе, с мнением которого тебе следует считаться.
— Вот что, товарищ Кирьянен, — Воронов встал, чтобы сказать последнее слово и уйти, — я должен тебя огорчить: у тебя еще слишком мал опыт. С этим ты должен согласиться! — Кирьянен утвердительно кивнул головой. — А партийная организация своего слова еще не сказала…
— Вот мы и хотели сегодня все это обсудить…
— Что же вы хотели обсуждать?
— Прием Потапова, дела производства… — Кирьянен открыл папку и посмотрел повестку дня. — Собирались поговорить и о выполнении производственного плана на запани. Докладчик Кюллиев.
— Эх! — Воронов засмеялся. — Да разве так можно, товарищ секретарь партийной организации! — Он укоризненно покачал головой и принялся дружески объяснять: — Выполнение производственного плана на запани зависит главным образом и прежде всего от того, как поступает древесина. Ты представь, что может получиться: вы решаете, что на запани надо выполнить производственные планы за каждую декаду, допустим, на сто десять процентов. А древесины поступит семьдесят процентов. Тогда что? Все решения полетят к черту. Надо прежде всего обсудить положение на всей трассе. А тут без разговора о самоуправстве Потапова не обойтись!
— Можно обсудить положение и на отдельном участке…
— Вообще-то верно, но надо взять самый ответственный участок, самый трудный. А таким сейчас является участок Пуорустаёки. И опять весь вопрос упрется в поведение Потапова.
— А как же быть с механизмами, с электростанцией… Ведь вот Ипатов приезжал… — Кирьянен чувствовал все большую растерянность.
Воронов рассмеялся:
— Да ты окончательно запутался, брат! Что вы будете говорить об электростанции, если начальник, — допустим, он и такой и сякой, — полностью приостановил работы и послал людей на трассу? Что вы будете говорить о механизации, когда механизмы лежат без движения?
— Вот об этом мы как раз и хотели поговорить…
Воронов вдруг остыл.
— Дело твое. Если будет собрание, сообщи, я приду. Но по-дружески скажу: оно у тебя не подготовлено. Ты можешь провести его, но это будет не для дела, а для формы. Я пошел. Устал что-то.
— Подожди… — Кирьянен собрался с мыслями. — Хорошо, мы перенесем собрание на недельку, придется тебе сделать доклад о ходе сплава. Как ты на это смотришь?
— А как я могу смотреть? Партийное поручение есть партийное поручение. Конечно, сделаю.
Когда дверь за Вороновым закрылась, Кирьянен долго еще сидел за столом, размышляя, как ему поступить. Собрание действительно не подготовлено. Говорить на нем надо не о Потапове, а о Воронове. Но как приступить к этому делу, с какой стороны — это он еще не уяснил. Не сомневался он в одном: действия коммуниста Воронова на посту начальника рейда неправильны.
Потапов в тот же вечер уехал обратно на реку. На следующий день Воронов сам хотел поехать на лоток и на Пуорустаёки, но чувствовал себя неважно, и Айно Андреевна категорически запретила поездку.
Пришлось послать Мякелева.
— По пути на Пуорустаёки снимешь Койвунена с лотка и переведешь на новую работу. Пусть он прежде всего восстановит плотину, хотя бы временную, для сплава этого года. Действуй согласно приказу. Проверишь состояние сплава, правильно ли расставлены люди, где коссы и другие сооружения. Словом, проверишь все, что необходимо для успешного окончания работы.
Он открыл дверь и крикнул:
— Кто там дежурит? Позвать конюха! Пусть оседлает лошадь для Мякелева.
Мякелев готовился к дороге. Он негодовал на Воронова, но и на себя тоже. Вот к чему приводит излишнее старание! Сидел бы он в конторе и занимался своим участком, ничего бы не случилось. Какое ему, в конце концов, дело, справится ли Потапов со сплавом или надо другого бригадира? За что же тогда получают зарплату мастера и бригадиры? Это им нужны плотины для сплава, а не ему, заместителю начальника. Пусть они сами и занимаются ими. Нет, пропади они пропадом! Мякелев больше не будет брать на свою шею чужой груз.
Жена встретила его встревоженным взглядом.
— Собирай продукты и одежду. Еду на Пуорустаёки.
— Зачем? — взволновалась Акулина.
— Зачем? — сердито проворчал Мякелев. — Начальства на каждом участке хоть отбавляй, а без меня не могут справиться. Вот и делай за них. А в день получки все тут как тут.
— В чем там дело, туатто? — спросила Анни, вышедшая из своей комнаты.
— Я же сказал: без меня не могут справиться. Если бы я не составил акта о плотине и не сменил бы бригадира, меня бы теперь не гнали в такой путь. И надо же мне было взвалить на себя чужую ношу! Теперь, что ни случись, — поезжай, проверь, доложи, составь акт. Как будто я один!
Конюх, рыжебородый старичок в легких пьексах, подвел к конторе большого, красивого жеребца. Конь перебирал ногами, вырывался из рук конюха и сердито ржал.
Мякелев в сопровождении дочери вышел из своего дома с тяжелым рюкзаком за плечами, в ватных штанах и телогрейке, хотя солнце жарко припекало. Увидев, какого коня ему привели, он невольно остановился. Конюх подбадривал его:
— Не бойся, Лийнакко успокоится, когда на дорогу выйдет!
Мякелев робко подошел к жеребцу. Двое рабочих взяли лошадь под уздцы и дружно подсадили Мякелева в седло.
— Ну, готов? — конюх протянул ему поводья.
Мякелев со страхом смотрел, запрокинув голову, на расстилавшуюся впереди улицу. По ней двигались две ломовые лошади. Дрожащим от страха голосом он закричал:
— Эй, вы там! Уберите прочь кобыл! Этого черта никто не удержит, если понесет! — и судорожно схватился за гриву лошади. Громко заржав, жеребец понесся вперед.
В толпе было только два человека, которые не смеялись над путешественником: Анни, красная от стыда, еле сдерживавшая слезы, и Николай Никулин.
…Никто не видел, как поступил с конем Мякелев несколькими минутами позже. Выехав из поселка, он кое-как успокоил жеребца и смог хотя бы слезть с него. Постояв в нерешительности и смущенно поглядывая в сторону Туулилахти, он направился по дороге, ведя лошадь за собой. Лошадь фыркала, выгибала шею и угрожающе ржала, как будто нарочно пугала шагающего пешком седока.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
В клубе было тепло и тихо. Большие стенные часы мерно тикали, и Анни казалось — они идут очень медленно, так медленно, как будто говорят, что впереди еще длинный вечер и спешить некуда. Анни не сиделось дома. Мать вздыхала и охала, что отец отправился в дальний путь. Она не знала и лучше, если не узнает, каким смешным он выглядел.
Девушка сидела за столом, подперев голову руками, и смотрела в окно. На улице и в новом саду клуба гуляли сплавщики с женами. На спортивной площадке парни и девушки играли в волейбол. Анни смотрела на них с завистью. Она никуда не могла пойти, ей было стыдно за отца.
Все военные годы и в первое время после войны Анни прожила у тетки, сначала в эвакуации, а потом в Петрозаводске. Но и живя дома, она очень редко виделась с отцом. Обедать они обычно приходили в разное время. Вечерами отец допоздна засиживался в конторе, а Анни уходила по своим делам. Отца мало интересовали хлопоты Анни, и ее — что писал отец в конторе. Когда они сходились вместе, отец говорил, что с людьми надо держать ухо востро, как будто его окружали одни жулики. Это оскорбляло Анни, она обычно молчала или переводила разговор на другую тему. Но большей частью за столом говорила только мать — о том, сколько дала корова молока, жаловалась на плохое сено, рассказывала про свои сны или про сплетни в поселке. В семье Мякелевых каждый жил своей жизнью.
Но сейчас, сидя за своим столиком в пустом клубе и вновь восстанавливая в памяти утреннюю сцену, Анни не хотела вспоминать о том раздражении, которое вызывал в ней отец своими несправедливыми жалобами, наветами на людей. Да, она знала, что отца почти все в поселке недолюбливают. Ну что ж! Заместитель начальника не может всем нравиться: одним приходится сказать резкое слово, другим отказать в какой-нибудь просьбе. И если люди и осуждают его, то чаще всего потому, что не знают, какую тяжелую жизнь прожил отец, сколько раз он встречал на своем пути людей, готовых перехватить кусок из чужого рта. Пусть отец иногда и ворчит: «Чужую ношу несу!», но работу он, наверное, любит, иначе не просиживал бы в конторе до поздней ночи. Отец не получил того образования, какое получил Воронов или хотя бы она, Анни. Он окончил всего три класса, да и то в старой школе. Как тяжело ему было пробивать себе путь в жизни! И почему она, его дочь, никогда не подумала об этом? И теперь ей казалось, что она ненавидит людей, которые выставили сегодня ее отца на посмешище. Ей не хотелось никого видеть, даже Николая, который тоже присутствовал, когда отец уезжал.
А Николай бродил по поселку, поминутно останавливаясь и оглядываясь по сторонам. Наконец он решился зайти в клуб.
— А я-то тебя ищу, — обрадовался Николай. — Пойдем гулять или кататься на лодке, вечер такой чудесный!
Анни молчала.
— Не стоит думать об этом, — уговаривал Николай.
— О чем об этом? — Анни с гневом взглянула на Него. — Оставь меня.
Но Николай, обычно терпеливо переносивший все ее капризы, сейчас не хотел подчиняться.
— Я понимаю, что тебе тяжело, но твой отец сам виноват, что люди смеются над ним. Переехала бы ты жить к нам. Мы же обо всем договорились. Какая разница, переедешь ли теперь или потом, когда я вернусь из армии?
— А почему мне надо переехать к тебе именно сейчас, а не потом? — На лбу у Анни появились морщины, предвещавшие бурю.
— Потому что тебе трудно жить с отцом…
— А тебе еще рано вмешиваться в наши семейные дела! — отрезала Анни и вскинула голову.
Затем она подошла к столу, взяла ключ и стала вертеть его, показывая, что ей некогда разговаривать. Николай вышел из комнаты. Он ждал на лесенке, пока Анни закроет дверь, но Анни прошла мимо, как будто и не заметив его.
Мать процеживала молоко, когда Анни пришла домой. Кот сидел у своей чашки, вытягивая шею и наблюдая зелеными глазами за каждым движением хозяйки.
— Как-то там твой бедный отец? Только бы не простудился! У него такое плохое здоровье!
— Когда отец вернется? — спросила Анни.
— Он ничего не сказал.
За ужином молчали, как и обычно. Акулина подкладывала дочери лучшие куски рыбника, толсто мазала на хлеб масло и поставила любимое кушанье Анни — простоквашу с сахаром. Анни была задумчива и ела неохотно.
— Что с тобой, Анни? — спросила обеспокоенная Акулина. — Не заболела ли ты?
— Да нет, ничего, — тихо ответила Анни. — Я тоже думаю — тяжело ему. Но больше некого было послать. Ведь Михаил Матвеевич болен. — А сама горько размышляла о том, что даже Николай не замечает, как несправедливы люди к ее отцу. Неужели Николай так никогда и не поймет, какую боль он ей причинил только что? Как мог он, близкий друг, предлагать ей переехать к нему? Разве может она бросить отца и мать? И ей уже казалось, что она даже не может больше любить Николая.
…Койвунен молча выслушал приказ о назначении его бригадиром и о срочном восстановлении старой плотины. Он хотел что-то сказать, но как раз засорился мундштук трубки и надо было проделать большую работу, чтобы его очистить. А Мякелев в это время уже ушел. Мийхкалинену, который вернулся на лоток бригадиром, Койвунен коротко сказал:
— Мне тут нечего сдавать. Сам все знаешь.
Тем не менее они вместе осмотрели лоток, подсчитали взглядом стоявшие у горловины лотка бревна, и Койвунен, в знак прощания, помахал рукой, поднял на сутулые плечи свои пожитки и медленно зашагал к Пуорустаёки, даже не спросив у Мякелева, пойдет ли тот с ним, или приедет позднее, и поедет ли вообще.
Мякелев добрался до Пуорустаёки к ночи. Усталый, он отдал коня первому попавшемуся навстречу сплавщику, побрел к костру и тяжело опустился на землю. Костер догорал. Возле костра стояла вымытая посуда, на сучьях сосны висели рюкзаки, сумки, берестяные кошели. Никого не было поблизости. Сплавщики отдыхали где-то в тени деревьев. Вскоре подошел сплавщик, принявший коня, и сказал, что бригадиры — старый и новый — идут в хвосте сплава. Это недалеко отсюда. Если Мякелев хочет пойти туда, он покажет дорогу.
— Нет, я подожду здесь, — ответил Мякелев. Не дело заместителя начальника сплава бегать в поисках бригадиров. Пусть они придут к нему. Но вслух он только добавил: — Устал я. Все-таки тридцать километров!
— Ну, на таком коне это пустяки, — сказал сплавщик.
— Конь — ничего, — согласился Мякелев. Не станет же он всем рассказывать, что всю дорогу вел коня на поводу. — Как у вас тут? — спросил он неопределенно.
— Да так себе. Воды мало.
— Спасибо, что вообще есть вода. Была бы плотина!..
— Да, тогда было бы хорошо! — согласился сплавщик.
— Вот-вот! — Мякелев чуть оживился. — Ты правильно говоришь, при плотине сплав можно было завершить успешно. Я твое мнение учту. Как твоя фамилия? Ты, кажется, из колхоза?
Сплавщик кивнул утвердительно и сказал свою фамилию. Мякелев тут же ее записал.
— С питанием у нас непорядок, — продолжал сплавщик. — На верховье был котлопункт, а здесь нет. Едим, что есть в сумке, всухомятку. Это же не дело!
— Да, но так было испокон веков, — ответил Мякелев. Заниматься котлопунктом не его дело! Воронов, чего доброго, скажет ему же: делай, организуй, раз начал! Он переменил разговор: — Позови Койвунена, скажи — я жду.
Сплавщик ушел, и Мякелев, расстелив парусиновый плащ, прилег. Как приятно было после ходьбы растянуться всем телом на хрустящем ягеле. Лишь бы не простудиться. Надо бы подкинуть сучьев в костер… Но пока он думал об этом, сон взял свое.
Поздно ночью Койвунен пришел к костру, но, увидев, как крепко спит Мякелев, не стал его будить. Он вскипятил чай, выпил две кружки, но Мякелев не просыпался. Койвунен ушел. Когда он вернулся к утру, Мякелев сидел, переобуваясь.
— А я тебя ждал, ждал, — с упреком сказал Мякелев. — Сколько времени? Восьмой час? Я тут с вечера жду.
— Мы хвост сплава подгоняем, — ответил Койвунен. — Может, покушаете сперва?
Мякелев открыл свой рюкзак, постелил на парусиновый плащ газету и разложил на нее рыбник, калитки, масло. Койвунен тоже присел и открыл свой рюкзак.
— Тут, я вижу, и котлопункта нет, — сказал Койвунен. — Вы бы распорядились насчет повара. Что ему делать на верховье? Там три человека рабочих осталось.
— Это долгая история. Нужно оформлять через ОРС.
— При чем тут ОРС? — возразил Койвунен. — Повар-то наш.
Мякелев не ответил. Не мог он говорить с полным ртом. Закончив завтрак, вытер нож, оглянулся кругом, заключил:
— А хорошо тут у вас. Курорт!
Он больше не желал заниматься посторонними разговорами и деловито спросил:
— Как тут дела? Ты уже все осмотрел?
Он вынул из рюкзака портфель, из портфеля — карту сплавного рейда. Койвунен наклонился над картой, долго искал синюю ленточку Пуорустаёки, потом, найдя нужное место, ткнул пальцем:
— Хвост сплава у них тут. Пойдем посмотрим, это недалеко.
— Почему ты говоришь «у них»? Ты же теперь здесь руководитель! — назидательно сказал Мякелев.
— Знаете, с ружьем медведя ищешь, да за кустами не видишь, а без ружья наткнешься, и сам о том пожалеешь! — насмешливо ответил Койвунен. — Ну что же, пойдем, там видно будет.
— А там не сыро? — озабоченно спросил Мякелев. — А то у меня сапоги протекают. Впрочем, это потом, а теперь займемся делом. Составим список рабочих бригады по разрядам. Это раз. Список распределения рабочей силы по участку. Это два. Сводку за пятидневку. Три. Работы нам хватит часа на четыре, я знаю. Надо бы какой-нибудь столик или ящик, на крайний случай.
— Ничего мы тут с вами не сделаем, — твердо возразил Койвунен. — Я человек новый. Сведения эти есть у Потапова, и все надо посмотреть на месте. Так что надо идти туда.
Мякелеву ничего не оставалось, как следовать за Койвуненом. Идти было трудно. Как ни обсохли болота, ноги погружались глубоко, и казалось, не вытащить сапог из грязи.
Они увидели Потапова, стоящего с багром в руках в пяти шагах от берега, по колено в воде. Перед ним было несколько бревен, прикрепленных друг к другу, образовавших небольшое заграждение перед прибрежными камнями. Койвунен остановился на берегу и стал молча наблюдать за продвижением толстой сосны по воде, точно только для этого пришел сюда. Сосна ударилась о коссу, в нерешительности остановилась, потом повернулась к середине русла и продолжала свой путь.
— Хорошо, — Койвунен кивнул головой. — Теперь они не задержатся! Может быть, ты, Потапов, пойдешь с нами?
Потапов вылез из воды и пошел за Койвуненом и Мякелевым. Они останавливались всюду, где были заградительные боны, коссы или дежурили сплавщики. Иногда старый и новый бригадиры обменивались короткими фразами, вопросительными взглядами, а то и просто кивали друг другу. Они, знавшие на этой реке малейший изгиб, любой подводный камень, понимали без слов значение каждой коссы или заграждения, и Мякелеву трудно было следить за их мыслью. Ничего интересного Мякелев не нашел ни в коссах, ни в других сооружениях: коссы как коссы! Немало и он их видел на своем веку. Вскоре он предложил:
— Пойдем обратно. У нас много дел.
Но Койвунен с Потаповым не согласились. Им хотелось еще раз вместе с заместителем начальника рейда осмотреть весь участок до самого хвоста сплава. Мякелеву оставалось только понуро брести вслед за ними. Часа через два они добрались до того места, где происходила очистка берега от оставшихся на суше бревен. Здесь уплывали в путь последние бревна — это и был хвост сплава. Мякелев облегченно вздохнул, предполагая, что теперь-то они пойдут обратно, но не тут-то было. Потапов предложил осмотреть весь берег, где хвост-сплава уже прошел, не осталась ли там на суше древесина, и Койвунен согласился с ним. Отказаться от такой проверки Мякелев никак не мог. Усталый и уже равнодушный ко всему, он снова плелся вслед за ними. Берег был совершенно чист, ни одного бревнышка не нашли они на всем своем пути. Добравшись до места, где в первый день сплава начали скатку бревен лебедками, они отдохнули минут пятнадцать, а потом молча зашагали уже прямым путем до того места, где была плотина. Тут Мякелев впервые заговорил:
— Видите, товарищ Потапов, что вы наделали? Плотина не восстановлена и даже материал не заготовлен.
— Строительный материал в другом месте, там, пониже… — Потапов показал рукой за болото.
— А как же переправлять его сюда, против течения? Ведь надо выделять трактор! Сколько рабочих часов это потребует?
Никто не ответил. Старый и новый бригадиры пошли туда, где, по мнению Потапова, надо было построить плотину. Мякелев отказался. Он боялся, что если пойдет туда, то это могут расценить, будто он ставит под сомнение правильность приказа начальника рейда. Он пошел обратно на Пожарище, к стоянке бригады.
Пора белых ночей уже миновала. Над Пожарищем расстилались сумерки — такие прозрачные, какие бывают только на севере в безоблачные и безлунные ночи во второй половине июля. Темнозеленые ели сливаются с яркозелеными молодыми соснами на фоне мутноголубого неба. И только у костра вновь оживают пни и деревья: кажется, что чем ярче горит костер, тем ближе и толще они становятся, а как только угасает пламя, они отдаляются, становятся тоньше и вот-вот совсем сольются с темнозеленой стеной тихо и монотонно шумящего леса.
Мякелева клонило ко сну, но уснуть он не мог — тело зудело от комариных укусов. Правда, у костра комаров было меньше, но у Мякелева осталось такое ощущение, будто он парил шею, лицо и руки веником из крапивы.
На работу вышла ночная смена, а Потапова и Койвунена все еще не было. Освободившиеся от смены сплавщики, усевшись у костра, поужинали, закурили и растянулись на хвое, но, видно, спать еще не собирались.
Мякелев, приподнялся на локте и спросил у сплавщиков, хорошо ли они знают Койвунена.
— Кто же Койвунена не знает! — сказал один из сплавщиков.
Другой, который уже улегся, снова сел, закурил цыгарку. В этих прозрачных сумерках казалось, что лица у сплавщика нет, просто кто-то невидимый раздувает горячий уголь среди маленького черного куста можжевельника. Глаз не было видно, горящая цыгарка освещала лишь бороду и обросшие густой щетиной щеки.
— Знаем! — подтвердил он и сильно затянулся табачным дымом. — Мы с ним вместе рыбачили… муку.
— То есть что это значит — «рыбачили муку»? — Мякелев подозрительно посмотрел на чернобородого. Не посмеиваются ли над ним?
— Очень просто — удили мешки с мукой в воде, как рыбу. — Рассказчик умолк, но, увидев, что один за другим сплавщики приподнимаются продолжал: — Это было осенью в сорок третьем году. Белофинны переправляли продукты для своего гарнизона по реке Туулиёки. А мы целую неделю сидели без еды. Голод не тетка, ласки мало. Нас было пятеро, все, что остались в живых, да трое раненых в лесу. Вот мы и решили запастись едой у финнов. У них было две лодки, и на них полно автоматчиков. Нам было невыгодно, чтобы они причалили к берегу, но оставлять их на середине реки тоже не хотелось — добро пропадет. Вот Койвунен и стал кричать им: возьмите, мол, нас в лодку, мы свои. Те остановились и начали спрашивать, из какой мы части да знаем ли мы пароль. А нам и показаться нельзя — одежда на нас самая партизанская: у кого куртка, у кого шинель. Так и сидим в кустах и оттуда ведем переговоры. Те — народ недоверчивый, за автоматы схватились. Ну что ж, у нас тоже кое-что было. Угостили чем бог послал, штук десять гранат угодили прямо в лодки — нате на здоровье, потом еще посолили свинцом, без соли какое же угощенье! Словом, они быстро успокоились и пошли на дно — одни в лодке, другие за нею.
Но и нам тут долго ждать не пришлось. На выстрелы пришла к ним помощь, правда, поздно, и мы дали тягу. Километров десять отмахали, потом закурили, а кишки воют пуще прежнего. Койвунен и говорит: не дело, чтобы добро к рыбам пошло. Кто пойдет со мной? Пошли мы вдвоем. Темно, дождь идет, но нам это как раз и нужно. На берегу никого, ну, и лодок нет. Соорудили плот, а это не просто, когда шуметь нельзя. Течение несет плот, а в темноте нам неведомо, где мешки с продуктами. Смотрю, у Койвунена все наперед задумано. Из-за пазухи веревку достал, на ней большой крючок из трех багров, вроде маленького якоря. Ну, вот и стали мы рыбачить. Плот идет по течению, а веревка за плотом, вроде дорожки. Крючок зацепится за мешок, мы вытащим его — и на берег. Так до утра. Мешков десять муки да пару ящиков консервов достали. Утром припрятали, замаскировали, нагрузили кое-что на себя — и к своим. В общем зажили на славу, еще до следующего похода оставили.
— А как ее есть, муку-то, когда она в воде была? — усомнился кто-то.
— Ничего с ней не делается, сколько ни лежит в воде. Только сверху промокнет на три пальца, не больше, — объяснил рассказчик. — Другое дело сахар и соль, они, конечно, пропадут.
Мякелев слушал с раскрытыми глазами. Неужели все это правда? Он ясно представил себе бой с лодками, но это было страшно. Тут с обеих сторон стреляли, а он — «угостили чем бог послал»! Представил он и ночную ловлю мешков из воды. Ведь вражеский солдат мог в это время подкараулить за кустом и выстрелить. А он — «рыбачили». «Все они сочиняют!» — заключил Мякелев. Но спорить не стал: слишком доверчиво слушали люди, пусть верят.
Наконец пришли Койвунен и Потапов, — Койвунен такой сутулый, промокший, что Мякелев сразу решил: нет, это не герой! Он сердито упрекнул:
— Не ценишь ты время, товарищ Койвунен. Мы бы за вечер успели все оформить, как полагается, а ты пропадаешь!
Койвунен достал из костра горячий уголь, голыми пальцами приложил его к трубке и сосредоточенно зачмокал губами, пока не загорелся табак. Как всегда, некоторое время курил молча, сплюнул сквозь зубы в костер, потом коротко сказал Мякелеву:
— Я все осмотрел. Бригадиром я тут не буду.
— Что это такое? Как не будешь? А приказ?
Койвунен спокойно объяснил:
— Дело такое, товарищ Мякелев, что сплав здесь можно закончить и без плотины, как Потапов наметил. Я мешать не хочу, он сделает лучше меня.
— Но я же объявил тебе приказ. Могу еще раз прочесть.
Мякелев стал развязывать сумку. Койвунен отстранил его сумку рукой:
— Не надо. Ни приказ, и никакая плотина тут не помогут. Хвост сплава пройдет раньше, чем плотина будет готова. А на будущий год надо строить на новом месте. Материал заготовлен. Словом, это дело уже ваше. Мне скажите только одно: где мне быть — у Потапова или у Мийхкалинена?
Не отвечая на вопрос Койвунена, Мякелев обратился к Потапову:
— Видишь, до чего распустились люди? Сам не подчиняешься приказам, и другим приказы нипочем! — Как ни был растерян Мякелев после отказа Койвунена, ему было приятно показать людям свою власть. — Что ж, с вами обоими придется еще поговорить, ничего не поделаешь. Если нам доверено государственное дело, мы не имеем права шутки шутить. Но это потом! А теперь нам нужен бригадир. Койвунен отказывается? Хорошо. Назначим другого. И немедленно. Тут же. — Мякелев обвел присутствующих взглядом. Многих он знал — ведь все эти люди ходили в контору за зарплатой, многим он выписывал дополнительные наряды, а некоторых еще не запомнил — здесь были и временные рабочие, из колхозов.
Рябой парень, лихо сдвинув кепку на затылок и кому-то подмигнув, предложил Мякелеву:
— Назначьте меня. Моя фамилия Кольенен.
— Но на вас у меня нету никакой характеристики, — усомнился Мякелев, вопросительно взглянув на парня.
— Не беда, — продолжал парень. — Это мы мигом сделаем. Пишите: за время работы в данном предприятии проявил себя. В чем — это неважно. Пишите дальше: обладает организаторскими способностями. Дисциплинирован. Морально устойчив. Перечить начальству не будет…
Мякелев не понимал, почему засмеялись сплавщики. Ведь этот молодой парень, наверное, не без способностей. Уже одно то, что он знает, как писать характеристики, говорит в его пользу. Ему казалось даже, что он где-то видел этого парня, но никак не мог припомнить, где именно. Смеялся и знакомый Мякелеву сплавщик Пекшуев, улыбались Койвунен и Потапов. Но вдруг Пекшуев оборвал парня:
— Если бы ты, Кольенен, работал багром так, как работаешь языком, хорошо было бы!
Мякелев понял, что парень издевается над ним. Спасибо Пекшуеву, что во-время остановил этого остряка. В то же время он вдруг сообразил, что есть у него решение. И сам удивился, как быстро принял это решение. Но сказал официально, как сказал бы в таких случаях Воронов:
— В связи с тем, что Потапов снят с должности бригадира приказом по сплавному рейду, и в виду того, что Койвунен отказывается подчиняться приказу о его назначении бригадиром, на эту должность назначается товарищ Пекшуев.
— О-хо-хо! — вырвалось у Пекшуева. — Здорово!
— Другого выхода нет. Приказ будет подписан, когда я вернусь в Туулилахти.
Видимо, Пекшуев тоже понимал, что другого выхода нет.
— Валяйте. Так что, ребята, учтите, я — чин!
Мякелев вдруг почувствовал странную усталость. Если бы хоть кто-нибудь смотрел на него с готовностью выполнить все, что он прикажет, он бы чувствовал себя смелым, умным. Считаются же с ним, когда он в конторе! А тут ему казалось, что стоит сказать еще слово, как раздастся уничтожающий смех, а это самое страшное — быть осмеянным. Мякелев встал и важно, с достоинством пошел к берегу. Однако он все же услышал за спиной сдержанный смех.
Не успел Мякелев добраться до Туулилахти, как Койвунен связался по телефону с Вороновым.
— Тут, видите ли, какое дело, — гудел его голос в трубке.
Но Воронову пришлось долго ждать продолжения. Он даже подумал, что, видно, у Койвунена опять его злополучная трубка засорилась, и теперь жди, пока он ее прочистит да закурит.
— Мякелев сказал вам, что вы назначены бригадиром? — спросил Воронов, чтобы ускорить разговор.
— Подождите, подождите. — Койвунен не позволяет торопить себя. — Тут, видите ли, что получается…
И он принялся медленно объяснять, какое положение на Пуорустаёки. Воронов и без карты знал каждый изгиб этой реки, и ему легко было следить за рассказом Койвунена об уровне воды, о продвижении хвоста сплава, о сооружениях, которые обеспечат его дальнейший проход. «Этот знает дело!» — подумал Воронов, довольный тем, что на место упрямого Потапова назначил Койвунена. И вдруг тот выпалил:
— Так что никаким бригадиром я тут не буду!
Воронов погрозил кулаком в телефонный аппарат.
— Что за черт! Что вы говорите, я не понимаю!
— То, что изменять тут ничего не надо. Вот это я и хотел сказать.
Трубка умолкла. Койвунен на другом конце провода, далеко от Туулилахти, ждал, что́ теперь скажет начальник. А начальник ничего не мог сказать.
Воронов даже любил, чтобы при обсуждении какого-нибудь вопроса с ним спорили. Он умел быстро переубедить людей. Но не было случая ни в армии, ни здесь, на сплаве, чтобы возражали после того, как он отдал приказ. Теперь он услышал спокойный голос старого сплавщика, отказавшегося подчиняться его приказу. Будь на месте Койвунена кто-нибудь другой, он не стал бы сдерживаться и двумя-тремя гневными словами осадил непослушного. Но медлительный, всегда спокойный Койвунен вызывал у него уважение, которого он не мог не чувствовать даже сейчас, хотя глаза его налились кровью и руки невольно задрожали.
— Это что же, вы у Потапова научились не подчиняться приказам? — тихо, сдерживая себя, спросил он, чтобы не сказать что-нибудь более резкое. И услышал спокойный ответ Койвунена:
— Вы говорите то же, что Мякелев. Он так сказал. А я же вам объяснил, как тут обстоит дело.
«То же, что Мякелев!..» Воронов отнял телефонную трубку от уха. Никогда раньше сплавщики этого ему не говорили. Он знал, что о нем говорили иначе: «Михаил Матвеевич — это не Мякелев!»
— Где Мякелев? — спросил он подавленным голосом.
— К вам уехал, еще вчера.
— Ладно, я позвоню вам снова.
Воронов повесил трубку, открыл дверь своего кабинета и попросил делопроизводителя:
— Узнайте, не приехал ли Мякелев.
— Говорят, только что приехал. Отдыхает.
— Просите его сюда.
Мякелев сидел перед Вороновым усталый и недовольный. Он привез сведения за пятидневку, но эти сведения поступили в контору и без него. Он сделал записи о распределении рабочей силы во всех бригадах, но, оказалось, Воронов это уже знал. Составил новые списки рабочих по разрядам, но такие списки были в конторе…
Обо всем этом Воронов расспрашивал тихим, но нетерпеливым голосом, быстро переходя от одного вопроса к другому. Мякелев чувствовал, что начальник почему-то избегает главных вопросов — о состоянии сплава, о положении с плотиной, о бригадире… Поэтому Мякелев старался как можно дольше говорить о том, что он видел на реке.
— Как только я приехал на место, я потребовал у Потапова и Койвунена, чтобы они не рассказывали, а показали, как у них обстоит дело. Пошли мы, значит, пешком по берегу. А воды там!.. У меня к тому же сапоги протекают…
— Нет там никакой воды, все высохло, — прервал его Воронов и, не дослушав, что Мякелев видел на реке, спросил: — Ну, кто там сейчас верховодит?
Мякелев тяжело вздохнул.
— Распустились люди, Михаил Матвеевич, пока ты лежал больной. Приказ им нипочем. Ты представь — Койвунен отказался. Конечно, лучше сидеть в сторонке, меньше ответственности.
— Знаю, что Койвунен отказался. Дальше?
— Ах, ты уже знаешь? — Мякелев облегченно перевел дыхание. — Я назначил бригадиром Пекшуева…
— Пекшуева?!
— Ты ведь знаешь его. — Мякелев начал характеризовать нового бригадира: — Давно работает на сплаве, проявил себя с положительной стороны. Если не ошибаюсь, мы не раз премировали его…
— А он что?
— Пробовал шутками отделаться, но это от скромности, а скромность украшает человека, не мне тебе говорить. Но за дело он, я думаю, возьмется по-настоящему.
Искоса взглянув на очки Мякелева, Воронов опросил:
— Ты, значит, сам осмотрел весь участок?
Мякелев усердно кивал головой, но на словах был более скромным:
— Не то чтобы весь участок, но в основном… Узловые пункты, те, от которых зависит успех.
— Как ты считаешь: справятся они на Пуорустаёки?
— М-да, тут трудно сказать. Если взять, к примеру, участки, где сильнее течение и русло глубже, то, конечно… Но где мели, тут может быть всякое. Хотя, с другой стороны, у них коссы и прочее в таких местах. Могут справиться…
Воронов не стал больше расспрашивать Мякелева и велел ему идти отдыхать. Когда дверь за ним закрылась, он взялся за телефонную трубку, чтобы позвонить в Пуорустаёки, но передумал и повесил ее обратно. «Пекшуев так Пекшуев, — подумал он устало. — Сплавщик он хороший, пусть научится руководить». Главное, что хотел Воронов, сделано — он проучил упрямого Потапова и показал всем, что с ним и с его приказами надо считаться. А с Койвуненом он еще поговорит!
И тут же приказал делопроизводителю отправить телефонограмму в Пуорустаёки, чтобы Койвунен явился в контору.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Очередное партийное собрание состоялось через неделю и уже с новой повесткой дня.
В ожидании начала курильщики так завесили комнату густыми синими облаками, что Кирьянен открыл окно. Из клуба слышалось пение.
Слово для доклада о ходе сплава дали Воронову.
Обычно, когда Воронов выступал на собраниях, он умел захватить слушателей, находил убедительные примеры, заставляя своим пристальным взглядом, обращенным то на одного, то на другого слушателя, следить за ходом своей мысли. О достижениях он говорил так, что было приятно сознавать свое участие в них, а если переходил к недостаткам, то те, кто были виноваты, сидели с опущенными в пол глазами.
Сегодня он начал доклад сухо и каким-то подавленным голосом. Он говорил, словно читал по неразборчивому тексту:
— Подготовку к сплаву мы провели более организованно, чем в предыдущие годы. Задолго до начала сплава на многие участки впервые в истории этого рейда были направлены лебедки для скатки бревен…
Он перечислил новые гидросооружения.
— Были и ошибки. На реке Пуорустаёки сорвало плотину по моему недосмотру. Но когда я захотел исправить положение, выделил рабочую силу для восстановления плотины, то нашлись товарищи, — Воронов почему-то укоризненно взглянул на Кирьянена, — которые захотели обязательно сделать по-своему. Я имею в виду бывшего бригадира Потапова. Он не восстановил плотину, игнорировал все мои приказы… Пришлось применить административные меры — снять его с должности бригадира. Сплав на реке Пуорустаёки под угрозой.
Кюллиев, вздохнув, посмотрел на докладчика. Кирьянен сосредоточенно рисовал какие-то квадратики.
Воронов стал говорить о других участках.
Вяло и скучно тикали стенные часы. Из открытых окон доносились крики и смех игравших на улице детей. Воронов покосился на окно, взглядом прося кого-нибудь закрыть его, но никто не поднялся. Пусть будет больше свежего воздуха. Кюллиев держал перед собой лист бумаги для записей и ничего не записывал.
— На запани предполагались большие работы по дальнейшей механизации трудоемких работ, — продолжал Воронов, — но по независящим от нас обстоятельствам многие из них приостановлены. Все вы знаете, что наш главный механик болен. Как только он вернется, мы возобновим эти работы…
Кирьянен, откинувшись назад, часто взглядывал на докладчика, словно тот говорил новые, ему еще неизвестные, удивительные вещи.
Воронов перешел к перечислению имен лучших стахановцев, опыт которых надо сделать достоянием всех остальных сплавщиков.
Ему не задали ни одного вопроса. Кто-то предложил сделать перерыв, но от этого отказались: окна открыты, можно курить и в комнате.
— Кто хочет взять слово первым? — несколько раз спросил Кирьянен. Желающих что-то не было. — Ну, кто хочет взять слово вторым, в таком случае? — пошутил он.
Поднялся Кюллиев. Обычно он приходил на собрание с кипой бумаг в руках, долго перелистывал их, но говорил, не глядя на бумаги. Вот и сейчас он вздохнул, сунул свои записи в карман и начал с шутки:
— Хорошо секретарю такого собрания! Стоит прочесть протокол одного из предыдущих, кое-что изменить, поставить новую дату — и глядишь, протокол готов. Почему же так получается, товарищ секретарь партийной организации и товарищ докладчик?
Кюллиев выжидающе посмотрел на Кирьянена и Воронова и помолчал, словно действительно ждал, что кто-нибудь объяснит ему, как это получается. Потом ответил сам:
— Не умеем мы ставить на партийных собраниях вопросы производства так остро, как они стоят в жизни. Вот коммунист и начальник сплава товарищ Воронов докладывал, как обстоит дело. Слушаешь — и вроде ничего. Работы начались хорошо, возникли неожиданные трудности, их преодолевают, и так далее и тому подобное. Остается пропеть: «И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!»
Кое-кто начал улыбаться: вот дает жизни! Воронов усмехнулся: смотри-ка, он, оказывается, и острить умеет! Кирьянен, не мигая, глядел, на мастера, словно умолял: «Ну, ну, продолжай!»
— А ведь песни тоже всякие бывают. С иной и пропадешь. С такой песней, какую запел товарищ Воронов на трассе, не очень-то далеко уйдешь! Вы помните эту песню: старая плотина, старая плотина!.. Жаль, что я не умею рифмовать. О новых людях надо было думать, товарищ Воронов, а не о старой плотине! О людях, которые сегодня думают о том, что будет завтра. О наших коммунистах и беспартийных передовых сплавщиках, которые показали, что такое авангард. Воронов не думал о них, не слушал их, и, смотрите, получилось смешно и грустно: строителей гоняют туда, сюда, продолжаются споры, восстанавливать старую плотину или не восстанавливать, а тем временем древесина идет, идет, несмотря ни на что, идет как в жизни все идет вперед, прямо по той самой диалектике, о которой Воронов так умно и так хорошо говорит на занятиях политкружка. Но не идет только дело, которым поручено руководить Воронову: не строятся ни старая, ни новая плотина, ни электростанция, ни направляющие боны на озере Пуорустаярви, не строится как раз то, что ускоряло бы нашу работу.
Кирьянен удовлетворенно кивал головой. Накануне собрания они разговаривали с Кюллиевым о положении на рейде, но он не ожидал, что этот ворчливый мастер сумеет так остро рассказать о будничных делах производства.
— Я не говорю, что Воронов умышленно не хочет ускорить строительство электростанции, новой плотины и всего, что нам нужно завтра. Но он боится, что мы не справимся с тем, что нам нужно сделать сегодня, он не верит в наши силы, не верит, хотя сама жизнь доказывает правоту людей. На озере во время бури люди, и сам Воронов среди них, справились с бонами, которые раньше не были протянуты по вине того же Воронова. На реке люди быстро разобрали затор, который образовался по вине опять же Воронова. Воронов говорит, что сплав на реке Пуорустаёки под угрозой. А Потапов был здесь и утверждал, что они справятся. Я верю Потапову, и неправильно вы, товарищ Воронов, сделали, что сняли его с должности бригадира. Почему вы считаете необходимым во всем сомневаться и делать все по-своему? А что получилось на запани? Здесь, на запани, простые люди, которым и Воронов, и Александров не очень-то доверяли дело механизации, справились и с бортовыми упорами и с довольно сложными задачами ремонта машин. Я еще раз спрашиваю, какое же вы имеете право не доверять людям, товарищ Воронов? Почему вы думаете, что вы один строите коммунизм?
Воронов заерзал на стуле. Это его обвиняют в недоверии к людям! Ведь не кто иной, как он, Воронов, упрекал Александрова в этом грехе!
Речь Кюллиева произвела такое впечатление, словно открыли клапан, сдерживавший все, что за последнее время накопилось на душе у людей. Заговорили все: один не успевал закончить, как уже два-три новых оратора просились к столу. Один из работающих на сортировке потребовал расставить рабочую силу по-новому, грузчики вспомнили о предложении направлять вагонетки прямо в железнодорожные вагоны…
«Ну, Кирьянену нечего будет и сказать», — подумал Воронов, но ошибся. Кирьянен удивил его с первых же слов:
— Я получил письмо от Койвунена и от Пекшуева. С Потаповым я разговаривал по телефону. Напрасно ты не доверял им, Михаил Матвеевич. Теперь можно с уверенностью сказать, что со сплавом бригада справилась. Самые опасные мели хвост сплава миновал. В этом году уже не надо ни новой, ни старой плотины…
«Что это такое — ему пишут, а мне нет?» — с мучительной болью подумал Воронов. Кирьянен тем временем продолжал говорить. Он говорил о гидростанции на Хаукикоски, о том, что в ближайшие годы там будет построена бумажная фабрика.
— Мы строим коммунизм и здесь, а не только в Каховке, — продолжал Кирьянен. — Механизация трудоемких работ — это задача, которую не под силу решить одному инженеру или конструктору. И у нас на сплаве один Александров или Воронов с этим не справятся. Мы должны привлечь к этому делу всех знающих людей. И это наша с вами задача, товарищ Воронов! — Кирьянен посмотрел в глаза Воронову. — Жаль, что ты не мог присутствовать на производственном совещании. Ты бы услышал, что рабочие не хотят сидеть сложа руки, пока вернется Александров, как сидим мы…
— Кто сидит сложа руки? — вырвалось у Воронова.
— Мы с тобой, — ответил Кирьянен. — Ты все время бегаешь по трассе, как будто люди там не сумеют сделать без тебя ни одного шага. Дай им возможность проявить свою инициативу. Займи свое место руководителя. Ты переложил руководство запанью на Мякелева. Что же он делает? Помог ли он Степаненко и Никулину? Помогает ли Кюллиеву установить шпалорезку? Заботится ли он о строительстве электростанции? Он тормозит работу, а ты не хочешь этого даже замечать…
— Я уже давно собираюсь выгнать его, — буркнул Воронов.
— Слишком легкий выход, товарищ Воронов, — ответил Кирьянен. — Может быть, его еще можно научить, помочь ему, на то мы и авангард рабочего класса.
А коммунисты продолжали выступать. Вспоминались предложения рабочих и бригадиров, к словам которых Воронов не прислушался. Обиднее всего Воронову было то, что его фамилию то и дело склоняли вместе с фамилией Мякелева.
Воронову предоставили заключительное слово. Он с раздражением сказал:
— Мне нечего говорить!..
Но он вспомнил, где находится, и примирительно добавил:
— Мне надо подумать.
Когда Воронов вышел из клуба, было уже темно. Он ускорил шаги, чтобы быть одному. Однако откуда-то из темноты вынырнул Кирьянен и поравнялся с ним. Они пошли рядом. Кирьянен посмотрел на покрытое тучами темное небо и промолвил:
— Ветер усиливается. Теперь закатит на целую неделю!
Воронов шел молча. Кирьянен снова заговорил:
— В прошлый раз ты был прав: собрание действительно было не подготовлено.
— А это, ты считаешь, подготовлено? — язвительно спросил Воронов.
— Думаю, что так. Ты же сам советовал расшевелить людей. Вот они и поговорили по душам, правда?
Воронов промолчал. Кирьянен, искоса взглянув на него, сказал:
— А если ты обижаешься, то зря… Тебя потому так резко и критикуют, что уважают.
— Ты что это? Утешаешь? — сердито огрызнулся Воронов. — Избавь, пожалуйста, меня от этого.
— Да что ты, Михаил Матвеевич? Какой я утешитель?
Еще что-то пробормотав, Кирьянен свернул к себе. Довольный собранием, он думал, что все должны радоваться вместе с ним, и огорчился, что Воронов все свел к уязвленному самолюбию. А ведь его, Кирьянена, тоже покритиковали, и довольно основательно.
…Придя домой, Воронов включил свет, но от яркого блеска лампы в комнате стало особенно неуютно. «Надо будет купить абажур», — решил он и тут же забыл об абажуре. Пришла мысль, что у Ольги, наверное, уютная комната, ковры, у нее тепло… И больнее, чем раньше, кольнула мысль, что, может, в ее комнате сидит кто-нибудь в кресле, развалившись, с папиросой в зубах.
Когда-то они так сидели с Ольгой. И сколько было между ними разговоров! Как внимательна была Ольга к нему, к каждому его слову! И как она постепенно охладевала. Да, это верно, вспоминал Воронов, постепенно. Он оказался одиноким еще и при совместной жизни с Ольгой. Неужели было так, что он подавлял ее даже в мельчайших житейских вопросах? Теперь он спокойнее обдумывал письмо Ольги. Как ни горьки были ее упреки, все же было приятнее думать о ее письме, чем о сегодняшнем собрании. Хотя… что-то общее здесь было. Но о чем бы он ни думал, в комнате веяло холодом…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Сильный ветер дул с озера. Волны набегали одна за другой тяжелыми, широкими валами. Чем ближе они подкатывались к берегу, тем уже и острее становились их гребни. Широкая полоса прибрежного песка напоминала пенящийся порог. Волны смыли с прибрежного песка обуглившиеся остатки потухших костров, как будто никто — ни рыбаки, ни гуляющая в субботний вечер молодежь — не задерживался здесь послушать тихие всплески волн. Буря прогнала людей с песчаного берега, а суда с открытой воды.
Сюда, на бурлящий пеной берег, пришел только один человек. Ветер трепал его брезентовый плащ и сердито выбрасывал искры из его папиросы. Маленькая собачка с острой мордой стояла возле него, боязливо помахивая хвостом, когда хозяин смотрел на нее.
Буря подняла воду на реке Туулиёки. Вчера нескольку пучков бревен сорвались с цепей, уплыли на озеро и рассыпались. Их собрали, но все-таки Воронов решил посмотреть, не выбросило ли часть из них на берег. По правде говоря, ему было трудно идти на запань, где он мог встретить Кирьянена или Кюллиева. Еще станут смотреть соболезнующими глазами: как, мол, обдумал, за что тебя критиковали на партийном собрании? Да, он думает уже третий день. Мало ли он сделал для сплава? Мало ли он сделал для механизации? Кто достал лебедки, локомобили, сплоточную машину? Он с Александровым. Он не верит в способности людей? И кто это говорил? Кюллиев и Кирьянен. А по чьему почину один из них стал мастером, другой механиком? По его, Воронова. Кто поддерживал Александрова в его новаторстве? Он, Воронов…
Большая волна помчалась к берегу, крутя вырванные со дна водоросли. Приближаясь, она шумела сильнее других и, разбившись о песок, выбросила брызги прямо к ногам. Воронов пошел по направлению к поселку.
Его упрекали и в том, что он сам пошел разбирать затор. Тут он, конечно, допустил ошибку, но есть же ошибки, которые не все способны совершать. Пошел бы Кюллиев на затор? Ну, Кюллиев, быть может, и пошел бы, но мало ли людей, которые безупречны лишь потому, что неспособны к действию? Почему-то вспомнилось, как Ольга однажды, после боя под Цинтеном в Восточной Пруссии, упрекала его за то, что он зря подставил себя под огонь. Но в этих упреках было столько теплой ласки, что с того дня Воронов стал еще больше любить ее.
Зорька остановилась и, навострив уши, смотрела на холмик. Из-за холма появился мальчик в слишком большом для него плаще.
— Михаил Матвеевич, — крикнул мальчик, — вас ищут в поселке.
— Сейчас приду, — машинально ответил Воронов и вдруг подумал: «А что же, собственно, произошло? Почему он избегает людей, бродит по берегу, словно лунатик, когда другие заняты работой?» Спросил мальчика: — А ты, Минко, собираешься рыбу удить?
— Да, в устье реки. Там вот такие большущие окуни…
Но Воронову было не до окуней. Он заторопился в поселок.
В конторе ждал Койвунен. Мякелев успел шепнуть Воронову, кивнув на Койвунена:
— Хорошие вести принес. Я же сказал тебе, что они справятся. Опять я оказался прав!
Воронов сухо поздоровался с Койвуненом и повел за собой в кабинет. Койвунен сел и задумчиво пососал трубку, в которой не было огня. Воронов протянул ему спички, открыл окно. Крепкий синий дымок узкой полоской заструился через открытое окно на улицу.
— Почему не сразу приехали, когда я вызвал вас? — сухо спросил Воронов.
— Никак не мог, Михаил Матвеевич, — сказал Койвунен и, помолчав, будто что-то обдумывая, продолжал: — Трудно там было, но теперь, кажись, все. Хвост сплава миновал Пожарище.
— Уже Пожарище?! — Воронов обрадовался. — Значит, все в порядке!
— Да, в порядке.
Воронов и раньше не очень ясно представлял, как он будет объясняться с Койвуненом. Надо бы наказать его за непослушание. Но, с другой стороны, Койвунен мог сослаться на то, что не справился бы с бригадирством. Да и положение дел ему было виднее там, на месте. А теперь, после партийного собрания да еще после такой новости, он уже совершенно не знал, как говорить с этим старым сплавщиком.
— Значит, вернулись? Ну что ж, идите отдыхайте с дороги.
— Да что мне отдыхать? Не устал я, на машине приехал. Где я буду работать?
— На сортировке.
— Что ж, дело знакомое. Так можно идти?
Воронов кивнул головой, потом вдруг спросил:
— Как там Пекшуев? Справляется?
Койвунен взглянул на дверь, за которой работал Мякелев, и довольно громко сказал:
— А он тоже отказался от бригадирства. Посмеялись мы над приказом Мякелева, да и ладно, а работами по-прежнему руководит Потапов.
— Ладно, идите отдыхать.
Когда Койвунен вышел, Воронов взялся за телефон, чтобы соединиться с Пуорустаёки. «Как хорошо, что они передвигают телефон с хвостом сплава!» — подумал он.
Пока на Пуорустаёки искали Потапова, Воронов успел обдумать, как он будет с ним разговаривать. Если не легко было победить себя и признать свою ошибку, то еще труднее будет убедить Потапова принять отнятую было должность, хотя он и руководит бригадой. «Конечно, он теперь будет язвить и издеваться, прежде чем согласится», — думал Воронов.
Наконец позвонили из Пуорустаёки. У телефона был Пекшуев. Не ожидая, что скажет ему начальник, Пекшуев сообщил, что работами попрежнему руководит Потапов, и не плохо — хвост сплава уже ниже Пожарища. Приказа Мякелева о назначении его бригадиром он всерьез и не принял.
Трубку взял Потапов. К большому удивлению Воронова, Потапов не язвил и не упорствовал, а сказал спокойно:
— Что ж, я так и знал, что мне тут придется завершать, раз начал. Ничего, справимся, самое трудное позади.
Еще раз кратко обрисовав положение на реке, Потапов попросил, чтобы немедленно организовали котлопункт. Только теперь он повысил голос:
— Это же возмутительно, когда на трассу приезжает заместитель начальника и даже слушать не хочет жалоб рабочих. Ему говорят о котлопункте, а он хоть бы что! Мол, испокон веков так было. Его самого бы посадить на недельку на сухой паек! А сколько у него жалоб, на которые он даже не отвечает!
— Какие жалобы?
— А вы сами у него спросите! — только тут в голосе Потапова послышалась язвительность.
Воронов распорядился о перенесении котлопункта к сплавщикам. Но на душе было скверно и неспокойно. Он спросил как бы мимоходом у Мякелева, хорошо ли организовано питание сплавщиков на Пуорустаёки. Мякелев сказал, что сплавщики едят каждый из своего мешка, как всегда делали на сплаве. А ему некогда было питанием заниматься. И никто ему не поручал заниматься этим вопросом.
— Так-так… — Воронов не мог больше сдерживать гнева, словно не он, а Мякелев был виноват во всем, в чем он сам ошибался. — Так чем же ты занимался? Комедию устроил, так что до сих пор над тобой смеются… А когда тебе о деле говорили, ты ухом не повел. Хвост сплава приближается к озеру, а котлопункт идет в обозе. Ты знаешь, что такое идти в обозе? Но у нас-то с тобой столовая рядом, мы сыты. Нам многое могут простить, но чтобы не прислушиваться к нуждам рабочих — этого никто не простит.
Таким гневным Мякелев никогда своего начальника не видел. Он долго подыскивал слова, чтобы оправдаться как-нибудь, но ничего не успел сказать. Воронов захлопнул за собой дверь и ушел на запань.
Древесина, после того как вода поднялась в реке, шла медленно и как будто неохотно. Бревна надо было подталкивать баграми. Однако буря не смогла приостановить работы людей на запани. Колеса лебедки сплоточной машины грохотали, как и прежде, и тяжелые пучки один за другим падали в воду. Попрежнему гремели транспортеры, скрежетали циркульные пилы, лебедки, подъемные краны.
На изгибе реки стоял сутулый человек, вонзая свой багор в одно бревно за другим. Искры и густой дым вылетали из его трубки.
Воронов подошел к Койвунену.
— Ну, вы уже здесь? Я же сказал, чтобы пошли отдохнуть с дороги.
— На что мне отдых! — пробурчал Койвунен. — Что я один буду дома делать? Кирьянен ведь еще на работе. Выпил кофе и пришел сюда.
Воронов с досадой вспомнил, как он собирался разнести этого старого трудолюбивого сплавщика. Что ему теперь сказать? И так все ясно. Он спросил дружески:
— Здоровье у вас как, попрежнему крепкое?
— А что мне? Я же Койвунен[5]. Береза такое дерево, что чем старше становится, тем крепче и тверже. Как ваша головушка поживает?
— Она, наверное, тоже из крепкого материала, если и бревном не прошибло, — усмехнулся Воронов. — Немного еще кружится.
— Тогда надо бы дома посидеть.
— Ничего! — Воронов прошел на запань к транспортеру. Две молодые девушки подталкивали бревна на цепь транспортера. Крепкая цепь с грохотом поднималась из воды и подхватывала своими крючками одно бревно за другим, унося их по отлогому мостику к высокому зданию, откуда слышался шум локомобиля. Распиленные бревна падали на площадку, с которой их грузили на машины.
Узкоколейные разъездные пути сходились и расходились, они ныряли между штабелями пропсов к шпалорезкам, к циркульным пилам.
Стучал локомобиль, грохотали скатывающиеся с транспортера на площадку бревна, шумели пилы. Громче всех звенела, шумела и взвизгивала шпалорезка. Окутанный облаком мелких опилок, стоял паренек и, наклонившись вперед, быстро двигал железным рычагом. Сложная машина послушно подчинялась движению его руки. Воронов не мог не залюбоваться его работой. Этот парень тоже критиковал Воронова на партийном собрании за то, что до сих пор не сделано усовершенствование к вагонеткам. «Он имеет право критиковать, — подумал Воронов. — Ведь на этих вагонетках приходится ему работать…»
Воронов подошел к шпалорезке и, поздоровавшись с парнем, стал наблюдать за работой вагонетки. Улучшить вагонетку на самом деле нетрудно, давно надо было дать распоряжение.
Мастер Кюллиев беседовал о чем-то с плотниками. Они соорудили между штабелями крепкое основание высотой с большой стол. Кузнец Канкинен измерял на нем два узкоколейных рельса, концы которых были изогнуты крюками.
Воронов сдержанно поздоровался и стал объяснять Канкинену, что нужно сделать для улучшения вагонетки шпалорезки. Кюллиев ждал молча, потом, когда Канкинен ушел, подошел к Воронову и развернул аккуратно сложенную бумагу.
— Вот что у нас должно получиться.
Воронов расправил бумагу. Это был оставленный Александровым чертеж дисковой пилы, изготовляющей дранку. Воронов помнил, что чертеж остался незаконченным. В нем недоставало верхней части сооружения, которая подавала бы доски на распиловку. Теперь и эта часть была изображена на бумаге.
— Кто закончил чертеж? — спросил Воронов.
— Подумайте только, Степаненко! — ответил Кюллиев.
— Степаненко-то сделает! — ответил Воронов, не выказав ни тени удивления и этим как бы утвердив чертеж. — Когда вы закончите это сооружение?
— Закончишь тут! — пробурчал Кюллиев. — Этот твой Мякелев не дает маленького электромотора, хотя он выписан специально для дисковой пилы.
— Почему не дает?
— Говорит, что это ненужное оборудование и что его надо отправить в трест. Сам он ненужный.
«Опять Мякелев!» — сердито подумал Воронов и, пообещав, что двигатель выдадут немедленно, попросил продолжать работу.
Уходя, Воронов еще раз искоса взглянул на Кюллиева. В глазах Кюллиева было полное одобрение. Мастер был рад, что начальник понял, как нужен этот электромотор, а переживания Воронова его не интересовали.
Канкинен стоял уже у новой дисковой пилы и записывал размеры, чтобы приступить к работе. Парень у шпалорезки не мог не похвастать:
— Вот завтра у нас пойдет работа, это да! Зайдите-ка к нам утром! Канкинен обещает к утру переделать вагонетку.
«Во всяком случае это можно было сделать раньше. На это не требовалось месяца», — подумал Воронов, все сильнее злясь на себя.
На сплоточной машине Воронов застал смену Никулина, но в машинном отделении сидел еще Пааво Кюллиев и с ним Степаненко. Пааво, установив на козлах железный брус, загибал на нем деревянным молотком края железного листа. Степаненко внимательно следил за его работой.
— Что же из этого получится? — спросил Воронов, указав на лист.
Степаненко взял из рук Пааво лист и начал вертеть его в руках, как будто и он еще не понимал, что из него получится. Пааво взглянул на стоявшего у рычага Николая, чтобы тот ответил на вопрос начальника.
Николай, закончив обвязку пучка, стал объяснять:
— Это корытце под машину, куда будет стекать отработанное машинное масло.
Воронов захотел испробовать. Он взял железный лист и приладил его под машину. Степаненко зашел за паровой котел и нажал какой-то рычажок. Приводной ремень у главной оси натянулся и привел в движение стоявший на краю судна насос, который начал откачивать воду из трюма. А раньше насос приводился, в движение вручную. Потом Степаненко привел в движение другой насос, который стал накачивать забортную воду в стоявший рядом с паровым котлом большой железный бак, откуда трубы направляли эту воду в паровой котел. Николай ревниво следил, заметит ли начальник все эти новшества. И, конечно, Воронов не мог не заметить.
— Ну, как? — не утерпел Николай.
Воронов не успел ответить. Зубчатое колесо лебедки с грохотом завертелось, поднимая из воды большой пучок бревен. Вместо ответа Воронов похлопал Николая по плечу. Когда пучок был готов, он спросил у Степаненко:
— Может быть, Микола Петрович, останетесь здесь вторым машинистом, когда Николай уйдет в армию?
Степаненко ответил, как будто давно ждал этого предложения:
— А это уж как начальство найдет нужным. Ведь мне и тогда можно будет взрывать камни?
— А кто же их станет взрывать? — согласился Воронов. — Большую часть взрывных работ мы все равно проводим после окончания сплава.
Пааво еще сильнее застучал по железу. Воронов поднялся на палубу судна. Ветер трепал полы его парусинового плаща. Воронов смотрел вверх по реке. Несмотря на сильную встречную волну, древесина попрежнему проплывала через главные ворота в канал, а отсюда расходилась по сортировочным дворикам. Машины ни минуты не стояли без дела.
Работы проходили так, как он и представлял себе, лежа больной. Но совсем иначе, чем прежде, он воспринимал грохот машин и стук бревен. Что-то неуловимо менялось и на производстве и в его сознании.
А Кирьянен в это время сидел в маленькой конторке механической мастерской, где в грубом дощатом ящике хранились книги нарядов, чертежи и другая документация. Здесь же он хранил письма Александрова. Сегодня пришло еще одно письмо. Кирьянену было немного обидно, что Александров ни слова не пишет о себе, о том, как он лечится, отдыхает и проводит время. Если бы не сухое обращение «Товарищ Кирьянен!», можно было подумать, что начало письма где-то затеряно. «Когда лебедка или автокран поднимают древесину на штабеля, — начинал Александров свое письмо, — то двое рабочих должны тянуть тяжелый стальной трос обратно к берегу на плечах. Это отнимает много времени и энергии, а между тем эту тяжелую работу может выполнить машина. Я думал над этим и пришел к выводу, что надо против каждого штабеля поставить небольшой блок, через который будет скользить трос. Прилагаю чертеж этого блока и считаю, что их удастся сделать и без меня…»
Чертеж был нарисован тщательно, и Кирьянен подумал, что любой ученик начальной школы мог бы по нему соорудить этот блок. «Их удастся сделать и без меня…» — горько усмехнулся Кирьянен. По мнению Александрова, только это и больше ничего. Но обижаться не стоило. Идея Александрова действительно хороша, и надо немедленно ее осуществить, но накопилось много неотложных дел. Придется поручить это кому-нибудь другому. Но кому? Все механики заняты.
Вдруг возникла блестящая мысль: а что, если попросить Мякелева заняться этим делом? Кирьянен чуть не расхохотался от удовольствия. Что скажет Александров, когда узнает, что блок сооружен под руководством Мякелева? Но главное не в том, чтобы удивить Александрова. Самое замечательное здесь то, что Мякелев будет втянут в дело механизации, которого он всячески избегает. Сегодня он сделает блок, увлечется и завтра, глядишь, уже совершенно по-другому будет относиться к вопросам рационализации и механизации.
Мякелев выслушал Кирьянена равнодушно, только еле заметные морщинки недовольства пробежали по его лицу. Но он ни словом не высказал этого недовольства. Наоборот, он пошел вместе с Кирьяненом на берег, чтобы на месте посмотреть, где и как поставить блоки.
Кирьянен поспешил обрадовать Воронова новостью о том, чем занят его заместитель. Воронов явно удивился. Когда Кирьянен закончил, он сказал только одну фразу:
— Поздравляю тебя!
Кирьянен не уловил в этом восклицании насмешки.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
На следующий день буря утихла, и на прибрежный песок с озера набегала только легкая зыбь. По небу неслись белоснежные облака; отражаясь в озере, они, казалось, покачивались, переливаясь разными оттенками.
После бури вода на нижнем течении Туулиёки стала быстро спадать. Это резко изменило поступление древесины на рейд. Теперь ее движение не надо было ускорять баграми. Убывающая вода двигалась к главным воротам запани с удвоенной скоростью. Для сортировщиков наступили трудные времена. Тяжелые бревна наплывали друг на друга, становились дыбом. Одни поворачивали и шли поперек течения, другие вдоль, в общем потоке неслись пиловочный лес, шпалы, крепежник, дрова. Но сортировщики не успевали распределять древесину по сортировочным дворикам.
В дни бури часть сортировщиков была направлена на трассу ускорять движение древесины к главному фарватеру и в запань. Теперь не хватало рабочей силы у сортировочных ворот. На суше остались лишь строители электростанции да несколько человек у новой циркульной пилы.
Мякелева все время беспокоила мысль о том, что количество поступающей с трассы древесины все увеличивается. Он боялся, что сортировщики не управятся. Где же тут было думать о блоке! Да он и вообще не думал о нем. Согласился с Кирьяненом он только для того, чтобы его не стали обвинять в чем-либо. Из-за какого-то там блока могут ведь только слегка покритиковать. Установка блока не значится ни в каком графике работ, на нее нет даже расценок. Другое дело работа сортировщиков. Вот эти работы входят в пятидневные сводки, о них спрашивает сплавная контора, трест, министерство. Нет, это такое дело, за которое могут крепко взгреть, и тогда самокритикой не отделаешься.
Мякелев поспешил на оплотники. Он отдал распоряжение приостановить все остальные работы и перевести людей на сортировку. Увидев, что к каждым воротам стало по двое, он только тогда успокоился и вернулся в контору.
Часом позже на берег пришли Воронов и Кирьянен.
Подставка для дисковой пилы одиноко выделялась на открытом участке между штабелями досок. На строительстве электростанции тоже никого не было.
Канкинен опустил рельс на землю и недоуменно остановился. Воронов пошел разыскивать мастера.
— Где же народ? — спросил Воронов, встретив Кюллиева.
— На реке, — буркнул Кюллиев. — Так мы никогда ничего не закончим. Лучше уж действительно отдать и машины и запасные части.
— Кто отправил людей на реку? — спросил удивленный Воронов.
— Кто же еще, как не Мякелев.
— Зачем?
— Откуда я знаю? Мастеру тут, видно, ни слова не дадут сказать.
Воронов оглядел запань.
У каждых сортировочных ворот стояло по два человека, и казалось, действительно всем хватало работы. Только Койвунен работал в одиночестве.
Воронов подошел к нему и задал обычный вопрос:
— Ну, как дела?
— Да что ж тут… — нехотя пробурчал Койвунен и продолжал направлять бревна в свои ворота редкими и сильными движениями.
— Что это вы не в духе, как будто сырую рыбу проглотили? — спросил Воронов.
— Проглотишь, если заставляют. Много у нас задумано, да, видно, все останется по-старому. — Он указал на берег. — Ребята хвастались, что теперь у нас будет и то и другое, но, должно быть, так ничего и не будет. Только позорят нас, сортировщиков. Здесь народу черным-черно, а на строительстве электростанции ни души.
— Мякелев утверждает, что на сортировочных воротах работы прибавилось. Вам разве не трудно управляться одному?
— Да пришел и ко мне сюда человек, но я сказал, чтобы он отправлялся восвояси.
Воронов видел, что Койвунен справляется и один, но надо было посмотреть, как идут дела у других. Он отправился к следующим сортировочным воротам, где отбирались балансы и пропсы. Ни один из сортировщиков не имел возможности остановиться ни на минуту. Стремительный поток быстро нес древесину по главному фарватеру, и надо было успеть рассортировать ее.
— Здесь-то один человек, вероятно, не управился бы, — сказал Воронов, наблюдая за работой.
— Тут и два-то человека не успевают пот утирать, — ответил сортировщик, искоса взглянув на Воронова, и спросил: — А куда требуется направить второго?
— Туда, на берег, — ответил Воронов, указав рукой в сторону электростанции.
— Ну, это другое дело! — ответил сплавщик. — С утра управлялся один, и теперь управлюсь. Ну-ка, освободи место! — сказал он напарнику и встал на середину мостика.
Воронов приказал отправить людей обратно на берег и вернулся в контору.
Было уже далеко за полдень. Мякелев ушел на обед и унес с собой ключ от конторы. На просторном дворе играли дети. Девочки прыгали через веревочку, два мальчика боролись, а остальные возились в песке. В течение нескольких дней из-за бури дети не могли играть на улице. Впрочем, земля и сейчас была еще сыроватой. Но от этого, казалось, еще теплее грело солнце.
Воронов послал одного из мальчиков за ключом, а сам присел на лесенку и стал наблюдать за игрой ребят.
На лужайке был собран разный строительный материал: чурки, обручи, коробки из картона. Дети складывали из них постройки с башнями, колоннами и арочными воротами. Строители громко совещались и спорили, без стеснения критиковали друг друга, разбирали построенное, строили заново.
В песке были прорыты прямые длинные канавки. Это были каналы. На них строились плотины и запруды. Дети туда наливали воду, но, к их огорчению, вода быстро впитывалась в землю. Для строительства плотин древесину возили с другого конца лужайки. Игрушечный поезд с полдюжиной вагонов был сделан так искусно, что Воронов встал, чтобы рассмотреть его поближе. Ребята сказали, что это им сделал дядя Микола.
Посланец вернулся с ключом, и Воронов пошел к себе. Но и оттуда он долго смотрел на детей.
Детская игра заключает в себе много больше, чем простое подражание, раздумывал Воронов. Дети в душе своей художники. Они хотят в своем творчестве отразить все то, что видят в жизни.
Вошел Мякелев.
— Я не знал, что ты скоро вернешься, — сказал он виновато.
Воронов приготовил было резкую речь в адрес своего заместителя, но сейчас он уже остыл. Кивнув на окно, за которым шумели дети, спросил:
— Видел, что там делают?
— Разве этих озорников остановишь? — вздохнул Мякелев. — Шумят весь день. Я уже говорил, чтобы шли на берег или куда-нибудь, если им дома не сидится, и сторожиху посылал разогнать их, — не действуют ни уговоры, ни угрозы!
— А их и не надо разгонять, — усмехнулся Воронов, усаживаясь за свой стол. — За ними надо понаблюдать. У них слова не расходятся с делом. Они строят, не стесняясь, критикуют друг друга, исправляют свои ошибки и опять строят. У нас, взрослых, слово и дело… нет-нет да и разойдутся.
— Так, точно так, — поддакивал Мякелев, не понимая, что хочет сказать Воронов. Потом протер очки, надел их, раскрыл толстую папку. — Может быть, ты посмотришь эти наряды?
Воронов взял наряды, но отложил их.
— Почему вы не передали мотор установщикам новой дисковой пилы?
— Да на что нам эта дисковая пила, Михаил Матвеевич! — воскликнул Мякелев. — Я специально просмотрел все заявки и ни в одной не нашел даже намека на то, чтобы кто-нибудь заказывал у нас дранку для штукатурных работ. Ипатов тоже не сказал…
— А с блоком как?
Мякелев посмотрел на него с недоумением.
— Кирьянен же говорил вам, — пояснил Воронов.
— Ах, да! — вспомнил Мякелев. — Так эти дела к нам с тобой не относятся. Пусть Кирьянен сам сделает.
По строгости, с которой Воронов задавал вопросы, по тому, как он обращался на «вы», Мякелев почувствовал, что Воронов чем-то недоволен, и поспешил оправдаться.
— Я был на рейде. Вода спадает, и древесина поступает быстро…
— Я тоже там был.
— Я решил перевести всех свободных людей на сортировку.
— А разве люди, которые строят электростанцию и устанавливают дисковую пилу, бездельничают?
Мякелев выпрямился на стуле и беспомощно смотрел на начальника, моргая глазами. Таким тоном Воронов с ним никогда не говорил. И этого тона Мякелев испугался больше, чем любого выговора.
Мякелев всегда боялся чего-нибудь. Когда началась война, он боялся, что попадет на фронт. Тогда он без вызова отправился в военный комиссариат и представил старую справку о том, что у него больная печень. Справку оставили, и Мякелев стал бояться, что ее затеряют. Когда райком партии начал формировать партизанский отряд, Мякелев и туда пошел без вызова и пожаловался, что он никогда не стоял на лыжах, даже мальчишкой, и что на старости лет ему трудно будет научиться. Потом он пошел в Министерство лесной промышленности. Во время войны ощущался большой недостаток специалистов лесного дела, и ему легко было устроиться начальником лесопункта, хотя большого опыта он не имел. Всю войну он прожил в страхе, что кто-нибудь подкопается под него и он будет отстранен. Его не хвалили, но и не критиковали, а он опасался как того, так и другого. Если бы его стали хвалить, то обратили бы на него внимание, а этого он не желал. Он считал, что лучше всего осторожность во всем, что бы ни делал. Он мог иногда и покритиковать других, и даже довольно сурово, но только после того, как кто-нибудь из авторитетных товарищей скажет свое критическое слово.
Прошло уже несколько лет после войны, но страх Мякелева не уменьшался. Наоборот, увеличился! Ведь он был уже заместителем начальника сплава, а чем выше пост, тем больше завидуют тому, кто этот пост занимает, — так думал Мякелев. Да и поводов для страха прибавилось.
Даже простые мастера в эти годы закончили лесной техникум или занимались самостоятельно, а у Мякелева не было никакой специальной подготовки. Каждый год на сплав привозили новые сложные машины, сплавщики научились работать на них, а Мякелев и не пытался с этими машинами ознакомиться. Он чувствовал, что люди чуждаются его, и думал, что все они подкапываются под него. Единственным его оружием была осторожность, максимальная осторожность во всем. Но в последнее время он, как ни остерегался, очутился меж двух огней. Приказы и инструкции сплавной конторы и треста были строгими, а Воронов поправлял их, когда считал это нужным, и Мякелеву ничего не оставалось делать, как слушаться своего начальника. Он понимал, что без Воронова не мог бы справиться с работой. Он завидовал Воронову, который ничего не боялся — ни книг, ни машин, ни треста, ни министерства, ни дождя, ни мороза, а из прошлого Воронова Мякелев знал, что тот не боялся даже смерти.
Работать Мякелеву становилось все труднее и труднее. Раньше ему не приходилось ломать голову над тем, сколько же надо платить за ремонт той или иной машины. Весь ремонт машин производили или в центральных мастерских сплавной конторы, или в Петрозаводске, и оттуда поступал готовый счет. А сейчас надо было опасаться каждой бумажки, которая поступала из своей же механической мастерской. Мякелев всегда надеялся на приказы и инструкции — нужно было только выучить их, и тогда никто не сможет придраться. Теперь он начал бояться даже инструкций и приказов, так как в них каждый раз содержалось что-нибудь новое, чего он не понимал.
Воронов заметил испуг Мякелева. Ему даже стало жаль своего заместителя. Он начал говорить более дружелюбно. Рационализаторские предложения рабочих свидетельствуют о техническом росте масс. Все стремятся к тому, чтобы механизировать возможно большее количество трудовых процессов. Было бы преступлением препятствовать этому стремлению рабочих. Наоборот, надо поддерживать их. И даже больше — руководство должно идти впереди. На запани действительно слишком много силовых установок. Надо добиться того, чтобы был установлен центральный источник энергии, а для этого необходимо спешить с постройкой электростанции…
Воронов говорил своему заместителю то, что ему самому говорили на партийном собрании и о чем он так много думал в последнее время. Теперь ему уже казалось, что истины эти очень просты, что стоит их высказать, и каждый поймет. Вот понимает же Мякелев! Это видно уже по тому, как он внимателен…
Мякелев слушал и кивал головой. А что еще он мог делать?
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Зорька ожидала хозяина на крыльце конторы. Когда Воронов вышел, она побежала впереди него к дому, но хозяин повернул в сторону прибрежной улицы. Зорька нерешительно приостановилась, потом вдруг ринулась обходной тропинкой к электростанции. Она не ошиблась. Через некоторое время туда пришел и Воронов.
Из сплавной конторы приехал инженер для установки оборудования электростанции. Локомобиль был поставлен на прочное цементное основание. Кирьянен с тревогой следил за инженером, который, мрачно нахмурив брови, измерял помещение стальным метром, затем делал какие-то вычисления на бумаге и опять раскладывал свой метр. Воронов тоже напряженно ожидал, что скажет инженер: могло же случиться, что они с Кирьяненом и Степаненко ошиблись в расчетах. Зорька почувствовала тревогу хозяина и поняла ее по-своему — она смотрела злыми глазами на инженера и, казалось, готова была разорвать этого человека. Но Зорька ошиблась. Чужой человек оказался не таким плохим, каким выглядел. Он сложил свой стальной метр и сказал Воронову что-то такое, от чего тот облегченно вздохнул и сразу повеселел. Зорька сочла необходимым помахать приезжему хвостом.
Кирьянен вытащил из кармана носовой платок и вытер затылок, хотя внутри нового, еще пахнущего смолой здания было совсем не жарко.
— Теперь мы, вероятно, уже можем натягивать провода? — спросил Воронов у инженера.
— Можно, — согласился инженер, — я задержусь здесь еще несколько дней. Пусть Степаненко поможет Кирьянену. Он, кажется, очень толковый человек.
— Хорошо, хорошо! — обещал Воронов. — Кого только потребуете.
Когда все вышли из здания электростанции, Зорька припустилась к конторе, но снова ошиблась. Воронов направился домой.
Умывшись, Воронов уселся за письменный стол, взял чистый лист бумаги и написал: «Здравствуй, Петр Иванович!..» Он бранил себя за то, что не писал Александрову уже три недели. Он бросил бумагу в корзину и начал заново: «Дорогой друг, Петр Иванович!..»
Сегодня он решил написать два письма — Александрову и Ольге.
Александрову он написал почти шесть страниц — обо всем, что в последнее время произошло на запани. Еще раз перечитав последнее письмо Александрова, он прибавил: «Напрасно ты беспокоишься. Все идет полным ходом и с электростанцией и с мастерской. Грешным делом, я боялся, что работы по механизации приостановятся после твоего отъезда. Но не такой у нас народ! За мои сомнения намылили мне немного шею». Написал он и о партийном собрании, о Кирьянене, Степаненко, отце и сыне Кюллиевых. «Приезжай скорее, работы хватит еще и тебе».
Трудно было писать Ольге. Долго он ломал голову над первой строкой. «Милая, дорогая…» не могло теперь соответствовать содержанию письма. И не хотелось обидеть сухой официальностью. Что бы ни случилось между ними, они должны остаться друзьями и никогда не обижать друг друга.
Он долго сидел, писал, рвал бумагу, снова писал и снова рвал и не заметил, как подошло время врачебного визита. Айно все еще числила его больным и навещала раз в день.
Айно пришла в легком летнем платье без рукавов. Ее плечи и руки уже загорели, на щеках играл румянец.
Воронов поднялся навстречу врачу. Айно расспросила, чувствует ли еще Воронов головную боль и какой у него аппетит. Воронов отшучивался, что его ничто не беспокоит, кроме лени, и что он способен съесть даже поджаренные в масле гвозди.
— Расскажите мне о чем-нибудь! — попросил Воронов.
— О чем?
Воронову все равно — о чем угодно: о больнице, о цветах, о книгах, которые она читает, хотя бы о нарядах, о которых женщины с удовольствием беседуют между собой. Но Айно вдруг задала вопрос, который Воронов меньше всего ожидал:
— Я видела, что вы шли от электростанции. Что сказал инженер?
— Вы хотите, чтобы у меня действительно заболела голова, — попробовал Воронов отшутиться. — Об этом я и так вынужден думать целые дни. У вас совершенно нет жалости.
— Тем легче вам рассказать, — не отступала Айно. — И еще один вопрос: вы довольны тем, что Степаненко сделал на сплоточной машине, в мастерских и на электростанции?
— Скажите, вы смеетесь надо мной? — спросил уже с раздражением Воронов.
— А почему я не могу спрашивать серьезно? — в голосе Айно послышались нотки обиды.
— Ну конечно, можете, — ответил Воронов примирительно. — Я ведь тоже разговариваю о болезнях. Но ваши вопросы меня в самом деле поставили в тупик. Добро бы вы интересовались больницей. Там тоже надо бы сделать ремонт, но я никак не соберусь. Но производственные дела сплавного рейда! Этого я никак не ожидал! Давайте лучше поговорим о чем-нибудь другом.
В дверь осторожно постучали. Немного раздраженным голосом Воронов крикнул: «Войдите!» Увидев на пороге Матрену Павловну, чуть не выругался. Ее только и не хватало!
Матрена Павловна выглядела очень нарядной: в синем шелковом платье и в новой с большими полями шляпе. Шляпа была отделана широкой шелковой лентой, такой, какую она носила в молодости. «Точно гадалка!» — мелькнуло в мыслях Воронова, когда он взглянул на ее наряд.
Она открыла дверь, смущенно улыбнулась, но, заметив Айно, сжала губы.
— Миша, я зашла спросить, может быть, тебе нужно помочь? Ты так утомляешься…
— Ничего мне не нужно, — раздраженно сказал Воронов. — Идите, Матрена Павловна. У нас тут дела.
Матрена Павловна удалилась, опустив голову и не поднимая глаз.
— Почему вы так сердито говорили с ней? — спросила Айно. — Я думала, что вы более дружелюбно относитесь к людям. Может быть, лучше, если и я приду в другой раз? — Айно на самом деле собиралась уйти.
— Что вы, не уходите, я очень прошу, — смутился Воронов. — А с ней мне не о чем говорить. Не люблю людей, равнодушных к работе. Такие люди вообще опасны. Вы не находите? — И с горечью подумал, что опять говорит не о том. Ему ведь хотелось рассказать о своем душевном разладе, об Ольге, об одиночестве. Ему так хотелось сочувствия, доброго слова…
— Значит, вы интересуетесь нашими производственными делами? — спросил он с деланой сухостью.
— Я хотела написать о них Петру. Его во всяком случае эти дела интересуют, — ответила Айно.
«Следовало бы тебе, Михаил Матвеевич, самому догадаться, ради кого Айно тебя расспрашивает», — выругал себя мысленно Воронов. А он уже собрался выложить ей свои беды. Сочувствия искал… Девушка же потому, может, и навещает его, чтобы получить «информацию» для своего Петра.
Воронов отошел к окну. «Какой отвратительный двор!» — впервые заметил он. На улице бегали дети и что-то громко кричали, кого-то ловили. «Действительно, галдят целыми днями под окнами!»
Айно, заметив, что Воронов чем-то расстроен, почти про себя промолвила:
— Ну, я пошла.
— Подождите, — Воронов подошел к столу, официальный, сухой. — Вы же спрашивали, что написать Александрову о положении на запани? Я уже написал об этом, а вы постарайтесь написать о чем-нибудь другом. Это будет ему приятнее…
Он протянул Айно только что написанное письмо:
— Может, по пути опустите в почтовый ящик?
Айно вышла с письмом в руках. Постояла на берегу, вслушиваясь в задорные, веселые крики купающихся детей. Они соревновались в ловкости. Было забавно смотреть на это соревнование: двое становились на бревно друг против друга и начинали ногами вращать его. В конце концов кто-либо один, а то и оба падали в воду, но снова влезали на бревно и продолжали свою игру. Смелый народ!
Но все время, пока она смотрела на игру, странное чувство томило ее. Ей было жаль Воронова. Вот он стоит у окна, один в пустой комнате, о чем-то думает, а радости, такой, с которой живет теперь Айно, у него нет. И тут уж ничего нельзя поделать!
Она бросила письмо Воронова в почтовый ящик, затем быстрым шагом пошла домой и там тотчас села писать Петру о том, как она ждет его и как ужасно одиночество.
«Милый, чем меньше остается дней до нашей встречи, тем счастливее я чувствую себя… Как я жду тебя, никто не знает. Нет, неправда, есть один человек, который мне как мать родная, сердцем угадывает все. Это Оути Ивановна. Опять, наверное, пойду к ней…»
Нет, она не станет ему сегодня писать об электростанции. Тут Воронов прав!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
На сплавном участке Туулилахти был день выдачи зарплаты. Большая толпа собралась вокруг стола кассира. Расчеты со Степаненко задержали всех. Из-за чьей-то халатности многие его работы не были учтены, и теперь Степаненко получал деньги и за работы, выполненные несколько недель и даже месяцев назад.
— Кто-то напутал, — объяснял Мякелев. — За одну и ту же работу вам, Степаненко, выписали два наряда, но под разными датами. Оба на взрыв камней на Пуорустаёки.
— Степаненко их и взрывал два раза, — заступились сплавщики.
— Взорвать-то взорвал, но который же из нарядов правильный? Одни и те же камни не нужно было взрывать дважды.
— Нет, конечно, — согласился Степаненко, уставший от всей этой путаницы. — Возьмите любой из двух, а потом выясните.
Сплавщики долго доказывали Мякелеву, что взрыв камней после крушения плотины, — это одно дело, а взрыв камней там, где был по вине Воронова затор, — совсем другая работа и в другом месте.
— Не могу подписать такие наряды, — упирался Мякелев. — В нарядах значится одна и та же река, одно и то же название. Придет комиссия и придерется… Кто будет отвечать?
Рабочие зашумели. Как же так — человек работал, а платить не платят? Мякелев только разводил руками: ничего нельзя сделать. Положение окончательно осложнилось, когда стали начислять деньги за работу Степаненко на сплоточной машине и в механической мастерской. Нарядов на эти работы накопилось много, но Мякелев без Воронова или Александрова не знал, как оценить их.
— Да они ни в каких расценках не значатся! — оправдывался он. — А раз не значатся, значит и платить не можем.
Раздался громкий смех. Мякелев повысил голос:
— Где вы находитесь? Не знаете, как вести себя! Подходите по одному, а то никому платить не будем!
Воронов и Кирьянен услышали шум в комнате кассира и зашли туда. Воронов сам проверил наряды. Степаненко получил зарплату полностью. Потом Воронов, сделав знак Кирьянену, зашел следом за Мякелевым в его комнату.
— Что такое? — спросил Мякелев, чувствуя недоброе.
— Что, что!.. — Воронов побагровел от гнева. — Как ты будешь теперь смотреть в глаза рабочим, когда над тобой сороки смеются? Заместитель начальника не знает, как платить за работу! Понимаешь ты это?! — Воронов все повышал голос, побагровел от внезапного гнева. И вдруг сказал тихо, что для Мякелева было еще страшнее: — А теперь уходи! У нас тут еще разговор с товарищем Кирьяненом.
Мякелев вышел бледный. Воронов и Кирьянен остались вдвоем.
— Придется с ним расстаться! — коротко сказал Воронов, когда Мякелев закрыл за собой дверь.
— Ох, как это легко! — усмехнулся Кирьянен. — Договорился со сплавной конторой, подписал приказ — все, баста. А ведь он работает тут давно. И с тобой уже больше двух лет.
— От кого я это слышу? — удивился Воронов. — Неужели ты можешь защищать человека, которому наплевать на нужды людей?
— Как хочешь, а я не согласен! Нам с тобой надо было раньше глядеть, — ответил Кирьянен и вышел.
Воронов стал просматривать бумаги Мякелева, и чем больше он рылся в бумагах, тем больше негодовал. Через несколько минут в кабинет ворвалась Анни.
— Что случилось с отцом? — спросила она с порога.
— А что?
— Он пришел домой бледный, слова не может сказать. Лег в постель.
— Ничего особенного, — успокоил ее Воронов. — Напутал немножко, но мы его поправили.
— Это его бумаги? Что в них?
— Волокита, — буркнул Воронов. — Бумага номер один объясняет, для чего существует бумага номер два. Бумага номер два в свою очередь поясняет, для чего должна быть бумага номер один. А такой бумаги, которая пояснила бы, для чего нужна вся эта писанина и почему средств на канцелярские расходы истрачено больше, чем разрешает смета, нету.
— Я хотела бы поговорить с вами, товарищ начальник, об одном личном деле, — официально проговорила Анни и присела на стул.
— Это звучит таинственно.
— Отцу надо переменить работу.
— Ишь ты! — воскликнул Воронов.
— Я уже и место наметила.
— Смотри, как далеко пошла! И куда ты решила перевести своего отца? — Воронов лукаво прищурился.
— Я серьезно говорю. Что вы смеетесь?
— Я больше не буду смеяться, честное слово, — пообещал Воронов.
— Вы помните секретаря сельсовета в Хейняниеми, который сейчас на курсах электромехаников? Если бы отцу начать так же? Ведь теперь на запани будет новая циркульная пила…
Воронов слушал с интересом. Когда Анни закончила, он долго молчал, потом уклончиво заговорил:
— Освобождением заместителя начальника рейда распоряжаются вышестоящие инстанции. В каждом случае надо иметь веские причины… Но ты зайди к Кирьянену и выложи ему, что надумала.
Анни пришла к Кирьянену домой. Хозяин с увлечением копался в радиоприемнике. Она с любопытством смотрела на сложный механизм разобранного аппарата.
— У вас хороший приемник.
— Да, замечательный приемник, исключительный! — похвалил Кирьянен. — В нем только один пустяковый недостаток.
— Какой?
— Неразговорчивый, как Койвунен. Все молчит.
Анни засмеялась, потом перешла к делу.
— Я хочу поговорить об отце.
— И ты о нем? — удивился Кирьянен.
— А разве о нем уже говорили? Что именно?
— Сначала послушаем, что скажешь ты, — уклонился Кирьянен.
— Я скажу вот что, — решительно начала Анни и вдруг замялась. Не легко говорить о родном отце то, что она надумала за последние дни. Но и молчать она не могла. И заговорила уже без того пыла, с каким излагала свои мысли Воронову.
— Видите, в чем дело… Отец устал на этой работе. Ну, отстал он и уже не годится в заместители начальника. Ему надо помочь найти новую профессию… Я уж давно об этом думаю…
Кирьянен не прерывал ее, но и не помогал высказаться.
Когда Анни наконец закончила, Кирьянен еще долго ждал чего-то, как будто не понял ее. Потом заговорил, словно думал вслух:
— Быстро ты, Анни, решаешь сложные дела. Ведь речь идет о человеке с большим опытом работы. Вместо того чтобы использовать этот опыт, ты предлагаешь путь наименьшего сопротивления. Впрочем, почему ты поднимаешь этот вопрос? Что-нибудь особенное случилось? — В голосе Кирьянена прозвучали тревожные нотки.
— Да нет, мне жалко его. Ведь он все-таки…
— Отец тебе.
— Не это я хотела сказать. Если бы помочь ему… Чтобы он стал ближе к жизни. Ведь он хорошего хочет… Правда?
— Подумаем, подумаем.
Тем временем Воронов разбирал все новые и новые бумаги и, все более сердясь, послал дежурного за Кирьяненом. Когда Кирьянен пришел, Воронов протянул ему кипу бумаг, написанных разными почерками.
— Что это такое? — спросил Кирьянен.
— Жалобы. Жалобы, по которым не принято никаких мер. Они даже не зарегистрированы. Некоторые лежат по нескольку месяцев. Мне недавно сказал об этом Потапов. И вот все руки не доходили проверить.
— Мякелев же такой аккуратный…
— Не аккуратный, а хитрый. Вот другая папка жалоб. Тут все в порядке. Зарегистрированы, приняты меры. Это — на случай ревизии. А те, по которым труднее принять меры, по которым надо взять на себя ответственность, он просто спрятал. Я их случайно нашел. Что ты скажешь теперь?
Кирьянен взял жалобы. Их действительно было много. Люди жаловались на то, что им неправильно выписаны наряды, были жалобы на отсутствие спецодежды, на недоброкачественное питание…
— Ну, что же ты скажешь? — еще раз спросил Воронов.
Кирьянен взволнованно перелистывал жалобы, потом тихо промолвил:
— Таких вещей прощать нельзя.
— Вот тебе и мастер блока! — усмехнулся Воронов.
Подумав, Кирьянен спросил:
— А почему все эти жалобы у Мякелева? — Воронов посмотрел на него с недоумением. — Почему они не у тебя? Почему люди не к тебе идут с жалобами даже тогда, когда не получают никакого ответа?
— Они и ко мне идут. — Воронов покраснел. Действительно, над этим он не подумал. Когда к нему приходили с жалобами и он не мог разрешить их на месте, то частенько говорил: «Отдайте Мякелеву, разберем!» Люди шли к Мякелеву, а он забывал проверить. Что он теперь мог сказать?
Кирьянен испытующе смотрел на него.
— Да, и в этом надо разобраться! — вздохнул Воронов.
На следующий день Мякелев пришел домой раньше обычного.
Жена взглянула на него вопросительно.
— Как же мы теперь будем жить, Акулина? — спросил Мякелев после долгого молчания.
Анни была дома и вышла из своей комнаты.
— Ну, теперь те, кто зубы точил, освободились от меня! — Мякелев тяжело дышал, устремив взгляд на пол. Губы его дрожали.
— Что ты такое говоришь? — спросила Акулина.
— А то, что я уже не заместитель начальника.
— Кто же ты?
— Никто. Воронов сказал, что Кюллиев даст мне работу у дисковой пилы. Кюллиев стал теперь моим хозяином! Поди знай, может быть, он назначит меня в няньки к своим ребятишкам.
— За что же тебя так?
— Почем я знаю, за что? Жалобы нашли какие-то. Да мало ли жалоб? Разве каждому угодишь? Знаю я этих жалобщиков. Люди любят пошуметь. Напишут, пошумят, и утихомирятся. Ну, ошибка вышла, конечно. Не надо было оставлять этих бумаг в конторе. Не догадался. Стар стал.
«Нет, как это могло случиться, что я не знала, какой он? — с ужасом подумала Анни. — Да разве так можно?»
Сейчас надо было поговорить с отцом серьезно. Но как тут поговоришь, когда мать еле жива от испуга.
— Доченька, ты же умная, посоветуй отцу, что ему делать, как поступить, куда обращаться, — захныкала мать.
— Ты быстро научишься работать на дисковой пиле… — начала было Анни, обращаясь к отцу.
— Ах вот что! И ты того же хочешь! — взорвался Мякелев. — Это ты во всем виновата. Разве не говорил я тебе весной: оставь ты свои шуры-муры с Никулиным. Он уйдет в армию, а ты с носом останешься…
— Отец, перестань! Не говори так! Выслушай меня!
— Не хочу слушать! Оставайся в старых девах, как Матрена Павловна, если тебе так хочется! Но я не позволю превращать себя в дурака. Я знаю, что надо делать. Против меня точили зубы Кюллиев и Александров и этот твой Николай. Я знаю. У меня все записано… Пойду в сплавную контору, в трест, в министерство, в Совет Министров… Я до Москвы дойду…
— Зачем тебе это надо?.. Можно начать работать на запани у дисковой пилы…
Мякелев вскочил:
— Я тебе покажу запань! Если скажешь еще хоть слово, вот тебе дверь…
Мать испуганно запричитала. Анни не тронулась с места. Она жестко отчеканила:
— Я у себя дома, и никуда ты меня не выгонишь! Но я сама уйду, если ты не станешь человеком.
Анни ринулась к дверям, выскочила на улицу, оставив дверь открытой. Остановилась, как будто выскочила из горящего дома, и не знала, куда теперь податься; повернулась к калитке, ведущей в огород, и села на траву, за поленницей. Только тут заплакала, не в силах удержать судорожную дрожь в плечах.
— Анни, доченька, где ты? — мать вышла на крыльцо, но не увидела ее.
Анни отчаянным усилием сдержала рыдания, и когда мать вернулась в комнату, встала, поправила волосы и вышла из огорода на улицу.
Куда теперь идти? Раздумывая, она и не заметила, как все ускоряет шаги, и остановилась, только увидев Николая, который колол дрова возле своего дома.
Николай воткнул топор в колоду и шагнул навстречу девушке, чувствуя, что с ней случилось какое-то большое несчастье.
— Я поссорилась с отцом, — с усилием сказала она.
— С отцом? — в голосе его звучало удивление, даже радость. — Да что же ты плачешь? Говорил я, что с ним жить нельзя! — воскликнул он.
Девушка вдруг насторожилась. Подозрительно, как на чужого, посмотрела она на Николая, а тот, воодушевившись, продолжал:
— Брось ты мучить себя! Зачем ты…
Ничего не понимая, он с раскрытыми глазами смотрел на спину Анни, которая быстрыми шагами удалялась.
Девушка шла по направлению к своему дому, сутулясь, сосредоточенно смотря на землю и еле сдерживая рыдания.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Степаненко отправился покупать костюм. В магазин только что привезли новую партию товаров, и там собралось много знакомых сплавщиков. Они стали все скопом выбирать ему костюм, и выбрали темносиний бостоновый.
— Нехай этот, — согласился Степаненко. Он взял еще женский платок и уплатил деньги..
— Микола Петрович, да ты не в женихах ли ходишь? — засмеялись в толпе.
Немного поколебавшись, Степаненко прошел в продуктовый отдел. Там он купил масла и колбасы на ужин, потом шоколадных конфет. Казалось, что теперь можно было идти, но он все задерживался, нерешительно поглядывая на магазинные полки. Койвунен, тоже помогавший выбирать костюм, угадал мысли Степаненко.
— Хватит тебе этого зелья!
— Да надо бы костюм вспрыснуть…
Он все-таки купил водки и отправился домой. Там он переоделся, и только теперь новый костюм понравился ему по-настоящему. Микола Петрович самому себе показался и стройнее и моложе. Пронеслось какое-то воспоминание, как отголосок давно прожитых лет. Такого цвета костюм справил он когда-то к своей свадьбе…
Было слышно, как за стенкой возится с чайником Матрена Павловна. Потом послышался ее голос:
— Микола Петрович, идите пить чай!
Степаненко раздумывал, пойти или нет. Ему жаль было Матрену Павловну, но он собирался в другое место. Но Матрена Павловна пришла сама, села, оглянулась кругом.
— Ох, какие мы с вами сироты!
— А чем плохо таким сиротам? — усмехнулся Степаненко.
— У вас даже чай некому заварить.
— В этом вы, пожалуй, правы.
— О, на вас новый костюм! — Матрена Павловна только теперь заметила обновку. — Хорош, хорош! Сколько стоит? — Но ответ она выслушала равнодушно и через минуту заговорила уже о своем. — Бывают моменты, когда особенно тяжело на душе, — пожаловалась она. — Я имею в виду не только себя. У вас в жизни тоже были очень тяжелые испытания. Я думаю, не всегда вы жили в лесу. Я ведь заметила, что вы много читали. А нам, культурным людям, значительно труднее переносить горе.
Степаненко взглянул на стенные часы.
— Вы спешите куда-нибудь? — огорченно спросила Матрена Павловна.
— Да.
— Ах, Микола Петрович! К чему спешить? Все равно никто спасибо не скажет.
— Было бы за что благодарить, а там уж найдется кому.
Матрена Павловна неохотно вышла. Степаненко взял платок, кулек с конфетами, водку. На улице он еще постоял в нерешительности, но потом смело направился к дому Никулиных.
Оути Ивановна была одна. Она усадила Степаненко за стол, оглядела его костюм, но ничего не сказала.
Степаненко протянул ей платок.
— Вот это… ты так часто помогала мне в хозяйстве… И вообще…
— Ну, что ты, Микола Петрович! — покраснела она. — Я же помогаю тебе не ради подарков.
— А я и не говорю… Я знаю, что по доброте душевной. Такая уж у тебя натура. Но возьми все-таки! А тут есть еще конфеты к чаю.
Оути Ивановна расстелила платок на коленях, полюбовалась им, потом убрала в шкаф. Конфеты она высыпала в стоявшую на столе вазочку.
Степаненко вопросительно взглянул на хозяйку и вынул из кармана бутылку водки. Оути Ивановна посмотрела на него укоризненно, но ничего не сказала. Он налил два стакана. Оути Ивановна покачала головой. Степаненко выпил, крякнул и начал есть.
Некоторое время оба молчали.
— Николай, значит, уедет? — спросил Степаненко.
— Да, уедет! — вздохнула Оути Ивановна. — Большая семья была, а вот одна остаюсь.
— И я один остался, — проговорил Степаненко, хотя он прежде никому и никогда не жаловался на свое одиночество.
Оути Ивановна вздохнула снова, и ее ласковые глаза увлажнились.
— У тебя хороший сын, Оути Ивановна.
— Только бы бог дал ему здоровья!
— Скучно тебе будет одной.
— Что ж тут поделаешь!
Опять помолчали.
— Михаил Матвеевич сказал, что я останусь машинистом вместо Николая.
— Это хорошо. Николай тоже рад. Он говорит, жаль было бы оставлять свою машину какому-нибудь непутевому.
— Николай действительно сказал, что доволен?
— Ну конечно. Николай всегда говорит о тебе только хорошее. И другие говорят, что ты помогаешь парню советами, как отец.
Степаненко кашлянул.
— Про это самое… я и думал, что как отец… И Николай такой хороший хлопец. Так что… что бы ты сказала, Оути Ивановна…
— О чем это? — удивилась Оути Ивановна.
Степаненко бормотал в замешательстве:
— Да я о том, что… А не лучше ли нам жить вместе? Мы с тобой и Николай?
— Господи помилуй! — воскликнула Оути Ивановна. — Когда человек выпьет, всегда разная чушь на язык лезет!
— Оути Ивановна, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. А выпил я самую малость, чтобы хватило смелости сказать. Ты сейчас не отвечай. Подумай. Спроси Николая…
— Сказала бы я тебе! — вырвалось у Оути Ивановны. — Если выпил, то надо идти домой спать. Иди-ка, Микола Петрович, иди…
Смущенный Степаненко поднялся и вышел. Оути Ивановна встала из-за стола и, выбежав вслед за ним, крикнула с лестницы:
— Погоди, возьми калитки и рыбник на ужин. У тебя же дома ничего нет!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Был вечер, когда Воронову позвонили, что последняя древесина спущена через лоток. Сплав подходил к концу. Потапов спрашивал; может ли он отпустить колхозников домой? Куда отправить остальных людей из бригады — в Туулилахти или на другие участки рейда? Или есть какой-нибудь план работы на Пуорустаёки?
Последний вопрос был задан с умыслом. Потапов напоминал о своем предложении строить плотину.
— Колхозников отправить по домам, — диктовал Воронов в трубку. — Бригада отправляется на Пуорустаёки строить плотину на новом месте. Вы, товарищ Потапов, будете руководить строительством. Приступить к заготовке дополнительных строительных материалов на месте. Основание плотины сделать из цемента. Цемент начнем направлять завтра. Из сплавной конторы прибудет специалист и даст необходимые указания. Если он задержится, я сам приеду. Когда закончат строительство электростанции, направим отсюда рабочих. Есть вопросы?
Вопросов не было. Положив трубку на место, Воронов отправился на запань.
На рейде испытывали новую шпалорезку. Оставалось сделать предохранительное заграждение, и завтра ее можно пустить. Надо было только подобрать дельного рабочего. Воронов послал курьера за Анни Мякелевой и вернулся в контору, где его уже ожидал Кирьянен с нарядами на работу.
— Кого мы назначим на место Мякелева? — спросил Воронов у Кирьянена и сам же ответил: — Что, если Александрова?
— Это хорошо! А кто будет главным механиком?
— Механик Кирьянен, что скажешь, а?
Кирьянен посчитал это шуткой, нахмурился и сухо ответил:
— Механику Кирьянену слишком далеко до главного механика. Ему еще надо многому учиться.
— А если Степаненко?
— Это другое дело!
Анни уже догадалась, зачем ее вызвали.
— Вы хотите поговорить об отце?
— Да. Завтра пускаем дисковую пилу, — сказал Воронов. — Но мне трудно уговаривать его. Что он делает?
Анни замялась. Правда была слишком неприглядна, но лгать она тоже не могла.
— Пишет жалобы. Хорошо, я попробую убедить его.
Кирьянен только вздохнул. Он знал, что если человек, вместо того чтобы посоветоваться со своей совестью, начинает писать жалобы, толку от него не добьешься.
Когда Анни пришла домой, отец сидел за столом. Перед ним была большая стопка бумаг и записных книжек.
Искоса взглянув на дочь, он продолжал работу. Анни села и нерешительно сказала:
— Туатто, ты не сердись на меня. Я тогда погорячилась. А нам давно надо поговорить по-дружески…
— Вот это правильно, — Мякелев положил ручку на чернильницу. — Ты мне дочь, и нам лучше действовать сообща. Ты должна хоть немного помочь мне.
— Я этого и хочу.
Мякелев повеселел.
— Вот мы и договорились. Во-первых, ты должна рассказать все, что Никулин говорил обо мне.
— При чем тут Николай?
— Очень просто, доченька. Это он побежал жаловаться на меня, когда я ему не дал каких-то труб. Я хочу вывести на чистую воду всю эту банду, которая выступает против меня. Я человек терпеливый, мирный, но до поры до времени. И тогда я ни перед чем не остановлюсь. Я доберусь до самого министра. И Воронову не сдобровать — и за плотину, и за многое другое. А также и Потапову попадет за самоуправство.
— Туатто, — мягко сказала Анни, — ты поступаешь неправильно.
— А как? Подскажи. Ты чаще меня бывала в Петрозаводске, знаешь начальство. К кому обратиться? Может быть, в Совет Министров?
— Туатто, все это не то. Никуда не надо обращаться.
— А что мне делать? Ждать милости от Кюллиева?
— И милости никакой не надо! — Анни прикусила губу, чтобы сдержаться. — Туатто, завтра дисковая пила будет готова. Ты очень скоро научился бы управлять ею…
Мякелев стукнул по столу:
— Я уже сказал тебе, что не пойду ни на пилу, ни в сторожа! Мне сейчас трудно, я просил у тебя совета, помощи, а ты…
— А куда же ты пойдешь от своих товарищей?
— Пойду искать свои права… Пойду так далеко, как потребуется, но этого дела так не оставлю. Я знаю, почему Воронов меня уволил. Из-за тебя. И еще потому, что он слушается всяких воров… Я знаю!..
— Туатто, почему ты обо всех людях думаешь так плохо?
Мякелев дышал тяжело, руки его дрожали, от гнева он стал заикаться.
— Л-люди? В-воры они все! А т-ты… за них? Так я т-тебе не отец, если ты за них, п-против м-меня!..
Теперь уже вспыхнула Анни. Впервые она так ясно увидела внутренний мир своего отца. «Я тебе не отец», — повторила Анни и вдруг поняла, что он действительно не такой, каким должен быть настоящий отец. Тетка, сестра матери, жила во время войны в значительно более тяжелых условиях, но отец все-таки отдал Анни к ней на воспитание и взял ее к себе только тогда, когда Анни начала сама зарабатывать. А когда мать лежала в больнице с воспалением легких, разве отец тревожился о ее судьбе? А как он к ней, к Анни, относится сейчас? Ему бы только повыгодней для себя выдать ее замуж.
Красная от злости и стыда, Анни выскочила на улицу. Она чувствовала себя одинокой, такой одинокой, что хотелось заплакать. По любому другому поводу она могла бы поговорить со своими друзьями — с комсомольцами, Кирьяненом, Вороновым. Будь она сама на их месте, она легко бы решила, как надо относиться к Мякелеву. Но Мякелев — ее отец! Какой угодно, но отец! Самый близкий человек ей — мать. Но что она может сказать матери? Только расстроит ее. Но и так — бродить бесцельно по улицам с заплаканными глазами — она тоже не могла.
Анни смахнула слезы и решительными шагами направилась на запань.
Свежий ветер с реки немного успокоил ее. Теперь она пожалела, что так грубо обошлась с Николаем при последней встрече. Ведь он прав! Она вспомнила и то, что Николай единственный, кто не смеялся над отцом в то ужасное утро. Да, надо разыскать его. Вероятно, Николай сейчас дома, так как на сплоточной машине она увидела Пааво. Не раздумывая над тем, что она скажет Николаю, Анни направилась прямо к дому Никулиных. Но Николая не было, — оказывается, он на работе. Оути Ивановна сидела на кухне и взбивала масло.
— Посиди, доченька, — попросила Оути Ивановна. — Хочешь молочка топленого? Или, может быть, свежей сыворотки?
Анни рассеянно села за стол и стала прихлебывать тепловатую сыворотку.
— Ушла я, доченька, из конторы, — рассказывала Оути Ивановна. — Ты мне как дочь родная, скрывать от тебя не буду: меня уже давно тянуло работать в больнице, у Айно. Много мне пришлось горя хлебнуть в жизни, и я знаю, как хорошо услышать теплое, ласковое слово, когда на сердце тяжело. Вот Айно и уговорила меня. Говорит, я нужна ей, чтобы помочь держать в чистоте больницу и все такое. Только не знаю, что у меня получится. Когда беда у людей, я тут и сама плачу.
— Привыкнете, Оути Ивановна, — машинально ответила Анни.
Посидев немного, она пошла на сплоточную машину.
— Вот чистим машину, — объяснил Николай, — в честь расставания. Подожди, Анни, мы сейчас кончим. Вместе пойдем.
Медные части машины блестели, как самовар Оути Ивановны.
— Ты все еще сердишься? — тихо спросила Анни, когда они шли по берегу, направляясь к поселку.
— Разве я могу сердиться на тебя?
— Отец стал совершенно невозможным…
— Не будем говорить об этом, тебе ведь тяжело.
— Да, не легко, Коля. Но скажи, что бы ты сделал на моем месте?
— Я? Да я… — Николай-то знал, что он бы сделал, но, представив себя на месте Анни, понял — все это не так просто, и умолк.
— Я не хочу больше жить с ним, — с трудом сказала Анни. — Только вот муамо жалко…
Сердце у Николая забилось часто-часто. Вот когда он, наконец, может оказать ей ту помощь, о какой всегда мечтает настоящий друг. У него уже вертелись на языке самые убедительные слова, но он боялся, что Анни опять рассердится.
— Я, возможно, перееду к Айно Андреевне, — опередила Анни Николая.
Николай вздохнул и ничего не сказал. Он был счастлив уже тем, что она пришла к нему со своим огорчением! Сжав ее горячую руку, словно говоря, что пойдет за нею на край света, он молча шагал рядом до самого домика Айно Андреевны.
И Анни, прощаясь с ним у крылечка, тоже ничего не сказала. Но Николай знал, что Анни все поняла, знал он также и то, что она со своей бедой совладает. Ведь бывают минуты, когда слова не нужны.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Домик Мякелевых стоял неподалеку от нового жилья Анни. Анни видела из окна, когда мать топила печь, когда она шла кормить или доить корову. Возвращаясь с работы, она часто проходила мимо своей новой квартиры, ноги несли ее домой.
Айно Андреевна редко бывала дома: с тех пор как уехал Петр, для нее больница стала вторым домом, где она оставалась до позднего вечера. Анни взяла на себя все домашние заботы, прибирала комнату, готовила ужин и в ожидании Айно читала, если можно назвать чтением то, что она, открыв принесенную из библиотеки книгу, держала ее перед собой или перелистывала медицинские справочники.
Анни тоже старалась как можно меньше бывать дома. В клубе было легче, но за какое-нибудь большое дело, требующее напряжения, она не могла взяться. Анни старалась придумывать себе дела попроще, но которые поглощали бы все ее внимание.
Анни пришла в библиотеку, чтобы договориться с Матреной Павловной о выставке «Прогрессивные писатели в борьбе за мир». Стенды и стеллажи для выставки она уже заказала в столярной мастерской.
— Что ж, организуем, — согласилась Матрена Павловна. — Только где мы возьмем книги?
— Такая богатая библиотека и нет нужных книг?
— Смотрите, вот картотека.
Пока Анни просматривала картотеку, Матрена Павловна с душевным участием говорила:
— Значит, Николай уезжает? Разлука с любимым в молодые годы очень губительна. Я это испытала.
— Ничего, переживем! — отшучивалась Анни.
— За годы разлуки у людей, даже очень любящих друг друга, может наступить отчуждение, — продолжала Матрена Павловна. — И потом уже ничто не закроет пропасть между ними. Это тяжело, но такова уж жизнь.
— Ну, ту лопату еще не выковали, которой можно вырыть пропасть между нами, — опять пошутила Анни.
— Да, вы пока бодритесь, а потом… Можно встретить на своем пути много хороших людей, но первая любовь всегда останется в сердце. Поверьте мне, я это знаю! Каждый предмет, каждый высохший цветок напоминает о счастливых минутах прошлого. Это так мило, так мило! И как грустно, когда таких примет нет. Альбом, например. Как бы хорошо иметь альбом со стихами юношеских лет! У вас, я думаю, нет альбома? Заведите! Пусть в нем будут строки, быть может, ничего не говорящие, но сама память дороже всяких слов…
Трудно было понять, говорила ли она это для Анни или рассуждала сама с собой. У Анни не было ни альбома, ни высохших цветов. И она не верила, что они нужны. У нее был Николай, который любил ее, вся жизнь была для нее большим садом, который никогда не пожелтеет. Но она не могла об этом сказать Матрене Павловне, зная, что та все равно не поймет ее.
В картотеке Анни нашла мало нужных книг. Но она не поверила картотеке, принесла лесенку и начала сама лазить по полкам в книгохранилище. Вскоре оттуда послышались ее удивленные возгласы. Организованный весной кружок по изучению электротехники прекратил свое существование из-за нехватки литературы, а тут, оказывается, валялись с десяток учебников по электротехнике. А вот и книги об электролебедках, которые искали даже в Петрозаводске, они, оказывается, лежат здесь.
Анни, размахивая руками, измазанными в пыли и паутине, спросила Матрену Павловну:
— Почему вы упрятали книги по электротехнике в кладовую?
Матрена Павловна пожала плечами:
— Откуда я могла знать, что вы будете нуждаться в них?
— В том-то и дело, что не я, а другие нуждались.
— Ну, разве это интересные книги? Не понимаю я вас! Человек должен когда-то отдыхать, развлекаться. Для чего же ему книги, в которых говорится опять о том же, что уже надоело ему на работе?
— И это говорит заведующая библиотекой! — ужаснулась Анни. — Неужели вы в самом деле так думаете?
— А вы спросите любого из наших читателей! — ядовито ответила Матрена Павловна.
— И спрошу! — рассердилась Анни. — Мы с вами давно уже говорили о читательской конференции. Сейчас люди стали посвободнее, можно будет их собрать.
Через несколько дней в клубе собрались читатели. Матрена Павловна стала докладывать о работе библиотеки. Она утомила слушателей бесконечными цифрами: сколько в библиотеке имеется политической, художественной и технической литературы, сколько читателей и какое количество из них относится к той или иной группе по возрасту, сколько читателей и когда задержали книги сверх установленного срока…
Ей и самой надоело перечислять эти сухие цифры, но она не знала, о чем еще следовало бы сказать.
Читатели героически просидели на своих местах до конца доклада. Вздох облегчения пронесся по залу, когда Матрена Павловна умолкла. Как бы в наказание за скучный доклад, присутствующие начали засыпать ее вопросами: почему не организованы передвижки? Почему техническая литература заброшена так, что ее и не достанешь? Почему нет выставки книжных новинок? Почему не организовывались тематические выставки?..
Пытаясь ответить на все эти вопросы, Матрена Павловна совсем запуталась: она думала, что на трассе в такое горячее время нет времени читать книги, она полагала, что техническая литература и выставки новинок мало кого могут заинтересовать.
Матрена Павловна замолчала, услышав гул возмущения в зале, и поняла, что теперь работать будет куда труднее.
— Здесь очень тяжело работать, — вдруг сказала она. — Я уже давно думала проситься на другую, более спокойную работу…
Это был неожиданный козырь. Что можно требовать от работника, который думает об уходе? Многие из тех, кто хотел поговорить о недостатках в работе библиотеки, не стали выступать и, как бы стесняясь чего-то, потихоньку, один за другим, покидали читальный зал.
Матрена Павловна ушла в библиотеку и села писать заявление об освобождении с работы. Кирьянен, сидевший в зале с самого начала доклада, зашел к ней, когда она уже кончала писать.
Матрена Павловна молча показала ему свое заявление. Кирьянена удивляло не столько само заявление, сколько человек, написавший его. И как это он мог в течение многих месяцев проходить мимо этого человека, ни разу не попытаться заглянуть в его внутренний мир? А ведь этому человеку надлежало проводить культурно-просветительную работу. «Опять промахнулся!» — подумал Кирьянен. Он спросил:
— Где же вы предполагаете найти спокойное место?
Матрена Павловна еще не думала об этом, да Кирьянен и не ожидал ответа на свой вопрос.
— Не знаю, где можно найти такое место, разве что в гробу между шестью досками.
Матрена Павловна невесело поддержала его шутку:
— А там мне, вероятно, черти покоя не дадут. Начнут расспрашивать, почему не грешила, почему старой девой осталась.
Кирьянен попытался расспросить Матрену Павловну, что она читала в последнее время, что читала раньше. Ему хотелось найти ключ, которым можно было бы открыть душу этого преждевременно увядшего человека. Матрена Павловна отвечала нехотя и устало, и Кирьянену так и не удалось ничего добиться от нее.
В тот же вечер Матрена Павловна зашла к Воронову, твердо уверенная в том, что теперь-то, не стесняясь даже присутствия чужих, она выскажет все, что у нее на душе. На этот раз Воронов был один. Матрена Павловна бросила свою шляпу на стол и уселась.
— Миша, я уезжаю из Туулилахти. Пришла попрощаться с тобой.
— Я что-то такое слышал, — Воронов отложил в сторону газету.
— Я свое прожила и, что полагалось, выполнила, — бодро проговорила Матрена Павловна и только потом поняла, что такая интонация совершенно не соответствует содержанию ее слов. Она попыталась продолжить грустным тоном: — Пришла попрощаться с тобой и пожелать тебе счастья, красивых и ясных дней на весеннем цветущем лугу твоей жизни и чтобы счастлива была та, которая вместе с тобою будет срывать цветы жизни…
Эти пышные слова, которые Матрена Павловна где-то давно вычитала, не произвели на Воронова никакого впечатления. Он с трудом сдержал улыбку.
Матрена Павловна нервно забарабанила пальцами по столу. Неужели и теперь не получится разговор по душам? Наконец они вдвоем. Миша в хорошем настроении…
— Когда вы в последний раз ездили домой? — спросил Воронов. — Я не был лет двадцать. Навряд ли я уже узнал бы там кого-нибудь.
— Я тоже давно не была, а хотелось бы… — ответила Матрена Павловна задумчиво. — Не кажется ли тебе, Миша, что то время было самым чудесным? Если бы можно было начать жизнь еще раз! И именно так, как мы жили тогда…
Нет, Воронов не хотел снова пасти чужих коров. Но вслух он этого не сказал. Он молчал, пытаясь понять, почему такой убогой оказалась жизнь этой женщины, почему все ее помыслы обращены к далекому прошлому. Он бы мог сказать ей, что ничего хорошего не было у нее и тогда. Строила из себя барышню-белоручку и, наверное, не замечала, каким жадным был ее отец, тянувшийся к кулакам, как не любили его сельчане.
Матрена Павловна подперла узкий и острый подбородок своими костлявыми руками и, глядя куда-то поверх головы Воронова, заговорила низким, слегка приглушенным голосом, каким иногда человек говорит во сне. Вот, наконец, она ему выскажет все, о чем думала в течение двадцати с лишним лет.
— Не правда ли, Миша, ты любил меня тогда? Я любила тебя, но тогда еще не понимала этого, а поняла много позже. И я искала, искала тебя повсюду. Наконец я нашла тебя и решила, что это мое величайшее счастье. Но встреча принесла только разочарование. Ты изменился. Это жестоко, но я понимаю, что ты не виноват. Я не хочу разбивать образ, который остался в моей душе. Я поеду в какое-нибудь тихое место, где в одиночестве буду представлять тебя таким, каким ты был тогда… И искренне желаю тебе только счастья.
Воронов в это время думал, что было в этих путаных, странных излияниях Матрены Павловны ее личным, идущим от души, а что вычитано из старых романов.
— Что же ты пожелаешь мне на прощание, Миша?
Воронов грустно усмехнулся:
— Пожелаю тебе, Матрена Павловна, найти место в жизни, дело, которое заполнило бы твою душу. Я не верю, чтобы она навсегда осталась у тебя пустой, в какое бы спокойное место ты ни удалилась.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Анни поехала вместе с Николаем до Петрозаводска, чтобы приобрести новую литературу и договориться о новом библиотекаре.
Провожать Николая пришли на вокзал почти все, кто не работал в эту смену.
Поезд тронулся. И сразу от реки послышался длинный гудок, а за ним еще несколько отрывистых. Николай понял: это прощалась с ним сплоточная машина. Его друг Пааво тянет сейчас за кольцо, укрепленное в потолке, и, наверное, смотрит в сторону вокзала. Николай знал, что слышит этот гудок в последний раз. Осенью в Туулилахти привезут новую, более совершенную сплоточную машину. Поезд уже набирал скорость а гудки все продолжались.
Рядом с вагоном бежала Оути Ивановна. Степаненко стоял на платформе и, как окаменевший, смотрел вслед удалявшемуся поезду, потом поднял руку, словно стрелку семафора, и медленно опустил ее. Айно Андреевна махала платочком…
Николай ответил всем одним словом, которое заглушил шум колес, но товарищи поняли его по выражению лица:
— Дорогие!
Это слово относилось и к родным, и к друзьям, и к товарищам по работе, к новому рабочему поселку Туулилахти, к заканчивающей свой век старой сплоточной машине и к той новой, которая придет заменить ее…
Николай присел рядом с Анни, взял ее за руку, посмотрел в глаза. Они молча наблюдали за мелькавшими мимо лесами, ручьями, новыми рабочими поселками, где люди живут и трудятся так же, как и в Туулилахти.
Прошло немало лет с тех пор, как Анни была в Петрозаводске. Вернувшись из эвакуации, она жила здесь у тетки, в маленьком домике на одной из самых тихих улиц. Анни нерешительно остановилась перед новым высоким, четырехэтажным каменным домом. Она узнала это место только по деревьям, которые остались на тротуаре. Здесь, где возвышался этот дом, раньше был тетушкин огород. Анни частенько выгоняла отсюда чужих коз. Немного дальше поднимался временный дощатый забор, а за ним, окруженный еще лесами, стоял большой каменный дом. Маленький домик тетушки был тут же, но в тени высокого забора его сразу и не увидишь.
Тетушка, маленькая быстрая женщина лет пятидесяти, только что вернулась с работы, со слюдяной фабрики. Она вопросительно взглянула на девушку и вскрикнула:
— Да ты ли это, Анни! Когда же ты успела вырасти?
Анни рассмеялась. Тетя, вероятно, представляла, что Анни навсегда останется маленькой шестнадцатилетней девочкой, какой она уезжала из Петрозаводска. Она стала обнимать тетушку так же бурно, как и прежде.
— Ну, теперь-то я узнаю тебя! — восторженно отвечая на объятья, твердила тетушка. — Ты такая же, как и была, та же Анни-разбойница.
Николай смущенно стоял в дверях. Тетушка спросила у Анни.
— А это кто?
Анни покраснела и пробормотала:
— Это… Николай… Едет в армию…
— Ну, пусть будет Николай! — усмехнулась понимающе тетушка. — Если он едет в армию, то должен быть смелее. Проходите в комнату…
Тетушка начала хлопотать по хозяйству, уставила весь стол печеньем и вареньем, зная, как любит Анни сладкое. Анни помогла разжечь самовар.
— Хотелось мне прогнать коз из огорода, но, оказывается, и огорода-то нет, — говорила Анни, хозяйничая, как дома.
— Нет, нет огорода. А когда в следующий раз приедешь, то и домика этого не найдешь. Мне предложили перенести домик на окраину, участок дали, но я не хочу.
— А где же ты будешь жить?
— В каменном доме! — гордо ответила тетушка. — Лучшим рабочим нашей фабрики дают квартиры в новых домах, я тоже получаю.
— Ты все такая же, как прежде, тетушка! — воскликнула Анни. — Ты даже нисколько не состарилась.
Тетушка спешила на собрание. Анни с Николаем вышли погулять.
Анни знала в Петрозаводске каждую улицу, каждый садик. Но увидела так много нового, что ей казалось, будто она приехала в незнакомый город. Когда-то она вместе с другими учащимися работала на разборке развалин гостиницы «Северная». Сейчас на этом месте уже стояла новая красивая гостиница. По другую сторону улицы, на месте старых покосившихся деревянных домишек, вырос четырехэтажный каменный дом. Немного подальше от него, на площади имени Антикайнена, тоже было много новых построек.
— Подумай только, в Петрозаводске живут еще люди, которые собирали ягоды на этой площади! — говорила Анни.
На центральных улицах было светло и многолюдно. В другое время Анни и Николай радовались бы потоку людей и яркому свету, автомашинам, всему, что происходит на улице. Но сегодня они избегали центральных улиц. Может быть, из-за того, что не хотели печалить других своим грустным видом. Ведь это их последний вечер перед долгой разлукой. Правда, Анни вначале шутила, но Николай знал, что Анни храбрится и что ей так же невесело на душе, как и ему. Потом Анни притихла, и они молча шли по улицам, держась за руки.
На следующее утро Анни проводила Николая. На платформе они так же, как и вчера, долго держались за руки, но старались не смотреть в глаза, а когда посмотрели, рассмеялись — у обоих в глазах были слезы, — рассмеялись, отвернулись и опять заплакали.
— Так пиши сразу!
— Только отвечай сразу!
Этих слов, быть может, и говорить не стоило. Кто из них сомневался, что другой будет писать? А то, о чем они думали, не легко было сказать словами.
Анни возвращалась с вокзала пешком. Она хотела подольше быть одной, чтобы вспоминать во всех подробностях вчерашний вечер и многие другие вечера, проведенные вместе с Николаем. Они казались ей теперь такими замечательными!
В профсоюзе, куда она пришла на следующее утро похлопотать о новом библиотекаре, ей ответили, что направить некого.
— Куда же подевались все окончившие библиотечный техникум? — спросила с раздражением Анни.
— Библиотек у нас много, не в одном же Туулилахти.
Но Анни заявила, что никуда отсюда не уйдет, без библиотекаря она не может возвращаться в поселок.
В отделе кадров долго совещались. Потом позвонили куда-то и попросили направить в комитет Лидию Воробьеву.
Вскоре пришла невысокого роста девушка в коричневом летнем костюме. Она внимательно посмотрела на Анни своими большими черными глазами, как бы припоминая, не встречалась ли где-нибудь с нею.
— Я Лидия Воробьева. Вы просили зайти? — спросила она заведующего отделом кадров.
— Вы написали заявление о том, что хотите поступить на библиотечную работу в район?
— Да, хочу. Но в такое место, где со временем будет большой населенный пункт.
— Именно в такое место нужен библиотекарь. — Заведующий отделом кадров указал на Анни.
Лидия подошла к Анни, протянула руку и спросила:
— Где же находится ваша библиотека?
— В Туулилахти.
— Название во всяком случае красивое[6]. — Лидия улыбнулась. — Там дуют сильные ветры? Я люблю такие места, где дуют ветры. Много ли там молодежи? Строят ли там?
— Там дуют ветры, там есть молодежь и там строят, — на все сразу ответила Анни. — У вас красивое имя, Лидия, — добавила Анни, помня, что Лидия похвалила название поселка.
Они пошли в город. Анни стала рассказывать о Туулилахти — о парке при клубе, о Пуорустаярви, о гидроэлектростанции на Хаукикоски, о том, что из Туулилахти древесина направляется на Каховку и в Куйбышев.
Лидия сказала, что болтать им, собственно, некогда. Надо заказать поскорей литературу.
Скоро они почувствовали себя старыми друзьями. Лидия доверчиво сказала Анни:
— У меня есть большая тайна. Обещай, что никому не окажешь! Я пишу стихи. Их уже печатали. Поэтому я и хочу поехать к таким людям, о которых еще стихов не писали.
Анни рассмеялась:
— А как же ты сможешь сохранить свою тайну, если твои стихи будут печатать?
Об этом Лидия не подумала, как и не думала о том, почему это надо держать в тайне.
— В поселке есть инженеры, учителя, врачи… — перечисляла Анни. — Но своего поэта у нас еще не было. Это хорошо, Лидия, что ты пишешь стихи. Ты будешь первой поэтессой Туулилахти.
Их догнал молодой человек в легком летнем пальто на руке. Анни отступила в сторону, чтобы пропустить его, как вдруг человек воскликнул:
— С каких это пор туулилахтинцы стали такими гордецами, что не признают своих?
Анни вскрикнула от удивления:
— Петр Иванович, вы ли это?! — Она долго оглядывала Александрова. — Как ваше здоровье? Вы так загорели, что вас и не узнать.
— Здоров, здоров, — ответил Александров. — Везу в Туулилахти пять килограммов нажитого веса.
— Неужели прошло уже два месяца? — удивилась Анни. — Как время-то идет!
— Что у вас новенького?
— Ох, так много нового! — Анни не знала, с чего начать. — Электростанцию пускают в ход буквально в эти дни…
— Да, мне писали об этом. Молодцы ребята! Вот не ожидал!
— А вы что думали?
— Я-то? — Александров чуть смутился, но быстро оправился. — Я думал, что так и должно быть.
Александров заставил Анни повторить все, о чем он уже знал по письмам, — о бортовых упорах, которые Николай со Степаненко установили на сплоточной машине, о новой шпалорезке, о буре на Пуорустаярви, о разрушенной плотине, о Степаненко… Он расспрашивал обо всех мелочах, словно проверял тех, кто ему писал.
Анни представила Александрову Лидию.
— Познакомьтесь. Лидия Воробьева, наш новый библиотекарь.
— А что же Матрена Павловна? — удивился Александров.
— Ищет, где было бы поспокойнее, где не дуло бы так сильно, как в Туулилахти. А Лидия любит ветер.
…Айно Андреевна была на платформе. Блестящими от радости глазами она видела только Петра. Загорелый и здоровый, он еще на ходу соскочил с поезда.
Как мечтают близкие люди о встрече! А в момент встречи они часто не находят слов, говорят о всяких пустяках, второстепенных делах, словно сознательно стремятся заглушить переполняющие их чувства.
Айно спросила у Петра, когда он выехал из Ленинграда, хотя знала это из телеграммы. Петр в свою очередь спросил, долго ли Айно ждала поезда, хотя видел по ее глазам, что она все эти два месяца считала дни, часы и минуты в ожидании этого поезда.
Анни встречала мать.
— Ну, как отец? — тихо спросила Анни, стесняясь Лидии.
Мать утерла передником глаза.
— Не знаю, доченька, что из нашей жизни получится. Отец такой же! Все пишет и пишет, всех бранит, и тебя тоже. Собственную дочь!..
— Муамо, тогда я домой не пойду!
— Приходи, доченька, вечером, когда он ляжет спать. Не забывай матери, доченька!..
— Что ты, муамо, да я…
Нет, с отцом жить она не будет, а маму возьмет к себе — вот тот выход, который она так долго искала!
— Муамо, ты должна жить со мной, уйти от отца, как и я… — начала она.
— Что ты, что ты! — испугалась мать. — Как же я старика оставлю? Двадцать пять лет вместе прожито!..
— Муамо, муамо, как же нам быть?
Айно и Петр шли впереди и о чем-то тихо беседовали. К ним присоединился и появившийся откуда-то Воронов. Айно остановилась и крикнула Анни:
— Почему ты отстаешь? Идем скорей!
Анни чувствовала растерянность. Она понимала, что Айно сейчас нужен только Александров. Но куда-то надо было идти. Да и Лидию нельзя же оставить на улице.
В это время подбежала запыхавшаяся Оути Ивановна.
— Пойдем, доченька, я ждала, ждала, а как надо было идти на станцию, не могла оставить больного. Пойдем же скорее, расскажи о Николае, как он…
Акулина молча поплелась за дочкой к Оути Ивановне.
Лидия немного отстала, лицо ее погрустнело. Анни обернулась, взяла новую подружку под руку.
— Лидия, ты у себя дома, у нас нельзя грустить, здесь тебе все свои.
Оути Ивановна обрадовалась, что у нее еще прибавится гостей. Но дома немного смутилась оттого, что за накрытым столом их ждал Степаненко…
За самоваром больше всех пришлось говорить Анни, хотя ей было тяжело разговаривать. Оути Ивановна расспрашивала о Николае, мать допытывалась, как живет ее сестра, Степаненко интересовался, как выглядит столица. Не могла же Анни рассказать, как она глотала слезы, возвращаясь с вокзала после проводов Николая. Не могла она оказать маме, что в Петрозаводске у тети она всегда чувствовала себя, как дома, а здесь, у родного отца, жила, как у чужих.
Однако и теперь ей было жаль отца. Она знала, что ему не легко — нет ни друзей, ни товарищей. А сердце матери разрывается между отцом и ею. И она поняла, как тихой и впечатлительной матери было бы тяжело жить в разлуке с отцом. У нее в ушах еще звучали слова матери: «Ведь двадцать пять лет вместе прожито!..» Как ни хотелось Анни, чтобы мать перешла к ней, но когда все встали из-за стола и они очутились вдвоем на крыльце, она обняла мать и тихо шепнула:
— Муамо, иди к туатто! Я вас не забуду. Я, может, даже вернусь к вам, но туатто… передай ему, что пусть он подумает, пусть он сделает так, как велят добрые люди. Тогда все, все будет хорошо!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
По графику до конца сплава оставалось еще двадцать дней, но хвост сплава уже миновал Пуорустаярви и шел полным ходом к запани Туулилахти. Это была первая новость, которую Воронов объявил Александрову. Если особых задержек не будет, то последняя древесина подойдет к запани через неделю и сплав можно будет закончить примерно на полмесяца раньше срока.
Александрова немного удивило, что Воронов начал разговор о делах со сплава. Ведь его прежде всего интересовали механическая мастерская и новая электростанция!
По пути в мастерские они зашли на запань.
Со склона горы, по которому они спускались к реке, перед Александровым открылся вид, который так часто вставал перед его глазами в Крыму.
По реке, текущей из густого леса, беспрерывным потоком, наскакивая друг на друга, плыли бревна. Из главного фарватера древесина расходилась к сплоточной машине, к транспортеру, к штабелям. Поднимался дымок из трубы сплоточной машины. На правом берегу реки шумел локомобиль. Бревна ползли по транспортеру, и с них капала вода. Шипели шпалорезки, грохотали вагонетки.
— Петр Иванович, добро пожаловать! — весело крикнул первый сплавщик, увидевший гостя.
Затем уже только и слышалось:
— Наконец-то вернулись!
— Мы тут заскучали без вас!
Александрову жали руку, расспрашивали о здоровье, приглашали в гости…
У дисковой пилы для изготовления штукатурной дранки хлопотал молодой паренек. Александров помнил, что раньше он убирал опилки и все просился к машинам.
На сплоточной машине Пааво Кюллиев с гордым видом показал все, что ими было сделано. Все было изготовлено так хорошо, что у Александрова не нашлось замечаний.
— А ты боялся, что без тебя ничего не выйдет! — улыбнулся Воронов.
— Кто-то еще больше опасался!
Когда Воронов заговорил о новой плотине на Пуорустаёки, о строительстве нового лотка на Пуорустаярви, о сверлильных машинах для изготовления оплотников, Александров не удержался от замечания:
— Эти работы находятся в ведении начальника и его заместителя.
— Потому-то я и говорю о них. Тебе придется стать моим заместителем. Об этом уже был разговор и в сплавной конторе и в партийной организации.
Александров заартачился:
— Я хочу работать на прежней должности — главным механиком. Это же моя специальность.
— Твоя специальность всюду, где применяются машины, а они нужны по всей сплавной трассе. И на следующий год их будет гораздо больше, чем сейчас.
— Мне будет трудно справиться с такой работой…
— Если бы было легко, то Мякелев продолжал бы сидеть на этом месте!
— А кто же будет главным механиком?
— Степаненко.
— Неужели он в самом деле изменился? Мне писали, но трудно было поверить.
— Это произошло не само по себе, — проговорил Воронов. — В этом и твоя заслуга.
— Моя заслуга?! Ты шутишь? Я когда-то считал, что Степаненко пропащий человек.
— Мало ли что ты считал! Откровенно говоря, ты сам ничего не сделал для него, но Айно… Другими словами, я хочу сказать, что большая любовь, подобно костру, греет всех, кто находится возле нее.
Они подошли к электростанции. Александров ускорил шаг, оставив Воронова позади. У порога он остановился, оглянулся кругом, потом подошел к установленным на цементных фундаментах машинам, пощупал их рукой, словно пробуя, прочно ли они стоят на месте, и стал внимательно рассматривать измерительные приборы.
— Ну как? — Воронов улыбался. — А ты говорил, не справимся.
— Запамятовал я, кто об этом больше говорил, — усмехнулся Александров.
— А вот Кирьянен не сомневался.
Александров испытующе посмотрел на Воронова.
— А у какого костра тебя отогрели?
— Ты это о чем? — не понял Воронов.
— Не так ты раньше говорил о Кирьянене, и вообще… Они изменились или ты?
— Это ты был неправильного мнения о Кирьянене, — сухо сказал Воронов.
— Согласен, — признался Александров. — Это я понял еще в Крыму, по письмам. А ты когда понял? Когда тебе намылили голову на собрании или позже?
— Я не об одном Кирьянене говорю, — уклонился от ответа Воронов. — Я говорю вообще о людях нашей запани. Так что учти это, мой будущий заместитель.
Весь вечер Александров провел у Айно. Она готовила ужин, а затем они сидели за столом счастливые, словно это был свадебный стол. Айно то смеялась над пустяками, то вдруг делалась серьезной, задумчивой.
Как будто обо всем договорились: как только мать Айно получит отпуск и приедет в Туулилахти, они сыграют свадьбу. Александров сказал, что он уже обдумал, какой мебелью обставить комнату. Ведь жить они будут у него.
Тут Айно прервала его:
— Почему у тебя, а не здесь?
Александров даже удивился.
— Оттуда ведь и к конторе ближе и к механической мастерской…
— А к больнице?
Он густо покраснел.
— Хорошо, — улыбнулась Айно. — Сделаем так, как тебе лучше.
— Нет! — решительно возразил Александров. — Нужно, чтобы тебе было ближе к работе. У тебя же больные. Да и часто вызывают по ночам. Так что я буду примаком. Возьмешь?
— Мой примак! — Айно звонко засмеялась и прижалась к руке Александрова.
— Знаешь, Петр, наша двухмесячная разлука — это словно пробный камень, испытание… Ведь говорят, что ветер гасит маленький огонек, а сильное и большое пламя только раздувает…
Было уже поздно, когда Александров пришел домой. Открыв дверь, он заметил на полу бумажку. Поднял ее. На ней было написано несколько слов печатными буквами:
«Молодой человек! Вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что Айно ваша. Вам предстоит разделить ее с начальником рейда».
Александров громко рассмеялся, хотел порвать бумажку и выбросить, но потом задумался. Ясно, что письмо — злостная клевета. Но дыма без огня не бывает. Что-то должно было служить поводом для клеветника. Почему Айно ничего не говорила о Воронове? Действительно, она рассказывала о Степаненко, о Николае, о Кюллиеве, о Кирьянене. Но ни слова о Воронове. Лишь мимоходом сказала, что он болел. «Но что она могла рассказать, если ничего не было?» — ответил Александров самому себе.
Он смял бумажку и выбросил, потом снова поднял, разгладил, снова выбросил, снова поднял и на этот раз положил в карман. Лег спать, стараясь думать только о том, как чудесно будут жить они вдвоем в комнате Айно. Но как он ни старался думать только об этом, в его мысли змеей вползали слова записки. Он выкурил папироску, встал с постели, зашагал по комнате, оделся, пошел по улице. В окнах Айно уже было темно. У Воронова горел свет. Александров решил, что ни за что не пойдет к Воронову, и все же пошел именно к нему, постоял на лестнице, неуверенно постучал и вошел в комнату.
Воронов поднял голову от книги.
— Не спится с дороги? — спросил он.
— Не спится. Гулял, увидел свет, решил зайти.
— Ну, садись. Может, чайку согреем? Или, может, чего-нибудь покрепче?
— Я не за тем пришел. Хотел узнать насчет назначения… С кем ты говорил?
Воронов назвал фамилию начальника отдела кадров сплавной конторы и увидел: Александров не слушает его. Затем тот задал новый вопрос — о машинах, которые сплавная контора хотела отнять. Воронов стал рассказывать ему о приезде Ипатова, а Александров, нервно и рассеянно перебирая газеты, невпопад поддакивал ему.
— Что с тобой, Петр? — тихо спросил Воронов.
— А что? Ничего. Значит, хотели все оборудование электростанции увезти?
— Да, хотели. Но ты пришел говорить не об этом. Что с тобой?
— Со мной? Работать буду, вот и все.
— Нет, это не все. Ты женишься…
— Ну, и что из этого? Да, женюсь, но кому какое дело?
— Что-то стряслось с тобой? Днем ты был как человек, а теперь… — Воронов махнул рукой.
Александров вдруг, не сдерживая гнева, протянул Воронову записку.
— Что это значит?
Александрову показалось, что Воронов, прочитав записку, залился краской.
— Мне это почти понятно, — с деланым равнодушием сказал Воронов.
— Ну что ж, тогда и мне понятно, — Александров встал и взял кепку.
— Ты куда?
— Домой, куда же еще!
— Сиди и не дури! Сейчас я тебе расскажу.
— Мне нечего слушать.
— Нет, ты должен выслушать. Я лежал больной. Айно лечила меня. И, как нарочно, каждый раз, когда Айно была здесь, сюда заходила одна… как ее назвать? Вбила себе в голову черт знает что. Вот она и сочинила тебе записку.
— Кто она?
— Кто, кто! — теперь злился уже Воронов. — Женщина. Старая. Без некоторых винтиков в голове. Вот кто! Мне она говорила о цветках, а тебе подсунула ягодки. А ты голову теряешь. Эх, Петр!.. Давай пить чай!..
Александров не стал пить чай. Он вышел успокоенный, но еще хмурый. Он думал, рассказать ли об этой грязной истории Айно, потом решил ничего не говорить.
На следующее утро Воронов вызвал к себе Матрену Павловну. Плотно закрыв дверь своего кабинета и не отвечая на приветствие, он в упор спросил:
— Зачем вы сделали эту пакость?
— О чем вы говорите, товарищ Воронов? — Матрена Павловна села, насмешливо посмотрела на Воронова и с подчеркнутым недоумением сказала: — Я вас не понимаю, товарищ начальник.
— Зачем вы написали Александрову такое письмо?
— Какое письмо? Александрову? У меня пока нет намерения завести с ним переписку, хотя это было бы романтично: переписка с неизвестной.
— Нет, вы стали слишком известной здесь. И зачем вы клевещете на Айно Андреевну?
— Ах, вам это больно? — с нескрываемым ехидством и злорадством спросила Матрена Павловна. — Как жаль, вам больно! Ничего не поделаешь, в жизни часто бывает больно.
— Знаете что, Воронова! — начальник уже не мог сдержаться. — Я вам предлагаю немедленно убираться из Туулилахти…
— Это еще что такое? — Матрена Павловна встала. — Я увольняюсь по собственному желанию, а гнать меня вы не имеете права. Вы, конечно, большой, очень большой начальник, но не для меня. Я подчиняюсь другим.
— Слушайте и запомните! — Воронов подчеркивал каждое слово. — Если вы через два дня, не уберетесь отсюда, я выпровожу вас через милицию! Да еще привлеку к ответственности за клевету.
— Товарищ начальник, вы отвечаете за свои слова? За такое поведение вас скорее привлекут, так что не я, а вы сломаете себе карьеру. А клеветой я не занимаюсь. У вас нет никаких доказательств, и я буду все отрицать! Так что не было бы вам хуже!
Ни в голосе, ни в лице этой женщины не было и следа той мягкости, с какой она приходила к нему прощаться. Сейчас перед Вороновым была злобная, готовая на все старуха, завидующая ему, Александрову, всем, кто нашел место в жизни.
Воронов вспылил:
— Потрудитесь не забыть того, что я вам сказал… Так вот к чему свелись ваши разговоры о красоте, о культуре…
В столовой Александров не без ехидства спросил Воронова:
— О чем это ты с Матреной Павловной секретничал?
— У нас было прощальное объяснение в любви, — огрызнулся Воронов.
Матрене Павловне не надо было двух дней. На завтра к поезду шла подвода, нагруженная фанерными и картонными коробками и старинным, окованным железом, сундуком. Наверху сидела владелица скарба. Она не заметила, что картонная коробка с широкополой шляпой, привязанная в кузове, трется о колесо телеги. Картон развалился, и колесо мазало белую шляпу сырой, влажной землей.
Когда подвода скрылась за поворотом, новая заведующая библиотекой Лидия Воробьева настежь открыла окно и пустила в комнату поток свежего ветра.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Оути Ивановна пригласила гостей. Сегодня день ее рождения. Один самовар опустошался за другим. Как только одно блюдо освобождалось от каккара, на его месте появлялось другое.
Пироги, рыбники, калитки Оути Ивановны имели большой успех, но сколько их ни ели, они не убывали.
Была теплая ночь. Лучший баянист Туулилахти сидел на крыльце дома и играл без перерыва. Молодежь танцевала во дворе. В промежутках между танцами заходили еще и еще раз испробовать печенья Оути Ивановны и пожелать многих лет счастья виновнице торжества.
Было уже за полночь, когда Койвунен появился на пороге и приостановил танцы:
— Послушайте, есть одна большая новость!
Баянист прекратил игру, а танцующие остановились на своих местах.
— В этом доме теперь новый хозяин.
Люди окружили Койвунена. Но Койвунен не спешил с объяснениями. Трубка погасла. Надо было сперва выколотить золу, а прежде чем набить ее новым табаком, надо было ее вычистить. Кто-то не выдержал, крикнул:
— Потом закуришь! Выкладывай свои новости!
Но поручение, данное Койвунену, было настолько серьезно, что сказать его можно было, лишь затянувшись крепким дымом.
Он вычистил трубку тщательнее обычного, продул через нее несколько раз воздух и, убедившись, наконец, что все в порядке, набил табаком.
— О каком хозяине ты говоришь? Не тяни, добрый человек!
Койвунен пошарил в карманах, но спичек не оказалось. Ему протянули сразу десять зажженных спичек. Койвунен прикурил и досказал свою новость:
— Хозяином в этом доме отныне будет Микола Петрович Степаненко, муж нашей именинницы Оути Ивановны…
На некоторое время воцарилось молчание. Потом раздались дружные радостные возгласы и баянист заиграл торжественный марш.
Крики и шум далеко разносились в летней ночи, врываясь в открытые окна домов и привлекая все новых гостей. На столе появились полные бутылки. Степаненко подняли на руки и понесли вокруг дома. Оути Ивановну разыскали на кухне и, несмотря на ее сопротивление, вытащили во двор и тоже понесли на руках.
С трудом освободившись, Оути Ивановна бросилась на шею к Айно:
— Айно, дорогая! Николай сказал: мама, не оставайся одна! И сейчас нас уже трое. Анни тоже остается у нас…
Айно смеялась и ласково гладила Оути Ивановну.
— Такой человек, как вы, никогда не останется один.
На следующий день из запани в открытое озеро отправили последний плот связанных сплоточной машиной пучков. Длинный плот выпрямился. Маленький, бойкий буксир дал гудок, и плот, покачиваясь на волнах, стал удаляться все дальше и дальше.
С озера дул свежий ветер. Пенистые волны с шумом ударялись о прибрежные скалы и песок. По небу плыли лоскутки легких облаков. Высоко над волнами кружилась чайка с распростертыми крыльями. Казалось удивительным, как она держится в воздухе: ее крылья долго-долго оставались почти неподвижными. И вдруг, словно подстреленная, она камнем полетела вниз. А у самых волн опять круто взвилась вверх.
В чем-то неуловимом чувствовалась уже осень — то ли в запахе прелой воды, то ли в желтеющих лучах солнца.
Воронов, Кирьянен и Степаненко, словно по уговору, пришли на берег, чтобы проводить последние бревна.
— Смотри, как плещет! — проговорил Воронов, указывая на открытое озеро.
— Пусть плещет, места хватит! — улыбаясь, ответил Степаненко.
1952