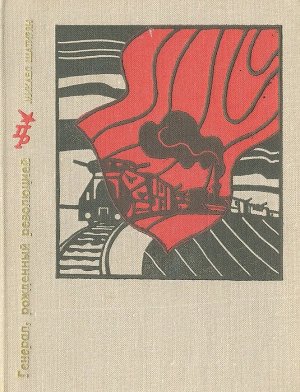
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Над городом с самого утра висели тяжелые осенние тучи. И с самого утра, лишь с небольшими перерывами, сыпал мелкий нудный дождь, от которого поверхность уличного булыжника мерцала, словно наждачная бумага. Холодный, промозглый воздух заставлял прохожих зябко ежиться. Однако в этот послеобеденный час на минских улицах, ведущих к городскому театру, было оживленно. Шли военные в шинелях и папахах, реже попадались штатские, в основном рабочие.
— Видите, народ валит туда, на торжественное собрание, — сказал угловатый и громоздкий солдат-гренадер, огромного роста, с пышными черными усами, обращаясь к шедшей рядом женщине в накидке сестры милосердия.
— И он будет там? — спросила она. — Вы уверены в этом?
— Уверены, сестрица, — ответил солдат. — Нам сказали, что на сегодняшнем собрании он главный докладчик. Так ведь, Пролыгин? — повернулся он к другому гренадеру, шагавшему слева от сестры.
— Если вы читаете газеты, то, наверно, знаете: скоро в Питере открывается Второй Всероссийский съезд Советов, — сказал тот спутнице. — Вот товарищ Мясников и расскажет, что и как нам делать... Встретите его там, не сомневайтесь.
Он был много ниже своего товарища, кряжист и, конечно, тоже носил усы. Под мохнатыми бровями глубоко сидели выразительные глаза, которые, казалось, все время улыбаются чему-то — хитро, но добродушно.
— Спасибо, — сказала женщина. — И если не трудно, делайте, пожалуйста, не такие шаги, я вынуждена бежать!
— Фу ты дурында! — сердито воскликнул первый гренадер. И тут же пояснил: — Это я себя ругаю, виноват... Что поделаешь, за войну совсем отучились мы ходить рядом с женщиной... Три года только и слышали: «Шире шаг!.. Поспевай!»
— Да я понимаю... — улыбнулась женщина. — Ну, а вы, видно, очень интересуетесь политикой, а?
— А кто теперь не интересуется ею? — пожал плечами Пролыгин. — Теперь солдат, бывший крестьянин или рабочий, взялся за политику серьезно... Вон Марьин, — он кивнул на своего товарища, — председатель полкового комитета Восемнадцатого Карсского гренадерского полка.
— А Пролыгин, — в свою очередь аттестовал друга Марьин, — так он даже член армейского военревкома.
— Большевики? — не поворачивая головы, спросила женщина.
— Угадали, — на лице Пролыгина играла все та же улыбка. — А что?
— Да ничего, — пожала плечами женщина.
Они шли с вокзала, куда недавно со станции Городея прибыл санитарный поезд. С этим поездом приехала группа солдат из Второй армии для участия в юбилейном заседании Минского Совета. Когда Марьин и Пролыгин, громко разговаривая, упомянули имя руководителя минских большевиков Мясникова, к ним быстро подошла эта сестра милосердия, видимо из персонала санитарного поезда, и спросила, где она может найти товарища Мясникова. И Марьин предложил ей пойти с ними в городской театр.
Теперь, шагая рядом, он тайком разглядывал ее, она казалась маленькой и хрупкой. Глаза с длинными черными ресницами смотрят прямо, черные же вразлет брови озабоченно сдвинуты. Пухлый рот слегка приоткрыт от быстрой ходьбы. Несмотря на сырость и холод, женщина не втягивала голову в воротник, а шла легкой, свободной походкой. «Ой хороша!..» — невольно залюбовался Марьин. И сразу же спутница, не поворачивая головы и не меняя направления взгляда, произнесла с укором:
— Хватит разглядывать меня, солдат, нехорошо это!
Солдат вздрогнул, смущенно отвернулся, крякнул с досадой (как она заметила, будто лишний глаз у нее под ухом!) и произнес чуть охрипшим голосом:
— Виноват, прощения просим... Это я к тому, что вы давеча сказали... будто он земляк ваш... Армянин то есть.
— Мясников?
— Угу. Ведь фамилия куда уж русская. И опять же имя-отчество — Александр Федорович... А?.. На фронте у нас все считают, что он казак с Дону. А вы — земляк, армянин!
— Что он с Дона — это правда. Рядом с Ростовом-на-Дону есть такой город армянский — Нахичевань. Там много армян с русскими фамилиями.
— А как они там очутились? — теперь уже заинтересовался и Пролыгин.
— Это долгая история... Из Крыма их переселили, еще при Екатерине Великой...
— Вот как... А ваш поезд когда вернется в Городею — завтра?
— Завтра. А что?
— Мы, может, и обратно с вами поедем. Если будет время — расскажете. Я такими вещами больно интересуюсь. Можно?
— Что ж, если будет время — расскажу. Только вы увлеклись и опять делаете саженные шаги...
— Виноват... — Пролыгин замедлил шаг, потом сказал: — Да вот он — театр! Уже пришли.
Перед зданием театра толпился народ, и кто-то кричал простуженным голосом: «Товарищи! Заседание начинается, заходите все, а то двери в зал закроем!»
В переполненном, шумном фойе Марьин сказал: «Вы тут погодите, я сейчас узнаю, где найти товарища Мясникова», — и взглядом начал искать, у кого бы спросить. Увидев невысокого солдата в очках, обрадованно крикнул:
— Щукин! Подойди-ка сюда!
Тот оглянулся, узнал его, помахал рукой: «А, Марьин, здорово!» — и пробился через толпу к гренадерам.
— Здоров, брат, — сказал Марьин. — Хочу сегодня выступить. Можно?
— Конечно, конечно, — кивнул тот. — Сейчас запишу тебя в список выступающих.
— Запиши. Вот еще, тут сестра милосердия из санпоезда, ищет Алешу.
— Почему Алешу? — не поняла его спутница. — Я ищу товарища Мясникова, Александра Федоровича!
— Ну так это же его партийная кличка, — удивленно сказал Марьин, — разве не знаете? А еще говорите — ваш земляк!
Женщина собралась было ответить, но тут Щукин произнес:
— Да вот и сам товарищ Мясников идет.
Женщина повернулась и увидела человека в старенькой, но ладно сидящей шинели с погонами прапорщика. Он был среднего роста, с карими глазами, резко очерченным ртом и аккуратным, совсем не «армянским», носом. В группе людей Мясников направлялся в глубь фойе, к двери, ведущей на сцену, но, видимо услышав свое имя, оглянулся — и сразу его взгляд остановился на сестре милосердия. Минуту он внимательно вглядывался, затем, широко улыбнувшись, направился к ней.
— Здравствуйте, Изабелла Богдановна, вы ли это? Какими судьбами?
— Здравствуйте, Александр Федорович, — женщина протянула ему руку. — Как хорошо, что вы не забыли меня... Меня послал к вам Виктор Иванович, мой муж... Помните его?
— Ну еще бы... Послал, говорите? Откуда, где он?
— В авиаотряде Второй армии. Я должна сообщить вам нечто важное... Очень...
— Очень?.. — Мясников в замешательстве оглянулся на своих спутников. — Понимаете, сейчас начинается заседание... Можете подождать до конца? Или это не терпит отлагательства?
— Да нет, в общем это не так срочно, — улыбнулась Изабелла Богдановна. — Я подожду, послушаю в зале.
— Пойдемте, — обратился к женщине Марьин. — А то скоро там и сесть негде будет.
Изабелла Богдановна и гренадеры вошли в нетопленный зал. Кое-как отыскав в заднем ряду свободные места, они уселись. Гренадеры, словно телохранители, по бокам. Вокруг стоял гомон не успевших еще рассесться людей. Кто-то недалеко от них громко воскликнул:
— Ну, братцы, и холодина же тут — хуже, чем на улице!
Другой, видимо украинец, весело ответил:
— Ничого... надышим, на... — тепло будэ! Марьин, приподнявшись с места, сердито одернул:
— Товарищи солдаты, прошу вести себя как полагается! Здесь же заседание Совета, а потом — есть женщины.
Изабелла Богдановна чуть не фыркнула и поспешно повернулась к Пролыгину.
— Скажите, кто был тот солдат в очках, с которым вы говорили в фойе?
— Щукин? Это же один из наших самых крепких товарищей, испытанный большевик.
— Гм... А почему ваш друг, — она кивнула на Марьина, — обратился именно к нему, чтобы записал для выступления?
— Ах это... Так Щукин же еще с апреля член Фронтового комитета. А когда недавно здесь был создан Северо-Западный областной комитет нашей партии, Щукин стал одним из его членов.
— А это большая должность?
Пролыгин искоса посмотрел на соседку, словно хотел проверить: а не разыгрывает ли та его? Но в глазах Изабеллы Богдановны был такой искренний интерес, что он сразу понял: несомненно образованная, но в этих вопросах она ничего не смыслит. И поэтому начал объяснять рассудительно:
— Я вижу, вы все еще старыми мерками меряете: если человек сидит где-нибудь в министерстве или в городской управе, имеет чин и жалованье, то это уже шишка, а если он простой солдат и является членом областного комитета партии, которая не входит в правительство, то какой у него может быть вес? Ведь правда же так думаете? — Пролыгин, не ожидая ответа, продолжал: — Но вы не можете не знать, что сейчас массы — солдаты, рабочие и крестьяне уже не хотят идти за теми, кто сидит в нынешних министерствах и управах, а повернули к нам, к большевикам. (Изабелла Богдановна поспешно кивнула, чтобы показать, что она это уже знает.) Ну а раз так, выходит, что уже сегодня Щукин хотя и не сидит в кабинетах и не получает никакого жалованья, но посильнее тех, что имеют «должность». А завтра, когда мы возьмем власть, этот солдат будет такими делами ворочать, что держись!
— Да? — Изабелла Богдановна как-то странно посмотрела на него. — Значит, вы твердо уверены, что не только сумеете взять власть, но и сможете переделать в стране все по-своему?
Пролыгин усмехнулся в усы и промолвил:
— Что ж, посидите тут, послушайте и потом, может, поймете, что к чему.
Наконец на сцене появились члены президиума. Почти все они, кроме двух-трех рабочих и одной женщины, были одеты в военную форму. Изабелла Богдановна сразу отличила среди них Мясникова и очкастого солдата, о котором только что шла речь. Нагнувшись к Пролыгину, она спросила шепотом: — А кто эта женщина?
— Доктор Терентьева, — также шепотом ответил гренадер. — Из Красного Креста.
— Тоже большевичка?
— Само собой. Она член исполкома Совета и член Минского комитета партии.
— А вот тот, похожий на кавказца?
— Это товарищ Алибегов, председатель Минского комитета партии большевиков... А вот тот, что сидит рядом с товарищем Мясниковым, — председатель исполкома Ландер, латыш по национальности... А еще дальше сидит военный — Могилевский фамилия, еврей значит... Еще дальше — товарищ Перно, тоже латыш...
— И все они большевики? Весь ваш Совет?
— Нет, не все, конечно. Вон сидит с краю Перель — он бундовец, вон эсер Полянский, есть и меньшевики. Но все они... — Пролыгин сделал пренебрежительный жест и с гордостью сообщил: — Теперь в Совете и в исполкоме главные — большевики...
В это время поднялся председатель Ландер, человек лет тридцати пяти, и открыл торжественное заседание небольшим вступительным словом. Он напомнил, что двенадцать лет тому назад в Петрограде был создан один из первых Советов, который представлял собой зачаток принципиально новой власти. Затем в этом году, после Февральской революции, вновь был образован Совет. И сейчас, после проведенных в сентябре перевыборов, когда большинство в Совете и его исполнительном комитете получили большевики, он уже способен выполнить те важные задачи, которые поставлены революцией и историей вообще перед Советами в России...
Затем он предоставил слово для доклада Мясникову.
Изабелла Богдановна обратила внимание на то, что председатель сказал только: «Слово — товарищу Мясникову». Но, судя по тому, какими дружными аплодисментами встретили в зале вышедшего к трибуне прапорщика, представлять его было не нужно.
Воцарилась полнейшая тишина. Докладчик начал говорить не очень громко.
— Подобно тому, как во время Великой французской революции аббат Сийес сказал: «Третье сословие ничто, но оно хочет быть всем», то же самое можем сказать мы. В 1905 году Совет рабочих депутатов явочным порядком ввел свободу собраний, печати, а также восьмичасовой рабочий день... В нынешней великой российской революции все те Советы, которые стоят на революционной точке зрения, полагают, что они призваны творить новую государственную власть.
Потом Мясников подробно рассказал об истории взаимоотношений Временного правительства и Советов после Февральской революции. Объяснил, почему Советы, имевшие вначале полную возможность сразу взять власть в свои руки и осуществить все подлинно демократические преобразования в стране — покончить с опостылевшей и разорительной войной, решить земельный вопрос и так далее, — не сделали этого. Не сделали из-за предательской политики засевших в руководстве Советов эсеров, меньшевиков и прочих соглашателей. Пошли на поводу у буржуазного Временного правительства и начали терять в массах авторитет, перестали быть органами новой, народной власти. Но после корниловского мятежа, в котором обнажилось подлинное лицо скобелевых и чхеидзе, массы отвернулись от соглашателей. Теперь они вновь обращают лицо к той единственной партии, которая никогда не сотрудничала с буржуазией и помещиками, а с самого начала призывала превратить Советы в единственную власть рабочих и крестьян. Вот почему с сентября Советы начинают все более леветь. И вместе с тем все более возрастает их авторитет в массах, их влияние в стране.
— Теперь перед Советами стоит вопрос об организации российской революции, о революционной власти, — продолжал Мясников, выйдя из-за трибуны на авансцену и тем как бы подчеркивая, что он перешел к самой важной части доклада. — Ее задачи — создание полного народовластия, полная свобода и раскрепощение народа, прекращение анархии в производстве. Эти задачи буржуазия не может выполнить... Мы требуем революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства.. Армию мы должны вырвать из рук контрреволюции и порвать со всей буржуазией, как российской, так и союзных стран, окончить войну революционным путем. Если после этого английская, немецкая и тому подобная буржуазия объединится против нас, мы станем оборонцами. Но мы тогда будем защищать не позиции международного капитала, а позиции революционного пролетариата. Мы стоим и ждем: кто что посмеет предпринять против нас... Мы должны сказать ясно и открыто: если Временное правительство не передаст власть Советам, мы должны будем восстать и взять ее!
При этих словах зал весь напрягся, кто-то даже крикнул: «Ого!»
— Да, восстать и взять власть! — повторил Мясников, взглядом ища в зале того, кто крикнул. — Мы не могли делать этого до сих пор, потому что большинство народа еще не стало на нашу сторону. А теперь задача Советов — взять власть или, если это не удастся, погибнуть славной смертью. Такая власть немедленно разрешит вопросы о войне и о земле...
Под аплодисменты он направился к столу президиума.
Изабелла Богдановна, которая выслушала речь Мясникова, подавшись всем телом вперед, чтобы не пропустить ни одного слова, теперь наконец усталым движением откинулась на спинку кресла и окинула взглядом окружавших людей... На серых, покрытых щетиной лицах появился румянец, глаза горят от возбуждения, крупные загрубевшие руки неловко, но сильно хлопают. Она снова посмотрела на сцену, где Мясников пробирался к своему месту у стола, и подумала: «Да, эти люди, кажется, добьются своего... Во всяком случае, они верят в правоту своих целей и в свою способность осуществить их».
И тут она вспомнила свою первую встречу с Мясниковым — полгода назад в поезде... Конечно, уже тогда этот человек с такими запоминающимися глазами произвел на нее достаточно сильное впечатление. Но разве могла она тогда подумать, что их случайный попутчик, скромный прапорщик, так быстро станет одним из самых популярных людей на Западном фронте, деятелем, к голосу которого с такой верой и надеждой прислушиваются сотни людей здесь, в этом зале, и тысячи и тысячи других — за стенами его, в Минске и многих других городах, в селах и фронтовых окопах? Да и слишком уж коротка и мимолетна была эта встреча, а она тогда была потрясена происшедшими вокруг и в собственной ее жизни крутыми переменами. В России произошла революция, все ликовали по поводу наступления «царства свободы и народовластия». Сама же она была ошеломлена тем, что неожиданно для самой себя дала согласие выйти замуж за русского летчика поручика Виктора Евгеньева...
Да, это решение — выйти замуж за русского — она приняла внезапно, не испросив даже согласия родителей, что для армянки из далекой провинциальной Эривани было неслыханным и дерзостным нарушением всех обычаев и норм религии. Правда, отец ее был человеком довольно широких взглядов, общественным деятелем, сотрудничал в ряде газет, устраивал в Эривани любительские спектакли, причем много лет назад первым в городе позволил своей старшей дочери выступать в этих спектаклях, что по тамошним представлениям считалось позорным. Несмотря на ограниченные средства — жалованье учителя истории в гимназии плюс доходы от небольшого сада в Разданском ущелье, — он все же сумел отправить сначала двух старших сыновей в Московский Лазаревский институт, затем в Германию, в Лейпциг, а позже решился на совсем уж немыслимый для эриванских обывателей шаг — отпустил младшую дочь, красавицу Забел, одну в Петербург — учиться на Высших женских медицинских курсах. Замужество дочери, не испросившей отцовского согласия, — это было уж слишком даже для него. Получив известие об этом ее шаге, он разразился длинным и гневным письмом. Он укорял ее за измену той высокой цели, которую она ставила перед собой, отправляясь учиться в столицу, — показать путь к просвещению и цивилизации тем молодым армянкам, чьи души до сих пор бродят в пустыне невежества, суеверий и глупых предрассудков. «Ты, наверное, помнишь притчу о вороне Ноя[1], использованную нашим писателем Мурацаном в его повести. Никогда не думал я, что дочь моя окажется тоже вороной, которая, польстившись на такую падаль, как «офицер-дворянин, летчик из Гатчинской школы авиаторов», забудет о своем высоком патриотическом долге...»
Этот упрек особенно огорчил Изабеллу, так как она согласилась выйти замуж за Евгеньева отнюдь не потому, что соблазнилась его дворянским происхождением или близостью к аристократическим кругам гатчинских офицеров. Она была не из тех провинциальных дурочек, которых так привлекает положение в обществе.
Изабелла Богдановна приехала учиться в Петербург перед самой войной. Будучи от природы общительной и веселой девушкой, она быстро подружилась со многими курсистками. Потом появились и друзья-кавказцы из студентов Петербургского университета, Технологического института и других учебных заведений.
Когда началась война, курсистки-медички пошли на санитарную службу в военные госпитали. Их примеру последовали многие представительницы буржуазных, а то и аристократических кругов Петербурга. Большинством из них руководил искренний порыв облегчить страдания раненых фронтовиков. Другим же благородная и строгая одежда сестры милосердия служила лишь рекламой их патриотических чувств.
Но так или иначе, Изабелла Богдановна попала в круг новых для нее лиц. Ее начали приглашать в аристократические салоны и на собрания молодых людей — штатских и офицеров, где увлекались символистами и акмеистами, пели душещипательные романсы, сегодня произносили ура-патриотические речи о победе русского оружия, а завтра с циничной усмешкой рассказывали ужасающие истории о царском дворе, о немке-царице и Гришке Распутине, о слабоумии и слабоволии самого царя и о бездарности и продажности членов правительства — истории, из которых следовало, что при таких порядках война неминуемо будет проиграна...
В этих салонах царила атмосфера скоротечных влюбленностей и ухаживаний. Кое-кто из офицеров-гвардейцев и летчиков Гатчинской авиационной школы начал волочиться за нею. Один из летчиков, поручик Евгеньев, в отличие от остальных, по-видимому, серьезно увлекся ею. Он не делал никаких попыток к сближению, а, сидя где-нибудь в углу, неотрывно смотрел на Изабеллу Богдановну, когда та пела под аккомпанемент гитары русские или цыганские романсы или просто разговаривала с кем-либо. Глядел с молчаливым обожанием, но сразу испуганно отводил глаза, если она случайно обращала взгляд в его сторону. Однажды, наслушавшись «сладостно-дурманящих» стихов акмеистов, Изабелла решилась прочесть им стихи Аветика Исаакяна из только что вышедшего в свет сборника «Поэзия Армении»:
Твоих бровей два сумрачных луча
Изогнуты, как меч у палача.
Все в мире — призрак, ложь и суета,
Но будь дано испить твои уста,
Их алое вино, —
Я с радостью приму удар меча:
Твоих бровей два сумрачных луча
Изогнуты, как меч у палача.
Присутствующие, конечно, сочли стихи слишком старомодными, прямолинейными и «по-восточному цветистыми». И лишь Евгеньев, впервые нарушив «обет молчания», решительно заявил:
— А по-моему, в этих нескольких строках заключено большое и искреннее чувство по-настоящему любящего мужчины!
Но, как ни странно, эта внезапная поддержка не обрадовала Изабеллу Богдановну: она верным женским чутьем угадала, что стихи понравились летчику потому, что выражали его собственные чувства к ней.
И, вероятно, их отношения никогда бы не перешагнули за черту «шапочного знакомства», если бы однажды именно этот летчик не очутился в той офицерской палате госпиталя на Васильевском острове, где дежурила Изабелла. В тот вечер сестра милосердия, сдававшая ей дежурство, сказала усталым голосом:
— Сегодня в нашу палату поместили поручика Евгеньева, — помнишь, такой угрюмый летчик из Гатчины? У бедняги перелом левой ноги, вывихнута и правая, а на животе и груди столько рваных ран: целый час пинцетом вытаскивали кусочки дерева и щепок...
— Как, разве он был на фронте? — поразилась Изабелла.
— При чем тут фронт... Грохнулся вместе с самолетом на свой же аэродром при учебном полете. Такая ужасная профессия... Ну ладно, пойду отдыхать.
Изабелла Богдановна прошла в палату. При тусклом свете настольной лампы она увидела Виктора Ивановича.
Он лежал на спине с закрытыми глазами. Его лицо, чуть скуластое, с упрямыми губами, сейчас стало совсем некрасивым: как-то посерело, прямые светлые волосы прилипли к потному лбу, губы были плотно сжаты и лишь иногда вздрагивали... Изабелла Богдановна поняла, что раненый не спит. Она нагнулась к нему и тихо позвала.
Виктор Иванович на минуту замер, потом приподнял веки и мутными, невидящими глазами посмотрел на нее, И лишь немного погодя его глаза широко открылись и в них отразилось удивление, недоверие, потом — радость, радость!
— Вы? — судорожно глотнув ртом воздух, спросил он. — Вы — здесь?..
— Ну да, я ведь работаю сестрой в этой палате...
— Господи... Вот не ожидал... Это же счастье! Изабелла Богдановна невольно оглянулась, потом поспешно спросила:
— Вам очень больно?
— Больно. Но ничего, вы побудьте... если можно... мне будет легче... — Он застонал от очередного приступа боли.
— Нет, я все же пойду принесу морфий и сделаю укол, — решительно сказала Изабелла. — Вы так не сможете уснуть, а сон вам сейчас нужен более всего...
— Нет, нет! — замотал головой Евгеньев. — Не нужно мне морфия. Летчикам нельзя. И спать мне не нужно, лучше посидите со мной...
— Ну, от одного-двух уколов вы морфинистом не станете, а посидеть с вами я могу, но при условии, что вы будете послушным больным.
— Ладно, я буду послушен вам, позволю делать с собой все, что угодно, но только... побудьте со мной как можно дольше. Мне это нужно, очень нужно сейчас...
Изабелла Богдановна ушла в дежурку, чтобы приготовить шприц с раствором морфия. Этот сдержанный и молчаливый человек так бурно, почти не скрывая своих чувств, с первой минуты выразил свою радость при виде ее! Она достаточно хорошо знала о том, насколько меняются даже самые суровые и сдержанные люди после ранения. Пережитое, страх перед смертью делают их похожими на детей, блуждавших в темном и сыром лесу и наконец попавших домой. Они ищут ласки и заботы, чтобы успокоиться, увериться, что их любят, жалеют, готовы защитить... Только после этого они способны поесть и уснуть. С этим летчиком, вероятно, стряслось то же самое, думала она. Господи, представить только себе, что он чувствовал, когда его самолет стремительно падал вниз... Ужас какой! И разве она имеет право в такую минуту сразу дать ему понять, что отнюдь не питает к нему иных чувств, кроме сострадания?
Изабелла Богдановна сделала ему укол, потом принесла белую больничную табуретку и уселась возле койки.
— Ну вот, скоро утихнет боль, вы уснете, а я буду тем временем сидеть возле вас...
— Спасибо, — прошептал Евгеньев. Некоторое время он как бы прислушивался к тому, что делается в нем, потом произнес: — А ведь боль и в самом деле утихает...
— Морфий...
— Нет, это не морфий, это вы... И пока вы будете возле меня, я не буду чувствовать никакой боли...
Изабелла слегка нахмурила брови и сказала притворно строгим голосом:
— Послушайте, Виктор Иванович, я запрещаю вам говорить об этом и вообще о чем-либо. Спите...
— Слушаюсь, — покорно улыбнулся Евгеньев.
Но стоило Изабелле сделать движение, как он сейчас же открывал глаза и цеплялся за нее просящим взглядом. Она замирала на месте, и так они оставались некоторое время. Наконец она не выдержала, сказала шепотом:
— Да спите вы! Не уйду я никуда, не уйду...
— Спасибо... — так же тихо сказал он. — Я вот смотрю на вас... В белом халатике, в косынке с крестиком... такая необыкновенная... И думаю: зачем вы ходите туда, на эти сборища? Что общего между вами и этими расфуфыренными девицами да фатоватыми офицериками? Зачем поете им свои песни, читаете стихи? Разве не видите, что они ничего не понимают в этом и в душе считают вас провинциальной простушкой?..
— Что они думают обо мне — меня не трогает. Когда я кончу курсы — распрощаюсь с ними навсегда. А вот вы — почему вы так ополчились против них? Это же ваше общество.
— Мое? — Евгеньев презрительно скривил губы. — Я-то всего раза два был там... И этого достаточно, чтобы понять: это гниль, источающая сладкий запах, но заражающая все вокруг притворством, ложью в мыслях и делах, цинизмом. И ушел бы после второго раза, ушел бы навсегда, если бы не вы. Извините за банальное сравнение... В общем, вы помните, как у Крылова сказано об этом...
— И решили вытащить бриллиант, — она насмешливо ткнула пальцем себе в грудь, — из навозной кучи?
— Да нет, — вздохнул Евгеньев с огорчением, — я нанимал, что это смешно и что стоит мне заикнуться — и вы прогоните меня. И все же я не мог не ходить туда... Сидел и злился на них, на себя и... простите, на вас...
Изабелла Богдановна почувствовала, что разговор дошел до опасной грани, и заявила:
— Ну вот, мы снова с вами разговорились. Я вынуждена заявить, что, если вы сейчас же не закроете глаза и не уснете, я уйду отсюда! А вообще-то мы с вами успеем наговориться обо всем, не беспокойтесь.
— А ведь правда! — с радостным удивлением воскликнул летчик. — Ведь я тут пролежу не меньше месяца. И буду видеть вас... Так что — молчу, сплю!
...Он пролежал в госпитале не один, а более трех месяцев. И за это время они действительно успели поговорить обо всем. Евгеньев
...Рассказывал не раз
Событья личной жизни, год за годом
Описывал превратности судьбы...
Вдавался в глубь времен и доходил
От детских дней до нынешней минуты...
Рассказывал, как он беды избег
На волосок от смерти...
И тогда случилось то, что случалось в мире тысячи раз. В беседах зародилась любовь Изабеллы Богдановны к Евгеньеву. Он преобразился в ее глазах, она увидела его цельность, увлеченность своим делом, честность и даже смелость. Рассказ о том, как он «беды избег на волосок от смерти», особенно покорил ее. Одним словом, она дала согласие на замужество.
И вот через некоторое время после выхода из госпиталя они вместе отправились к нему в имение под Дорогобужем, недалеко от Смоленска...
Они вынуждены были добираться туда через Оршу.
Когда поезд Петроград — Минск — Москва прибыл в Оршу, супруги весьма удачно устроились в освободившемся купе, где остался всего один пассажир, какой-то прапорщик. Как только Евгеньевы в сопровождении бородатого носильщика появились в купе, прапорщик деликатно вышел в коридор, чтобы не мешать им устраиваться. И лишь после того, как носильщик, рассовав вещи под сиденья и на верхние полки, ушел, прапорщик вернулся в купе.
— Позвольте представиться. Прапорщик Мясников. Буду досаждать вам своим присутствием до станции Дорогобуж. Разрешите сесть?
Виктор Иванович буркнул: «Поручик Евгеньев», но и не подумал представить свою молодую супругу. Изабелла Богдановна уже успела заметить с тех пор, как они поженились, что муж не очень охотно представлял ее посторонним мужчинам. Это претило ее общительной натуре. Она питала неутолимый интерес к новым людям, а в поездах они, как правило, становятся очень разговорчивыми и иной раз услышишь такие поразительные истории... И, бросив на мужа укоризненный взгляд (у, бирюк!), она сама представилась:
— Изабелла Богдановна, бывшая курсистка Высших женских медицинских курсов... Ныне же помещица, едущая в свое имение, что недалеко от того самого Дорогобужа, куда направляетесь вы...
По улыбке Мясникова она поняла, что прапорщик — явно из интеллигентных людей — уловил таящуюся в ее словах насмешку и понял, что ее забавляет новое для нее положение «помещицы»...
Мясников был в форменном френче, с портупеей и погонами, на груди висели два ордена. Он внимательно разглядывал эту пару. Изабелла Богдановна угадывала причину этого: видимо, их попутчик обратил внимание на то, что ее супруг — типичный русский, а она — ярко выраженная южанка...
Чуть погодя она сама спросила с улыбкой:
— Пытаетесь угадать, какой же национальности эта помещица?
Мясников смутился, но потом сказал просто:
— Простите, пожалуйста, но я действительно стараюсь понять это... Что вы с юга — это мне ясно, по какой именно национальности?
— Что же, скажу: я армянка, и настоящее имя мое — Забел, а по отчеству я вовсе не Богдановна, а Аствацатуровна, ибо Аствацатур по-армянски и означает «богом данный», «Богдан»...
Она выжидательно посмотрела на Мясникова, а тот, вдруг расхохотавшись, сказал:
— А хотите, и я вас удивлю: ведь я тоже армянин и, представьте, тоже Аствацатурович, но в отличие от вашего мое отчество переведено не на русский, а на греческий лад: Федорович, Александр Федорович...
Изабелла Богдановна (впрочем, как и Виктор Иванович) в самом деле была поражена. Она недоверчиво изучала лицо Мясникова. И тогда Мясников сказал:
— Что, не верите? — И прибавил на чистейшем армянском: — Уверяю вас, я настоящий армянин и, как сказано во всех документах, армяно-григорианского вероисповедания...
— А фамилия? — спросила по-русски Изабелла Богдановна. И тут же ее осенила догадка: — Погодите... Вы из новонахичеванских армян, правда? Ведь у тамошних армян много таких русских фамилий: Купцовы, Шелковниковы, Зерновы, Серебряковы, Медниковы... Мой отец говорит, что эти фамилии образовались после того, как ваши предки переселились из Крыма на берега Дона...
— Совершенно верно, — кивнул Мясников. — Поэтому есть у нас и «крымский» ряд фамилий: Налбандовы, из которых вышел Микаел Налбандян, Айвазовы, родственная ветвь которых дала художника Айвазовского, есть Карагёзовы, Халибовы и так далее. А вот имена у нас даются большей частью самые что ни на есть армянские: Лусерес, Хочерес, Месроп, Хорен... Наши старики уверяют, что имена эти держатся со времен Анийского царства... Ведь вы, наверное, знаете, что в Крым наши предки переселились из Ани — древней столицы Армении?
Изабелла Богдановна кивнула ему и многозначительно посмотрела на мужа, словно говоря: «Вот видишь, как интересно».
И, чтобы втянуть Виктора Ивановича в разговор, спросила:
— А ты знаешь, когда это было — Анийское царство? В девятом — одиннадцатом веках... А когда оно надо, то на берегу Средиземного моря возникло Киликийское армянское царство Рубенидов. Тогда киликийские цари вели совместно с крестоносцами борьбу против сарацинов и часто заключали брачные союзы с франкскими королями и другими вельможами. Один из них, царь Левой Второй, например, женился на Сибилле, дочери кипрского короля Амори Лузиньяна и Изабеллы Плантагенет, и в честь последней назвал свою дочь Изабеллой, после чего это имя — Забел — попало в армянские святцы. А зато армянское имя Рубен проникло к испанцам и потом уже в Латинскую Америку...
— Да ну? — с искренним удивлением произнес поручик. — А я никакого представления об этом не имею.
«Фу ты, наконец-то подал голос!» — подумала Изабелла Богдановна и, чтобы заставить его совсем разговориться, решила раздразнить его.
— Да уж, дорогой муженек, в том-то и разница между мной и тобой, — ехидным тоном сказала она. — Вот я русскую историю выучила в гимназии назубок, могу перечислить всех русских царей и цариц, благо, их всего-то полтора десятка, начиная от Михаила Романова и кончая Николаем Вторым, которого вы сковырнули полтора месяца назад. А у нас одних царских династий было с десяток, да в каждой полтора-два десятка царей... И не об одном из них ты ничегошеньки не знаешь!
Она помолчала, ожидая, что скажет на это муж. Но поскольку тот только виновато улыбался, Изабелла Богдановна с искренним возмущением воскликнула:
— Ну что ты за тихоня у меня такой, а? Наговорила тебе всякую чушь, а ты даже отвечать не хочешь!
— А что отвечать? — все так же улыбаясь, спросил Евгеньев.
— Ну хотя бы сказал: «Мало ли что у вас было когда-то... А вот твой отец — отец, а не дед! — когда в молодости задумал первый любительский спектакль поставить, так вынужден был сам играть роль героини, поскольку во всем городе не нашлось ни одной армянки, которая согласилась бы «опозориться», выйдя на сцену»... Ведь я же сама рассказывала тебе об этом. Рассказывала же!
— Ну, рассказывала... Но как же я могу говорить тебе такие слова?
— Ну, видали? — негодующе всплеснув руками, повернулась она к Мясникову. — А ведь он же у меня герой, не Молчалин какой-нибудь. А вот со мной...
Евгеньев бросил на жену укоризненный взгляд: мол, при посторонних-то...
В эту минуту она совсем не думала о том, что втягивает в свои семейные отношения случайного попутчика. Уже тот небольшой разговор, который произошел между ними, почему-то сразу расположил ее к этому прапорщику. Она сразу угадала в нем какую-то основательность и одновременно сердечность, умение быстро раскусить даже незнакомого собеседника и точно его оценить.
— А знаете, Изабелла Богдановна, по-моему, ваш супруг придерживается самой правильной тактики: на его месте я бы тоже не стал возражать вам: опасно. — И, поймав благодарный взгляд Евгеньева, Мясников, еще раньше заметивший хромоту поручика, его трость, на которую он опирался не очень умело, обратился к нему: — Разрешите полюбопытствовать, господин поручик, на каком фронте вы были ранены?
— Да не на фронте он... — ответила вместо мужа Изабелла Богдановна. — И назвала я его «героем» отнюдь не за ранение, которое он получил, грохнувшись с высоты в сто саженей.
— Это в каком смысле? — не понял Мясников.
— В самом прямом: ведь Виктор Иванович — летчик-инструктор в Гатчинской военно-авиационной школе... — Тут Изабелла Богдановна посмотрела на своего насупившегося мужа и вдруг сказала просящим тоном: — Я знаю, Витенька, тебе неприятно, что я говорю об этом, но ведь сейчас пришло время, когда не только можно, но и нужно рассказывать об этом... Нужно, понимаешь!
По лицу Виктора Ивановича было видно, что он вовсе не разделяет эту ее уверенность. Но он опять не счел возможным возразить жене и молча отвернулся. А Изабелла Богдановна продолжала:
— Так вот, Виктор Иванович — инструктор в Гатчинской школе авиаторов. Вы что-нибудь понимаете в авиации? (Мясников сделал неопределенный жест.) Я тоже мало что смыслю в этом деле, но в человеческих отношениях я все же немного разбираюсь, и мне давно стало ясно: хотя в первое время в эту школу и поступали одни лишь лица дворянского происхождения, но это все же были настоящие спортсмены, отважные люди и энтузиасты авиации. Едва ли может быть, чтобы вы не слышали о знаменитом летчике Нестерове, первым сделавшем «мертвую петлю» на аэроплане и совершившем перед войной за один день перелет из Киева в Гатчину. А теперь всякие высокородные аристократы в этой школе окопались... — Изабелла Богдановна вновь оглянулась на угрюмо молчавшего мужа, но решила высказаться до конца: — Ну, сначала это принималось за выражение патриотизма, — ведь летать опасно, даже если в тебя не стреляют враги. Но потом выяснилось, что даже школа авиаторов может быть для них хорошим убежищем, чтобы избежать фронта и при этом ходить в героях...
— Каким образом? — удивленно спросил Мясников.
— А вот таким: числится некий князь... скажем Волобуев-Пещерский, в школе, а живет в своем петроградском особняке. Каждое утро их сиятельство наряжается в кожаные брюки и тужурку, надевает краги и шлем с огромными очками-консервами, садится в собственный автомобиль и торжественно катит по петроградским улицам мимо окон великосветских барышень, вызывая их восторги своим прямо-таки орлиным видом. На гатчинский аэродром он прибывает уже за полдень и, не вылезая из авто, первым делом смотрит: нет ли на небе туч да не дует ли ветерок? А под Петроградом, как вы сами понимаете, и облачность, и ветры далеко не редкость. Тогда их сиятельство, сославшись на нелетную погоду, так и не вылезши из автомобиля, едет прямехонько в Гатчинский дворец, где у него есть достаточно друзей среди офицеров-гвардейцев, и начинает бражничать с ними или играть в карты. Ну, а если, на его несчастье, небо совершенно чистое и на деревьях не шелохнется ни один листик, то он, тяжко вздохнув, вылезает из автомобиля и, постукивая стеком по крагам, направляется к аэроплану, который с самого утра для него подготовили к полету механики...
Тут Изабелла Богдановна поднялась и изобразила «их сиятельство» шествующим к аэроплану. И тут же заметила, как Мясников скосил глаза в сторону Евгеньева и, увидев, что тот готов расхохотаться, догадался, что она чрезвычайно удачно копирует некое конкретное лицо.
— ...Потом их сиятельство наконец устраивается на сиденье аэроплана, приказывает механикам запустить мотор и... начинает рулить по летному полю, — продолжала Изабелла Богдановна. — Мотор тарахтит, пропеллер вертится, а он так и катит взад и вперед, разве что оторвется от земли на аршин-полтора и снова плюхнется вниз. Поколесив этак с полчаса по полю, он считает тренировку оконченной, глушит мотор, снова садится в автомобиль и едет обратно в Петроград. И так — не месяцы, а годы подряд!
— Погодите, господин поручик, а разве нет твердо установленных сроков обучения летчиков в школе?
Виктор Иванович явно обрадовался, что разговор переходит от его служебных отношений в школе к технической стороне организации учебного дела, и от его угрюмости не осталось и следа.
— Видите ли, установлению таких жестких сроков мешает ряд обстоятельств: ведь полеты в аппаратах тяжелее воздуха — дело новое, многие теоретические основы его еще не до конца уяснены, а уж о том, чтобы успеть изложить в учебниках и наставлениях, как это, скажем, сделано в морском деле, артиллерии или других родах войск, и говорить нечего. Да и в самих аппаратах нет единообразия: рядом с серийными заграничными «фарманами» и «фоккерами» есть много отечественных аппаратов, выпущенных, увы, в нескольких экземплярах... Посему пока не может быть единообразия также и в освоении материальной части и обучении полетам. Наши опытные инструкторы, конечно, знают, сколько примерно надо времени, чтобы человек средних способностей овладел своим аппаратом и начал надежно летать. Но у нас допускается, что один может добиться этого на месяц раньше, а другой — на месяц позже среднего срока, в соответствии с чем и аттестуют курсантов к выпуску...
— Вот этим и пользуется начальство школы, — объяснила Изабелла Богдановна. — Поскольку выпуск курсантов проводится по мере их готовности, то многие задерживаются в школе до бесконечности долго...
И тут Евгеньев тоже не выдержал. Словно разорвав какие-то сковывающие его путы, он произнес с неожиданным жаром:
— Беда не в том, что эти господа сами засиживаются в школе бессовестно долго... Ведь из-за ограниченного количества летательных аппаратов мы можем принимать на обучение весьма малое число курсантов, и, стало быть, эти господа мешают подготовке других, дельных летчиков, столь нужных фронту... На Западе, у французов, англичан да и у германцев тоже, ежегодно готовятся сотни летчиков. Все больше расширяется сфера деятельности авиации, она уже не ограничивается простым наблюдением за противником, разведкой тылов и связью, а чаще применяется для поддержки войск с воздуха, бомбометания по важным объектам на фронте и по узлам железных и шоссейных дорог в тылу, преграждения подхода резервов противника... А мы отстаем, снова отстаем от них!
— Ну теперь я, кажется, могу сам сказать, в чем заключалось ваше «геройство», — произнес Мясников серьезно. — Вы предложили начальству отчислить этих господ и принять новых курсантов. Так?
Евгеньев молча кивнул.
— И тем навлекли на себя недовольство?
— Да еще в какой форме! — ответил Евгеньев, насупив брови. — Меня пригласил к себе начальник школы и, постукивая костяшками пальцев по списку, который я ему представил, произнес: «А вы, оказывается, лишены дворянской чести, поручик... Посмотрите только, какие фамилии вы хладнокровно начертали собственноручно на этой бумажке — цвет русского дворянства! Вы предлагаете направить их, не завершивших обучения, на фронт, то есть на убой!» Понимаете, Александр Федорович, — Евгеньев и сам не заметил, что обращается к собеседнику, как к давно знакомому человеку, — ведь я из мелкопоместной, «служилой» семьи. Из поколения в поколение в нашем роду сыновья шли служить в армию и полагали, что в этом и заключается дворянская честь. А теперь выходит, что мое предложение, чтобы эти господа перестали бить баклуши в тылу и пошли на фронт воевать, противоречит «дворянской чести». Вы знаете, после этого я начал думать, что России — конец...
— Ну, России вы зря торопитесь предрекать конец, — повел плечами Мясников. — А вот ваша... авария в воздухе? Она как-нибудь связана с этой историей?
Евгеньев не ответил и снова испуганно-просяще посмотрел на жену, словно призывая ее к молчанию. Но Изабелла Богдановна теперь тем более не хотела молчать, поэтому произнесла жестко:
— Да.
— Не уверен... — возразил Евгеньев. Но при этом глаза его вновь спрятались за бровями.
— Да! — еще громче и упрямей повторила Изабелла Богдановна, уже злясь на мужа. — Об этом списке, составленном Виктором Ивановичем, конечно, узнали те, кто был занесен туда, и пришли в бешенство. Они потребовали удаления Виктора Ивановича из школы, но этого, конечно, нельзя было сделать открыто. И тогда в один прекрасный день в моторе его аэроплана оказалось замененным... как это называется? — спросила она мужа, но, поскольку тот молчал, сама вспомнила: — Да, магнето... Не спорь, Витя, ты знаешь, что оно было снято и заменено старым и испорченным! — строго сказала она мужу. Затем — Мясникову: — И едва Виктор Иванович поднялся в воздух, как мотор перестал работать и аппарат камнем упал вниз...
Мясников устремил вопросительный взгляд на поручика, и тот наконец поднял глаза.
— Не уверен... — сказал св. — Не могу поверить, что это было сделано умышленно. Вы знаете, мы получаем эти магнето из Франции, но так как они нужны и для автомобилей, то в последнее время часты стали случаи, когда из комплекта самолета вдруг исчезают магнето. Какие-то лица вытаскивают их из ящиков то ли в Мурманске, то ли в Архангельске и продают по баснословной цене владельцам частных автомобилей. Правда, на моем аппарате, как на инструкторском, всегда стояло исправное магнето, но в этот день оно отказало после нескольких минут работы. К счастью, раньше, чем я успел подняться слишком высоко... Но ведь эту замену исправного на кое-как починенное магнето мог произвести кто-нибудь из механиков, польстившись на куш, предложенный спекулянтами. Такие случаи у нас, увы, возможны.
Изабелла Богдановна давно понимала, что муж сам не верит в эту версию, но упорно цепляется за нее, ибо боится самого страшного — окончательно увериться в полнейшем моральном разложении окружающих его людей.
— Вы не потребовали провести расследование? — спросил Мясников.
— Вот! — торжествующе воскликнула Изабелла Богдановна. — Вот что я твержу ему все это время! Ведь теперь, когда произошла революция, даже простые, неграмотные мужики не хотят мириться с несправедливостью.
И она торопливо рассказала Мясникову о том, как в их госпитале к одному раненому солдату приехал земляк с Псковщины. Его за что-то высек помещик, и он, не добившись справедливости на месте, не смирился, добрался до Петрограда. Изабелла Богдановна написала по просьбе раненого прошение на имя Шингарева — министра земледелия в новом, Временном правительстве...
— Ну и дурак он, этот твой мужик, и зря ты старалась — писала для него прошение, — полушутливо-полусерьезно огрызнулся Евгеньев. — Эка невидаль: в России выпороли мужика... А он еще явился в столицу искать правду!
— А то, что в столице революция, — это ничего не значит, да? — «запальчиво спросила Изабелла Богдановна. — Что царя свергли и теперь у нас будет республика — ничего? Неужели, по-твоему, и при республике будут пороть крестьян?
— Ну, можно подумать, что крестьян порол сам царь, — усмехнулся поручик. — Ведь их пороли мы, помещики, а нас-то еще не собираются свергать... Стало быть, крестьян будут пороть и дальше.
— Мы? — взорвалась Изабелла Богдановна. — Не хочешь ли сказать, что ты тоже порол крестьян и собираешься заниматься этим и впредь?
Этот ее возмущенный и грозный вопрос не на шутку испугал Евгеньева, и он сразу пошел на попятный:
— Побойся бога, Беллочка! Ни я, ни родители мои никогда не позволяли себе такого. Я просто хотел сказать, что помещиков, измывающихся над крестьянами, в России осталось предостаточно и то, что теперь и тех и других называют «гражданами», ничего не меняет.
Изабелла Богдановна обратилась за помощью к Мяс-никову:
— Вы тоже так думаете, господин прапорщик? К ее удивлению, тот задумчиво ответил:
— Боюсь, что ваш супруг прав.
Ей стало обидно, что двое мужчин так единодушно несогласны с ней, и она выпалила:
— Вы оба просто крепостники какие-то! — Она сердито отвернулась, но тут же снова обратилась к ним: — А все же хотите вы того или нет, но в России с этим безобразием будет покончено!
Теперь уже Мясников, откровенно любуясь, посмотрел на нее, потом повернулся к Евгеньеву:
— Ну как, господин поручик, хотим мы этого или не хотим?
— Я-то хочу, но...
— Но, судя по настроению у вас в Гатчине, не очень-то верите в такую возможность? Не вороте, например, что расследование по случаю аварии вашего аэроплана будет проведено.
— Не хочу заниматься этим... — глухо сказал Евгеньев. — Есть в этом что-то такое... грязное...
— А вы не думаете, Виктор Иванович, что именно для того, чтобы избавиться от грязи, вам нужно заниматься этим? — тихо, но настойчиво спросил Мясников. И, видя, что собеседник не откликается, он продолжал: — Это нужно сделать даже не для вас, не для того, чтобы отомстить тем, кто, возможно, решил таким способом отделаться от вас... Ведь вы же сами сказали: фронту нужны летчики, да и вообще борьбу, которую вы начали, нужно продолжать.
Евгеньев поднял голову, спросил насмешливо:
— Попросить Беллочку написать еще одно прошение?
— А вы, значит, не верите в прошения?
— Да ведь все они сидят там спокойненько: и начальник, и господа, о которых я писал... Встретили меня с улыбкой, преподнесли вот эту трость с серебряной ручкой, — Евгеньев поднял трость, протянул Мясникову: — Поглядите, здесь выгравированы фамилии именно тех, кто был в моем списке, — они зла не помнят...
— Или, наоборот, это — напоминание тебе! — вдруг словно осенило Изабеллу Богдановну.
Евгеньев посмотрел на нее с удивлением.
— Не знаю...
— Надеюсь, летать впредь сможете? — спросил Мясников.
— Смогу. Буду летать всем назло! — Но тут же Евгеньев добавил упавшим голосом: — А вот в школе, чувствую, я больше не жилец. Пошлют на фронт... — И, боясь, что его неправильно поймут, поспешно пояснил: — Не думайте, я не боюсь этого, а в данной ситуации сам считаю за благо убраться оттуда.
Они помолчали, глядя на проносящиеся мимо поезда деревья, одетые в первую свежую листву.
— Для честного человека отправка на фронт, само собой, благородный выход, — задумчиво произнес Мясников. — Однако в данной ситуации это будет не очень смелым шагом... Ведь, насколько я понял, вы опытный инструктор, умеете и любите обучать людей летному делу. Стало быть, с точки зрения интересов того же фронта лучше, чтобы вы оставались в школе и готовили новых летчиков.
— Вы все о том, чтобы я продолжал борьбу с ними? — поморщился Евгеньев. — Да говорю же я вам: несмотря на революцию, они сидят там очень даже уверенно — не сдвинешь... А начать борьбу, зная наверняка, что проиграешь, — какой смысл?
Он снова уставился в окно, а Мясников вдруг задал вопрос, обращаясь уже не к поручику, а к Изабелле Богдановне:
— А почему вы не спросите меня, для чего я еду в Дорогобуж?
Изабелла Богдановна пораженно посмотрела на него и вдруг засмеялась:
— А ведь правда! Выболтала все о нас, а вот вы... А какие у вас дела в Дорогобуже?
— Я в первые годы войны командовал там учебным батальоном. А сейчас меня пригласили туда как члена Фронтового комитета — читать лекцию. И как раз о вопросах, которые мы здесь затронули.
— Об авиации? — удивилась она.
— Да нет, — улыбнулся Мясников. — О крестьянах, которых стали называть «гражданами», но все еще порют во всех концах России. О царских генералах и офицерах, которые по-прежнему крепко сидят на своих местах. Словом, о революции, о том, что она дала и, увы, все еще не дала народу...
Изабелла Богдановна сразу почувствовала, как муж весь внутренне подобрался. Его сузившиеся до щелочек глаза изучали лицо Мясникова, потом скользнули по орденам Анны III степени и Станислава на его груди.
— Вы что, господин прапорщик, принадлежите к какой-то партии? — глухо спросил он.
Изабелла Богдановна прочитала в глазах Мясникова нечто вроде жалости, словно тот хотел сказать: «Ах бедняга, до чего испугался: военный человек занимается политикой!» А что ее муж именно так и полагает (истинный солдат должен держаться подальше от политики), она уже знала. Как-то во время их бесед он сказал, что его покойный отец никогда не подавал руки жандармским офицерам, ибо они занимались политикой, хотя и не отрицал неизбежности их существования. Это чисто кастовое самоотстранение от политики даже удивило тогда Изабеллу Богдановну, — ведь в их семье занятие политикой никто не считал зазорным. Наоборот, ее старший брат, осевший после возвращения из Германии в Тифлисе, вел близкое знакомство с членами многих партий — дашнаков, кадетов, эсеров — и как-то даже три дня прятал у себя какого-то бежавшего из ссылки социал-демократа...
— Принадлежу, — подтвердил Мясников с усмешкой. — Вот уже одиннадцать лет.
Но так как он не сказал, к какой именно партии принадлежит, то Изабелла Богдановна начала гадать:
— Кадет? Октябрист? — Усмешка на лице Мясникова стала еще откровенней, и она продолжала перечислять: — Эсер? Трудовик? — Она запнулась.
— Ну что же вы? — спросил Мясников. — Не знаете больше, какие есть в России партии?
— Неужели... социал-демократ?
— Угу. Большевик.
— А-а... — невольно вырвалось у Евгеньева. Лицо его стало мрачным, и он кивнул на ордена Мясникова: — А носите царские ордена!
— Ношу, — серьезно сказал Мясников. — Я их заслужил в боях. Этот в пятнадцатом году под Варшавой, а этот — в шестнадцатом, уже в Белоруссии...
— А говорят, ваши-то против войны? — спросил Евгеньев.
— Против, — согласился Мясников. — Объяснить? Мы ведь не вообще против войны, не пацифисты. Мы против этой войны, ибо она империалистическая, захватническая. Она выгодна лишь верхам, а народу приносит только горе и разорение...
Евгеньев ушел в себя, как черепаха в панцирь: смотрел в окно, хотя было ясно, что внимательно слушает. Но его жена не умела так, она должна была поспорить.
— И что же? — спросила она. — Вы ведь все равно участвуете в этой войне!
— Конечно, — кивнул Мясников. — Иначе народ подумал бы, что мы просто дезертиры, что все наши протесты против войны вызваны трусостью. На самом же деле многих из нас не берут в армию, но мы сами идем на фронт под чужой фамилией, участвуем в боях, получаем ранения и ордена за храбрость, но одновременно разъясняем своим товарищам, в чем подлинная суть этой бойни и что нужно делать, чтобы прекратить ее.
— А что еще делать? — спросила Изабелла Богдановна. — Самодержавие уже свергнуто...
— Но, как мы установили с вами, в деревнях все еще порют мужичков, а в Гатчинской школе авиаторов, как и повсюду в армии, продолжают сидеть на своих местах царские генералы и офицеры, ведя ту же войну «до победного конца».
Евгеньев наконец вылез из панциря.
— Ну и что вы собираетесь делать с этими генералами и офицерами?
— В двух словах? — спросил Мясников. — Гнать их в шею!
— А кто же будет командовать полками, дивизиями и армиями? Не вы ли, случайно?
Это был явный выпад, и Изабелла Богдановна хотела было вмешаться, но Мясников опередил ее, ответив совершенно спокойно:
— Мои слова относились к системе в целом, господин поручик. Но если вам угодно начать с частного примера, то есть с вашего покорного слуги, — что ж, не возражаю... С самого начала войны я занимаюсь в пехоте примерно тем же, чем вы в авиации: готовлю унтер-офицеров для маршевых батальонов, отправляемых на фронт. И должен сказать, что я тоже не нахожу идеальной систему подготовки младших командиров. Объясняется все просто: самодержавие, господствующие классы не заинтересованы давать слишком много знаний унтер-офицерам, в основном выходцам из народных масс. Наши верхи считают, что излишняя широта знаний может дать унтерам излишнюю пищу для нежелательных размышлений... Ну и, чтобы покончить с моим примером, укажу еще на одно обстоятельство: в течение войны я не раз отправлялся во главе маршевых батальонов на фронт, принимал участие в сражениях, приобрел немалый боевой опыт и в случае нужды не побоялся бы взяться и за полк, а то и дивизию...
— Вот как? — воскликнул Евгеньев. — А можно узнать, кем вы были до войны?
— Я окончил юридический факультет Московского университета и поступил на службу помощником присяжного поверенного, но началась война и меня призвали в армию... Ну что вы усмехаетесь, господин поручик? — улыбнулся Мясников. — Убеждены, что если полками и дивизиями начнут командовать прапорщики, да еще из бывших присяжных поверенных, то армии каюк, не так ли?
— Спасибо, что вы сами сформулировали мою мысль, — сухо кивнул Евгеньев.
— Не могу согласиться с вами, — спокойно возразил Мясников. И вдруг придвинулся к собеседнику: — Хотите знать, почему меня лично не продвигали по службе? Потому, во-первых, что офицерский, и особенно старший офицерский, состав нашей армии формируется в основном из дворянского сословия, а я к нему не принадлежу. Во-вторых, я «инородец». Но самое главное, начальству, по-видимому, были известны мои политические взгляды, во всяком случае, я считался «неблагонадежным», и пускать такого, как я, в армейские верхи было бы весьма и весьма неблагоразумно. И надо признать, что, с точки зрения господствующих классов, это достаточно логично и понятно. Но вот в отношении к вам...
— Что вы хотите сказать? — резко спросил Евгеньев.
— Ведь вы и русский, и дворянин, и потомственный военный, да и в политическом отношении куда уж благонадежней... Так почему же они так ополчились против вас и даже чуть не угробили?
— Милостивый государь! — вдруг вспылил поручик. — Позвольте сообщить вам, что подобные высказывания я считаю неуместными!
Изабелла Богдановна заметила, как на секунду, только на секунду, глаза Мясникова стали холодными и колючими, и поспешно воскликнула: «Витя!» Но Мясников уже овладел собой и покачал головой:
— Нехорошо, поручик, нечестно так спорить... Вы сами сочли возможным именно на моем примере раскрыть свои взгляды, но не признаете за мной права на вашем примере доказать, что вы ошибаетесь... — Он сделал паузу, ожидая возражений, но, так как их не последовало, продолжал: — Итак, вы, честный русский офицер и дворянин, далекий от политики, обнаружили, что в вашем училище подготовка летчиков поставлена плохо, из-за чего страдает отечественная авиация. Движимый самыми лучшими побуждениями, думая только о благе родины, России, вы внесли предложения, чтобы устранить недостатки и в какой-то мере укрепить нашу авиацию. Казалось, эти предложения должны были встретить самое внимательное и доброжелательное отношение, не так ли? А вышло как? На вас не только разозлились, начали упрекать в «отсутствии патриотизма», но и дошло до того, что устроили преднамеренную аварию вашего аэроплана. Почему, спрашивается? Да потому, что вы со своей наивной честностью полагали, будто родина, Россия — это русский народ, русская армия, солдаты и офицеры, которые на фронте терпят поражения и страдают от того, что у нас меньше ружей и патронов, меньше орудий и снарядов, меньше аэропланов и летчиков, чем у противника... А в представлении вашего начальства, Россия — это они, «волобуевы-пещерские» (Мясников кивнул в сторону Изабеллы Богдановны как автора этого определения), и все то, что плохо для них, плохо и для России. Вот почему вас обвинили в «непатриотичности», господин поручик. Ведь вы, сами того не ведая, замахнулись на систему, на самую суть ее! И этот проступок был тем более нетерпим, что его допустил не какой-нибудь прапорщик (Мясников ткнул пальцем себя в грудь), выходец из низов, «инородец» и «вольнодумец», а русский дворянин и потомственный офицер. Это уже измена, понимаете ли, измена своему классу! А изменников, как известно, ненавидят больше, чем откровенных врагов.
— Ну, знаете ли... — саркастическая улыбка на лице поручика явно призвана была скрыть растерянность. — Вы этак можете меня и в социал-демократы произвести.
— Ну что вы, что вы, — чуть насмешливо возразил Мясников. — До этого еще оч-чень далеко... Но что вы сейчас находитесь в деликатном положении — это несомненно. Ведь вам теперь волей-неволей предстоит сделать трудный выбор: или признать, что Россия — это «волобуевы-пещерские» и надо защищать их и только их интересы, или же, оставаясь верным вашим прежним представлениям о подлинной России, согласиться со мной, что нужно вслед за царем прогнать в шею и всех тех, кто продолжает прежнюю политику...
Минуту в купе слышался только стук колес вагона. Потом Изабелла Богдановна воскликнула с веселым изумлением:
— А ведь господин прапорщик положил тебя на обе лопатки, Витя! Я еще зимой, когда услышала твои рассказы о порядках в школе, думала примерно то же самое, хотя не решалась сказать тебе.
— А я пока так не думаю! — впервые за все это время зло сверкнул на нее глазами Евгеньев. И обернулся к Мясникову: — Что касается выбора моего дальнейшего пути — с кем идти и куда, — то можете не беспокоиться, как-нибудь разберусь сам!
— Да уж придется, — почти примирительным тоном кивнул Мясников. — Ну а теперь давайте отвлечемся от наших личных судеб и вспомним хотя бы опыт Великой французской революции. Тогда ведь тоже основная часть дворян-офицеров ушла в контрреволюцию. Но народ дал из своих недр десятки тысяч новых командиров, и в том числе таких прославленных генералов и маршалов, как Гош, Даву, Мюрат, Ней и другие, не считая самого Наполеона.
Но, кажется, именно этим примером он испортил впечатление от предыдущей победы. Изабелла Богдановна знала, что ее муж еще не готов воспринимать столь далеко идущие сравнения. И он, действительно, сказал:
— Боюсь, что я не в состоянии разделить ваши взгляды, господин прапорщик. Россия — не Франция, да и обстановка у нас совершенно не та, поэтому я но верю, что у нас появятся свои Мюраты и Даву, которые превратят русскую армию в победоносные колонны Наполеона. Скорее всего, наши р-революционеры добьются того, что армия распадется и германцы захватят и разорвут в клочья несчастную Россию...
Сказав это, Евгеньев резко отвернулся, явно показывая, что не намерен дальше продолжать разговор. Мясников понял это и, минуту помолчав, вышел в коридор. Изабелла Богдановна с мужем, сидя в купе, тоже молчали, глядя в окно на проплывающие мимо деревья, только недавно покрывшиеся клейкой, лоснящейся яично-зеленой листвой...
— ...Слово для выступления предоставляется председателю полкового комитета Восемнадцатого гренадерского Карсского полка товарищу Марьину! — объявил со сцены Ландер.
Очнувшись от этого голоса и от того, что сидящий рядом Марьин быстро поднялся с места и начал пробираться между рядами кресел, Изабелла Богдановна перевела глаза на сидящего за столом президиума Мясникова, вновь с острым любопытством рассматривая его и думая о том, с какой настойчивостью шел этот человек к цели, о которой говорил в тот день в поезде. Ведь вот же он стал одним из руководителей той партии, которая почти полностью завладела мыслями и думами народа и армии и собирается на деле осуществить идеи, которые еще полгода назад казались Изабелле Богдановне и ее мужу просто фантастическими...
И в это время она снова увидела того солдата в очках, Щукина, который, видимо, куда-то уходил, а теперь возвращался из-за кулис к столу президиума. Сев рядом с Мясниковым, он начал что-то шептать ему на ухо. Но тут на трибуну вышел Марьин, и Изабелла Богдановна с непонятным для нее самой интересом начала слушать его речь.
— Со станции звонили наши — Голубев и Четырбок, — говорил в это время Мясникову Щукин. - Полчаса тому назад прибыл Чернов. Его встречали Нестеров, Кожевников и Злобин из Фронтового комитета, адъютант главкома Завадский да несколько десятков делегатов крестьянского съезда...
— Гм... ясно, — тихо произнес Мясников. — Постарались создать видимость помпы?
— Ага... Сразу повезли в штаб фронта. Наверное, разрабатывать «стратегию и тактику» завтрашнего съезда.
Речь шла о съезде, который должен был открыться завтра в этом же зале. Это была затея эсеро-меньшевистского руководства Фронтового комитета, которое намеревалось накануне открытия II Всероссийского съезда Советов созвать здесь, в Минске, съезд солдат-крестьян. Мясников знал, что делегаты съезда тщательно подбирались из состава старых солдатских комитетов, давно уже не отражавших настроения войсковых частей, — на девяносто процентов это были проэсеровски настроенные лица. И то, что на этот съезд прибыл сам Виктор Чернов, прозванный «мужицким министром», свидетельствовало о далеко идущих целях противников большевиков: протащить на съезде резолюции, которые должны создать впечатление, будто основная масса солдат Западного фронта все еще поддерживает Временное правительство. «Ну да, — думал Мясников, — вызвали «тяжелую артиллерию», чтобы дать нам здесь бой. Что же, посмотрим, насколько это им удастся...»
И Мясников тоже стал слушать речь Марьина.
— ...После Февраля у нас все были за эсеров, но уже и лету в нашем полку насчитывалось восемьсот большевиков и тысяча двести сочувствующих, — говорил тот. — Фактически весь наш полк стал целиком большевистским. Даже командир полка полковник Водарский хотя и беспартийный, но остался с нами... Так вот, месяц назад Временное правительство решило расформировать наш полк, и именно за наши убеждения... Товарищи! В дни смертельной борьбы с врагами трудового народа — капиталистами и буржуазией, в дни подготовки к выборам в Учредительное собрание буржуазное правительство для «блага родины и революции» расформировывает боевые полки!.. Одним махом генеральских приказов, тоже якобы «во имя свободы», разрушают налаженные с громадным трудом полковые организации и комитеты... Но пусть знает Временное правительство, что Карсский полк не пойдет с ними! Наши сердца с теми, кто открыто борется за право бедного люда... Мы с теми, кто борется за немедленный мир без аннексий и контрибуций! Наш полковой комитет постановил: приказ верховного командования, то есть Керенского, о расформировании Восемнадцатого Карсского полка не выполнять и сохранить полк как боевую единицу. Мы уже послали делегатов в Питер, чтобы сообщить об этом Керенскому...
Зал встретил эти слова громом аплодисментов и криками: «Правильно! Молодцы, гренадеры!»
«Что ж, посмотрим, что тут сможет поделать Чернов», — повторил мысленно Мясников, обращаясь к тем, кто сидел во Фронтовом комитете и в штабе фронта.
Он проводил взглядом Марьина, пробиравшегося обратно на свое место в зале, и тут только заметил сидящую там женщину в накидке сестры милосердия. «Ах да, — вспомнил он, — ведь она приехала, чтобы сообщить мне нечто очень важное... Говорит, что ее послал муж... Интересно, как они очутились здесь, в Минске? И что хочет сообщить именно мне этот угрюмый человек, человек на перепутье?»
ГЛАВА ВТОРАЯ
Мясников эту встречу в поезде тоже не сразу забыл. Еще тогда, выйдя из купе и став у окна вагонного коридора, он с усмешкой досады думал, что Евгеньев оказался заурядным и довольно толстокожим офицером, неспособным преодолеть в себе сословные предрассудки... Сколько раз за время войны Мясников встречал таких офицеров, казалось бы умных, начитанных, думающих, которые в разговорах открыто заявляли, что да, Россия, и в частности ее армия, руководится дурно. Признавали, что протекционизм, вся система назначения на руководящие посты в правительстве и армии из членов царской фамилии и ее приближенных, без учета природных способностей и знаний, привели русскую армию к позорному поражению в японской войне. И что в эту войну тоже армия вступила плохо подготовленной, поэтому терпит поражения и проливает реки крови. Но стоило сказать собеседнику: «Вы правы, надо гнать этих бездарей вон из армии!», как сразу в ответ раздавалось: «А кто их заменит? Кто?.. Ах, из народа выйдут нужные люди...»
Да, высокомерное пренебрежение этих людей к народу, неверие в его творческие силы были беспредельны и непоколебимы. Этого поручика, видимо, больше всего покоробило заявление Мясникова о том, что в случае нужды он не побоится встать во главе полка или дивизии. Услышать такое от обыкновенного «прапора», да еще из присяжных поверенных, — вот уж дожили... Ну как объяснишь такому ограниченному офицеру, который ничего, кроме своей школы авиаторов, не видел и который шарахается от политики, как черт от ладана, что слова «могу взяться за полк и даже дивизию» продиктованы отнюдь не карьеризмом, не желанием попасть в число «сильных мира сего», а совсем иными соображениями? Разве втолкуешь ему, что классово-эгоистическая политика «волобуевых-пещерских», с которой Евгеньев только-только столкнулся, давно уже вызывает яростный протест в стране, что этот протест не раз уже перерастал в вооруженные схватки, а они в свою очередь пробуждали у многих людей, и в том числе у самого Мясникова, мысль о том, что если хочешь добиться свободы, то надо учиться военному делу, надо уметь не только стрелять из револьвера или бросать самодельные бомбы, но и командовать ротами, батальонами, полками и дивизиями!
И теперь, стоя у вагонного окна, Мясников невольно думал: вот если бы можно было взять этого Евгеньева и с помощью некой уэллсовской «машины времени» провести по дорогам своей жизни, показать то, что видел он, Мясников, дать прочесть то, что читал он, — тогда уж тот, наверно, не стал бы фыркать: «А кто же заменит генералов? Не вы ли, случайно?»
Да, начать с тех юных лет, когда он еще жил в Нахичевани-на-Дону, которую сами армяне называли Новой Нахичеванью, в отличие от старой Нахичевани на реке Араке... Этот городок, вместе с несколькими армянскими селами представлявший собой островок, капризом истории попал в центр вольного донского казачества. «Отцы города», духовенство и купечество, всячески пытались уберечь этот островок от «пагубного влияния» всяких прогрессивных идей. Но это были тщетные потуги, ибо само, географическое положение колонии предопределяло проникновение передовых общественных идей и взглядов русских демократических и революционных кругов. Не случайно, что именно отсюда вышли еще в середине прошлого века поэт и общественный деятель Рафаель Патканян и такой замечательный революционер-демократ, как Микаел Налбандян, единомышленник Чернышевского, друг Герцена и Огарева. Да, среди новонахичеванской учащейся молодежи трудно было найти того, кто бы не знал его стихотворения «Свобода» или хотя бы не слышал о его знаменитом труде «Земледелие как верный путь». А Мясников, в раннем детстве потерявший отца и познавший нужду, уже в годы учебы в местной церковноприходской школе, а затем в духовной семинарии отличался необычной для своего возраста серьезностью и начитанностью. Поэтому запавшие еще тогда в его душу семена демократических идей Налбандяна дали весьма ранние всходы. Но жизнь шла вперед, и эти идеи претерпевали значительные изменения, главным образом под влиянием событий, происходящих в соседнем бурно растущем Ростове-на-Дону... Жилые дома и заводские корпуса этого города все ближе подступали к Нахичевани, грозя поглотить ее. Местный магистрат, основываясь на дарованных Нахичевани еще при ее основании правах «вольного города», потребовал проведения между Ростовом и Нахичеванью своеобразной «нейтральной полосы» — узкого поля, которое засевалось льном... Однако эта преграда была иллюзорной: Нахичевань постепенно втягивалась в бурный ритм жизни промышленного Ростова и начинала впитывать настроения и идеи, которые зрели среди тамошних рабочих[2].
Вот куда бы надо взять этого офицерика — в Ростов той дождливой осенью 1902 года, когда там вспыхнула общегородская стачка! Чтобы он вместе с ним, шестнадцатилетним Алешей, и его сверстниками, перебежав через то льняное поле, своими глазами увидел бунт рабочих, доведенных до отчаяния нуждой, штрафами, издевательствами хозяев. Чтобы увидел, как в течение не одного, не двух, не пяти дней, а целых трех недель это все более разгоралось, словно костер, в который подбрасывают новые и новые охапки хвороста... Чтобы увидел все более многолюдные митинги, услышал взволнованные и волнующие, будоражащие, пьянящие слова протеста против рабской жизни, слова о том, что пора, пора наконец добиться свободы. И чтобы замерло его мальчишеское сердце при виде войск с нацеленными против безоружных винтовками. Услышал бы он сухие, дробные залпы и дикие, пронзительные крики... И затем увидел бы многотысячное похоронное шествие и снова слышал речи, клятвы, призывы к мщению. И еще позже — аресты, аресты, аресты, запавшие на всю жизнь в память суровые лица тех, кого под конвоем вели по улицам в тюрьму, и плач детей, и проклятия женщин...
Впрочем, подумал Мясников, если бы этот Евгеньев был тогда с ним, пареньком из Нахичевани, то, вероятно, как и Алеша, еще не понял бы, свидетелем какого огромного события он стал. Ведь сам Мясников по-настоящему осмыслил значение этих событий лишь несколько лет спустя, когда, став большевиком, прочитал в «Искре» статью Ленина о Ростовской стачке.
«Но вот вспыхивает в Ростове-на-Дону одна из самых обыкновенных и «будничных», на первый взгляд, стачек, — писал Ленин, — и приводит к событиям, которые показывают воочию всю нелепость и весь вред предпринятой соц.-революционерами попытки реставрировать народовольчество со всеми его теоретическими и тактическими ошибками. Охватив многие тысячи рабочих, стачка, начатая из-за требований чисто экономического характера, быстро вырастает в политическое событие, несмотря на крайне недостаточное участие в ней организованных революционных сил. Толпы народа, доходившие, по свидетельству некоторых участников, до 20 — 30 тыс. чел., устраивают поражающие своей серьезностью и организованностью политические собрания, на которых читаются и комментируются с жадностью соц.-демократические прокламации, говорятся политические речи, разъясняются самым случайным и неподготовленным представителям трудящегося народа азбучные истины социализма и политической борьбы, преподаются практические и «предметные» уроки обращения с солдатами и обращения к солдатам. Администрация и полиция теряют голову (может быть, отчасти вследствие ненадежности войска?) и оказываются не в силах помешать устройству в течение нескольких дней невиданных на Руси массовых политических сходок под открытым небом. И когда, наконец, пускается в ход военная сила, толпа оказывает ей отчаянный отпор, и убийство товарища служит поводом для политической демонстрации на другой день над его трупом...»
Но больше всех запечатлелись в памяти Мясникова следующие строки Ленина:
«Мы видим действительный отпор толпы, и неорганизованность, неподготовленность, стихийность этого отпора напоминает нам, как неумно преувеличивать свои революционные силы, как преступно пренебрегать задачей внесения вот в эту, настоящим образом борющуюся у нас на глазах толпу большей и большей организованности и подготовленности. Не создавать посредством выстрелов поводы для возбуждения, материал для агитации и для политического мышления, а научиться обрабатывать, использовать, брать в свои руки тот материал, которого слишком достаточно дает русская жизнь, — вот задача, единственно достойная революционера».
Но раньше, чем Мясников прочитал эти строки и начал размышлять над ними, он стал очевидцем и участником еще одного, еще более мощного революционного взрыва, однако, увы, тоже закончившегося поражением.
Окончив нахичеванскую армянскую духовную семинарию, Мясников в 1904 году поехал в Москву и поступил в гимназические классы Лазаревского института восточных языков, благо там платили стипендию. Это высшее учебное заведение, основанное почти век тому назад князьями Лазаревыми в Армянском переулке, подготовило не одно поколение специалистов, многие из которых заняли достойное место в научной, литературной и политической жизни России. Но главный контингент учащихся института состоял из армян, прибывающих как с Кавказа, так и с берегов Дона и Волги, из Крыма и Бессарабии, из Туркестана и других концов России. Многие знаменитые русские ученые, а также Микаел Налбандян, Смбат Шахазиз и другие прогрессивные армянские деятели, преподававшие в институте, сумели превратить его в одно из передовых учебных заведений страны. Ко времени, когда Мясников приехал в Москву, она стала центром наиболее революционно настроенного рабочего класса, сумевшею взять под свое влияние также и значительные слои студенчества, в том числе из Лазаревского института...
Юношеские годы, годы учебы... Интересно, как прожил эти годы Евгеньев. Для Мясникова это была самая счастливая пора, ибо он обогащался не только знаниями, которые давал институт, но еще больше знаниями, которые черпал из жизни. Сколько было новых встреч, знакомств, разговоров, споров — об идеях, фактах и явлениях, партиях и их программах! В России назревала революция, на заводах проходили стачки, среди студентов из» рук в руки передавались нелегальные прокламации, газеты... И девятнадцатилетний Мясников с головой ушел во все эти дела, участвовал в сходках, во встречах с рабочими, выступал на дискуссиях, тайно распространял революционные листовки...
Да, и вот еще на что не мешало бы посмотреть этому Евгеньеву — на Московское восстание 1905 года! Тут дела были погорячей, чем в Ростове. Пресня покрылась баррикадами, героически сражаясь с наступавшими со всех сторон полицейскими, драгунами и прибывшими из Петербурга гвардейцами Семеновского полка. Мясников входил в одну из боевых групп, которые поддерживали связь между пресненцами и остальными районами Москвы, под огнем доставляли окруженным оружие, самодельные бомбы и продовольствие.
Когда восстание было потоплено в крови, Мясников снова и снова задавал себе вопрос: «А почему? Неужто народ никогда не сумеет завоевать свободу? Неужто он всегда будет слабее регулярной армии, лучше вооруженной и управляемой?»
Ответы на эти вопросы он снова получил от большевиков, с которыми познакомился, в литературе, которую они давали ему читать, в частности в материалах III съезда РСДРП, где вопрос о вооруженном восстании пролетариата был одним из главных, и в особенности в статьях Ленина об этом вопросе. Так, в статье «Революционная армия и революционное правительство» Ленин писал:
«Возьмите военное дело. Ни один социал-демократ, знакомый хоть сколько-нибудь с историей, учившийся у великого знатока этого дела Энгельса, не сомневался никогда в громадном значении военных знаний, в громадной важности военной техники и военной организации, как орудия, которым пользуются массы народа и классы народа для решения великих исторических столкновений. Социал-демократия никогда не опускалась до игры в военные заговоры, она никогда не выдвигала на первый план военных вопросов, пока не было налицо условий начавшейся гражданской войны. Но теперь все социал-демократы выдвинули военные вопросы, если не на первое, то на одно из первых мест, поставили на очередь изучение их и ознакомление с ними народных масс. Революционная армия должна практически применить военные знания и военные орудия для решения всей дальнейшей судьбы русского народа, для решения первого, насущнейшего вопроса, вопроса о свободе».
Это были удивительные слова и мысли. Значит, партия социал-демократов давно уже поставила перед собой задачу овладения военными знаниями, военной техникой, чтобы решать этот «первый, важнейший вопрос о свободе»? Значит, у них есть «великолепные знатоки» военного дела — Энгельс и другие, труды которых надо обязательно читать, знать?
Вот каким образом ваш покорный слуга, милейший поручик, получивший в 1903 году аттестат зрелости с указанием: «Дан сей Мясникяну Алексию, Армяно-Григорианского вероисповедания нахичеванскому-на-Дону мещанину» и прочее, пришел к мысли, что ему нужно обязательно овладеть военными знаниями, овладеть не для того, чтобы служить «вере, царю и отечеству», а для того, чтобы в решающий час новой неминуемой битвы суметь бороться с царскими генералами и офицерами на равных! — мысленно говорил Мясников, стоя у окна вагона.
Впрочем, к этой учебе Мясникову сразу не удалось приступить: до этого ему надо было пройти другую школу — школу революционера. Вернувшись после окончания гимназических классов Лазаревского института в Нахичевань, он вступил в ряды РСДРП, сразу примкнув к ее ленинскому, большевистскому крылу. Осенью того же года стремление продолжить учебу заставило его вернуться в Москву и поступить на юридический факультет университета. Нечего и говорить, что с первых же дней учебы он начал вести среди студентов большевистскую пропаганду. Но тут выяснилось, что обстановка там, как и повсюду, резко изменилась. Подавив Московское восстание, царское правительство перешло в контрнаступление и начало «очищать» высшие учебные заведения от «крамольных элементов» и «вольнодумцев». Мясников, не обладавший еще опытом конспирации, очень скоро попал в поле зрения полиции и месяца через два был арестован, затем выслан из Москвы.
Он уехал в Баку, крупнейший тогда промышленный центр Закавказья. Здесь, под руководством таких опытнейших деятелей партии, как Степан Шаумян, Прокофий Джапаридзе, Богдан Кнунянц и другие, Мясников учился в новых и тяжелых условиях реакции сочетать нелегальные формы революционной борьбы с легальными приемами работы в массах, одновременно неустанно пополняя свои теоретические знания в области марксизма. Однако в 1908 году ему все же удалось вернуться в Москву и поступить в университет. Теперь, обладая изрядным опытом конспиративной деятельности, он вел подпольную пропагандистскую и организаторскую работу среди студенчества уже так искусно, что ни один полицейский шпик не мог придраться к нему.
В 1911 году, блестяще окончив юридический факультет Московского университета, он был призван в армию. Великие и малые державы Европы уже лихорадочно готовились к схватке за передел колоний и источники сырья, уже были заключены и заключались явные и тайные блоки и союзы, готовились запасы оружия и боеприпасов, кадры обученных солдат и офицеров. В России тоже все выпускники высших учебных заведений должны были пройти годичную службу в армии, после чего получали первое офицерское звание прапорщика.
Вот тут-то перед Мясниковым открылась возможность по-настоящему изучить не только теорию, но и практику военного дела. Если он и раньше брался за любое дело с чрезвычайной серьезностью и ответственностью, то теперь он поражал окружающих рвением, с каким изучал материальную часть оружия и тактику, взаимодействие войск и разведывательное дело. Он усердно штудировал все уставы и наставления, учился стрелять из винтовки, револьвера, пулемета, колоть штыком, двигаться на учениях ползком или перебежками. Иные, не знавшие его близко, с удивлением пожимали плечами: «И зачем надо было этому Мясникову идти в университет... Вот, не успели дать ему в руки ружье — и взыграла казацкая кровь, гляди, до чего старается». Начальство же, осведомленное, что он никакой не казак, все же не могло не отметить его ревностную службу, широкие познания в теории, впрочем не подозревая, что этот новоиспеченный юрист еще до армии успел прочитать не только сочинения русских генералов Драгомирова, Леера и Милютина по тактике, стратегии и устройству войск, знаком не только с трудами Клаузевица и Дельбрюка, Жомини и Кеммерера, то есть авторов, которых изучали в русской академии генерального штаба, но и досконально изучил военные труды Маркса и Энгельса, Меринга и Ленина, о существовании которых еще не имели представления ни в одной академии мира.
Уволившись в 1912 году в запас, Мясников до 1914 года служил помощником присяжного поверенного в Москве и Петербурге, не прекращая подпольной партийно-организаторской и легальной журналистской деятельности.
Но вот началась мировая война, и Мясникова вновь призвали в армию. Аттестация, данная ему при присвоении звания прапорщика, — глубокое знание теории военного дела и уставов — стала причиной того, что его направили в 121-й запасной полк в качестве начальника учебной команды, готовящей унтер-офицеров для маршевых батальонов. И он вскоре действительно прекрасно поставил дело подготовки младших командиров в своей команде. Но он был прежде всего большевиком, поэтому наряду с военной учебой неустанно занимался политическим просвещением солдат как в своей команде, так и во всем полку. Чуждаясь общества реакционно настроенных офицеров, он тайком собирал на своей квартире будущих унтер-офицеров, к которым питал доверие, и скоро создал из них большевистскую группу. А затем он начал устанавливать связь с большевиками в других частях гарнизона и армии.
В пятнадцатом и шестнадцатом годах, когда на Западном фронте — то под Варшавой, то на Брест-Литовском направлении — шли ожесточенные сражения с наседающими немецкими армиями и потери в русских войсках доходили до ужасающих размеров, с тыла на фронт отправлялись все новые и новые маршевые батальоны с пополнением. И каждый раз Мясников возглавлял один из них, укомплектованный унтер-офицерами из его команды. Конечно, ему, большевику и принципиальному противнику империалистической войны, тяжело было видеть, как из-за нехватки пушек и винтовок, снарядов и патронов, из-за нераспорядительности и равнодушия высшего командования гибнут тысячи и тысячи людей, в том числе немало и тех, с кем он успел подружиться в своей команде и сделать их своими единомышленниками. Но он стискивал зубы и только повторял мысленно: «Погодите, погодите же... Придет время, и мы рассчитаемся с вами за все это!»
С наступлением затишья на фронте его вновь возвращали в свой запасной полк в Дорогобуже — готовить унтер-офицеров. И тогда он использовал наблюдения, сделанные на фронте, чтобы осмыслить многие явления современной войны. Так, в конце 1916 года он обобщил эти наблюдения и мысли в тезисах под названием «Сравнительный взгляд на русский, немецкий и австрийский уставы полевой службы», где, сопоставляя строение и тактику пехоты этих трех воюющих армий в различных видах боя, постановку разведки, строевой службы и так далее, показал их зависимость от общего экономического и технического развития каждой страны. Эти тезисы он использовал как дополнительный материал для занятий с унтер-офицерами команды, хотя по программе те должны были изучать только существующие уставы и наставления для русской пехоты. Офицеры же, которым доводилось знакомиться с этими тезисами, кто с удивлением, кто с насмешкой говорили: «Прапорщик Мясников вознамерился превратить свою команду «ундеров» в академию генерального штаба...»
...Ну, а чуть позже случилось то, что должно было случиться: самодержавие пало... Конечно, это было великое дело, но кто-кто, а Мясников понимал, что это — только начало. И вот поди ж ты, все чаще и чаще Мясников встречал людей, которые, как этот Евгеньев, уже видели, понимали, откровенно говорили, что и после свержения царя почти ничего не изменилось, что повсюду сидят все те же чиновники да генералы, но и сейчас достаточно сказать им: «Надо вслед за царем прогнать и этих», как сразу же раздавался тот же полный недоверия и возмущения возглас: «А кто их заменит?» Эх, люди, люди, когда вы научитесь понимать ваш народ, верить в его талант и силу?
— Еще раз здравствуйте и извините меня, что заставил так долго ждать, Изабелла Богдановна, — сказал Мясников, когда после окончания торжественного заседания они встретились в фойе.
— Ну что вы, Александр Федорович, наш санитарный поезд все .равно должен стоять на станции до самого утра, так что мне некуда было деваться. А здесь, на заседании, я услышала много интересного.
— Вот как? А скажите, пожалуйста, каким образом вы очутились здесь? Ведь, насколько я помню, весной вы отправлялись в имение вашего мужа с намерением остаться там до окончания войны, не так ли?
— Верно, так. Но когда через месяц Виктор Иванович, окончательно излечившись, вернулся в Петроград, его уже ждало назначение в авиаотряд Второй армии. — Тут только Изабелла Богдановна заметила, что они уже вышли на улицу, и, забеспокоившись, спросила: — А куда мы теперь пойдем?
— Пойдемте в областной комитет. Это недалеко отсюда, на Петроградской, в здании бывшего реального училища. Там же находится и Минский Совет... Итак, ваш супруг попал во Вторую армию. А вы?
— Ну а я некоторое время жила с его родными — матерью и двумя сестрами. Очень, очень милые люди, и кажется, я им тоже понравилась. Но жизнь в деревне оказалась для меня слишком монотонной и скучной. Да и обидно было: не успела выйти замуж, как муж уехал на фронт... Вы понимаете мое состояние?
— Я угадываю, что для такой женщины, как вы, трудно было примириться с этим.
— Я и не примирилась: написала письма врачам нашего госпиталя в Петрограде и попросила помочь устроиться в какое-нибудь медицинское учреждение поближе к штабу Второй армии... И что вы думаете, устроили все как нельзя лучше — старшей сестрой в санитарном поезде, вывозящем раненых из полосы Второй армии в тыловые госпитали.
Сзади них, грохоча сапогами по булыжной мостовой, шла группа людей, и Мясников подумал, что это, наверное, Ландер, Щукин и другие, которые, как и он сам, каждый вечер допоздна сидели в Совете и в областном комитете партии, где всяких дел у каждого была уйма.
— И как же отнесся ваш муж к этому?
— Ха! Видели бы вы, как он был потрясен, когда я позвонила ему по полевому телефону в Несвиж и сообщила, что нахожусь в четырнадцати верстах, на станции Городея, в санпоезде. Он взял у кого-то коня, примчался туда и впервые позволил себе кричать на меня... Но это только поначалу. Он ведь ко мне действительно очень привязан, поэтому через несколько дней уже начал хвалить, что я так все здорово придумала и мы можем часто встречаться. Тем более, что к этому времени у него опять настроение стало препаршивое...
— По какой причине?
— Понимаете, когда он прибыл в свой авиаотряд, как раз началось летнее наступление наших войск. Ну, он тогда искал забвения, что ли, от гатчинских переживаний, поэтому не очень задумывался, нужно ли, полезно ли это наступление. Он был рад, что может снова летать, и не раз совершал отчаянные разведывательные полеты над немецкими позициями и тылами... Насколько понимаю, пользы особенной эти полеты не принесли армии, но в разведотделе штаба Виктора Ивановича оценили за храбрость. Офицеры-разведчики дружили с ним и делились новостями...
Разговаривая, они подошли к зданию Совета, Здесь, несмотря на темень на улице, было людно: беспрестанно входили и выходили какие-то солдаты, рабочие, слышалась то русская, то белорусская, а то и польская речь. Они поднялись по лестнице на второй этаж, где была комната, служащая Мясникову кабинетом; в углу стояла железная койка с солдатским матрацем и серым одеялом. Мясников помог Изабелле Богдановне снять пальто, усадил за стол и попросил рассказывать дальше.
— Так вот. В последнее время Виктор Иванович выглядел сильно озабоченным. Когда приезжал ко мне в Городею или когда мне удавалось вырваться и поехать к нему в Несвиж, я замечала, что он все время сосредоточенно хмурится, а на мои вопросы, что его заботит, пожимает плечами. А вчера (вчера какое — 21 октября?) я говорю ему, что хотя на фронте нет боевых действий, но с наступлением осенних дождей начались повальные простудные заболевания от сырости, поэтому мы сегодня должны вывезти в Минск целый поезд больных. И тут он вдруг как-то странно смотрит на меня и говорит: «В Минск? А ведь там этот твой земляк с русской фамилией...» Так как после моего приезда на фронт мы ни разу о вас не вспоминали, то я сначала даже не поняла, о ком речь, и спрашиваю: «Кто это?» А он отвечает: «Ну тот прапорщик, которого мы встретили в поезде, помнишь?» — «Мясников?» — спрашиваю я. «Угу, — говорит он. — Думаю, он бы сильно встревожился, узнав, что здесь затевается какая-то гнусность с его корпусом...» Я даже поразилась: «С каким это его корпусом?» А он говорит: «Разве ты не знаешь, что наш Гренадерский корпус считается «Мясниковским»?Да, представь, он склонил на свою сторону целый корпус. Впрочем, что там корпус — на его стороне находится вся наша Вторая армия, и скоро большевики заберут весь фронт...»
Тут Изабелла Богдановна с острым вниманием посмотрела на Мясникова и сказала:
— А ведь я уже тогда, в поезде, почувствовала, что вы... ну как бы это сказать... что вам удастся сделать так много...
— Ну, ну, рассказывайте дальше, — нетерпеливо перебил ее Мясников. — Что же он говорил дальше?
— Да... Он говорил, что в борьбе за влияние в солдатских массах вы и ваши сторонники, видимо, взяли верх... И вдруг прибавил: «Но ведь это же внутренняя борьба, и втягивать в нее посторонние силы нечестно, подло!» — «А разве кто-то хочет сделать это?» — спрашиваю я. И вот тут-то Виктор Иванович начал торопливо рассказывать, что в последнее время в нашей армии происходят какие-то странные вещи... Недавно из ставки, минуя штаб фронта, в Несвиж прибыл какой-то офицер, который, как Виктор слышал, занимается делами русской агентурной разведки. По намекам разведотдельцев Виктор Иванович сначала решил было, что этот офицер собирается перейти линию фронта и проникнуть в тыл противника. Но вот что странно: прежде чем сделать это, он несколько дней совещался с комиссаром армии Гродским и председателем армейского комитета эсером Титовым. А в перерывах между этими совещаниями выезжал в расположение то одной, то другой артиллерийской батареи Гренадерского корпуса, а то еще в такие части, откуда в тыл противника никак, ну никак нельзя попасть... Но Виктора Ивановича особенно встревожило то, что этого офицера из ставки сопровождал некий штабс-капитан Веригин. Это очень озлобленный человек и как-то в присутствии Виктора Ивановича цинично высказывался в том смысле, что солдатня, мол, полностью перешла на сторону большевиков и что теперь Россию спасет только немецкий штык... В общем, все это — приезд офицера из ставки, обход вместе с Веригиным частей Гренадерского корпуса, секретные совещания в верхах армии кажутся ему очень подозрительными...
Многое из того, что рассказывала Изабелла Богдановна, уже было известно Мясникову. Еще в начале октября он сам от имени Северо-Западного областного комитета сообщил в ЦК о том, что в Минске и на Западном фронте готовится новая корниловщина, что ввиду большевистских настроений гарнизона штаб фронта окружил город казачьими и прочими частями и что среди них, в особенности среди кубанцев и осетин Кавказской кавалерийской дивизии, ведется усиленная агитация против большевиков. Сообщал он и о том, что на фронте, в особенности в районе наиболее революционно настроенного Гренадерского корпуса, вся артиллерия загнана командованием в Пинские болота, а между ставкой и штабами идут какие-то переговоры подозрительного характера. Но Севзапком считал, что настроение фронтовых частей уже полностью пробольшевистское, что они готовы идти против Керенского и что поэтому технически вполне возможно, вызвав тот же самый Гренадерский или 3-й Сибирский корпус, разоружить кольцо войск вокруг Минска и захватить штаб фронта вместе с документами о вышеуказанных подозрительных переговорах. После этого, если ЦК найдет нужным, минчане могут послать один из этих революционных корпусов на помощь питерцам.
Но теперь из рассказа Изабеллы Богдановны выходило, что штабы затевают «нечто подлое» именно против Гренадерского корпуса. И Мясников начал с тревогой расспрашивать:
— А что он думает, ваш муж? Что он все-таки предполагает?
Голос Изабеллы Богдановны опять прозвучал как-то неуверенно:
— Боюсь, что конкретных фактов, дающих ему право говорить: делается то-то и то-то, у него нет. Понимаете? Он скорее чувствует — по всей атмосфере, по ситуации, — что там готовится нечто весьма подлое... Я думаю, он намеренно рассказал мне все это, узнав, что я еду в Минск. Рассказал, рассчитывая, что я все передам вам, потому что ему кажется, что это «нечто» касается вашего корпуса и что вы гораздо легче, чем он, сумеете выяснить и понять, что же именно готовится. И еще... потому, что та встреча в поезде произвела на него сильное впечатление. Гораздо более сильное, чем он признается даже самому себе... Ведь по натуре Виктор Иванович цельный человек. Он хочет быть... в мире, что ли, со своей совестью. Хочет быть честным в собственных глазах — не казаться, а быть честным. Как вы тогда заметили, жизнь поставила его перед необходимостью сделать какой-то выбор... определить свои взгляды, уточнить свои убеждения, найти свое место... — Изабелла Богдановна вздохнула, потом сообщила вполголоса, словно выдавала чужую тайну: — А это, оказывается, было трудно, настолько трудно, что он где-то хотел бы избежать, отойти в сторонку: вот — эти, вот — те, а моя хата с краю... А тут встретились вы — человек, которому твердо известно и то, чего он хочет, и то, как этого надо добиваться. И я уверена, с этого дня он следил за вами. Знаете... ваше имя все время склоняется в разговорах и на страницах газет. Он видел, как вы настойчиво идете к своей цели, и внутренне — я так думаю — восхищался вами, И вы стали как бы живым укором Виктору Ивановичу — за его нерешительность в выборе жизненного пути... — Изабелла Богдановна вдруг вскинула глаза на Мясникова и спросила, виновато улыбаясь: — Я очень путано говорю, да?
— Я понимаю, о чем вы, — улыбнулся тот в ответ.
— В общем, он внутренне страшно переживает, что отстал от «тех» и не пристал к «этим». Понимаете, да? И я тоже переживаю за него. Поэтому я очень обрадовалась, когда вчера он заговорил о вас. Мне кажется, он начинает делать выбор, а?
— Я очень рад, если это так, — искренне сказал Мясников. — Но вот мне вы задали загадку... Если с Гренадерским корпусом затевается что-то — это надо предупредить... Но что именно? Когда?.. — Он задумчиво сказал: — Ну что же, и на том спасибо. Вы где остановились? Вам есть где ночевать?
— Да я же с санитарным поездом, там у меня есть и полка с постелью, и еда...
— Это хорошо, — кивнул Мясников. — Погодите, я сейчас дам вам провожатого: ведь на улице темно и пустынно, а по городу шляются всякие дезертиры и просто бандиты и одну вас пускать в путь до станции нельзя...
— Да не беспокойтесь, — сказала Изабелла Богдановна, вставая, — меня внизу ждут двое провожатых...
— Ждут?.. — Мясников, вероятно, и сам не знал, что смотрит на эту в общем постороннюю женщину так, словно ждет объяснения.
Что ж, недаром они оба были кавказцы, — Изабелла Богдановна действительно стала объяснять:
— Да, два гренадера. Одного, по фамилии Марьин, вы знаете; это тот председатель комитета Карсского полка, который сегодня выступал в театре с пылкой речью. А у другого какая-то ужасная фамилия — не то Продыбин, не то Пролыгин. Словом, оба ваши — большевики... — Она сощурила глаза и не без ехидства спросила: — Ну как, могу я им довериться?
Мясников, не обращая внимания на ее тон, кивнул:
— Этим двум можно довериться полностью. Если вы внимательно слушали речь Марьина, то могли бы сделать вывод, какие у них высокие моральные принципы.
И тут она поспешно кивнула:
— Да, да, вы правы, они оба такие... ну, джентльмены, что ли. — И она снова не удержалась от шутливого замечания: — И знаете, для чего они сейчас ждут меня? Хотят уехать обратно в армию на нашем поезде и надеются, что по дороге я им расскажу о вашем городе — Нахичевани-на-Дону...
— Вы шутите? — не поверил Мясников.
— Нисколько, уверяю вас. Оказывается, им очень интересно узнать, — и я этому верю! — откуда на Дону взялся такой армянский город. — Она виновато вздохнула: — А что я им расскажу? Ведь сама об этом имею весьма общее представление.
— А для начала им, наверное, больше и не нужно, — сказал Мясников. — Не забудьте только напомнить, что это один из культурных центров российских армян, что там родился, например, такой замечательный «деятель, как революционер-демократ, писатель и философ Микаел Налбандян... — Мясников сделал паузу и осторожно осведомился: — Вы о нем знаете?
— Еще бы, — чуть обиженно повела плечами Изабелла Богдановна. — Когда он в шестидесятых годах прошлого века приезжал в Эривань, там его встречал мой отец, один из малочисленных подписчиков «Юсисапайла»[3] в нашем городе. Позже отец еще раз встречался с ним и оставил об этих встречах воспоминания.
— Интересно! — оживился Мясников. — Кстати, вы, кажется, сказали, что ваш отец встречался с Налбандяном в Эривани? А я, признаться, почему-то считал, что вы из тифлисских или бакинских армян.
— Да? — Изабелла Богдановна внимательно всмотрелась в него и вдруг кинулась в атаку: — Потому что я показалась вам слишком интеллигентной для эриванки, да? Ну признайтесь, признайтесь же честно, что и вы тоже, как и все неэриванские армяне, считаете наш город провинциальной дырой и не допускаете даже мысли, что оттуда может выйти какой-нибудь путный человек!
Он посмотрел на нее — со сверкающими от благородного возмущения глазами, порозовевшими щеками, она еще больше похорошела — и засмеялся искренне:
— Вы вправе казнить меня, Изабелла Богдановна, ибо я до сих пор действительно был не очень высокого мнения об Эривани и эриванцах. Но я признаю, что был неправ, и обещаю исправиться.
Она с вызовом произнесла:
— Нет, почему же, у вас есть все основания и сейчас думать так, — ведь в Эриване нет ни театра, ни влиятельных газет, нет ни политиков, ни писателей, ни ученых... Но послушайте, что думают некоторые провинциалы-эриванцы: все вы, тифлисские, бакинские, новонахичеванские и прочие армяне, попросту кукушки, которые кладут яйца в чужие гнезда. И если армянскому народу еще суждено возродиться, иметь свою государственность, свои подлинные культурные центры, то это должно произойти в его исторической колыбели — в Араратской области, вокруг Эривани! Вот! Засим разрешите откланяться!
— Ну, ну, нет, — мягко, но требовательно сказал Мясников. — Этот разговор так не может кончиться, выслушайте меня тоже...
В это время открылась дверь и в комнату заглянул Ландер. Он удивленно посмотрел на Мясникова и молодую женщину, стоявших друг против друга с видом ссорящихся, и хотел закрыть дверь, но Мясников сделал ему знак остаться, а сам вновь обратился к Изабелле Богдановне:
— Поверьте, то, что вы говорите, — о возрождении национальной государственности и культуры армян и вообще всех других народов России — не чуждо для большевиков, и следовательно для меня тоже... Вот здесь, в Минске, я познакомился с проблемами белорусского народа. Перед ним ведь стоит та же проблема, создание своей государственности, возрождение своей национальной культуры. Это, если хотите, веление эпохи, и это одна из тех задач, которую должна обязательно решить социалистическая революция, к которой мы идем. Вот почему я верю, что армянский народ скоро получит свою государственность. И конечно, это произойдет только там — в коренной Армении, вокруг Эривани... — Он, отвесив шутливый поклон, продолжал: — Даст бог, ваш покорный слуга доживет до этого дня, и я обещаю поехать в Эривань, чтобы внести свою посильную лепту в создание новой Армении...
Говоря это, Мясников, конечно, и думать не мог, что года через три — три с половиной именно ему, Александру Мясникяну, выпадет тяжелая, но великая миссия — поехать в Эривань, чтобы, возглавив первое советское правительство Армении, начать возрождение государственности своего народа, его экономики и культуры.
Изабелла Богдановна поспешно простилась и ушла.
— Это кто, Александр Федорович, — родственница? — осторожно спросил Ландер, когда Евгеньева вышла.
Мясников взглянул на него и, по тону вопроса уловив, что он предполагает, ответил с улыбкой:
— Нет, Карл Иванович, это не родственница, но и не любовь. Я познакомился с этой женщиной и ее мужем-летчиком полгода назад в поезде.
— Ого, можно подумать, что ты оправдываешься, Алеша... — засмеялся Ландер. — Да хоть бы и была любовь — что тут такого? Ведь ты не женат и, надеюсь, не из тех, кто считает, будто революционеру не пристало тратить время на такую чепуху, как любовь?
— Сейчас — не из тех, — улыбнулся Мясников. — Но должен признаться, что лет десять тому назад я придерживался именно такого взгляда.
— Да ну? — воскликнул Ландер. — Вот не подумал бы.
— Да, брат, я тогда был жутким максималистом, эдаким ибсеновским Брандом, полагавшим, что революционер должен отдать своему делу все силы, все помыслы и даже чувства. Из-за этого я чуть было не потерял дружбу одного из лучших армянских поэтов...
В кабинет один за другим входили Кнорин, Алибегов, Фомин, Щукин и другие. Мясников, увлеченный воспоминаниями, продолжал рассказывать Ландеру:
— Мы учились в Московском университете. В Москве в это время собралась группа талантливых литераторов: уже знаменитый Аветик Исаакян и рядом с ним начинающий, но блистательный поэт Ваан Терян, критики Погос Макинцян и Цолак Ханзадян... Да разве всех перечислишь... Мы все тогда уже прошли через этап увлечения Белинским, Писаревым и Чернышевским и открыли для себя Маркса. Понимали его еще не совсем глубоко, но чувствовали, что его учение — высшее достижение в области общественных наук. И вот тут-то между мной и поэтом Теряном завязался горячий и длительный спор насчет... любви и ее места в жизни революционера. Но чтобы понять, какого накала достиг этот спор, вы должны знать, что это за человек. Худой, нервный, мечтательный идеалист... Весь — чувства, лирик от головы до пят, трепетный и тонкий. Послушайте-ка хотя бы вот эти его стихи в переводе Валерия Брюсова:
Скользящей стопой, словно нежным крылом шелестя темноты,
Прошла чья-то тень, облелеев во мгле трав белеющий цвет;
Вечерней порой, — легковеющий вздох, что ласкает кусты, —
Виденье прошло, женский призрак мелькнул, белым флером одет.
В пустынный простор бесконечных полей прошептала она, —
Не слово ль любви прошептала она задремавшим полям?
Остался в цветах этот шепот навек, словно отзвуки сна,
И шепот ловя, этот шепот святой, я склоняюсь к цветам!
— Здорово! — с искренним восхищением воскликнул Ландер. — Как тонко!
— Правда, хорошо? — обрадовался похвале Мясников. — А ведь в оригинале, как и все настоящие стихи, это звучит еще тоньше и глубже... И вот этому-то поэту я тогда взял и бухнул, что настоящий марксист не может любить женщину и жениться, раз он предан интересам рабочего класса. Никакого, мол, иного интереса, никаких других целей, кроме интересов и целей пролетариата.
— Погоди, — внезапно прервал его Алибегов. — Сколько ты сидел в тюрьме за революционную деятельность? Кажется, всего один раз?
— Да, а что? — удивленно спросил Мясников.
— Мало! — со свирепым видом воскликнул Алибегов. — Да тебя только за такое отношение к любви надо было засадить в тюрьму на всю жизнь!
Все громко засмеялись, а Мясников продолжал:
— Представь, Ванечка, то же самое говорил мне Терян. Кричал, что если я прав, то он готов проклясть марксизм, как бесчеловечное учение, отвергнувшее самое великое, что есть на свете, — любовь.
— Ну, это тоже чересчур, — вставил Кнорин. — Любовь, конечно, штука хорошая, но объявлять ее «самым великим, что есть на свете»...
— Для поэта-лирика это вовсе не «чересчур», — возразил ему Ландер. И обратился к Мясникову: — Ну а как ты, согласился с ним?
— Нет. Стоял на своем, утверждая, что другие люди, мол, могут любить, но революционер — не имеет права.
— Ну просто изувер какой-то! — снова возмутился Алибегов. — И долго ты держался этих взглядов?
— К счастью, недолго. Кто-то — не помню кто — принес нам книжку, где между прочим рассказывалось о том, как сам Маркс до обожания любил Женни Вестфален, как в молодости посвящал ей любовные стихотворения, а позже написал: «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо». Терян, конечно, торжествовал победу, а я был низвергнут с пьедестала своей ортодоксальности в прах, посрамлен и уничтожен. Но и пользу из этой истории извлек немалую, потому что именно она помогла мне по-настоящему задуматься над главной гуманистической сутью марксизма. Понять, что наше учение как раз призвано сделать человека счастливым и поэтому всякий отход от человечности — якобы «во имя учения» — на самом деле есть искажение основ марксизма.
Ну, а потом судьба сыграла со мной еще более злую шутку... Я влюбился — влюбился по уши, невероятно сильно, но, увы, безответно. Кстати, она была родом из этих краев, из Гомеля... И кажется, именно то, что я, вчерашний «сухарь и ортодокс», оказался способным испытать такое чувство, любить и страдать, помогло мне окончательно вернуть дружбу Теряна...
Мясников, оглядев комнату и заметив, что почти все члены обкома уже в сборе, тряхнул головой, словно отгоняя посторонние мысли, и направился к письменному столу.
— Ладно, покончим с воспоминаниями и перейдем к делу, ибо хотя революционер и не должен быть бездушным чурбаном, но в период самой революции не должен также чересчур поддаваться лирическим настроениям, а? Тем более, что женщина, которая сейчас была у меня, принесла весьма тревожную для нас весть насчет Гренадерского корпуса...
Сразу раздались удивленные возгласы.
— Насчет Гренадерского корпуса? Эта женщина? А какое она имеет к нему отношение?
— Сейчас объясню. — Мясников направился к своей койке, вытащил из-под нее железный ящик, какие обычно служат денежной кассой в войсковых частях, достал оттуда несколько бумаг и вернулся к столу. — Вы помните, что мы еще в начале этого месяца сообщили в ЦК о положении на Западном фронте и в Минске, а также о том, что можем послать на помощь питерцам один революционный корпус. Вы знаете также, что на заседании ЦК от 10 октября это наше предложение обсуждалось и оно сыграло определенную роль в решении вопроса, начать ли в ближайшее время вооруженное восстание или ждать открытия Учредительного собрания. Владимир Ильич в своем докладе о текущем моменте прямо заявил: «Ждать до Учредительного собрания, которое явно будет не с нами, бессмысленно, ибо это значит усложнять нашу задачу.
Областным съездом и предложением из Минска надо воспользоваться для начала решительных действий». И далее он же предложил резолюцию, принятую ЦК. Трудно переоценить значение ее для нас:
«ЦК признает, что как международное положение русской революции (восстание во флоте в Германии, как крайнее проявление нарастания во всей Европе всемирной социалистической революции, затем угроза мира империалистов с целью удушения революции в России), — так и военное положение (несомненное решение русской буржуазии и Керенского с К0 сдать Питер немцам), — так и приобретение большинства пролетарской партией в Советах, — все это в связи с крестьянским восстанием и с поворотом народного доверия к нашей партии (выборы в Москве), наконец, явное подготовление второй корниловщины (вывод войск из Питера, подвоз к Питеру казаков, окружение Минска казаками и пр.), — все это ставит на очередь дня вооруженное восстание.
Признавая таким образом, что вооруженное восстание неизбежно и вполне назрело, ЦК предлагает всем организациям партии руководиться этим и с этой точки зрения обсуждать и разрешать все практические вопросы (съезда Советов Северной области, вывода войск из Питера, выступления москвичей и минчан и т. д.)».
Мясников отложил документ и оглядел присутствующих. Те напряженно ждали.
— Вы знаете, что после этого мы получили резолюцию и следующего заседания ЦК, от 16 октября, где говорилось, что «ЦК и Совет своевременно укажут благоприятный момент и целесообразные способы наступления». Ивы помните, что сразу по получении этих резолюций мы начали подготовку к выступлению здесь и для отправки обещанного корпуса в Питер, как только получим соответствующий сигнал оттуда. Мы тогда подробно обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что нельзя снимать целый боевой корпус с важнейшего участка фронта, не заменив его другими соединениями, способными противостоять немцам, если они вдруг предпримут наступление на этом участке. А такие замены и передислокации войск можно совершить, конечно, лишь после того, как мы захватим командование сначала в армиях, а затем и всего фронта в наши руки. Большевизация солдатских масс ставит на повестку дня переизбрание солдатских комитетов. Мы уже ведем подготовку перевыборов старых эсеро-меньшевистских комитетов во Второй и Третьей армиях; по примеру питерцев создали во Второй армии Военно-революционный комитет...
— Послушай, Алеша, зачем ты все это рассказываешь нам? — нетерпеливо воскликнул Алибегов. Черные, чуть навыкате глаза этого тридцатилетнего армянина из Кутаиси смотрели из-под мохнатых бровей почти сердито. — Сами писали, недавно писали, — не помним, что ли?
Мясников очень любил и ценил этого человека — Ованеса, Ивана, Ванечку Алибегова. Как и Мясников, тот был участником первой русской революции и тогда же вступил в большевистскую партию. Он тоже, подобно Мясникову, поступал в Московский университет и был исключен оттуда за революционную работу. А вот в Минск попал гораздо раньше Мясникова, еще в 1915 году. Вел там в войсковых частях большевистскую агитацию, а когда в 1917 году образовался Минский комитет партии, он был избран его председателем.
Мясников не успел ответить Алибегову, так как его опередил Щукин.
— Ва, какой нетерпеливый, слушай! — довольно удачно копируя его кавказский акцент, сказал он. — Разве не знаешь — Алеша любит все делать последовательно.
— Не знаю, считаешь ли ты это достоинством или недостатком, но в данном случае мне кажется важным восстановить в вашей памяти весь ход наших решений по этому вопросу, — серьезно заявил Мясников. — Итак, мы готовимся к тому, чтобы, как только в Питере будет принято решение о восстании, немедленно и в кратчайший срок провести перевыборы комитетов в армиях, снять с позиций один из революционных корпусов, двинуть сюда, в Минск, захватить штаб фронта, а затем, погрузив в эшелоны, направить в Питер. Так?
— Ну? — снова нетерпеливо мотнул головой Алибегов.
— Так вот, сигнала из Питера пока еще нет. А между тем похоже, что наши замыслы с революционным корпусом в штабах каким-то образом разнюхали... — И только теперь Мясников вкратце рассказал все, что сообщила ему Изабелла Богдановна, не забыв упомянуть о том, что это только догадки и предчувствия ее мужа.
— Фу-ты ну-ты! — воскликнул Могилевский. — Опять какие-то предположения. То мы сообщаем в ЦК о том, что между ставкой и нашими штабами происходят какие-то подозрительные переговоры, но не имеем конкретных данных и документов, то нам опять сообщают, что против Гренадерского корпуса затевается что-то, и опять основываются на каких-то «предчувствиях». Ну на что это похоже?
— Погоди, погоди, — прервал его Ландер, — здесь ведь важно не то, что нет документов. Ты сам понимаешь, что такие дела, как сговор с противником, — если здесь действительно готовится нечто подобное, — настолько опасны и «деликатны», что они вообще не документируются. Все делается шито-крыто, даже без личных контактов между сторонами, а путем подбрасывания нужных сведений через «двойных агентов»... От косвенных улик, да и от «предчувствий», не отмахнешься. А тут еще плюс к тем сведениям, которые мы получили от Рогозинского из Второй армии о подозрительных переговорах между штабами и ставкой, мы вдруг получаем подобное же предупреждение от совершенно постороннего, отнюдь не большевика, но, по-видимому, честного офицера. Тут есть над чем задуматься!
«Хорошо, когда рядом есть такой — спокойный, рассудительный политик и психолог», — думал Мясников, глядя на этого человека с широким и выпуклым лбом. Карл Иванович со своими тонкими чертами и манерой держаться выглядит немножко «аристократом», хотя был у себя в Либавском уезде всего сельским учителем. Возрастом он года на три старше Мясникова, а в партию вступил в 1905 году — тоже в Москве и тоже участвуя в баррикадных боях на Пресне. Да, это просто удивительно, что здесь собралось столько «москвичей» — большевиков, участвовавших в Московском восстании, получивших закалку в этом городе! Может быть, именно поэтому они тут так быстро подружились, нашли общий язык. Ну а в Минск его забросила война, а когда началась Февральская революция, Ландер стал одним из организаторов Минского Совета, а потом его председателем.
— Вот именно, — подтвердил Мясников. — Что такой сговор не исключен, я не сомневаюсь; ведь вот же в документах ЦК говорится о «несомненном решении русской буржуазии и Керенского с К0 сдать Питер немцам», об отводе войск на Северном фронте. Люди, которые способны на такое гнусное преступление, как сдача столицы врагу, разве остановятся перед тем, чтобы подвести под вражеский удар какой-то корпус, тем более узнав, что этот корпус один из тех, что готов выступить на защиту революции и сорвать замыслы со сдачей Питера?
— Это правда, — невольно согласился Могилевский. — Но тогда возникает вопрос: откуда они могли узнать об этих наших планах? Никого из нас я не могу оскорбить подозрением в болтливости и ротозействе.
— Ну, тогда, возможно, выболтал кто-нибудь из Второй армии или из самого корпуса? — вопрошающе произнес Щукин. — Там ведь много молодых членов партии, примкнувших к нам в последние три-четыре месяца. Они преданы революции, но опыта, настоящей закалки пока не имеют...
Щукин произнес это таким тоном, словно просил извинить этих преданных, но неопытных товарищей, если они вдруг действительно допустили такое... Сам Степан Ефимович прошел суровую школу и подполья, и конспирации. Этот бывший полковой писарь с характерным лицом русского интеллигента принадлежал к той породе людей, которых называют семижильными: взваливай на него сколько угодно всякой работы — потянет спокойно, не жалуясь и не теряя присущего ему чувства юмора...
— Простите, товарищи, а почему мы думаем, что кто-то выболтал? — наконец вступил в разговор Кнорин. — Ведь если мы на основании косвенных фактов и слухов, не имея документов, пришли к выводу, что наши противники что-то готовят, то ведь они тоже не дураки и по ряду признаков могли понять, что и мы не сидим сложа руки...
— По каким это признакам? — обернулся к нему Мясников.
— Ну, например... где тут у тебя копия нашего отчета Центральному Комитету? — Кнорин оглядел стол, порылся в бумагах, — вот! Отчет о Второй Чрезвычайной Северо-Западной областной конференции РСДРП (б). Послушайте: конференция, «решительно протестует против попытки представителя Западно-фронтового комитета фальсифицировать мнение и волю революционных солдат Западного фронта, две армии которого... — Кнорин сделал паузу, многозначительно посмотрев на присутствующих, — две армии которого уже приступили к подготовке армейских съездов, имея в виду в числе прочих задач и делегирование представителей на Всероссийский съезд Советов...» — Кнорин снова обвел взглядом товарищей. — Ну как? Если бы в штабах даже ничего не знали о нашей подготовке провести перевыборы армейских и прочих комитетов, то этого нашего заявления было бы достаточно, чтобы там догадались. Да что говорить, ведь не тайком же мы готовим эти перевыборы, везде агитируем устно и письменно, убеждаем, что старые эсеро-меньшевистские комитеты уже не отражают подлинных настроений солдатских масс. Далее, мы создали Военревком во Второй армии. Так неужели в штабах не помнят, что в дни первой корниловщины здесь Минский Совет тоже создал временный Военно-революционный комитет, куда от большевиков вошел Ландер? Теперь они готовят вторую корниловщину и видят, что мы опять: создали ВРК, правда пока что во Второй армии, потому что это самая революционная, пробольшевистская армия на нашем фронте и именно оттуда мы можем вызвать силы, которые смогут разгромить те казачьи части, которые они подтянули к Минску...
И вновь Мясников на минуту отвлекается, думая уже; об этом латыше с серыми пристальными глазами. О Вильгельме Кнориньше, который, подобно ему самому, изменил свою фамилию на русский лад — Кнорин. О нем и не скажешь, что ему всего двадцать семь лет, ибо в данном случае важнее то, что он уже семь лет в партии и успел блестяще усвоить теорию марксизма, а это ох как нужно вот в такой переломный момент, когда мы должны самостоятельно разобраться в создавшемся сложном положении. К тому же Кнорин прекрасно владеет пером (как, впрочем, Фрунзе и Фомин), потому и стал одним из редакторов большевистской массовой газеты, выходившей вначале под названием «Звезда», потом «Молот», а теперь «Буревестник». И вот сейчас он, кажется, снова четко уловил смысл происходящего...
— Логично! — с одобрением кивнул Мясников. — И если продолжить эти рассуждения, то можно понять и то, почему именно Гренадерский корпус может стать — или уже стал! — объектом их главного беспокойства. Потому что этот корпус в свою очередь является самым революционным во Второй армии. Если даже наши враги ничего не знают о планах отправки корпуса в Питер, то они не сомневаются, что против собранных ими здесь сил первыми будут вызваны гренадеры... Стало быть, им нужно как-то нейтрализовать, а то и разгромить этот корпус, пока он еще там, вдали от Минска. А это можно сделать только чужими руками, с помощью немцев, ибо своих-то верных войск на фронте больше нет!
Минуту все молчали, раздумывая над этими словами. И тогда член Севзапкома Василий Фомин, тридцатитрехлетний крепыш, сделал, казалось бы, единственно логический вывод:
— Но тогда, спрашивается, чего мы тут сидим и ждем? Не правильнее ли будет упредить их и уже сейчас, завтра же, созвать корпусные и армейские съезды, взять командование в свои руки, двинуть с фронта верные нам части и не дать здешним корниловцам первыми начать действия против нас?
Мясников ответил не сразу, мысленно взвешивая это предложение, потом покачал головой:
— Нет... В том-то и весь фокус, что мы не можем так поступить, хотя с точки зрения нашего собственного благополучия такие меры были бы наиболее целесообразны. Начать на фронте захват командования снизу доверху — значит начать вооруженное выступление, начать революцию, причем раньше, чем Петроград и Москва будут готовы выступить. «Лезть вперед батьки в пекло» нам нельзя, так как судьбы революции решаются не здесь, не на Западном фронте, а там, в обеих столицах. Потому и мы обязаны, подготовив все, ждать, пока нам не дадут знать, когда нужно выступить.
— Правильно, конечно, — кивнул Ландер. — А что касается Гренадерского корпуса, то, если действительно против него возможны хоть какие-либо действия штабов, было бы неразумно брать сейчас оттуда части, ибо это ослабило бы корпус перед лицом сильного врага. Наоборот, надо предупредить ВРК Второй армии и товарищей из корпуса о том, чтобы были все время начеку, следили за действиями немцев и готовы были отразить атаку противника...
— Ну что ж, давайте пока на этом и порешим, — сказал Мясников. Он посмотрел на часы, поморщился: — Опять засиделись черт знает как долго... Завтра нам надо быть на этом эсеровском съезде, так что идите спать!
Но когда друзья разошлись, Мясников, решивший, как это часто бывало в последнее время, остаться ночевать здесь же, в своем кабинете, долго не мог уснуть.
Когда началась Февральская революция и запрещенные до тех пор политические партии вышли из подполья, большевистская партия была сравнительно малочисленна. Объяснялось это тем, что царское правительство, видевшее в ней наибольшую для самодержавия опасность, в течение многих лет больше всех и наиболее жестоко преследовало именно революционную партию пролетариата. Те двадцать четыре тысячи человек, которые к Февралю были в партии большевиков, представляли собой закаленную в тяжелых испытаниях маленькую, но могучую армию, которая оказалась способной завоевать доверие парода и нанести поражение объединенным силам всех остальных партий России.
В начале апреля Мясников был избран в своем запасном полку делегатом на первый солдатский съезд Западного фронта и прибыл в Минск; он нашел там буквально горстку своих единомышленников. И он, конечно, сразу наладил связь с минскими большевиками, которые после Февраля немедленно развернули энергичную работу среди рабочих города и частей гарнизона. Это были Фрунзе (носивший тогда фамилию Михайлов), Любимов, Алибегов, Кривошеин, Фомин и другие. С первых дней после свержения самодержавия они приступили к организации Совета рабочих и солдатских депутатов и уже 8 марта, когда был создан исполком Совета, добились там решающего влияния.
Минский Совет стал тем ядром, вокруг которого на первых порах начали собираться все большевики, прибывающие из других городов Белоруссии и с фронта. И Мясников тоже немедленно кинулся туда: мол, вот он я, скажите, что нужно делать!
Да, удивительная была эта пора, нора собирания сил, взаимного присматривания, знакомства и сплочения. Многие не только не были лично знакомы, но даже не слышали друг о друге. Наиболее известным среди них был, конечно, Фрунзе. Шутка ли сказать, этот тридцатидвухлетний человек, член партии еще с 1904 года, уже имел за плечами семь лет тюрьмы и каторги, был дважды осужден на смертную казнь! И здесь, в Минске, он, конечно, сразу начал действовать с присущей ему энергией. Став во главе вновь организованной милиции города, он, что называется, показал минской полиции и жандармерии, «где раки зимуют», — разоружил их, занял полицейское управление на углу Подгорной и Серпуховской улиц и быстро навел революционный порядок в городе. Мясников знал немного и Алибегова — еще по работе на Кавказе. В марте Алибегов, Фомин и еще несколько большевиков создали минскую объединенную организацию РСДРП, куда кроме большевиков входили также меньшевики, бундовцы и латышские социал-демократы. Со всеми же остальными Мясников познакомился уже в ходе фронтового съезда и позже, когда, став членом Фронтового комитета, остался в Минске.
Мясников уже тогда понимал, что после того как он и его единомышленники достаточно близко узнают друг друга в работе, то из них неминуемо выделится какая-то труппа самых инициативных, энергичных и опытных людей, которая возьмет на себя руководство и большевистской организацией, и всей работой среди масс. Конечно, он с юношеских лет избрал для себя путь революционера: марксизм стал его верой, а практическая революционная работа — его жизнью. Он давно уже писал на армянском и русском языках серьезные теоретические статьи на политические, экономические, исторические и литературные темы, вел подпольную работу в России, на Кавказе и на фронте. Но при этом он меньше всего размышлял о своем командирском назначении. Точнее сказать, совсем не размышлял, он делал единственно возможное для себя дело. То, что с началом войны судьба забросила его на Западный фронт, он вполне справедливо считал случайностью: с таким же успехом он мог оказаться на Южном, Румынском или Кавказском фронтах. Но раз он оказался здесь, то считал своим долгом отдать здесь все силы революции, которой посвятил жизнь.
Первый фронтовой съезд длился с 7 по 17 апреля и, в силу преобладания среди делегатов представителей партий эсеров и меньшевиков и им сочувствующих, принял соглашательские резолюции по таким важнейшим вопросам, как война и мир, отношение к Временному правительству. И тем не менее первыми боями, которые дали малочисленные большевики на этом съезде «революционному оборончеству», они привлекли симпатии уже значительной части солдат-делегатов. Фронтовой комитет, избранный съездом, насчитывал 75 членов, из которых 6 были большевики. Позднее они смогли организовать целую фракцию, куда вошли Любимов, Могилевский, Кривошеин, Мясников, Щукин, Фомин, Калманович, Селезнев и другие.
Это было немалой победой, и у некоторых возникло убеждение, что пока нужно удовлетвориться достигнутыми успехами. Однако большинство собравшихся в Минске большевиков, и в числе их Мясников, были уверены, что пребывание их в единой организации с меньшевиками и бундовцами, пытавшимися сидеть на двух стульях, а на деле проводившими политику буржуазии, может только дискредитировать их партию. И в этом мнении они еще больше укрепились, когда прочли в «Правде» знаменитые Апрельские тезисы вернувшегося из эмиграции Ленина.
На VII (Апрельскую) конференцию, проходившую с 24 по 29 апреля, минчане делегировали Соломона Могилевского: в свое время он работал с Лениным в Женеве и стал одним из его верных учеников. Когда тот, вернувшись, Сделал доклад о поставленных Лениным и конференцией задачах партии на новом этапе, то стало ясно, что для их выполнения здесь большевики должны выйти из «объединении» и создать свою самостоятельную организацию. Одним из самых энергичных проводников этой линии стал Мясников. Вот почему, когда это размежевание произошло и был создан временный Минский комитет РСДРП (б), председателем избрали именно его, Мясникова.
Он принялся за дело: сплачивал большевистскую организацию, устанавливал контакты с организациями Орши, Бобруйска, Могилева и других городов Белоруссии, создавал и укреплял большевистские комитеты в армиях, корпусах, дивизиях и полках фронта.
Понимая, что влияние партии на массы нельзя усилить без своей газеты, большевистские руководители энергично взялись за ее создание, и снова выяснилось, что Мясников — один из самых опытных журналистов и литераторов большевиков, находящихся в этот момент на Западном фронте и в Белоруссии.
Как руководитель минской большевистской организации Мясников был избран делегатом VI съезда партии, где сделал доклад о работе большевиков на Западном фронте и в Белоруссии и еще дважды выступил — по порядку дня съезда и по резолюции «Текущий момент и война». Он очень сожалел, что Ильич, вынужденный снова уйти в подполье, не присутствует на съезде: ведь Мясников так до сих пор и не встречался с ним. И он, конечно, не знал, что Ленин, работая в своем шалаше в Разливе, внимательно читает стенограммы всех выступлений на съезде, и, стало быть, его выступления тоже. И тем более не знал, что Серго Орджоникидзе, тайно посетивший Ильича и доставивший съездовские материалы, рассказывал ему с восхищением:
— Душа делегатов — пролетарская, а ум — министерский... — И перечислял особенно отличившихся «министерским умом» делегатов: — Артем из Харькова, Джапаридзе из Баку, Шумяцкий из Сибири, Мясников из Минска, Бубнов из Иваново-Вознесенска... Вожди, честное слово, настоящие вожди, Владимир Ильич!..
Мясников многие годы упорно и настойчиво изучал национальный вопрос и мог считать себя верным последователем Ленина в этом вопросе. Поэтому, попав в Белоруссию, он быстро разобрался в национальных проблемах этой страны. И раз случилось так, что он, большевик-ленинец, сейчас оказался в Минске и стал одним из руководителей большевиков Белоруссии, то, значит, обязан участвовать в решении всех без исключения вопросов ее народа, в том числе и национальных. Вот почему Мясников, не щадя себя, не зная отдыха, отдался делу революции здесь, в Белоруссии. И хотя некоторые из тех, с кем он начинал работу здесь, — Фрунзе, Позерн, Любимов и другие — были отозваны ЦК и направлены в другие города России, Мясников знал, что он и оставшиеся с ним товарищи справятся с любыми трудными задачами, которые поставит перед ними революция в ближайшие дни.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Как ни правильны были предположения руководителей Северо-Западного областного комитета большевиков о намерениях своих противников, но они все же ошибались в одном: их планы, да и вообще планы о вооруженном восстании, были выданы врагам. И были выданы не кем-нибудь здесь, в Минске, или неопытными партийцами во Второй армии, а гораздо выше — в центре революции.
18 октября, в среду, в непартийной, но, в сущности, примыкающей к меньшевикам газете «Новая жизнь» Каменев напечатал письмо, в котором от своего имени и от имени Зиновьева выражал несогласие с недавно принятым ЦК решением о вооруженном восстании.
Ленин, который с середины сентября, еще находясь в подполье, в статьях и закрытых письмах убеждал ЦК, что в силу изменившейся в стране политической ситуации настало время для вооруженного восстания, а с 7 октября, тайно вернувшись в Петроград, лично руководил двумя заседаниями ЦК — 10 и 16 октября, — посвященными вопросу восстания, сразу понял, какой страшный удар нанесен революции. Ведь теперь готовящееся восстание теряло одно из важнейших условий успеха — внезапность, и враги несомненно начнут мобилизовывать все силы и средства, чтобы или сорвать восстание, или встретить его во всеоружии... И, придя буквально в ярость от этой мысли, Владимир Ильич из своей конспиративной квартиры на Сердобольской, 1/92 посылал письмо за письмом в ЦК, разъясняя все пагубные последствия этого неслыханного предательства.
«...По важнейшему боевому вопросу, накануне критического дня 20 октября, двое «видных большевиков» в непартийной печати, и притом именно в такой газете, которая по данному вопросу идет об руку с буржуазией против рабочей партии, в такой газете нападают на неопубликованное решение центра партии!.. — писал он. — И по такому вопросу, после принятия центром решения, оспаривать это неопубликованное решение перед Родзянками и Керенскими, в газете непартийной — можно ли себе представить поступок более изменнический, более штрейкбрехерский?..»
И, требуя немедленного исключения обоих предателей из партии, Ленин продолжал:
«Что касается до положения вопроса о восстании теперь, так близко к 20 октября, то я издалека не могу судить, насколько именно испорчено дело штрейкбрехерским выступлением в непартийной печати. Несомненно, что практический вред нанесен очень большой. Для исправления дела надо прежде всего восстановить единство большевистского фронта исключением штрейкбрехеров...»
Между тем Временное правительство начало лихорадочно готовиться к подавлению восстания. В ставку полетели шифрограммы с требованием срочно направить с фронта верные войска, туда же выехали доверенные лица для координации действий. Сам же Петроград был разбит на районы, в каждом из которых создавались конные и пешие отряды казаков, юнкеров и других сил.
Об этом внезапном и коренном изменении политической ситуации в Северо-Западном комитете РСДРП (б) еще ничего не знали. Конечно, Мясникова и его товарищей несколько удивляло то, что в последние дни из ЦК не поступало никаких сведений ни о сроке начала восстания, ни о том, надо ли посылать туда обещанный корпус. «Но в общем-то минчане были уверены, что, когда понадобится, им и знать дадут, и скажут, что и как делать поэтому не торопились ни с перевыборами корпусных армейских комитетов, ни с подтягиванием верных чаете к Минску.
А вот враги здесь уже знали все и разрабатывали планы в соответствии с новой обстановкой. И в этом большевики могли убедиться, если бы им удалось в тот же вече 22 октября заглянуть в штаб фронта...
— Будьте добры объяснить, господин генерал, что за странные вещи происходят в вашем Гренадерском корпусе? — строго, тоном инспектирующего, спрашивал Чернов, вперив свои жгуче-черные глаза в лицо главнокомандующего фронтом Балуева.
Штаб фронта помещался в здании гимназии, и они сидели в бывшем кабинете директора, под золоченой рамой, из которой полгода тому назад был вынут портрет последнего императора российского и сбиты двуглавые орлы с верхних углов рамы. Было непонятно, почему предшественники Балуева, генералы Эверт, Гурко и Деникин, в течение четырех месяцев сменившие друг друга в этом кабинете, не сняли со стены эту пустую и искореженную раму, вызывающую у каждого посетителя недоумение нежелательные предположения. Но поскольку они этого не сделали, то и Балуев, ставший главкомом Западного фронта в начале августа, тоже решил оставить раму в месте. И теперь, видя, что Чернов нет-нет да поднимет глаза на эту злополучную раму, он угадывал, что вызвал у столичного гостя подозрение в своей тайной приверженности к старому режиму.
«Ну и черт с ним! — зло подумал он. — При этом старом режиме штатские политиканы, во всяком случае, не совали свой нос в военные дела!»
Генералу недавно исполнилось шестьдесят лет, сорок из которых он провел в армии. Только за эту войну он командовал несколькими армиями и был главнокомандующим двумя фронтами — Северо-Западным и Западным, И он был одним из тех командующих, которые в свое время поддержали требование Государственной думы об отречении царя от престола в пользу своего сына, заявив, что в противном случае они не ручаются за армию. Но ведь тогда он полагал, что армия станет крепче, сильней, а во что превратили ее эти социалисты и как их там еще...
— Мне казалось, господин Чернов, что мы будем обсуждать вопросы, связанные с проведением завтрашнего съезда, — засопев от старания сдержать себя, проговорил Балуев.
— На сегодняшний день съезд — не самый важный вопрос, господин генерал! — тем же поучающим тоном возразил Чернов. — К нему мы вернемся позднее. А то, о чем я спрашиваю, имеет огромное, ро-ко-во-е значение для судеб нашей революции, для судеб России!
Такой оборот дела озадачил и остальных участнике» совещания, и прежде всего эсеровских членов Фронтового комитета — председателя Совета крестьянских депутатов Нестерова, врача Кожевникова и подпоручика Злобина. Весь этот день они чувствовали себя именинниками в связи с приездом своего лидера. Ведь Чернов должен был, как они надеялись, своим участием в съезде крестьян-фронтовиков создать перелом в настроении солдатских масс Западного фронта, вырвать их из-под влияния большевиков. Вот почему после торжественной встречи на вокзале Нестеров, Кожевников и Злобин повезли «великого человека» в штаб и чуть ли не на руках, как пасхальный кулич, внесли в этот кабинет, где их ждали главком Балуев, начальник штаба генерал-лейтенант Вальтер, комиссар фронта Жданов и его коллеги по меньшевистской партии, секретарь Фронтового комитета поручик Колотухин и член того же комитета поручик Николаев. Они полагали, что Чернов сразу же заинтересуется той огромной работой, которую они проделали для подготовки съезда, увидит, с каким старанием отбирали ораторов из мужичков побойчее, умеющих надсаживать горло, в каком порядке намерены выпускать их, чтобы «перешибить» возможных ораторов со стороны большевиков.
Но едва Кожевников начал докладывать об этом, как Чернов небрежно махнул пухлой ручкой в его сторону и обратился к главнокомандующему с этим вопросом — о Гренадерском корпусе. А затем и вовсе оглушил всех своим заявлением о «роковом» значении этого вопроса «для судеб революции в России».
Балуев, все более наливаясь кровью, минуту молча смотрел на этого гривастого, с черной острой бородкой человека лет сорока, потом всем телом повернулся к Жданову:
— Что ж, Венедикт Алексеевич, ведь политические вопросы — это по вашей части... — и пожал плечами, чтобы подчеркнуть свое полнейшее отвращение к упомянутым «политическим вопросам».
Жданов машинально поднялся с места, минуту сосредоточенно смотрел перед собой в одну точку, словно стараясь вспомнить что-то очень важное. У него была тяжелая волевая челюсть, довольно заметные скулы. А глаза, обычно сероватые, сейчас с красными прожилками на белках — следствие напряженной работы и недосыпания в последние недели, — имели какой-то багровый оттенок.
— Плохо! — наконец произнес он. — Гренадерский корпус Второй армии в последнее время порядком заразился большевизмом, — его глубокий бас звучал твердо, без колебаний» — Об этом мы подробно сообщали в нашей сводке о политическом настроении войск 7 октября, и сегодня я снова упомянул в отправленной в ставку новой сводке. Но особенно сильно эта зараза проникла в Восемнадцатый Карсский полк Первой гренадерской дивизии. В сущности, он весь стал большевистским. Это, к сожалению, печальный факт. Многие офицеры, не будучи в состоянии вынести такое положение, подали ходатайство о переводе в другие части. Но вот командир полка полковник Водарский, как видно, решил изображать этакого суворовского «отца-командира» и не захотел покинуть полк... — Жданов поднял взор и посмотрел прямо в глаза Чернову. — Обо всем этом, как я уже упомянул, было доложено и начальнику штаба ставки генералу Духонину.
— Это мне известно, — фыркнул Чернов. — Их делегация приезжала в Питер, в ЦИК, но мы твердо заявили, что приказ верховного остается в силе... Что вы предприняли здесь дальше? Почему ваш приказ о предании полкового комитета суду трибунала до сих пор не выполнен?
Наконец Жданов не выдержал и процедил сквозь тонкие губы:
— Да потому, что за них горой стоит весь Гренадерский корпус, самый боеспособный на всем фронте! Что прикажете, начать с ним войну? С корпусом, который занимает самый ответственный участок нашего фронта...
— Вот! — с торжествующим видом выпрямился Чернов и обвел взглядом присутствующих. — Вот об этом я и хочу поговорить с вами, господа! Об этом неслыханном, ни в какую логику не укладывающемся явлении, когда целый армейский корпус — отборный, гренадерский — подчиняется не командованию фронта, не законному правительству, а врагам правительства и командования!
— Ну и что? — сердито огрызнулся Жданов. — Для того, чтобы наблюдать подобное явление, не нужно было приезжать сюда, господин Чернов. Их достаточно много у вас под носом, в петроградском гарнизоне! — Он вдруг откинулся назад и продолжал усталым голосом: — Я думаю, что вы напрасно затеяли этот разговор, Виктор Михайлович. Да еще в таком тоне... Вам отлично известны процессы, которые происходили не только у нас, но и во всей армии после нашего летнего наступления. Солдатские массы в основном крестьяне. И они, распропагандированные большевистской демагогией насчет мира и земли, отвернулись от нас. Если кого и можно упрекать, то именно вас, социалистов-революционеров. Ибо вы и есть главная крестьянская партия в стране. Это вы первым долгом должны были уберечь эти массы от влияния большевиков...
— Так ведь именно с этой целью мы созываем наш завтрашний съезд, — вступился за своего лидера Кожевников. — И Виктор Михайлович прибыл сюда, чтобы помочь нам добиться того, о чем вы говорите...
Балуев, до этого хмуро следивший за пререканиями комиссара фронта с приезжим лидером, теперь невольно усмехнулся. «Хороши... — подумал он. — Все вы хороши, господа! А по мне — это вы и довели армию до развала, все вы, р-революционеры! А теперь валите друг на друга». Но говорить вслух такое, увы, он не мог, поэтому, снова громко засопев, потянулся и взял толстыми пальцами из самшитовой резной коробки одну из длинных, собственноручно набитых папирос. И не успел зажечь ее, как поручик Нестеров и подпоручик Злобин, не испросив разрешения и даже не посмотрев в его сторону, тоже достали портсигары и нервно закурили.
— И раз уж речь зашла о нашей ответственности за настроение крестьянских масс, то будет ли позволено нам тоже задать вопрос: а как насчет рабочих? — пыхнув клубом дыма мимо уха Жданова, спросил Нестеров. — или, быть может, представители «Российской социал-демократической рабочей партии» считают, что класс, который они якобы представляют, никакого отношения к интересующим нас событиям не имеет?
Его тон заставил Чернова опомниться. Он понял, что разговор пошел по неправильному руслу и виноват в этом он сам. Да, он тоже в последнее время, точнее, с самого 18 октября, когда прочитал тот самый номер «Новой жизни», был крайне растерян и раздражен. Ибо тогда он одним из первых понял, что в русской революции вот-вот должен произойти некий страшный поворот. В этой связи он даже хотел было отказаться от поездки в Минск, считая намечаемый здесь съезд делом запоздалым и бесполезным. И если все же поехал, то лишь для того, чтобы объяснить здешним деятелям ту новую ситуацию, которая сложилась в стране, настроить их на новые методы борьбы. Но когда по прибытии сюда увидел полнейшее непонимание не только со стороны своих коллег эсеров, но и главкома и комиссара фронта того, что происходит вокруг, то вышел из равновесия, начал наскакивать то на Балуева, то на Жданова, — и вот начались взаимные обиды и обвинения...
— Ладно, господа, оставим эти споры, — махнул он рукой. — Все мы, по-видимому, просмотрели что-то очень важное... — Он сделал паузу и вдруг сердито воскликнул: — Впрочем, ничего мы не просмотрели! Просто народ наш, этот «святой и праведный страдалец», ради счастья которого мы столь долго боролись, оказался недостоин той свободы, которую мы дали ему после славной Февральской революции... Он оказался слишком темным, слишком жадным и неспособным мыслить по-государственному. Он не хочет понять, что когда над его родиной навис кованый германский сапог, то нельзя слушаться безответственных демагогов и заниматься сведением «классовых» счетов, что надо повременить с вопросом земли или там восьмичасового рабочего дня, а надо сначала победить кайзера!
А генерал Балуев все еще сидел, полуприкрыв розоватые веки, слушал эти разговоры и думал: а не дурной ли сон, не наваждение ли это? Он, Петр Семенович Балуев, помещик из Ставрополья, генерал-лейтенант от инфантерии, — разве мог он хотя бы год тому назад даже в мыслях допустить, что в его кабинете будут сидеть те самые «эсеры» и «эсдеки», то есть бунтари и цареубийцы, место которым только на каторге и виселице?.. Мог ли он даже представить себе, что эти вчерашние террористы и «потрясатели основ державы Российской» сегодня станут союзниками, поскольку оказалось, что они «свои», «ручные» (ведь вот как они вдруг заговорили о «сафронах и спиридонах»!) и что есть еще другие «эсдеки», которых почему-то называют «большевиками»... И что он, помещик и генерал Балуев, должен цепляться за «этих» против «тех», чтобы спасти Россию, удержать солдатню на фронте с помощью политики, в которой он ничего не смыслит... Эх-хе-хе, помилуй нас господи!
И как раз в это время он услышал слова Чернова:
— Вы, господа, как вижу, связываете слишком много надежд с открываемым завтра съездом, с тем, что нам удастся круто изменить политическую ситуацию здесь с помощью речей и резолюций... Боюсь,, что вы еще не осознали главного: время, когда все решалось красноречием ораторов, прошло и теперь наступает пора, когда должны заговорить пушки.
— Пушки? — впервые за весь вечер молвил слово генерал Вальтер, сухонький старик генштабист в пенсне и с россыпью перхоти на бархатном воротнике кителя. — Это в каком смысле?
— В самом прямом, буквальном, господин генерал, — ответил Чернов.
И, обратившись ко всем, начал рассказывать об этом — о письме Каменева и Зиновьева в «Новой жизни», из которого ясно стало, что большевики недавно приняли решение начать вооруженное восстание. Он сказал, что Ленин с некоторых пор в своих статьях открыто говорил о необходимости вооруженного захвата власти, например в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» («Читали вы эту статью, господа? Теперь их надо читать, и читать весьма внимательно!») Так вот, похоже, что ему удалось склонить большинство ЦК своей партии начать восстание, кроме разве Каменева и Зиновьева, которые этим письмом в «Новой жизни» и выражают несогласие с Лениным. Неизвестно, насколько повлияет их письмо на остальных членов ЦК, но тот, кто знает Ленина, уверен, что он со своей дьявольской логикой возьмет верх.
При этих словах доктор Кожевников воскликнул: «Господи!», а Балуев снова потянулся к самшитовой коробочке, но его ставшие непослушными пальцы только катали папиросы, но не могли ухватить ни одну.
— Да, господа, Ленин слов на ветер не бросает, — повторил Чернов. — Поэтому я возвращаюсь к высказанным здесь словам насчет положения в Питере. И, оставляя в стороне взаимные упреки — кто и в какой мере в этом виноват, — должен сказать, что положение там весьма тяжелое. Армия и флот почти целиком на стороне большевиков, у нас же всего несколько юнкерских училищ, школ прапорщиков, женский ударный батальон и еще кое-какие мелкие части... Естественно, что мы ждем помощи только отсюда, с фронта. Вот почему по дороге сюда я заехал в Могилев, где подробно обсудил проблему помощи нам с фронта.
— Ну и как? — Жданов, словно почуяв, что сейчас начинаются неприятности для него, придвинулся вперед.
— Очень плохо! — как давеча Жданов, жестко произнес Чернов. — Ставка территориально находится в тылу Западного фронта, следовательно, в первую очередь отсюда может взять войска на помощь Питеру. Но ведь и препоны этому делу легче всего устроить здесь, на Западном фронте, не так ли, господин комиссар?
Жданов молча смотрел на него, и это длилось столь долго, что Колотухин поспешил кивнуть вместо него.
— Так, конечно...
— Так вот, там настроены весьма пессимистически насчет вашей способности выделить какие-либо войска на помощь Питеру, господа. Более того, они полагают, что скорее здешние большевики сумеют послать помощь Ленину, поскольку они уже одержали политическую победу над вами, господин Жданов, и над Фронтовым комитетом и скоро возьмут в свои руки весь фронт.
— Это мне не нравится! — почти угрожающе воскликнул Жданов.
— Что именно? — почти удивленно спросил Чернов. - Утверждение, что вы потерпели политическое поражение?
— И это тоже, — все тем же тоном произнес Жданов.
— Хорошо. Посмотрим, какие цифры и факты, представленные вами же в Петроград и в ставку, могут доказать это утверждение... — Чернов, усмехаясь, достал из кармана записную книжку и начал листать, не переставая говорить: — Вспомните-ка, сколько здесь было большевиков в апреле, когда они еще находились с вами, господин Жданов, в одной объединенной социал-демократической организации... Десятки, ну, сотни, так? А после размежевания с вами, после первой их областной конференции в середине сентября, у них было... — он наконец нашел нужную запись в книжке и прочитал: — 9 тысяч 190 членов большевистской партии. Это дало им возможность создать здесь областной комитет. А еще через двадцать дней — всего двадцать дней, господа! — на Второй партийной конференции большевиков Северо-Западной области 353 делегата представляли уже 28 тысяч 591 члена и 27 тысяч 856 сочувствующих! Неплохо поработали, а? И они отняли у вас не только Гренадерский корпус, — ведь, в сущности, во всех трех армиях фронта у них значительное и все более усиливающееся влияние... — Чернов сунул книжку под нос Жданову, словно давая ему понюхать, и спросил: — Ну как, есть ли основание утверждать, что политическую битву за умы солдатской массы на фронте и населения в области мы уже проиграли?
Да, все-таки странно устроены люди! Все присутствующие здесь, конечно, давно были знакомы с этими цифрами, ведь они были опубликованы в печати, о них говорилось на совещаниях и собраниях, эти цифры переписывались сидящими здесь генералами и партийными работниками и направлялись в ставку, в центральные комитеты своих партий. И все же сейчас вид этой книжечки с точными цифрами вплоть до единиц заставил слушателей Чернова по-новому, как бы со стороны посмотреть на свое собственное положение и убедиться, сколько много позиций утеряно ими здесь.
Увидев, что Жданов, насупившись, молчит, Чернов сказал мягче:
— Мне отнюдь не доставляет удовольствия произносить слово «поражение», господа. И если я тем не менее произношу его, то лишь для того, чтобы подвести вас к мысли, что уж второй этап этой борьбы — когда они возьмутся за оружие — мы обязаны выиграть во что бы то ни стало! Между тем похоже, что и здесь события развиваются весьма неблагоприятно...
Жданов вскинул голову, чтобы возразить, но, вспомнив недавнюю свою неудачу, промолчал.
— А действия здешних большевистских лидеров, — продолжал Чернов, — и в особенности выдвинувшегося на первый план Мясникова, показывают, что они настойчиво идут к определенной цели, и эта цель продиктована им из Питера Лениным! Кстати, я имел случай познакомиться с этим Мясниковым еще в 1908 году в Баку и вести с ним публичные дискуссии, поэтому могу засвидетельствовать, что хватка у него крепкая. И не для того он добился здесь политического превосходства, чтобы затем сидеть сложа руки или дискутировать с нами на съездах. Нет, как только Ленин начнет там, в Питере, они возьмут за горло вас здесь... И в ставке довольно точно определили, где они начнут, — в Гренадерском корпусе, вот где!
— Ну, мы это еще посмотрим, — буркнул Жданов.
— Знаете, Венедикт Алексеевич, — повернулся к нему Чернов, — сейчас уже не время для подобных восклицаний: «еще посмотрим», «бабушка надвое сказала», «рано пташечка запела»... Комиссар ставки господин Станкевич и генерал Духонин, который, как вам известно, был начальником штаба здесь, на Западном фронте, и поэтому достаточно хорошо разбирается в ваших делах, на основании точного анализа ситуации убеждены, что Гренадерскому корпусу здесь отведена роль своеобразного запала. С его помощью должна быть взорвана Вторая армия, а она в свою очередь должна взорвать весь фронт... Вовсю идут приготовления для этого. Во всяком случае, большевики везде выдвигают задачи перевыборов полковых и дивизионных комитетов, а потом они проведут корпусные и армейские съезды. И знаете ли вы, что при перевыборах в комитеты проходят преимущественно большевики? Кроме того, во Второй армии создан Военно-революционный комитет. А для чего? — Чернов переводил взгляд с одного лица на другое. И так как все снова безмолвствовали, продолжил со вздохом: — А вы хотите противопоставить этим конкретным и страшным делам — речи и резолюции вашего съезда...
— Так что же, выходит, съезд не нужно проводить? — недоумевающе спросил Злобин.
— Почему же, я этого не говорил, — обернулся к нему Чернов. — Съезд нужно провести, и как можно лучше. Если с его помощью удастся хоть сколько-нибудь поколебать настроение солдат, привлечь на нашу сторону хоть самую малую их часть — это уже будет кое-что. Но я хочу, чтобы вы поняли: съезд многого не даст и связывать с ним слишком большие надежды не следует. Сейчас главное — сорвать намечаемые большевиками корпусные и армейские съезды, а еще важнее — обезвредить Гренадерский корпус, этот, повторяю, запал всего адского механизма. — Он поискал глазами, увидел на стене занавес и, угадав, что там скрыта карта, шагнул в ту сторону. — Покажите, где расположены позиции этого корпуса.
Все гурьбой подошли к карте, ж генерал Вальтер, отодвинув занавес, начал показывать на ней:
— Извольте, господин Чернов... На нашем фронте действуют три армии: Третья на севере, Десятая в центре и Вторая на юге. Гренадерский корпус занимает в центре Второй армии сравнительно короткий участок, но зато крайне ответственный, ибо здесь находится самый удобнопроходимый район на северной оконечности Пинских болот. Южнее гренадеров расположены Девятый и Пятидесятый армейские корпуса с весьма растянутыми позициями вдоль болот, а севернее, на стыке с Десятой армией, — Третий Сибирский корпус. В соответствии с этим на участке Гренадерского корпуса у немцев боевые силы также расположены весьма густо, в особенности артиллерия.
— Да? — Чернов заинтересованно придвинулся к карте и минуту изучал ее, после чего вдруг ткнул коротким пухлым, пальцем в пункт по ту сторону двойной красно-синей черты, отмечающей линию фронта, над которым торчала булавка с маленьким черно-бело-красным фланг-ком. — Это Брест-Литовск?
— Да, — подтвердил Вальтер, — штаб немецкой восточной группы армий.
— Там, если не ошибаюсь, командует этот Гофман?
— Командующим там, после перевода Гинденбурга на Западный фронт, назначен Эйхгорн, но, подобно тому как при Гинденбурге главной фигурой был его начальник штаба Людендорф, так и при Эйхгорне тон задает начальник его штаба Гофман... — Вальтер вдруг спохватился, виновато покосившись в сторону Балуева, и поспешил разъяснить: — С давних пор в немецкой армии установились такие странные порядки...
— Ну и как они себя ведут там? — спросил Чернов.
— Германцы?
— Да. Не пытаются ли воспользоваться той неразберихой, которая царит на нашей стороне?
Вальтер пожал плечами, и тогда вместо него ответил Балуев:
— Немцы? Да этих колбасников очень даже устраивает наша «неразбериха», как вы изволили выразиться... Не сомневаюсь, что все эти эйхгорны и гофманы потирают руки и ждут не дождутся, пока у нас все окончательно развалится, после чего они голыми руками возьмут Россию...
Чернов как-то пристально, изучающе посмотрел на него и спросил словно невзначай:
— Но война ведь не кончена, и немцы, надо полагать, не прочь были бы захватить этот самый удобопроходимый участок среди болот... на будущее, а?..
Балуев минуту смотрел на карту, потом перевел взгляд на Чернова:
— Не дай господь, чтобы это случилось... Не забывайте: наш фронт закрывает немцам дорогу на Москву, сердце России! А эти позиции — ключевые на всем фронте.
И тогда Чернов понял, что нужно держать язык за зубами. Что сейчас при этом, хотя и бравом, но недалеком вояке нельзя говорить то самое главное, из-за чего он, собственно, приехал сюда. Сказать, ну хотя бы намекнуть, что если вдруг на этих днях кто-то другой решит... скажем, потрепать или основательно поколотить... этот самый Гренадерский корпус, «большевистский запал», то этому не нужно удивляться и тем более мешать...
...Вначале беседа шла между ним и руководителями ставки — Духониным, Станкевичем, генерал-квартирмейстером Дитерихсом и председателем Всеармейского комитета Перекрестовым. Чернов говорил им о положении в Питере и о необходимости срочно послать туда войска, а Духонин и Станкевич, обещая сделать все возможное, излагали ему свои затруднения, особенно подробно описывая опасную ситуацию, создавшуюся в Минске и на Западном фронте. И лишь после этого генерал Дитерихс, небольшого роста человек с серыми крохотными усиками на худом нервном лице, пригласил его к себе в кабинет и положил перед ним довольно истрепанный номер большевистской газеты «Рабочий путь» от 29 сентября. Там, в статье Ленина «Русская революция и гражданская война», один абзац был обведен красным карандашом и рядом поставлены три жирных восклицательных знака. Чернов, который в свое время, конечно, видел эту статью, теперь вновь начал читать выделенное место:
«...Пугают слухами об отставке Алексеева и об угрозе немецкого прорыва к Петрограду, как будто бы факты не доказали, что именно корниловские генералы (а к числу их безусловно принадлежит и Алексеев) способны открыть немцам фронт в Галиции и перед Ригой, и перед Петроградом, что именно корниловские генералы вызывают наибольшую ненависть армии к ставке...»
Прочитав, Чернов удивленно посмотрел на Дитерихса, и тот с какой-то деревянной улыбкой сообщил:
— Это место подчеркнуто Лавром Георгиевичем...
— Лавром Георгиевичем? Вы хотите сказать... Корниловым?
— Да, — односложно ответил Дитерихс.
«Вот оно как!» — подумал Чернов. Он уже слышал (об этом почти ежедневно писали и говорили большевики), что Корнилов и его сообщники — Деникин, Романовский, Лукомский и другие, — посаженные после мятежа в тюрьму, а на деле удобно устроенные в здании бывшей женской гимназии Старого Быхова, недалеко от Могилева, только числились узниками. Поговаривали, что они не только отлично питаются, но и свободно сносятся с Калединым на Дону, с ушедшим в отставку бывшим главковерхом Алексеевым и другими генералами и что приставленные к ним Текинский полк и батальон георгиевских кавалеров имеют задачей не столько помешать их побегу, сколько охранять от революционно настроенных частей...
А Дитерихс, внимательно следивший за ним и, вероятно, понявший, что Чернов уяснил все, что надо, спросил:
— Вы, господин Чернов, кажется, собираетесь отсюда поехать в Минск?
— Да, — все еще раздумывая над прочитанными строками Ленина, кивнул Чернов. — Послезавтра там должен открыться съезд солдат-крестьян фронта...
Дитерихс спросил, почти не скрывая выражения отвращения на лице и в голосе:
— Съезд! И вы верите, что он поможет что-нибудь и сколько-нибудь исправить?
— Теперь уже почти нет, — с невольным вздохом признался Чернов. — Но попытаться нужно... Иного выхода ведь нет.
— Есть! — Дитерихс резко поднялся с места и, обойдя стол, стал рядом с ним. — Есть, господин Чернов. Только надо иметь смелость пойти на это!
Чернов, с трудом повернув короткую шею, посмотрел снизу вверх на него.
— Есть? Какой же?
— Должны литься не речи, а должна пролиться кровь! — И Дитерихс почему-то постучал согнутым пальцем по ленинской статье, все еще лежащей перед Черновым.
— Господи! — невольно воскликнул Чернов. — Да разве не за тем я приехал сюда, не об этом говорил с вами? И не вы ли заверяли меня, что сил, способных проливать кровь за нас, — почти нет?
— У нас нет, но вообще-то они есть! — И Дитерихс вновь стукнул согнутым пальцем по газете: тук-тук-тук.
Только тут Чернов посмотрел на то место в газете, по которому настойчиво стучал генерал, и почувствовал: генерал пытается внушить ему какую-то важную мысль, но какую именно, он все еще не мог понять. А Дитерихс, вновь не давая себе труда объяснить, для чего обратил внимание собеседника на это место ленинской статьи, продолжал:
— Там, во Фронтовом комитете, большинство составляют ваши единомышленники, господин Чернов. И в те августовские дни они, увы, тоже оказались достаточно... недальновидными. Сейчас они, похоже, образумились и готовы бороться с большевиками. Они попросили у нас силы, и мы послали им все, что можно, — Кавказскую кавдивизию, несколько батальонов «ударников» и «Георгиевцев», но...
— Но?.. — нетерпеливо повторил Чернов.
— Этого мало. У большевиков теперь, в сущности, весь фронт. Достаточно им вызвать хотя бы один революционный корпус, и он разметет все эти верные нам части в Минске, раздавит штаб фронта, пойдет на нас, на ставку, а может быть, и дальше — в Петроград!
— Так где же выход?
— Нужно, чтобы этот корпус не смог сдвинуться с позиций! — резко сказал Дитерихс. — И если мы не в состоянии справиться с большевиками Минска, то мы должны предоставить это дело тем, кто имеет достаточно сил, чтобы разгромить, развеять их в прах!
Чернов, вытаращив глаза, смотрел на него, потом снова перевел взгляд на статью Ленина. И вдруг понял: немцы. Вот кто, оказывается, должен сделать это!
— Поймите, это высшая форма патриотизма, — наставлял тем временем Дитерихс. — Военная логика всегда основывалась на железном законе: своя воинская часть, поднявшая во время воины мятеж, опаснее официального противника, и разгром ее этим противником есть благо, ибо это приводит к общему ослаблению врага.
— А... они, — Чернов не осмелился произнести нужное слово, — знают об этом?
Дитерихс, видимо, тоже не решился ответить прямо.
— Ну, им эти позиции очень нужны. Да и гренадеры эти за войну немало досаждали им. Так что дело не в них, а в тех, кто сидит в Минске. Памятуя об их поведении в августе, мы вынуждены делать все, минуя их, через их головы. Но сейчас настала пора, когда это, — он снова ткнул пальцем в начало ленинской статьи, — вот-вот должно осуществиться, и нужно, чтобы минчане сидели тихо. Ну, хотя бы не вмешивались. Но как мы скажем им это? Ведь мы — «корниловские генералы», которые «вызывают наибольшую ненависть к ставке»! — Он сделал паузу, потом прибавил с досадой в голосе: — Впрочем, мы опасаемся говорить об этом не только вашим социалистам, но даже главнокомандующему. Да, да, Петр Семенович — старый, заслуженный генерал... Сегодня, например, он передал нам текст своего приказа по фронту о борьбе с братанием солдат с немцами. Приказывает открывать артиллерийский огонь по тем районам, где происходят встречи русских с немцами, отдавать под суд братающихся солдат. Смело! В наши дни издавать такие приказы не шутка, и он не побоялся сделать это. Но именно поэтому-то мы не знаем, как же быть с ним в таком деле. Ибо в основе его приказа лежит все тот же старомодный, узколобый патриотизм: немец, мол, враг и с ним может быть только один разговор — языком пули и штыка!
— Гм... Насколько понимаю, вы считаете целесообразным, чтобы об этом говорил им я? — спросил Чернов.
— Именно! — подтвердил Дитерихс — Только обезопасив себя со стороны Минска и получив в свое распоряжение этот важный железнодорожный узел, ставка сможет перебросить в Петроград требуемую вами помощь в достаточном количестве. Но говорить об этом с ними нужно, конечно, не сразу, а предварительно хорошо прощупав настроение каждого, кто может быть допущен к тайне операции. Понимаете, Виктор Михайлович?
...Да, пожалуй, Дитерихс был прав: с этим генералом на такую тему не столкуешься. Если здесь и есть человек, который может понять и поддержать такое решение дела, то лишь этот ершистый Жданов, комиссар штаба.
— Впрочем, еще неизвестно, что там думают немцы, — как раз в это время произнес Жданов, внимательно глядя на Чернова. — Да и мы еще не считаем, что большевики здесь уже положили нас на обе лопатки. Ведь и корпусные, и армейские комитеты еще в наших руках, и мы постараемся с их помощью сорвать съезды, которые намечают созвать большевики.
— Совершенно правильно, — быстро кивнул Чернов. — А какие военные меры приняты вами здесь, в Минске, против выступления большевиков?
Жданов на сей раз более уверенно доложил:
— К Минску подтянута Кавказская кавалерийская дивизия, которая расквартирована недалеко от города, в ближайших селах. Кроме того, в самом городе имеются уланский полк Польского корпуса, два ударных батальона георгиевских кавалеров, батальон охраны штаба фронта, несколько эскадронов текинцев — личная охрана главнокомандующего — да еще кое-какие части, верные командованию.
— Хорошо, — удовлетворенно хмыкнул Чернов. — А что у них?
— Да пока что небольшие силы: Тридцать седьмой пехотный запасной полк, который, однако, не вооружен, затем эта их Красная гвардия — плохо вооруженный и для серьезного дела негодный сброд; батарея зенитчиков, также не имеющая прикрытия... Нет, господин Чернов, в случае нужды мы быстро создадим в городе подавляющий перевес в силах, не беспокойтесь!
— Ладно, вижу, вы в самом деле хорошо подготовились, — одобрил Чернов. — Так вот, насчет этого «в случае нужды»... Если этот случай произойдет, если большевики в Питере действительно попытаются устроить переворот, то вы должны немедленно принять все меры, все, — повторил он, — для задержки большевистских частей здесь и, наоборот, послать побольше надежных войск в Питер и Москву — на помощь правительству...
— Понятно, — кивнул Жданов серьезно.
Чернов снова посмотрел на Балуева, и тот невольно тоже кивнул, хотя и не проронил ни слова.
— Ну а теперь давайте поговорим о завтрашнем съезде, — повернулся Чернов к Нестерову. — Что там вы говорили?..
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
На следующее утро съезд крестьян-фронтовиков открылся. После выборов президиума и секретариата, доклада мандатной комиссии и других формальностей первым выступил Нестеров. Он говорил о задачах съезда: поднять крестьянство Северо-Западной области и солдат-крестьян фронта на защиту завоеваний великой русской демократической революции от посягательств как справа от монархистов и помещиков, так и слева — от так называемых большевиков, которые сейчас прилагают серьезные усилия свести на нет все успехи народа в борьбе за свободу. А как они хотят это сделать — расскажет съезду старый и верный друг крестьян, несгибаемый революционер, борец за землю и волю, за народовластие Виктор Чернов, специально прибывший из столицы на этот съезд.
Поскольку съезд официально был созван от имени Фронтового комитета, то Мясников, как член президиума последнего, был избран также и в президиум съезда. Но он намеренно не пошел на сцену, а сидел в зале, в первом ряду, делая пометки в записной книжке. Он тоже хорошо помнил свои прежние встречи с Черновым и считал его достаточно умным и опасным врагом. Поэтому он внутренне весь подобрался, когда увидел, что появление Чернова на трибуне было встречено громом аплодисментов и даже криками «ура».
И он вновь убедился, что Чернов действительно умеет быть красноречивым. Говорил он простыми и какими-то округлыми фразами, точно расставлял ударения, многозначительно подчеркивая отдельные слова, отчего самые обычные мысли казались чуть ли не откровением. Он говорил о крестьянине — соли земли русской, создателе всех богатств, основе могущества державы Российской, но, увы, веками угнетаемом царями и помещиками, о народниках, начавших самоотверженную борьбу за освобождение крестьян, об их подвигах и жертвах, принесенных в борьбе с царизмом, и, наконец, об эсерах — наследниках и продолжателях дела народников, единственных и последовательных защитниках интересов крестьянства в наше время. Да, единственных, ибо все остальные партии представляют интересы других классов, а с крестьянством только заигрывают, да и то потому, что это основной, самый многочисленный класс народа и без его помощи ничего добиться они не могут...
«Ах вон вы куда гнете, господин Чернов! Ну ладно же, я вас на этом жульничестве и поймаю...» — усмехнулся Мясников, начав быстро набрасывать тезисы своих возражений в записную книжечку. И, продолжая время от времени поглядывать в сторону сцены, сразу заметил, как там перешептываются Нестеров, Кожевников, Злобин и другие, кивками показывая в его сторону. Да и сам Чернов, которому, видно, уже говорили, где сидит их главный враг, тоже стал поглядывать в сторону Мясникова и повысил голос:
— Взять хотя бы большевиков, партия которых называется «социал-демократической рабочей» и которая в последнее время больше всех делает реверансы перед крестьянством, пытаясь демагогическими лозунгами завоевать его сочувствие...
Сидящие в зале и по его взгляду, и по тону поняли, что оратор дошел до главной части своей речи, и многие, приводнявшись, начали смотреть в сторону Мясникова. А тот, перестав писать, с усмешкой глядел на Чернова, развивающего в это время мысль о том, что, как известно, подданная цель партии большевиков — это установление «диктатуры пролетариата». А этого пролетариата в России, как тоже известно, с гулькин нос: горстка в Петрограде, горстка в Москве да еще по горсточке в других городах — и все. И вот эту диктатуру, полное господство небольшой прослойки рабочих над всем народом, и в том числе над подавляющим его большинством, крестьянством, и хотят установить большевики! А чтобы крестьянство не сопротивлялось, они играют на его усталости от войны, на желании поскорее получить землю, выйти из тисков голода...
«Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что ты будешь дальше говорить», — мысленно задал вопрос Мясников, угадывая, что именно здесь должна находиться ахиллесова пята демагогии Чернова. И он не ошибся, ибо внешняя логичность речи оратора здесь дала первую серьезную трещину.
— Они толкают крестьян на всякие беззаконные действия, — осуждающе глядя в сторону Мясникова, продолжал Чернов, — на самочинные захваты земли. А это, конечно, может привести только к анархии, междоусобице, к поражению в войне. Германский империализм, вернее, кайзер Вильгельм воспользуется победой, чтобы восстановить на троне свою сестру и царя Николая со всей помещичьей сворой, и тогда — прощай все надежды на землю вообще, на волю вообще, на власть демократии вообще!
Мясников уже знал, на чем он будет строить свою речь. Но он не спешил выступить, ибо ему нужно было найти в старых газетах кое-какие материалы. И это промедление его тоже сбило с толку эсеров. Они вынуждены были выпускать все новых и новых ораторов, которых приберегали для отпора выступлениям большевиков. И эти ораторы говорили уже без всякого запала, невольно повторяясь и тем самым ослабляя впечатление от выступления Чернова. В зале начались разговоры, покашливание, многие делегаты выходили покурить, другие закурили прямо здесь же.
Лишь на следующий день, 24 октября, пропустив несколько ораторов, Мясников наконец поднялся на сцену. Сразу установилась тишина и взгляды всех обратились к нему. И в этой настороженной тишине вдруг из зала раздался чей-то голос: «Держись, братцы, сейчас начнется потеха!» Злобин тут же вскочил на ноги и сердито затряс колокольчиком. А Мясников, посмотрев в сторону крикуна, сказал серьезно:
— Хорошо смеется тот, кто смеется последним.
И затем для начала он вкратце изложил делегатам разницу между аграрными программами большевиков и эсеров. Но сейчас, сказал он, дело даже не в том, чья программа лучше. Сейчас важно понять, какая партия готова на самом деле выполнить собственную программу.
— Вот здесь выступал видный эсеровский лидер Виктор Чернов. Вы все слышали речь этого господина о том, что его партия — единственно до конца преданная интересам крестьянства и враждебная помещикам партия. Хорошо, давайте поверим этому. Но вот в мае этого года господин Чернов, как вам известно, стал министром в коалиционном правительстве, сменив на этом посту кадета Шингарева. Казалось, вот тут он и направит все усилия на защиту интересов крестьян против помещиков, не правда ли? А что же произошло на самом деле? Как раз в эти дни князь Волконский, крупнейший тамбовский помещик, на страницах печати обратился к господину Чернову, «разъясняя» ему, в чем состоят его подлинные задачи и каковы требования помещиков к нему. Вот, посмотрите, что он писал тогда...
Мясников вытащил из кармана френча вырезку из газеты и, бросив мимолетный взгляд в сторону президиума, заметил, как Чернов весь подался вперед, буквально пожирая его взглядом. Невольно усмехнувшись, Мясников начал читать отрывки из статьи Волконского:
— «Только предписанием свыше можно достигнуть однообразия действий, только таким путем можно вылить холодной воды на тот уголь наживы, подогретый побуждениями классовой борьбы, который грозит своим дымом застелить всякое понимание общественной пользы и в своем пламени поглотить благосостояние тех, кто его раздувает...» — Остановившись, Мясников посмотрел в зал и громко спросил: — Ну как, узнаете? Разве это не то же, что вам иными словами вчера говорил здесь господин Чернов, уверяя, что всякие «самочинные» захваты земли снизу могут привести к анархии и гибели революции и что нужно ждать созыва и решения Учредительного собрания, то есть делать все по «предписанию свыше», как это и рекомендует князь Волконский?
В зале поднялся ропот, и Мясников, поняв, что это сходство уловили все, крикнул:
— Но вы послушайте, товарищи, послушайте дальше: «...следует сказать крестьянам властно, что есть действия, которые в такие времена, как наши, являются противоестественными. Надо им сказать это, и это можете сделать только вы из Петербурга. Всякое слово, сказанное здесь, на месте, — под подозрением; тому верить нельзя потому, что он купец, тот, «известное дело, юрист», а всё вообще — «буржуазный», «старый режим»... Вы, господин министр, — новый режим... Скажите слово — вам поверят. Время еще есть, но оно не очень терпит...»
Мясников повернулся в сторону президиума и спросил: — Было такое, господин Чернов? — И так как тот молчал, нахмурив брови, снова обратился к заду: — А теперь посмотрим, что же ответил наш «защитник интересов крестьянства» князю и помещику Волконскому. Может быть, возмутился по поводу столь неслыханного предложения — защищать помещиков от посягательств крестьян? Ну хотя бы ответил презрительным молчанием? Да ничуть не бывало! В газете «День» от 12 июля он поспешил успокоить встревожившегося князя... — Мясников достал еще одну газетную вырезку и начал читать: — «Мои законопроекты имеют целью именно ввести в закономерное русло ту местную общественную самодеятельность, которая иначе неизбежно выходит из берегов и, как половодье, многое разрушает»... — Он спокойно сложил вырезку, сунул в карман и, не глядя в сторону Чернова, насмешливо произнес: — Я на этом кончаю и даю возможность господину Чернову выступить и опровергнуть приведенные мной факты. Если он сделает это, значит, его взяла. Но ежели он не сумеет доказать, что до сих пор был защитником крестьян, а не князей Волконских и иже с ними, то тогда, значит, оп и сюда прибыл лишь для того, чтобы уговорить вас не идти за большевиками, которые не на словах, а на деле готовы коренным образом решить земельный вопрос, а именно, не дожидаясь Учредительного собрания, отобрать землю у помещиков и без всякого выкупа и оплаты отдать крестьянам на пользование...
Вопрос был поставлен настолько резко и категорично, что Чернов не мог ни отмолчаться, ни даже тянуть с ответом. Поэтому, стараясь казаться спокойным, он снова вышел к трибуне и начал насмешливым тоном говорить о том, что давно имел честь лично знать главаря минских большевиков и поэтому вполне представлял, что это не бог весть какое сокровище. Однако уже первая речь, которую он, Чернов, услышал здесь, показала, что за прошедшие годы по линии демагогии и инсинуаций сей деятель добился заметного «прогресса» и может дать фору любому из большевистских лидеров...
Если бы ему удалось говорить и дальше в таком духе, избегая касаться сути затронутых Мясниковым вопросов и лишь высмеивая противника, то, быть может, он сумел бы вывернуться. Но кто-то крикнул из зала: «А все же писали вы такой ответ Волконскому?» — и Чернов не выдержал, вдруг зло взвизгнул: «Да, я против местной самодеятельности! Да, я за соблюдение законности! Но это не значит, что я защитник помещиков...» — и этим все испортил.
В зале нарастал шум. Присутствующие понимали, что после спокойной и аргументированной речи Мясникова эта истерика эсеровского лидера свидетельствует о том, что ему наступили на «больную мозоль».
И тогда председательствующий Кожевников счел за благо объявить сегодняшнее заседание закрытым, чтобы успеть продумать, как же быть дальше, чем рассеять дух недоверия, вселенный речью Мясникова в души делегатов съезда.
В этот самый вечер, 24 октября, накануне открытия II Всероссийского съезда Советов, Владимир Ильич, отлично понимавший, что предупрежденные предателями враги усиленно готовятся к подавлению вооруженного восстания и надо во что бы то ни стало упредить их, направил из своей конспиративной квартиры категорическое письмо в ЦК:
«Товарищи!
Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно.
Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс.
Буржуазный натиск корниловцев, удаление Верховского показывает, что ждать нельзя. Надо, во что бы то ни стало, сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив (победив, если будут сопротивляться) юнкеров и т. д.
Нельзя ждать!! Можно потерять все!!
Цена взятия власти тотчас: защита народа (не съезда, а народа, армии и крестьян в первую голову) от корниловского правительства, которое прогнало Верховского[4] и составило второй корниловский заговор.
Кто должен взять власть?
Это сейчас неважно: пусть ее возьмет Военно-революционный комитет «или другое учреждение», которое заявит, что сдаст власть только истинным представителям интересов народа, интересов армии (предложение мира тотчас), интересов крестьян (землю взять должно тотчас, отменить частную собственность), интересов голодных.
Надо, чтобы все районы, все полки, все силы мобилизовались тотчас и послали немедленно делегации в Военно-революционный комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя: ни в коем случае не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го, никоим образом; решать дело сегодня непременно вечером или ночью.
История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все.
Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них.
Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия.
Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой; народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их.
Это доказала история всех революций, и безмерным было бы преступление революционеров, если бы они упустили момент, зная, что от них зависит спасение революции, предложение мира, спасение Питера, спасение от голода, передача земли крестьянам.
Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!
Промедление в выступлении смерти подобно».
...Так в тот самый вечер, когда в Петрограде Ленин в сопровождении финского рабочего Эйно Рахья отправился поздно вечером с Сердобольской улицы на Выборгской стороне в Смольный институт, чтобы возглавить самое значительное событие в истории; в тот самый час, когда с крейсера «Аврора» раздался исторический выстрел и отряды солдат, матросов и рабочих-красногвардейцев ринулись на штурм Зимнего дворца, — в этот час в Минске ничего еще не знавшие об этом большевики продолжали вести с эсерами хотя и принципиальные, но уже ставшие ненужными споры о ближайших судьбах революции.
На следующее утро в Минске опять моросил дождь, В этот день, в предполагаемый день открытия II съезда Советов, было назначено широкое заседание Северо-Западного областного комитета партии, для чего кроме Мясникова, Кнорина, Алибегова, Берсона, Щукина, постоянно находящихся в Минске, были приглашены Николай Рогозинский, Василий Каменщиков, Николай Тихменев из Второй армии, Лев Громашевский из Десятой, Анучин из Третьей армии, а также Хатаевич из Гомеля, представители большевистских организаций Лунинца, Бобруйска, Жлобина, Слуцка, Орши и других городов. Не было лишь Владимира Селезнева, секретаря областного комитета, и Василия Фомина, выехавших дня два назад в Питер для участия во II съезде Советов.
Заседание должно было начаться во второй половине дня, а пока те, кто уже прибыл, сидели в кабинете Мясникова и беседовали. Алибегов и Щукин на правах хозяев принесли откуда-то большой пузатый чайник, солдатские жестяные кружки и две буханки ржаного хлеба. Появился из типографии Кнорин с пачкой только что вышедшего номера «Буревестника». Все оживились и, согреваясь чаем, начали просматривать газету. В передовой статье, посвященной открытию II съезда Советов, говорилось:
«Нам нужно кончить грабительскую войну, предложив демократический мир! Нам нужно отменить помещичьи права на землю и передать всю землю без выкупа крестьянским комитетам! Нам нужно уничтожить голод, побороть разруху и поставить рабочий контроль над производством и распределением! Нам нужно дать всем народам России право свободного устроения своей жизни. Но для того, чтобы осуществить все это, необходимо прежде всего вырвать власть у корниловцев и передать ее Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских депутатов. Поэтому наше первое требование: «Вся власть Советам!..»»
Верная себе, газета ставила вопрос о власти открыто, прямо и резко, и комитетчики, читая эти строки, невольно думали о том, как на это будут реагировать в штабе фронта. И, конечно, не могли знать, что через час-полтора начальник штаба генерал Вальтер, прочитав эти строки, в бешенстве напишет — в какой уж раз! — распоряжение 6 запрещении дальнейшего издания «Буревестника»...
...Еще летом, как только минские большевики вышли из пресловутой «объединенки» и создали свою собственную организацию, Мясников, Фрунзе, Фомин и другие начали подумывать о том, что для воздействия на массы солдат, только что вышедших из долгой политической спячки и сразу попавших под влияние «революционного оборончества» партий эсеров и меньшевиков, их партия должна иметь здесь свою собственную газету. Но среди минских большевиков были и такие, которые посмеивались: «Какими силами и на какие средства здесь, в Минске, можно издавать большевистскую газету, да кто ее будет читать?»
18 июня Временное правительство начало на фронте наступление. Минские большевики как в городе, так и в войсках вели усиленную устную агитацию и добились многого: наступление на Западном фронте, в сущности, было сорвано. Однако в стране началось то, что Ленин непосредственно связывал с наступлением на фронте, — насилие над массами, преследование интернационалистов, отмена свободы агитации, аресты и расстрелы тех, кто был противником продолжения войны, то есть в первую очередь большевиков. В этих условиях издание газеты становилось уже крайне необходимым. Поэтому Минский комитет направил одного из своих членов, Дмитриева, в Питер, с «челобитной» — ссудить некоторую сумму для начала издания газеты. И ЦК, сам находящийся в крайне стесненных финансовых обстоятельствах, прислал молодой организации целых две тысячи рублей.
Это был подлинный праздник: на эти деньги можно было выпустить, как рассчитали минчане, шесть номеров газеты тиражом в 3 тысячи экземпляров.
Но тут же выяснилось, что ни один владелец типографии в городе не желает связываться с большевиками. Стоило сказать им, чьим органом будет новая газета, как тут яге слышался ответ: «Дураков мало, чтобы из-за большевистского листка поплатиться собой и своим семейством!»
Так, обойдя почти все типографии города, Мясников, Кнорин и Фомин наконец пришли к старому типографу, добродушному еврею Данцигу. Его типография когда-то выпускала монархическую газету «Северо-Западный край», закрытую после Февральской революции, поэтому он нуждался в заказах. Тут же был заключен договор, оставлен задаток на пять первых номеров, а на остальные деньги, снова с помощью всяких хитростей, была доставлена бумага.
Но и после этого забот хватало. Чтобы дело не провалилось сразу же, надо было найти своих наборщиков-большевиков и других типографских работников. А поскольку таковых было мало, то член Минского комитета Альферов выполнял одновременно обязанности и метранпажа, и выпускающего, и вербовщика рабочих, и организатора их питания, наконец, сам с верстаткой в руке становился у наборных касс. С его помощью было и найдено название газеты: «Звезда» — в память об одной из старых и боевых большевистских газет.
Первый номер «Звезды» вышел в свет 27 июля. И сразу стало ясно, насколько были правы те, кто стремился создать эту газету. Она сыграла огромную роль в консолидации разрозненных в огромном крае и на фронте групп большевиков вокруг вновь созданного центра — Северо-Западного областного комитета РСДРП (б). Она была главным средством политического воспитания масс, распространения идей большевиков среди рабочих и крестьян, среди солдат и офицеров. «Звезда» сразу стала любимой и необходимой газетой для одних, ненавистной — для других. Для того чтобы поддержать ее дальнейшее существование, солдаты из фронтовых частей, голодающие рабочие из разных городов собирали свои последние копейки и отсылали с нарочными в редакцию «Звезды». И Мясников, человек отнюдь не сентиментальный, однажды был растроган буквально до слез, получив такое письмо:
«Мы, солдаты, политические арестованные, находящиеся в распоряжении этапного коменданта 13 этапа города Минска и вот уже два месяца не получающие жалованья, прочитавшие дорогую нам газету «Звезда», несмотря на наше тяжелое материальное положение, решили отчислить в «железный фонд» газеты нашу посильную лепту — наш однодневный паек из хлеба и сухарей, недобранный нами в сумме 12 р. 60 к. Приветствуем «Звезду», выходящую на страх буржуазии, а нам на просвещение».
Зато штаб фронта, эсеры и меньшевики приходили в ярость от каждого номера газеты. В ставку и в Питер, правительству, летели телеграммы и доносы на эту «зловредную» газету, в результате чего 23 августа поступило распоряжение: закрыть «Звезду» и — для пресечения «зла» в самом корне — секвестровать типографию, где печаталась газета.
Но ни сами большевики, ни фронт, ни трудящиеся края уже не могли обходиться без этой своей газеты, говорящей правду о войне и политике. Поэтому принимались все меры, чтобы возобновить ее издание под другим названием. Поскольку теперь все знали печальную участь Данцига и никто уже не соглашался предоставить типографию большевикам, то пришлось буквально «революционным порядком» захватить ее у некоего Гринблата и начать печатать газету под названием «Молот».
После того как «Звезда» проложила дорогу большевистскому влиянию на массы, «Молот» сразу завоевал огромную популярность среди них. Тираж газеты по тем временам был просто огромным. Если «Звезда» с трех тысяч экземпляров дошла до шести, то «Молот» сразу поднялся до восьми, а потом и до десяти тысяч.
«Молот» выходил с 15 сентября по б октября, но восемнадцать его номеров успели оказать огромное влияние на события в Минске и на Западном фронте. В частности, во время перевыборов в Минский Совет большевики получили уже решающее большинство как в Совете, так и в исполнительном комитете.
Разумеется, в стане врагов эта новая газета вызывала еще большую ненависть, чем «Звезда». Штаб фронта, и в особенности комиссар Жданов, продолжал настаивать перед ставкой и Временным правительством на запрете «Молота». Наконец, получив согласие ставки и Временного правительства, главком Балуев 6 октября издал приказ о прекращении издания газеты.
Но большевики уже предвидели это. Наученные горьким опытом, они подготовили своеобразные «запасные позиции» — небольшую типографию при Минском Совете. И как только «Молот» был закрыт, уже через день, 8 октября, они начали издавать третью свою газету — под названием «Буревестник».
Члены областного комитета все еще не собрались, поэтому заседание начать нельзя было, а так как съезд солдат-крестьян продолжался, то Мясников, Щукин и еще несколько товарищей, захватив с собой пачку номеров «Буревестника», направились в городской театр.
Однако и здесь заседание почему-то не открывалось. Зал был уже полон, делегаты по обыкновению громко переговаривались, курили или лузгали семечки, но за столом президиума на сцене никого не было. Мясников с товарищами, как и в предыдущие дни, сидел в первом ряду партера. Он обратил внимание на то, что из-за кулис выглянули Злобин и Кожевников и, почему-то пристально посмотрев в его сторону, поспешно скрылись.
— Там у них что-то стряслось, — тихо проговорил сидящий рядом Щукин, не отрывая взгляда от сцены.
— Да, мечутся, как бараны... — ответил Мясников, пытаясь догадаться, в чем дело.
— Я выйду разузнаю, — быстро сказал Щукин и начал пробираться к выходу.
Он не возвращался целых четверть часа, а когда наконец появился, то озабоченно зашептал:
— Все эсеры во главе с Черновым заперлись в одной из комнат и о чем-то совещаются. Туда к ним то и дело входят и выходят посыльные из штаба. Но в чем дело, так и не сумел выяснить, так как меня туда не пустили.
— Из штаба, говоришь? — озабоченно спросил Мясников. — Значит, случилось нечто важное. Или на фронте, или там, в Питере...
— Да, похоже, что так.
В зале уже нетерпеливо хлопали в ладоши и топали ногами, когда наконец из-за кулис гурьбой вышли члены президиума и начали рассаживаться за покрытым зеленым сукном длинным столом. Вид у них был явно встревоженный и даже удрученный. И снова Мясников заметил, что Чернов и остальные эсеры смотрят на него с ненавистью и страхом. «Что за черт, — подумал он, — ведь не из-за моей же вчерашней речи они испепеляют меня взглядами?»
Едва члены президиума расселись по местам, как Злобин поднялся и, трагическим голосом призвав к тишине, дал слово Чернову для внеочередного заявления.
В зале, видимо, тоже почувствовали, что произошло нечто из ряда -вон выходящее, так как вопреки обыкновению тишина установилась мгновенно. И в этой глубокой, настороженной тишине раздался рыдающий голос Чернова:
— Граждане делегаты!.. Братья-солдаты!.. Час тому назад из Петрограда получена удручающая, страшная весть... Одна из российских партий, а именно большевистская партия Ленина, презрев интересы громадного большинства народа и преследуя узкоэгоистические цели... вчера ночью подняла мятеж, чтобы захватить власть...
При этих словах Мясников вскочил на ноги. Но делегаты, словно загипнотизированные, продолжали сидеть на своих местах, боясь пропустить хоть одно слово. Чернов, гневно сверкая глазами на Мясникова, продолжал окрепшим голосом:
— Но если даже эти сведения соответствуют действительности, если даже этой презренной кучке заговорщиков удалось в самом деле арестовать правительство, представляющее живые силы народа, то все равно они долго не продержатся у власти...
В ушах Мясникова стоял какой-то шум, но он шел не извне, а откуда-то изнутри. «Началось?.. Неужто началось?.. Ну да, там уже началось то, о чем мы так долго мечтали, говорили, во что верили, к чему готовились и все же не совсем точно представляли, когда и как оно произойдет. А оно уже произошло — самое важное событие в истории России, быть может даже человечества... И похоже, что началось хорошо. Хотя и не так, как мы думали, потому что ведь мы тоже должны были в этом участвовать... Должны были послать туда войска, а перед этим сначала взять фронт в свои руки... Значит, обошлись без нас, без нашей помощи? Что же теперь нам делать? Конечно, надо и нам начать действовать. Да, только вот что-то мешает собраться с мыслями, что именно? Ах да, этот гривастый болтун... Он вроде бы даже грозится кулаком. И кажется, теперь на меня смотрит весь зал... Ну да, они ждут, что я скажу, как отвечу на эти визгливые выкрики».
Мясников заставил себя отогнать нахлынувшие мысли и снова прислушаться к речи Чернова. А тот в это время вытащил какую-то бумажку и выкрикнул:
— Предлагаю съезду принять следующую резолюцию: «Съезд солдат-крестьян Западного фронта с глубокой горестью услышал о том, что одна часть демократии вновь пытается в Петрограде захватить в свои руки силой власть... Съезд категорически заявляет, что никому не позволит захватить силой власть... И сумеет в случае надобности обуздать силой тех, кто не захочет с ним считаться...»
Чернов сложил листок и снова обратился к залу:
— Товарищи солдаты! Предлагаемая резолюция может быть единственным ответом, который способен отрезвить господ большевиков как в Петрограде, так и здесь, в Минске, и на Западном фронте... Поэтому я предлагаю принять решение, чтобы все делегаты нашего съезда немедленно вернулись в свои воинские части и подняли армию против большевистских насильников!
Мясников и сам не понял, как очутился на сцене. Еще не дойдя до трибуны, он насмешливо и презрительно взглянул на замолкшего Чернова.
— Вы это серьезно предлагаете, господин Чернов? — спросил он. — Вы в самом деле готовы стать на путь «силы» против начавшейся социалистической революции? А не согласились бы вы лично направиться в одну из фронтовых частей и сами призвать солдат выступить с оружием в руках против революционного Петрограда? — Мясников резко повернулся к залу и, указывая пальцем на Чернова, крикнул зычно: — Товарищи! Сей господин, как и все «социалистические вожди», или провокатор, или просто не понимает, какие изменения произошли в стране и армии за последние месяцы. Но вы-то, товарищи солдаты, в отличие от этих тугодумов, ведь хорошо знаете, что случится с каждым, кто осмелится явиться с таким предложением к фронтовикам... Ведь знаете же, что такого безумца мгновенно поднимут на штыки, разорвут на части! Господин Чернов уверяет вас, что революцию в Питере совершила «кучка насильников» во главе с Лениным и что революция якобы направлена против большинства демократии. — Он снова обернулся к Чернову и бросил ему в лицо: — Ложь, господин Чернов! Вам отлично известно, что мы, большевики, не считали возможным взять власть ни в июльские дни, ни сразу после корниловского мятежа, потому что тогда за нами еще не было большинства народа. Тогда взятие власти действительно было бы авантюрой, и вы тогда смогли бы повести против нас большую часть армии, чтобы силой подавить наше выступление... Но теперь, когда вы не только не решили земельного вопроса, но и начали подавлять крестьянские восстания, когда вы упорно продолжаете вести царскую колониальную политику в национальных окраинах, — теперь уже сам народ, сами рабочие и крестьяне рвутся в бой! Да, это они, рабочие и одетые в шинели крестьяне, подняли восстание в Петрограде, а наша партия лишь исполняет свой долг перед народом, став во главе его справедливой революции... — Мясников поднял обе руки вверх и крикнул: — Товарищи! Запомните этот великий день в истории нашего народа, день, когда началось осуществление вековых чаяний трудового люда, когда власть помещиков и буржуазии сброшена и установилась власть Советов! Да здравствует Советская власть — власть рабочих и крестьян!
ГЛАВА ПЯТАЯ
Они ушли со съезда, потому что им там больше нечего было делать. Хотя Мясников и понятия не имел о написанном вчера вечером письме Ленина Центральному Комитету, не читал его слов: «На очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами (хотя бы даже съездами Советов), а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс», но он и сам понимал, что уж теперь, когда в Питере началась революция, сидеть на этом, по сути эсеровском, съезде означает попусту убивать драгоценное время.
На улице еще моросил мелкий назойливый дождик, при дыхании даже виден был пар, вот-вот пойдет мокрый снег.
Однако Мясников, быстро шагая на Петроградскую, в Минский Совет, не замечал ни дождя, ни холода. Шедший рядом Щукин вдруг выбросил вперед руку и воскликнул:
— Вон, кажется, Алибегов бежит!
— Ага, — согласился Мясников. — За нами, видно... Там уже знают об этом.
Бегущий навстречу им Алибегов, в шинели нараспашку и съехавшей набок папахе, тяжело бухал сапогами по лужам, но, заметив Мясникова, замедлил шаг. Лицо его излучало восторг.
— Ну? — еще не дойдя до него, нетерпеливо спросил Мясников.
— В Питере революция, Алеша! Наши взяли власть! — еще более гортанным голосом, чем обычно, воскликнул Алибегов.
— Это я знаю, — нетерпеливо махнул рукой Мясников. — От наших есть какое-нибудь сообщение, указание, как действовать?
— Есть, конечно, получена телеграмма Петроградского военно-революционного комитета! Потому я и побежал за тобой.
Но телеграмма оказалась не совсем тем документом, о котором думал Мясников.
Это была телеграмма Петроградского военно-революционного комитета всем армейским комитетам и Советам солдатских депутатов о Великой Октябрьской революции в Петрограде:
«Петроградский гарнизон и пролетариат низверг правительство Керенского, восставшее против революции и народа. Переворот, упразднивший Временное правительство, прошел бескровно.
Оповещая об этом армию на фронте и в тылу, Военно-революционный комитет призывает революционных солдат бдительно следить за поведением командного состава. Офицеры, которые прямо и открыто не присоединились к совершившейся революции, должны быть немедленно арестованы как враги!
Программу новой власти Петроградский Совет видит в немедленном предложении демократического мира, в немедленной передаче помещичьих земель крестьянам, в передаче всей власти Советам и в честном созыве Учредительного собрания. Народная революционная армия должна не допустить отправки с фронта ненадежных войсковых частей на Петроград, действовать словом и убеждением, а где не помогает — препятствовать отправке беспощадным применением силы.
Настоящий приказ немедленно огласить перед воинскими частями всех родов оружия.
Утайка армейскими организациями этого приказа от солдатских масс равносильна тягчайшему преступлению перед революцией и будет караться по всей строгости революционного закона.
Солдаты! За мир, за хлеб, за землю, за народную власть!»
Мясников прочел это раз, потом еще раз, словно собирался выучить наизусть. Затем он окинул собравшихся взглядом, радостным и озабоченным одновременно.
— Ну, прочесть вам еще раз телеграмму?
— Да читали мы, Алеша, все читали, — засмеялись товарищи.
— Что ж, разрешите тогда поздравить всех вас с этим великим событием, друзья! — тихо, уже меняя тон, но все еще с радостной дрожью в голосе сказал Мясников. — Не буду объяснять вам все значение того, что произошло, — вы понимаете это не хуже меня... Посему сразу перехожу к делу. Как видите, у нас пока, кроме этого, других сообщений нет. Конкретных указаний нашему Северо-Западному областному комитету тоже нет. В телеграмме имеется одно лишь общее указание, адресованное всем- комитетам: не допускать отправки на Питер ненадежных войск. Это мы, конечно, выполним, но все остальное нам, видимо, нужно решать самим, исходя из факта совершившейся в столице революции... — Мясников задумался, как бы приводя в порядок мысли, потом сказал: — Собственно, есть один главный вопрос, который мы сейчас должны решить, — вопрос о взятии власти. Решив его, мы автоматически решаем и остальные.
Да, теперь это был главный — наиглавнейший! — вопрос, который должны были решить он и вот эти люди: Ландер и Кнорин, Каменщиков и Ротозинский, Алибегов и Могилевский, Щукин и Кривошеий, солдаты, унтер-офицеры и офицеры, которые, как и он сам, полгода назад начали раздувать огонь новой революции здесь, на одном из важнейших фронтов. И вот пламя взметнулось под самое небо, — справятся ли они с ним? До сих пор они делали все хорошо. Но сейчас ведь иное, совсем иное, надо взять на всем фронте и в крае власть и удержать. Сумеют ли? Надо, подавить возможное сопротивление штаба фронта, подтянувшего сюда казаков и другие силы, превосходящие наши и численно, и по вооружению, — хватит ли на это не только смелости, но и умения? Возможно, придется стать лицом к лицу с еще более опасным и могущественным врагом — с немецкой армией, которая стоит рядом и пристально следит за каждым шагом нашим, — совладают ли? Выдержат ли великий экзамен истории, когда рядом нет Ленина, нет других руководителей революции, нет даже налаженной связи с ними?
— А что тут решать? — несколько удивленно спрашивает Кнорин. — Ведь давно было решено, что, как только в центре будет взята власть, Минский Совет, в свою очередь, объявит себя единственным носителем власти.
Мясников пристально смотрит на него, словно размышляя, почему он так говорит. Оттого, что не понимает, какая создалась сложная ситуация? Или, наоборот, понимая это, все же не боится предстоящих трудностей?
Ландер, который уловил его взгляд, вдруг говорит Кнорину:
— А ведь Алеша прав, братцы! Мы до того воодушевлены известиями из Питера, что забыли один важный момент...
— Какой именно? — спрашивает сидящий напротив Щукин.
— А то, что мы должны были сначала сменить руководство в армиях, потом вызвать сюда Гренадерский корпус, взять в руки штаб фронта и потом лишь объявить Советскую власть. А теперь получается, что все нужно делать в обратном порядке. Не слишком ли это рискованно? Учитывая, что сейчас у нас в Минске меньше сил, чем у штаба фронта, может быть, лучше сначала вызвать сюда войска, сканцем хотя бы одну гренадерскую дивизию, потом уж объявить о переходе власти к Совету?
«Понимает! Все понимает с полуслова Карл Иванович», — думает Мясников.
И тут раздается тревожный голос Рогозинского:
— Боюсь, что ни одну часть Гренадерского корпуса сейчас нельзя снять с фронта, Александр Федорович! Помните, дня два тому назад вы сами предупредили, что, по каким-то сведениям, дошедшим до вас, немцы могут напасть на Гренадерский корпус...
— Ну? — с тревогой подается к нему Мясников.
— Так вот, мы по своей инициативе, без ведома командования направили несколько разведгрупп в расположение противника...
— Так, так... И что же?
— Там обнаружено подозрительное оживление. Похоже, что подтягиваются новые войсковые части, артиллерия... — Рогозинский подумал, взвешивая свои слова, и сделал осторожный вывод: — В общем, делается все то, что обычно происходит перед наступлением.
— В чем дело? О чем речь? — раздаются взволнованные голоса.
Мясников не отвечает, вспомнив вдруг Изабеллу Богдановну и ее мужа-летчика. Значит, предположение Евгеньева не было лишено оснований, там действительно затевается нечто недоброе? И еще он думает о Николае Регозинском.
Вот же этот бритоголовый артиллерийский офицер с глубоко сидящими острыми глазами — тоже поручик, но, в отличие от Евгеньева, почти сразу после Февраля разобрался, что к чему, и вскоре без колебаний вступил в большевистскую партию. Почему? Потому что с самого начала войны был на фронте, среди солдат, и гораздо раньше Евгеньева прозрел, увидел не только пороки армии, но и всей правящей системы... Во всяком случае, однажды избрав свой путь, он отдался делу всей душой, стал одним из большевистских вожаков в 3-м Сибирском корпусе, а потом был избран в армейский комитет, где изрядно попортил кровь эсерам и меньшевикам. В июле Рогозинский вместе с Мясниковым участвовал в VI съезде партии. Позже, когда Севзапком приступил к созданию Военно-революционного комитета во Второй армии, во главе его было решено поставить решительного и делового Рогозинского.
Пока Мясников размышляет об этом, сам Рогозинский объясняет присутствующим:
— Речь о том, что немцы, возможно, хотят воспользоваться «заварухой» у нас и улучшить свои позиции на участке Гренадерского корпуса.
— Что-то не верится, — с сомнением говорит прапорщик Полукаров, член большевистской фракции Фронтового комитета. — Столько месяцев, пока было тепло и сухо, не пытались наступать, а тут вдруг, когда начались дожди и слякоть, решили двинуться вперед?
— Ну, дожди и слякоть при ограниченном наступлении на небольшом участке с целью захвата выгодных позиций не помеха, — замечает подполковник Каменщиков. — Наоборот, именно дожди и слякоть иной раз заставляют проводить такие операции.
— Думаю, что дело несколько серьезнее... — задумчиво произносит Мясников. — При всех случаях не будем рисковать и гренадеров не тронем... — Он оборачивается к Рогозинскому. — Попрошу вас, товарищ Рогозинский, еще раз предупредить все дивизионные и полковые комитеты корпуса, чтоб пристально следили за поведением противника и были готовы к отпору.
— Ну что ж, — говорит Каменщиков, — тогда, может быть, мне привести сюда свой полк?
«И вот еще одна примечательная биография», — думает Мясников, глядя на сухощавого Василия Викентьевича. Он тоже из дворян, окончил Казапское юнкерское училище и с тех пор служит в армии. В начале этого года он уже был подполковником, командовал батальоном в Двенадцатом Туркестанском полку Второй армии. После Февраля большинство офицеров, в том числе и командир полка Симоненков, чтобы удержать солдат в руках, тоже «подались в революционеры» и вступили в партию эсеров. Но Каменщиков не торопился, оглядывался, обдумывал. И лишь в июне, в дни летнего наступления, он наконец заявил: «Если быть революционером, то настоящим!» А к началу октября, когда трения между полком и его командиром дошли до крайней остроты, полковой комитет отстранил Симоненкова и вместо него избрал командиром полка большевика Каменщикова.
— Ми-ну-точ-ку, друзья! — вдруг раздается гортанный голос Алибегова. — А зачем нам это вообще нужно — снимать с фронта какие-то части? Давайте-ка подумаем: такие ли они смелые и воинственные, эти штабники, какими мы их тут себе рисуем? По-моему — нет! По-моему, они там сидят и дрожат как цуцики. Почему? — он свирепо посмотрел на Ландера, словно тот уже задал этот вопрос. — Да потому, что они сейчас оглушены известием о свержении Временного правительства и его аресте, — вот почему!.. Нет у них правительства, понимаете? Нет у них руководства. Так во имя чего, от имени кого они будут оказывать нам сопротивление? А гренадеры нам нужны были для чего? Для того, чтобы потом отправить их в Питер. А теперь, когда оказывается, что там и без них справились, — зачем это нужно вызывать кого-то сюда? Сами не справимся, что ли?
«А ведь он молодец, Ваня! — думает Мясников. — Он по-кавказски горяч и вспыльчив, но, когда нужно, может и рассуждать хладнокровно. В его рассуждениях о психологическом состоянии противника есть здоровое зерно...»
— Правильно, Ванечка! — весело восклицает Щукин. — Ведь сегодня они имели возможность убедиться, что даже их затея со съездом солдат-крестьян — пустышка, что фронт пойдет за нами. Выходит, у них в одной руке пусто, а в другой — ничего.
Мясников вопросительно смотрит на Ландера, и Карл Иванович после минутного раздумья говорит:
— Они сейчас находятся в состоянии шока — это ясно... Как сказано в Евангелии от Матфея, пуганая ворона куста боится... Если мы спокойно, как нечто само собой разумеющееся, объявим о взятии Минским Советом власти в городе, это даже еще больше усилит их растерянность.
— И потом, у нас в городе есть сила, о существовании которой они еще не знают! — восклицает Могилевский. — Эта сила — заключенные в минской тюрьме солдаты. Когда они, организованные в революционный полк, появятся на арене, то в штабе и Фронтовом комитете десять раз подумают, прежде чем начать действовать.
Да, этот ход давно подготавливался Северо-Западным обкомом и Минским Советом. Вернее, командование фронта и эсеро-меньшевистский Фронтовой комитет своей политической недальновидностью сами подложили под себя эту опасную мину, и теперь большевикам оставалось только взорвать ее. Еще в дни подготовки корниловского мятежа командование по заранее составленным спискам за короткий срок арестовало в частях всех активных большевистских «смутьянов» и бросило в минскую тюрьму. Предполагалось, что после удачного завершения корниловского переворота всех их — две тысячи человек! — передадут военному суду и самых опасных расстреляют, а остальных отправят в штрафные батальоны, чтобы таким образом очистить фронт от «скверны». Но поход Корнилова на Петроград провалился, а солдатские массы после этого начали леветь с такой катастрофической быстротой, что ни о каком суде, расстрелах и штрафных батальонах к речи быть не могло. Ибо, как говорится, плеть лежала слишком близко от собаки: большевистская фракция. Фронтового комитета и солдатские комитеты в частях подняли бы на ноги весь фронт. Но и выпустить арестованных из тюрьмы командование тоже не решалось. И тут дело было не только в том, что корниловское нутро штабников восставало против этого или что они все еще надеялись на такой поворот событий, который позволит расправиться со «смутьянами». Попросту штаб фронта и Фронтовой комитет боялись, что каждый арестованный, вернувшись в свою часть, станет капсюлем с гремучей ртутью, способным вызвать взрыв огромной силы.
Так и держало командование эту двухтысячную массу в тюрьме, не предъявляя обвинения, но и не выпуская на свободу. Между тем Севзапком РСДРП (б) скоро понял, какую выгоду можно извлечь из создавшегося положения. Узнав, что старший надзиратель тюрьмы Дождиков еще до войны оказывал некоторые услуги политзаключенным, Севзапком через членов Минского комитета партии — Могилевского, Анну Терентьеву, Федоровича и других — договорился с ним и сумел наладить постоянные связи с арестованными. Случалось, что во время прихода Терентьевой в тюрьму открывались двери нескольких камер и в коридоре собиралось человек двадцать — тридцать заключенных. С ними вели беседы, передавали газеты и пароли, а затем их начали готовить к вооруженному восстанию. Вскоре все арестованные большевики были разбиты по отделениям, взводам и ротам, а в целом были сведены в полк. Командиром полка был избран прапорщик Ремнев, командирами рот и взводов — другие прапорщики, унтер-офицеры, а то и просто солдаты: Один такой полк стоил двух обычных. Предполагалось, что сразу после выхода из тюрьмы полк будет вооружен и размещен в казармах 37-го запасного полка, тоже большевистски настроенного, но не имеющего оружия.
Вопрос о вооружении обоих полков также был продуман со всей тщательностью. На той же Захарьевской улице, на которой находился штаб фронта, размещались фронтовые оружейные мастерские, в которых хранилось несколько тысяч винтовок, десятки пулеметов и другое оружие, а также патроны. Председателем солдатского комитета в мастерских был член Минского комитета партии латыш-механик Ян Перно, да и весь состав мастерских был большевистским. Поэтому же после освобождения арестованных большевиков их можно было вооружить, а заодно и 37-й запасной полк...
«Ну что ж, — думает Мясников, вновь оглядывая своих товарищей. — Кажется, все в порядке. Молодцы, никто не дрогнул, а ведь какие перед нами трудности... С такими людьми — умными, решительными, беззаветно преданными нашему делу — можно начать сражение за новую власть, даже не имея сейчас превосходства сил здесь, в Минске».
— Что ж, все это выглядит достаточно убедительно, — произносит он вслух. — Но тем не менее товарищу Каменщикову нужно будет срочно вернуться в свой полк и подготовить его к переброске в Минск. Если возникнет потребность, я пришлю телеграмму или записку: «Приезжай с литературой». Это значит, что полк должен немедленно двигаться на Минск. Договорились?
— Договорились, — кивает Каменщиков.
— Ну а теперь давайте составим официальный документ о взятии власти, чтоб сегодня же утвердить на экстренном заседании Минского Совета. Разрешите, я набросаю проект. — Взяв бумагу, Мясников быстро пишет текст, пробегает его глазами, потом читает вслух: — «В Минске власть перешла в руки Совета рабочих и солдатских депутатов, который обратился ко всем революционным организациям и политическим партиям с предложением немедленно приступить к организации временной революционной власти на местах. Объявляя о происшедшем, Минский Совет рабочих и солдатских депутатов доводит до сведения всех граждан, что им приняты самые решительные меры к охране революционного порядка и установлению полезной дисциплины повсюду. Установлена революционная цензура над всеми выходящими в Минске и получаемыми здесь газетами для предупреждения распространения волнующих население слухов.
Исполнительный комитет Минского Совета
рабочих и солдатских депутатов».
— Погодите, — спрашивает Щукин, — а обратимся к другим партиям?
— Думаю, что это необходимо. Захотят сотрудничать с нами на наших условиях — хорошо. А нет, — значит, еще раз покажут свое истинное лицо, — объясняет Мясников.
— Ну, братцы, просто не верится! — поблескивая глазами, восклицает Алибегов. — Подумать только: «Власть перешла в руки Совета!.. Приняты меры к охране революционного порядка...» Неужели это мы, а?!
Но Мясников уже торопит их:
— Если одобряете этот текст, то нужно немедленно размножить его, а также текст телеграммы Петроградского военно-революционного комитета, чтобы расклеить по городу сразу после заседания Совета.
— А как мы озаглавим этот документ? — спрашивает Ландер. — Постановление? Решение?
— Приказ, — предлагает Кнорин. — Обстановка такая, что это должно звучать категорически: приказ — и баста.
— Правильно, — соглашается Мясников. — Приказ №1 исполкома Минского Совета. — Он оборачивается к Алибегову: — Итак, мы берем на вооружение твою идею: все делается спокойно, как нечто само собой разумеющееся. Объявляем о переходе власти к Совету, выпускаем из тюрьмы политзаключенных, создаем из них полк и вооружаем его, занимаем ключевые пункты города — телеграф, телефон, станции и мосты, — устанавливаем цензуру над буржуазной печатью, и при этом ни у кого не просим ни разрешения, ни совета.
Все шумно выражают свое одобрение этой тактики.
— В таком случае пусть Кнорин немедленно идет в типографию и печатает тексты нашего приказа и телеграммы Петроградского ВРК, — предлагает Мясников. И обращается к Ландеру: — А ты, Карл Иванович, пиши приказ №2: начальнику тюрьмы об освобождении политзаключенных. — Он оглядывается вокруг и останавливает взгляд на Алибегове. — Туда пойдешь ты, Иван Яковлевич, а с тобой еще Могилевский и доктор Терентьева. Предъявите оба приказа, потребуете немедленно выпустить арестованных, потребуете твердо, не допуская возражений и оговорок. А вы, товарищ Перно, — обращается он к председателю комитета ремонтных мастерских, — немедленно идите к себе и начинайте грузить на автомобили и подводы оружие, патроны и амуницию на весь полк. — Он обращается уже ко всем: — Думаю, что после освобождения арестованных товарищей нужно их сразу же строем привести сюда, к Совету. Проведем здесь небольшой митинг и тут же вооружим их.
— Правильно, — говорит Каменщиков. — И сразу нужно направить их занимать почту, телеграф и другие пункты.
— Штаб фронта поручим занимать этому полку? — спрашивает Щукин.
— Ну что ты, — качает головой Мясников. — Штаб фронта займешь ты.
— То есть как это я? — Глаза Щукина под очками недоверчиво сужаются: не шутит ли Мясников.
— Ну, может быть, еще один из товарищей, но не больше, — серьезно говорит Мясников. И поясняет: — При нынешней ситуации направить в штаб взвод, роту или даже батальон было бы ошибочно: ведь они могут с перепугу дать приказ своим начать сопротивление. А именно этого мы и хотим избежать, не так ли? Поэтому нужно действовать иначе: когда все ключевые пункты в городе будут заняты нашими, представитель Совета приходит в штаб и заявляет им: так и так, господа военные, политическая власть в столице и Минске сменилась и отныне армия должна подчиняться новой власти. Мол, наша взяла и никаких разговоров мы и слышать не хотим. А пока они очухаются, мы проведем наши мероприятия на фронте. Ясно?
Последний вопрос, который они обсуждают, касается станции. Питерцы требовали не допускать отправки враждебных революции войск в столицу, и за этим должны были следить железнодорожники.
На Минской станции расположился красногвардейский отряд в триста человек, а винтовок у них было пятьсот. Командиру отряда Голубеву и комиссару Четырбоку поручили срочно пополнить отряд новыми добровольцами и крепко держать в руках станцию.
Ну вот, кажется, все обсудили, Мясников еще раз оглядывает своих друзей и соратников и произносит:
— Давайте приступим... Все по местам!
Через час бывший актовый зал реального училища был до отказа переполнен депутатами Совета и рабочими с заводов и фабрик города. Многие из них уже слышали о революции в Питере и сразу прибежали сюда, чтобы из первых рук узнать, правда ли это. И когда на сцене появились Ландер, Мясников, Кнорин и другие, то уже по их радостным лицам все поняли: правда! А после того, как Ландер срывающимся от волнения голосом прочитал полученную из Петрограда телеграмму ВРК, в зале поднялся шквал аплодисментов и криков «ура!». С воодушевлением был принят приказ президиума исполкома Совета о переходе власти в городе и области к Минскому Совету. Однако стоило Ландеру поставить приказ на голосование, как выяснилось, что в зале имеются и несогласные. Представители фракции меньшевиков, эсеров и бундовцев прямо с мест начали кричать, что взятие власти большевиками означает узурпацию ее вопреки воле большинства. В ответ послышались возмущенные крики: «Ложь! Мы и есть большинство!», «Жульнические трюки!» Эсеры, меньшевики и бундовцы пригрозили, что они покинут Совет, но им ответили из зала смехом, свистом, выкриками: «Скатертью дорога!», «Давно пора!», «Воздух будет чище!» И когда они действительно ушли с заседания, все еще раз, воочию, убедились в том, что эти партии в самом деле составляли ничтожное меньшинство: зал и после их ухода все еще был полон людей.
И в это время кто-то крикнул:
— Товарищи! А на улице дождь прекратился! В ответ раздались веселые, озорные выкрики:
— И правильно! При Советской власти — никаких дождей!
И снова смех, аплодисменты, крики: «Да здравствует Советская впасть!»
Мясников, сидя в президиуме, с улыбкой наблюдал за этим радостным возбуждением депутатов, понимая, что это результат нескольких месяцев напряженной борьбы и ожидания и что на самом деле люди вполне отдают себе отчет, какое великое событие произошло в стране. Вдруг кто-то воскликнул: «Товарищи, сюда идут освобожденные политзаключенные!» Все устремились из зала на улицу. Мясников, Ландер, Кнорин и другие направились вслед за ними на парадное крыльцо здания.
...Представителям Совета не удалось сразу после освобождения заключенных построить их в колонну и привести к зданию Совета. Когда открылись двери камер и по всей тюрьме разнеслись крики «Свобода, товарищи, выходите!», две тысячи человек, выплеснувшиеся на улицу, уже не способны были обуздать свои чувства, они обнимались, целовались, что-то кричали, иные плакали, искали среди собравшихся у ворот горожан своих близких и друзей, некоторые просто побежали в город — к родным и знакомым.
И Алибегов, Могилевский, Терентьева, понимая состояние этих людей, лишь кричали охрипшими от волнения и натуги голосами:
— Товарищи, идемте к Совету!.. К Совету, друзья!.. Когда эта нестройная, ликующая, возбужденно кричащая толпа обросших, исхудавших людей запрудила Петроградскую улицу перед зданием бывшего реального училища, к ним с крыльца обратился с речью Мясников.
Он приветствовал и поздравил соратников-революционеров с великой победой — установлением власти рабочих и крестьян в Петрограде, Москве, Минске и других центрах страны, благодаря чему политзаключенные — жертвы политической мести правительства Керенского — получили свободу.
— Вот я сейчас смотрю на вас и думаю, — продолжал он, — люди столько времени томились в застенках, надо бы им хоть денек-другой отдохнуть... А ведь нельзя этого делать, товарищи. Не забывайте: двери тюрьмы, из которой вы вышли, могут еще раз открыться, чтобы вернуть вас в темницы, так как контрреволюционеры едва ли примирятся с победой социалистической революции и потерей власти. Во всяком случае, они не угомонятся, если не увидят против себя реальной и достаточно внушительной силы. Вот почему, как ни понятны ваши желания и па-строения, но все же нужно подумать о будущем, о ближайшем будущем! Необходимо, чтобы вы сами взяли в свои руки укрепление новой власти и тем самым — собственной свободы. Сейчас вам раздадут оружие, боеприпасы, и Первый революционный полк имени Минского Совета немедленно должен приступить к выполнению боевой задачи — подчинению всех важнейших объектов города новой власти.
На улице становилось все тише, а лица солдат — все серьезнее. Недавнее ликование, счастливое ощущение, что все беды и опасности остались позади, постепенно покидали людей, уступая место какой-то спокойной озабоченности. Поэтому, когда Мясников закончил речь, после короткой паузы из толпы протиснулся вперед прапорщик Ремнев и зычным голосом скомандовал:
— Полк имени Минского Совета, слушай мою команду: поротно стройся!
С парадного крыльца было видно, как забурлила толпа, как в ней образовалось множество мелких водоворотов, послышались выкрики ротных командиров, созывающих свои подразделения. И уже через несколько минут возникли большие группы, а эти, в свою очередь дробясь на более мелкие, принимали очертания прямоугольных ротных колонн, в то время как штатские оттеснялись к тротуарам.
Вскоре подъехали два грузовика и с десяток подвод и люди из оружейной мастерской во главе с Перно начали раздавать бойцам винтовки и патроны, а пулеметным командам — «максимы». Никто не записывал ни фамилии солдат, ни номера винтовок — не было на это времени. Да и все знали: эти будут хранить оружие крепко, они знают ему цену!
Член обкома Кривошеий, бывший полковой писарь 37-го запасного полка, сейчас назначенный военным комендантом города, уже давал задания ротам полка имени Минского Совета на захват почты и телеграфа, мостов и важнейших учреждений города.
А в штабе фронта все словно оцепенели.
И генерал Балуев, и комиссар Жданов, и Фронтовой комитет, конечно, еще с утра по военным линиям связи — генквартскому прямому проводу и радиостанции — получили из Петрограда и Могилева сообщение о восстании в столице, о поразительно быстром свержении Временного правительства. Уже этого было достаточно, чтобы ввергнуть всю верхушку штаба фронта в глубочайшее уныние. Но то, что сделали затем минские большевики, просто оглушило штабистов: они повели себя так, словно в Минске не было никакого штаба фронта, никакого Фронтового комитета, никаких казачьих войск, Польского корпуса, ударных батальонов и текинских сотен. Созвали экстренное заседание Совета, который объявил себя единственной полномочной властью, выпустили из тюрьмы арестованных большевиков («И как это мы не учли возможность такого поворота дел?!»), мгновенно создали из них полк, вооружили его, а также 37-й запасной («Оказывается, они давно прибрали к рукам оружейные мастерские и склады!»), за какой-нибудь час заняли почту и телеграф, железнодорожный узел, мосты через Свислочь и расклеили везде листовки о том, что город отныне — их! Ну разве не говорит все это об их идеальной организованности, об умении подготавливать все в полнейшей тайне, об их теснейшей связи с Питером? И кто знает, какие еще сюрпризы приготовлены ими, о которых в штабе не знают?..
Растерянность штаба еще больше усилилась, когда Чернов, после поспешного и бесславного закрытия «крестьянского» съезда, с трясущимися губами, забыв всю свою лощеную интеллигентность, бросил им в лицо: «Да вы тут, вижу, всё прос...ли, голубчики! Не удивлюсь, если этот Мясников завтра поставит всех вас к стенке, но разделить с вами эту судьбу я не намерен». И, быстро уложив чемодан, отбыл из Минска.
Разъехались, вернее, разбежались и делегаты эсеровского съезда. А депутаты Минского Совета от меньшевиков, эсеров и бундовцев, пытавшиеся поколебать решимость Совета своим демонстративным уходом с экстренного заседания, на самом деле обнаружили лишь свою малочисленность и бессилие.
Разумеется, Балуев немедленно связался со ставкой, где в отсутствие главковерха Керенского старшим по должности оставался начальник штаба генерал Духонин, Доложив ему о происходящих в Минске событиях, Балуев попросил указаний.
Но увы, из ставки никаких четких и ясных распоряжений не поступило. Духонин в весьма неопределенных выражениях напоминал, что не следует терять присутствия духа, надо оставаться начеку, следить за развитием событий как в Минске, так и в подчиненных армиях и тому подобное... Балуев был достаточно опытным военачальником, чтобы понять: эти туманные и ни к чему не обязывающие фразы призваны скрыть полнейшую растерянность ставки перед лицом событий.
И тогда в штабе совсем скисли. Да, видимо, все пропало, ни в Могилеве, ни в каком-либо другом месте нет силы, которая могла бы противопоставить себя большевикам, их власти, возглавить борьбу с ней. Все рухнуло как карточный домик, в то время как большевики действуют по четкому плану, подобно хорошо налаженному механизму.
И как раз в это время раздался телефонный звонок оттуда...
Прошла целая минута, прежде чем в телефонной трубке послышался голос:
— У аппарата генерал от инфантерии Балуев...
— С вами говорит председатель Минского Совета рабочих и солдатских депутатов Ландер, господин генерал. Вы, несомненно, знаете о происшедшей в Петрограде революции, в результате которой Временное правительство Керенского свергнуто и объявлена Советская власть?
Генерал медлил с ответом, и Ландер, оглянувшись на сидящих рядом за столом Мясникова, Щукина, Полукарова и Алибегова, подмигнул им, словно говоря: «Никак не разродится!»
Но вот раздался глухой голос:
— Да, мне это известно.
— Вам должно быть известно также, что в связи с переменой власти в столице Минский Совет, в свою очередь, взял полноту власти в свои руки, — продолжал чеканить фразы Ландер. — Об этом в городе уже с полудня расклеены листовки с приказом № 1 Минского Совета.
На том конце провода Балуев наконец понял, для чего ему сообщают об этих событиях. Большевики хотят дать понять, что штаб фронта и сам он, Балуев, не имеют никакого отношения к перемене политической власти. Просто решили его тоже поставить в известность о том, что в мире произошли кое-какие изменения. Балуев засопел от бессильной ярости и проговорил в трубку:
— К сожалению, никто не счел нужным предварительно согласовать эти акции со штабом фронта, поэтому мы...
Но Ландер, не дав ему договорить, сухо произнес:
— Такие акции предварительно ни с кем не согласовываются, господин генерал. Сейчас к вам прибудут представители Совета товарищи Щукин и Полукаров и официально представят наш приказ № 1. Они же уполномочены сообщить вам о характере дальнейших взаимоотношений Совета и штаба фронта. До свидания.
Не дожидаясь ответа, Ландер положил трубку и посмотрел на товарищей.
— Ну, что он? — спросил Мясников.
— Оказывается, весьма обижен, что мы установили Советскую власть, не получив его предварительного согласия на это, — усмехнулся Ландер. — Но, думаю, протестовал только для виду, сознавая, что это бесполезно.
— Хорошо, если он действительно это осознал, — серьезно кивнул Мясников. — Значит, умный человек. А теперь, Степан Ефимович, — обернулся он к Щукину, — о наших к ним требованиях. Напоминаю еще раз: штаб фронта полностью признает Советскую власть в Питере и в Минске — это раз. Затем, командующий отдает приказ штабам армий, корпусов и дивизий о том же. Далее, комиссар Временного правительства отстраняется и вместо него вступаешь ты, комиссар Минского Совета. И наконец, никаких передвижений войск без разрешения и ведома комиссара штаба и Минского Совета! Запомнил?
— На всю жизнь! — пошутил Щукин.
— Тебе кроме Полукарова надо бы дать еще помощников, да неоткуда их взять, — продолжал Мясников. — Поэтому подберите там помощь из приличных людей.
— Если такие там имеются... — с сомнением произнес Полукаров.
Этот прапорщик в политических знаниях уступал Щукину, но в военном деле был куда опытнее, поэтому в штабе мог быть весьма полезен новому комиссару.
— Не может быть, чтобы не были, — почти сердито произнес Мясников. — Остерегайтесь огульного недоверия к офицерам. Я уверен, что в штабе не одни лишь враги, а есть и сочувствующие нам, но они до сих пор вынужденно молчали. Теперь же нам нужно найти их и привлечь к работе для народа, для России.
— Это правда, — задумчиво сказал Щукин. — Ведь у нас же есть пример Каменщикова, Рогозинского и других, вступивших в нашу партию. Есть и пример командира Восемнадцатого Карсского полка, который в большевистскую партию не вступал, но остался с солдатами. Я думаю, что теперь таких людей даже не нужно будет искать, они сами заявятся. — И он повернулся к Полукарову: — Что ж, пошли принимать штаб.
В Совет и областной комитет продолжали поступать сведения от представителей, направленных в различные учреждения: везде «смена караула», как окрестили комитетчики эту операцию по смещению старых руководителей и назначению на их место новых, проходила без инцидентов.
Мясников, слушая эти сообщения, удовлетворенно покашливал, но мысли его были там, в штабе. Почему они не сопротивляются, имея подавляющее превосходство в силах? В особенности такой фанатик и упрямец, как Жданов... По логике, он даже при обратном соотношении сил должен бы драться до конца. И если это произойдет, как же быть нам? Фронт еще не поднялся, корпусные и армейские съезды начнутся только дня через два. Да, придется туго, ой как туго...
И тут позвонил Щукин. Оттуда, из штаба фронта.
— Все в порядке, — спокойно сообщил он. — Главком пропял все наши условия.
— Не понял... — Но Мясников тут же спохватился: — Погоди, ты там один у аппарата? Можешь рассказать поподробней?
— Сейчас к вам придет Полукаров и все расскажет. — Это означало, что рядом со Щукиным были люди, при которых он не хотел высказываться.
— Давай его скорей! — нетерпеливо сказал Мясников. — А сам добейся, чтобы немедленно был дан приказ о подчинении 2-й Кавказской дивизии Совету.
— Будет сделано! — весело и уверенно отозвался Щукин.
«Чудеса, да и только!» — подумал Мясников, кладя трубку на рычаг.
И тут же снова прозвучал звонок. Говорил комиссар красногвардейского отряда железнодорожной станции:
— Докладывает Четырбок: станция полностью находится под нашим контролем. Всюду расставлены наши караулы. Начальник станции сообщил, что подчиняется Совету.
— Молодцы, товарищи! Сейчас же сообщите по всей линии, что у нас Советская власть и что обо всех передвижениях воинских эшелонов должны докладывать через вас Минскому Совету. Сообщите еще, что штаб фронта признал Советскую власть и подчиняется нам.
— Это правда? — радостно переспросил Четырбок.
— Правда, друг, правда! — засмеялся Мясников. — Такими вещами не шутят.
— Вот здорово! — воскликнул Четырбок. — Сейчас же передадим по линии.
Немного погодя прибежал Полукаров, прямо с порога начал возбужденно рассказывать:
— А Балуев этот оказался все же умным человеком, даром что генерал. Видимо, успел все продумать еще до того, как мы пришли. Знаете, как у шахматистов, когда после недоконченной игры один из партнеров делает домашний анализ и приходит к выводу, что партия все равно проиграна, и потому, не приступая к доигрыванию, сдается.
— И первым пожимает руку противнику? — сощурил глаза Мясников.
— Ну, Балуев нам рук не пожимал, зато сразу, как только выслушал нас, заявил: «Господа, надеюсь, вы понимаете, на каком важном участке фронта мы находимся... И что бы здесь ни делали, мы должны помнить о возможности прорыва со стороны германцев».
— Гм... Если он это искренно, то хорошо, — задумчиво отозвался Мясников, сразу вспомнив сообщение о приготовлениях немцев на участке Гренадерского корпуса, — Что же дальше?
— Щукин ответил: «Совершенно правильно, господин генерал, и именно поэтому штаб фронта должен подчиняться новой власти как в центре, так и здесь. Сопротивление с вашей стороны может вызвать междоусобицу или соблазнить немцев воспользоваться ситуацией и предпринять атаку на нас...»
— Правильно, молодец Степан! — воскликнул Ландер.
— А что генерал? — спросил Мясников. Полукаров улыбнулся, видимо припоминая сцену в штабе, повел плечами.
— Тут он учудил такое, что я просто рот разинул: минуту пристально глядел на Степана, на его солдатские погоны, очки в железной оправе, и вдруг этак со вздохом произнес: «Теперь я понимаю, почему в России произошла революция... У нас есть такие солдаты, как вы, господин Щукин, солдаты, которые могли стать и офицерами, и генералами. Но мы держали их в черном теле — вот они и сделали то, что должны были сделать!»
Мясников и остальные переглянулись и расхохотались.
— Вот это да!
— Прозрел, называется!
— А что же Степан?
— Ну вы же знаете Степана: ни чуточки не смутившись, поправил очки и степенно изрек: «Поскольку мне придется некоторое время работать с вами, господин генерал, то буду иметь возможность рассказать вам о других, более важных причинах революции...»
— Тоже хорошо, — смеясь похвалил Мясников.
— Генералу пришлось даже улыбнуться, и он сказал: «Что же, раз мы принимаем ваши условия, то поводов для подобных разговоров, вероятно, будет много...» И тут Жданов этот словно ошпаренный вылетел из кабинета.
— Разве он был там? — удивился Мясников.
— Ну да, разве я не сказал? — спохватился Полукаров. — Были он, начальник штаба Вальтер и эти типы из Фронтового комитета — Колотухин и Злобин. Жданов во время наших переговоров весь прямо дергался. Полагаю, что до этого между ним и Балуевым была «сцена у фонтана»... А при нас он только раз бормотнул что-то: мол, наша победа в Питере вилами по воде писана и что там верные Керенскому войска идут ему на помощь...
— Да? — Мясников всем телом резко повернулся к Полукарову.
— Да врет он все, — махнул тот рукой. — Этот меньшевичок прямо-таки бесится, что его спихнули с поста комиссара фронта. Тут и не такое набрешешь.
Мясников ничего не возразил на это, хотя был убежден, что сопротивления врагов не может не быть.
— Ужасно все-таки, что мы ничего не знаем о делах в Питере, — вздохнул он.
— Наши на телеграфе все время пытаются связаться с Петроградом, со Смольным, — сообщил Ландер. — Но то ли на промежуточных станциях линия повреждена, то ли там сидят контры...
— Можешь не сомневаться, повреждений никаких нет, связаться со Смольным не дают именно «контры», — уверенно сказал Мясников и повернулся к Полукарову: — Попытайтесь по штабному прямому проводу, а?
— Через Могилев, ставку? — с сомнением спросил. Полукаров, потом пожал плечами: — Попытаться, конечно, можно.
— Ну как, будем считать, что сотрудничество с главкомом фронта налажено? — Мясников оглядел своих товарищей, на мгновение остановив взгляд на каждом.
— Выходит — так, — ответил Кнорин.
— Тогда нужно оповестить об этом фронт. Пиши, Карл Иванович: «Исполнительный комитет Минского Совета доводит до сведения всех частей фронта и местного гарнизона, что все боевые приказы оперативного характера, исходящие от главнокомандующего Западным фронтом генерала Балуева, должны беспрекословно исполняться. Политическая сторона деятельности штаба Западного фронта находится фактически в руках Минского Совета рабочих и солдатских депутатов»... — Он повернулся к Полукарову: — Возьмешь это с собой, ознакомишь Балуева, а потом разошлешь через штаб во все армии.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Так начался этот день новой эпохи. Но увы, было много тех, кто еще не сумел понять смысл коренной ломки старого ж привычного мира, и сегодня они беспомощно озирались вокруг. Чем честнее были эти люди, тем тяжелее были их душевные муки: битва уже началась, а они не знали, под какое знамя надо стать...
Одним из таких растерянных был поручик Евгеньев. Несомненно честный офицер, он до сих пор по-настоящему не ощутил всю глубину той пропасти, перед которой война поставила его родину. Увлекшись с юношеских лет авиацией, он почти всю войну прослужил в Гатчинской школе авиаторов, куда не проникали не то что революционные, но даже умеренно либеральные идеи. Да и о подлинном положении армии и народа там избегали говорить. О неблагополучном положении вокруг Евгеньев мог судить, лишь видя недостатки, царящие в самой школе. А эта щелочка была слишком узкой, чтобы через нее обозреть происходящее во всей стране и армии. Его конфликт с командованием школы привел лишь к единственной и довольно аморфной мысли: надо менять «негодных» на «годных»...
Февральскую революцию он в определенном смысле «проспал»: лежал в офицерской палате госпиталя и предавался несбыточным, как ему казалось, мечтам об Изабелле, он не задумывался о коренных причинах этого громадного события. Для него весь вред института самодержавия заключался лишь в том, что царь мешал России хорошо воевать. «Ну и слава богу, что его убрали, теперь армия освободится от негодных начальников и немецких шпионов, и все пойдет как надо», — думал он тогда. Правда, после выхода из госпиталя он увидел, что ничего этого пока не произошло, но снова не решался делать такие кардинальные выводы, какие предлагал сделать, например, его попутчик в поезде Мясников.
Взгляды Евгеньева мало изменились и после того, как он летом этого года очутился на фронте. Он тогда все еще был убежден, что, поскольку войну против его родины начал заклятый враг Вильгельм, русская армия должна с воодушевлением воевать до полной победы над ним. И был не только огорчен, но и возмущен, что даже теперь, после свержения царя, солдаты не желали воевать.
Впрочем, справедливости ради надо сказать, что, оказавшись на фронте, Евгеньев не мог не заметить такое, о чем раньше он и понятия не имел. Как раз в середине лета в армии был получен приказ тогдашнего главнокомандующего Западным фронтом генерала Деникина о том, чтобы на летний период солдатам «в качестве пособия к кожаной обуви и в предупреждение потертости ног» выдавали... лыковые лапти. Этот приказ вызвал шумные споры даже среди офицеров штаба армии. Один из них, штабс-капитан Егоров, скривив насмешливую мину, процедил:
— «В предупреждение потертости ног»... Ну, господа, если уж докатились до лаптей, выходит, что эти большевики правы: надо кончать войну!
Но на него сразу набросились: «А что тут такого? Подумаешь, какая невидаль для наших иванов — лапти... Да половина их всю жизнь в лаптях ходит, — потопают и здесь».
Сам Евгеньев, не участвуя в этом споре, внутренне был согласен, что неуклюжее объяснение главкома смехотворно. Просто опять какие-то тыловые чины вовремя не заготовили кожаную обувь для армии. А он уже слышал, что именно из-за отсутствия хорошей обуви солдаты здесь, на Западном фронте, где окопы и блиндажи вырыты в сплошных болотах, жили в постоянной сырости и грязи. Слышал он и о том, что кормят солдат из рук вон плохо: хлеб выпекается с какими-то подозрительными примесями, на обед выдается чечевичная или крупяная бурда с гнилым мясом, а то и совсем без мяса. И от всего этого даже в периоды затишья, когда нет боев, много солдат выходит из строя от простудных и желудочных заболеваний. Об этом он особенно много узнал после того, как его жена прибыла на фронт и начала работать в санитарном поезде, вывозящем раненых и больных из полосы армии в тыл. И Евгеньев понимал, что при таком положении дел у солдат неизбежно будет возникать справедливое недовольство нерадивыми и нераспорядительными командирами. Но разве даже этих причин достаточно, чтобы не хотеть защищать отечество, целые дни митинговать и дойти до таких неслыханных в армии эксцессов, как насильственное отстранение солдатами командиров...
Беда Евгеньева была еще и в том, что он, попав на фронт, по роду службы и другим обстоятельствам оказался не в гуще солдатских масс, не в окопах переднего края, а снова вблизи штаба армии, среди обозленных или таких же растерянных, как он, офицеров. На митинги Евгеньев принципиально не ходил, большевистских газет не читал, а о многих событиях в частях армии и фронта узнавал из рассказов штабников, не подозревая, что эти рассказы порой чудовищно искажают правду. Поэтому когда ему сообщали, что в одном из полков 3-го Сибирского корпуса полковой комитет выгнал командира полка, честного офицера, и вместо него избрал какого-то проходимца и карьериста или что 18-й гренадерский Карсский полк под влиянием кучки большевиков-бузотеров уже не выполняет приказа самого верховного главнокомандующего и правительства, то Евгеньев приходил к выводу: да, развал армии дошел до крайней степени и главными виновниками этого являются большевики.
Сомнение в правильности своих оценок возникло в нем, когда он узнал, что командир этого «мятежного» 18-го Карсского полка, старый и заслуженный полковник Водарский, отнюдь не большевик, однако сам по каким-то соображениям присоединился к солдатам и даже угроза отдачи под суд военного трибунала не заставила его уйти из полка. А в 12-м Туркестанском полку 3-го Сибирского корпуса если кого и можно упрекнуть за происшедший «бунт», то скорее выгнанного полковника Симоненкова, человека вздорного и крайне жестокого, а избранный взамен его подполковник Каменщиков, наоборот, один из порядочнейших офицеров корпуса. А еще более удивительным было утверждение, что оба эти полка отличаются высокой дисциплиной.
Ощущение, что большинство штабных офицеров просто объято чувством ненависти к солдатам и поэтому сознательно не желает понять мотивы их действий, у Евгеньева усилилось в особенности после одного разговора в разведотделе штаба армии. Такие разговоры, обычно бестолковые, полные жалоб, беспочвенных предположений, а то и просто сплетен и ругани, он слышал множество раз. Но теперь все участники беседы в один голос говорили о том, что Гренадерский корпус уже полностью стал большевистским, или «мясниковским», что вот-вот будут проведены перевыборы старых корпусных и армейского комитетов, после чего в армии будет произведен «переворот» и командование возьмет в свои руки недавно созданный здесь большевистский Военно-революционный комитет. Тогда-то Евгеньев услышал от штабс-капитана Веригина эти непонятные страшные слова: «Да, с этим сбродом уже своими силами нам не справиться, теперь нас может спасти только немецкий штык!..» Но тут же на него все зашикали, чтобы не болтал глупостей, и вскоре разошлись.
Евгеньев тоже полагал, что эти слова были сказаны в обычной для тех дней запальчивости и обращать на них внимание не стоит. И лишь несколько дней спустя, когда в разведотделе появился некий представитель ставки и именно с Веригиным начал обходить позиции Гренадерского корпуса, Евгеньев снова вспомнил об этом разговоре. Вспомнил и, сам не зная почему, рассказал жене, Беллочке, о всех своих подозрениях насчет истинных целей приезда офицера из ставки...
Это произошло 21 октября, когда Изабелла Богдановна уезжала с поездом в Минск. На следующий день офицер из ставки куда-то исчез, а у самого Евгеньева произошли такие неприятности, что он совершенно забыл и об этом офицере, и о Веригине, и обо всем другом.
Так как после наступления нелетной погоды авиаотряд армии не совершал полетов, аэропланы были закрыты в больших деревянных сараях, и Евгеньев только изредка наведывался туда. И вот, придя 22 октября в расположение отряда, он узнал, что прошлой ночью группа механиков и рядовых солдат дезертировала из части.
Дезертирство было обычным явлением в этой войне, а в последнее время оно приобрело просто массовый характер. И как ни странно, чаще и больше всего дезертировали солдаты не из передовых и сражающихся частей, а из тыловых, запасных подразделений. Объяснялось это той потрясающе неразумной политикой царского правительства при проведении мобилизации, которую продолжало и Временное правительство. Незадолго до Октябрьской революции военный министр этого правительства Верховский писал о том, что «под ружьем почти 10 млн. человек, из которых только 2 миллиона несут службу на фронте, а все остальные так или иначе обслуживают их. Словом, на каждого бойца приходится почти 4 человека в тылу, обслуживающих его».
Если солдат, находящийся на передовых позициях (один из пяти!), и мирился с мыслью, что он оторван от земли и семьи для того, чтобы драться с врагом и защищать родину, то миллионы и миллионы людей, призванных в армию с первых дней войны, но так и не отправленных на фронт, не имели даже этого оправдания. Зная, что дома земля не вспахана, семья голодает, хата разваливается, тогда как он здесь «бьет баклуши», эти солдаты часто видели единственный выход из положения в дезертирстве.
Для Евгеньева, потомственного военного, дезертирство было одним из самых презренных, не имеющих никакого оправдания преступлений. А так как в его кругу именно большевики считались виновниками развала армии и дезертирства, то побег из авиаотряда возбудил в нем острое чувство неприязни к большевикам. Вот почему, когда 25 октября Изабелла Богдановна, отпросившись у своего начальства, приехала к нему в Несвиж, Евгеньев был уже в весьма мрачном настроении.
Обычно эти приезды жены были для Виктора Ивановича подлинными праздниками. Он снимал маленькую комнату в деревянном домике, и, как ни старался содержать ее в порядке, Белла по приезде немедленно начинала наводить чистоту и уют, одновременно рассказывая о своих госпитальных новостях, причем истории ее всегда имели несколько юмористический оттенок.
В этот день она также, не успев снять пальто и обменяться с ним несколькими словами, быстро подоткнула подол юбки и, налив в ведро воды, начала мыть некрашеный деревянный пол, изрядно запачканный грязью с улицы. Она что-то с увлечением рассказывала, но Виктор Иванович, занятый своими мыслями, на этот раз, не вникая в суть ее слов, лишь прислушивался к мелодии ее голоса и краем сознания улавливал: «Встретилась с какими-то гренадерами... Марьин и Пролыгин... Ну и фамилии!.. Потом пошла в театр, на какое-то заседание... Встретилась с Александром Федоровичем... Ах, Мясниковым! И подробно передала ему то, что я рассказывал ей насчет сговора наших с немцами против Гренадерского корпуса...»
Тут Виктор Иванович встрепенулся и чуть не вскочил с места.
— Погоди, погоди, Беллочка... Не хочешь ли ты сказать, что... Господи, неужели ты все это рассказала ему?! Да еще от моего имени, будто это я поручил тебе такую миссию...
Изабелла Богдановна уронила мокрую тряпку и, выпрямившись, в свою очередь изумленно посмотрела на него.
— А разве это не так? — медленно спросила она. — Разве ты не для того рассказал об этом перед моим отъездом в Минск, чтобы я передала Мясникову?
— О боже! — схватился он за голову. — Да у меня и в мыслях не было этого! Да как ты могла выставить меня чуть ли не сообщником большевиков!
Но он должен был знать, что вызовут эти возгласы. Изабелла Богдановна, действительно, вытерла руки фартучком и придвинулась вплотную к мужу.
— Как ты сказал?.. — переспросила она пока еще негромко. — Должна ли я понять так, что, узнав о подготовке какого-то предательства против русских войск, может быть даже о сговоре с немцами, ты намерен был молчать об этом?
Эти слова заставили Евгеньева отшатнуться, словно от пощечины. На его лице появились одновременно и испуг, и гнев, и он торопливо выкрикнул:
— Во-первых, я еще не уверен, что такое предательство готовится! Что такой сговор существует... У меня нет фактов, нет доказательств, понимаешь?
И тогда ее лицо тоже исказилось от гнева, и она крикнула каким-то срывающимся и пронзительным голосом:
— Неправда!.. Я тебя уже достаточно хорошо знаю, Виктор, и по твоему тону, по озабоченному виду в тот день поняла, что у тебя вполне серьезные опасения. И неважно, что пока нет фактов и доказательств, — в душе ты уверен, что предательство готовится, и ты ужасаешься этому. Но предположим, что из-за отсутствия фактов и доказательств нельзя уверенно сказать о предательстве, — так разве даже малейшее подозрение не обязывает тебя предупредить кого надо, чтобы они приняли меры и не допустили беды?
— Да, но кого предупреждать? Почему ты решила, что надо предупреждать именно твоего Мясникова?
Изабелла Богдановна широко открыла глаза, вглядываясь в его лицо и словно пытаясь прочесть его мысли, потом спросила раздельно:
— Ты, кажется, сказал «моего Мясникова»? Что это значит?
Виктор Иванович невольно отвел глаза и пробормотал:
— А что? Он ведь твой соплеменник, и ты гордишься им, я же чувствую это...
Она еще некоторое время смотрела на мужа, потом произнесла с усмешкой:
— Ладно. Поверим, что ты имел в виду это... Но скажи на милость, а кого еще можно предупредить об этом в данной ситуации? Может быть, командующего фронтом? Или самого Керенского? А?
— Не знаю... Я ничего не знаю, — растерянно буркнул Евгеиьев и тут же понял, что за эти слова сейчас ему попадет.
И попало.
— Не знаешь? — вновь повысила голос Изабелла Богдановна. — Не знаешь? Ну, это уже нечестно, Виктор! Ты мог еще отговариваться тем, будто у тебя нет «фактов и доказательств» о подготовке предательства. Но если ты даже отдаленно допускаешь мысль, что оно готовится, то не можешь не знать, кем именно и против кого. И поэтому ты не можешь не знать, что предупреждать об этом нужно не штаб фронта, не ставку и не Керенского...
— Не уверен! — вдруг прервал ее Евгеньев надсадным криком. — Не могу, не хочу верить в это! Ибо если это правда, то России конец, понимаешь? Конец!
Изабелла Богдановна вновь посмотрела на него широко раскрытыми глазами, потом отвернулась и сказала тихо:
— Дура, ах какая дура я! — Она начала шагать по комнате, ломая пальцы. — Воображала, что ты честный и смелый человек... И еще пыталась уверить его: знаете, мол, он цельный человек, хочет быть, а не казаться честным.
— Белла! — крикнул Евгеньев. — Опомнись, Белла, что ты говоришь!
Она остановилась перед ним и произнесла таким ледяным тоном, что ему стало не по себе:
— Что я говорю? А вот послушай! Видимо, до сих пор я плохо знала тебя и ты отнюдь не тот человек, за которого я тебя принимала...
— Беллочка!..
— Не перебивай меня, пожалуйста! Знай, я бы уважала тебя, если бы ты честно сказал, что стоишь на стороне тех, — ведь ты офицер, у тебя есть какое бы там ни было, по имение, и ты мог решить, что твое место среди тех, чьи имения хотят отнять большевики... Повторяю, это было бы честнее и, главное, избавило бы тебя от необходимости впадать в сомнения и всякого рода душевные переживания, произносить театральные фразы о «гибели России» и тому подобное...
— Белла, прошу тебя, перестань! — почти со стоном умолял Евгеньев.
— Кстати, эти слова насчет «гибели России» ты уже произносил — полгода назад, в связи с катастрофой твоего самолета, — и тоже в сочетании со словами «не уверен... не могу поверить», — продолжала Изабелла Богдановна. — Так сколько тебе еще нужно времени и фактов, чтобы ты наконец мог во что-то поверить и на что-то решиться?
Евгеньев вспомнил, когда происходил этот разговор. Там, в поезде, с Мясниковым... Да и вообще это не Белла, это опять Мясников требует от него на что-то решиться. Вот в чем секрет. И он, судорожно глотнув какой-то комок, застрявший в горле, вдруг успокоился. Заговорил глухо, понимая, что, быть может, своим ответом рвет нити, все еще связывающие их:
— Что ж, попытаюсь ответить. Хотя полагаю, что ни тебе, ни господину Мясникову не так-то легко понять мою тревогу за Россию...
— Почему? - Глаза Изабеллы Богдановны сузились. — Потому что мы армяне?
— И поэтому тоже. Ведь вы тогда, в поезде, рассказывали об армянских царствах, кажется Анийском и Киликийском. Но когда это было? Тысячу или восемьсот лет назад? Что ж, достаточно прошло времени, чтобы примириться с мыслью о потере державы. А Россия, великая держава мира, гибнет сейчас, на моих глазах... И я не знаю, не могу так просто решить, как это делаете вы, кто больше виноват в этом, германский ли кайзер со своими пушками или русский царь со своим бездарным правлением, немка ли императрица или Гришка Распутин, социалист ли Керенский... Не знаю, понимаешь, не знаю... По мне, так все они в равной мере губили и губят Россию, делают все, чтобы она развалилась, пошла прахом. Ты сейчас посылаешь меня к этому Мясникову, уверенная, что он спасет русскую армию от предателей. А если не спасет, а сделает хуже? Вот ты, оказывается, ошиблась в выборе супруга, — Евгеньев горестно усмехнулся. — Что ж, это беда поправимая... Но вот в выборе «спасителя родины» ошибаться нельзя. Нельзя, сударыня! Я не хочу, чтобы русские тоже, подобно армянам, этак через тысячу лет со вздохом произносили: «И у нас когда-то была своя держава...»
Ему самому неловко было слушать свои слова, и он понимал, что сейчас последует нечто страшное, что на него обрушится шквал гнева и возмущения. Но в это время в сенях раздались шаги и голоса нескольких людей, затем, не постучавшись, в комнату ворвался долговязый офицер со штабс-капитанскими погонами на забрызганной грязью шинели и, дико вращая круглыми, налитыми кровью глазами, прохрипел:
— Вы слышали, Евгеньев? В Питере большевики совершили переворот! Временное правительство низложено... — Он скверно выругался, потом оглянулся на Изабеллу Богдановну, но, так и не сочтя нужным извиниться, продолжал: — Сейчас все честные офицеры собираются у комиссара Гродского. Прошу вас тоже явиться туда. Мы этого так не можем оставить!
И быстро вышел из комнаты, хлопнув дверью.
Евгеньев и Изабелла Богдановна минуту стояли словно каменные. Потом Изабелла Богдановна сказала с тихим вздохом;
— Ну вот, видишь, Витя: оказывается, это произошло... Жизнь идет своим ходом и не дожидается, пока ты разберешься, кто прав и кто — нет. А вот эти, — она кивнула в сторону двери, — уже разобрались и зовут тебя с собой. Так что долго оставаться в стороне тебе все равно не удастся.
Она сняла фартучек, подошла к вешалке, где висело ее пальто, и начала одеваться.
— Куда ты? — словно сквозь сон спросил Евгеньев.
— К себе в санпоезд. Ты что, не слышал, что он сказал? — Она снова кивнула на дверь. — «Мы этого так не оставим!» Значит, будет кровь, будут раненые, и я должна быть там...
— Я провожу тебя...
— Не надо, Виктор. Я же сказала: сейчас каждый должен быть на своем месте.
Она обмотала голову платком и, взявшись за ручку двери, произнесла напоследок:
— Кажется, один ты пока не нашел своего места. Смотри не опоздай, Виктор.
И ушла. А он не посмел пойти за ней. Не посмел, ибо тогда должен был сказать ей, что офицер, который сейчас зашел к нему, был как раз тот самый штабс-капитан Веригин из разведотдела, которого он считал связанным с тем делом. А сказать это означало бы дать ей еще одно доказательство, что она во всем права...
...Только поздно ночью товарищи Мясникова разошлись из его кабинета, и он, усталый, повалился на железную койку, стоявшую в углу. Казалось, он тут же уснет, но сон не шел.
Да, просто поразительно, как много было сделано за один день, и главное, до чего все получилось просто, легко, бескровно! Это противоречило его прежним представлениям о социальной и пролетарской революции. Ведь еще пятнадцать лет назад в Ростове, а затем в пятом году в Москве он видел, как отчаянно цеплялись господствующие классы за власть, как расстреливали даже мирных демонстрантов, а то пускали в ход пушки с пулеметами...
А здесь? Что же произошло здесь?
Мясников вдруг почувствовал во рту горечь, — наверное, от папирос, которых он сегодня выкурил несметное количество. Он вылез из постели, зажег свет, увидел на столе чайник и граненые стаканы. Но чай давно уже остыл, а сахара не было. Все же он налил себе немного мутной жидкости, отпил два глотка, да так и остался стоять у стола, поглощенный мыслями. Да нет, конечно, все дело в питерцах. Это они своей победой там облегчили нашу задачу здесь. Стоило Чернову утром произнести магические слова: «В Петрограде большевики взяли власть!», как тут же все покатилось само собой.
Мясников поставил недопитый стакан на стол и, потушив свет, снова лег на койку.
Так что же получается? Выходит, что если революция победила в политическом центре страны, то в периферийных точках победа может прийти и без ожесточенной борьбы?.. Гм... Но даже если такая мысль и была бы кем-либо уже сформулирована, то и тогда он едва решился бы приложить ее к такой точке, как Минск, откуда управляется один из важнейших русских фронтов с полуторамиллионной армией. Но факт остается фактом: здесь все прошло тихо-мирно, без борьбы и крови. Стало быть, такая мысль небезосновательна?
Соорудив мысленно это зыбкое здание «поправки к теории», Мясников минуту скептически оглядывал его и потом, сказав себе: «Ладно, там увидим, от дуновения какого ветерка оно рухнет», повернулся на другой бок и наконец уснул.
Но «ветерок» не подул и на следующее утро. Улицы и площади города были заполнены толпами людей, колоннами рабочих и ремесленников, приветствующих новую власть. Под их ногами булыжные мостовые центральных улиц, вымытые до блеска в дождливые дни, теперь снова покрылись толстой коркой серой грязи. Повсюду слышны были смех, пение, радостные возгласы. А если кто и был недоволен и напуган происшедшими событиями, то, вероятно, забрался куда-нибудь в щель и не показывался.
Впрочем, это бурное ликование минчан по поводу начала большевистской революции — в Питере и здесь — было немного неожиданным для Мясникова. Сейчас он вспоминал один разговор, который произошел еще в апреле, когда, прибыв в Минск на фронтовой съезд, он только начинал знакомиться и с городом, и со многими армейскими большевиками. Разговор начал Степан Щукин, который имел привычку без разбору и жадно читать все, что попадет в руки. В этот день в помещении, где первоначально жили собравшиеся в Минск большевики, он сосредоточенно читал какую-то книгу в зеленом переплете, потом потряс ею над головой и насмешливо воскликнул:
— Нет, вы полюбуйтесь-ка на нашу милую расейскую манеру определять состав населения по вероисповеданию! — И, раскрыв книгу, начал читать: — «Жителей в Минске к 1 января 1896 года — 83 880 человек (42 668 мужчин, 41212 женщин). Православных — 20 882, раскольников — 62, римско-католиков — 16 875, протестантов — 862, евреев — 43 658, магометан — 1417, прочих вероисповеданий — 124...» Но черт побери, ведь православными являются и русские, и белорусы, и украинцы, а «римско-католиками» — и поляки, и литовцы, и часть белорусов. Так как же тут разобраться, какой национальности сколько здесь живет?
Михаил Васильевич Фрунзе, лучше всех знавший город, взял у Щукина книгу, посмотрел на корешок, взглянул на страницу, которую тот читал, и пожал плечами:
— Так это же Брокгауз и Ефрон издания 1896 года... Судить по этому источнику о современном Минске уже нельзя. Вот посмотрите, здесь сказано: «В 1895 году в Минске было 49 фабрик с оборотом в 660 тысяч рублей, из них 4 табачных на 166 800 рублей, 3 пивомедоварен-ных на 90 тысяч рублей, 1 машиностроительный завод на 40 тысяч рублей...» Не густо, правда? А вот еще прелюбопытная цифра: «В 1892 году торговцев было 1098, ремесленников — 4309 (более всего портных)». Хорошо? Ну а за прошедшие с тех пор два десятилетия появилась уйма новых и более крупных заводов и фабрик, электростанция, разросся железнодорожный узел Московско-Брестской и Либаво-Роменской железных дорог. А самое важное — то, что в связи с этим в Минск потянулась беднота из белорусских деревень. И как раз этот слой теперь составляет костяк подлинного промышленного пролетариата города — фабричных рабочих и железнодорожников. Или вот еще, — продолжал Фрунзе, — в энциклопедии сказано, что «в 1895 году в городе насчитывалось 4462 дома, из коих только 956 каменных». А сейчас пройдитесь по городу — половина домов уже каменные. Больше стало школ, больниц, есть городской театр, конка... В общем, теперь это город, который явно стал политическим, административным и экономическим центром всей Белоруссии.
Ну а нам, большевикам, грешно не помнить, что именно здесь состоялся Первый, основополагающий съезд нашей партии, что в Минске неоднократно происходили мощные стачки, что здесь в 1905 году возник один из первых Советов рабочих депутатов...
Мясников вскоре и сам убедился, насколько все сложно было в этом крае. Исторически сложилось так, что крестьянство здесь было в основном белорусское и придерживалось православного вероисповедания, а помещики были главным образом поляками и принадлежали к римско-католической церкви. В городах же, в силу установленной царизмом «черты еврейской оседлости», население наполовину было еврейское, занимающееся торговлей и ремеслами. В результате этого классовые противоречия часто принимали национальную и религиозную окраску. Крестьянин здесь ненавидел своего исконного угнетателя — помещика еще сильнее, чем в русских губерниях, так как помещик был к тому же иноверец и говорил на другом языке. Противоречия между деревней и городом, между крестьянином и мелким торговцем и ростовщиком, а часто и между помещиком и оптовым купцом опять-таки принимали национальную и религиозную форму, как распри между христианами и иудеями. Это обстоятельство давно уже использовалось царским правительством для проведения политики ассимиляции «единоверных» белорусских крестьян и перевода классовой борьбы в деревне и городе в плоскость антипольского и антисемитского движения.
Позже в Белоруссии, как и повсюду в России, образовались политические партии. Еврейская буржуазия создала сионистскую партию, проводящую идею «единой еврейской нации» и проповедующую классовое сотрудничество всех евреев. Националистические настроения были очень сильны и в созданной здесь социал-демократической организации Бунд. Уже на I съезде РСДРП, состоявшемся в Минске, Бунд, пойдя в эту партию, стал претендовать на то, чтобы его признали «единственным представителем еврейского пролетариата». На II съезде партии Бунд сразу стал на сторону меньшевиков. Выйдя из РСДРП, Бунд был неизменно рядом с меньшевиками против большевиков во всех программных вопросах.
Националистическую позицию занимали также и организации Польской социалистической партии и Белорусской социалистической громады. Вообще-то «громада» была создана группой интеллигентов и не имела прочных связей с белорусским крестьянством. Однако после Февральской революции возникало много разных политических, культурных и просветительных организаций и союзов, которые в конце марта, на «съезде белорусских общественных деятелей», объединились в Белорусский национальный комитет, преследующий цель добиться автономии «в пределах демократической России».
Между тем само белорусское крестьянство отвергало государственное обособление от русского народа. Чем больше разоблачали себя эсеры и меньшевики, а также «собственные» националистические партии в решении насущных для крестьянства разоренной войной Белоруссии вопросов войны и мира, решении земельного вопроса, тем больше крестьянство тянулось к союзу с русским пародом и с революционным пролетариатом.
Мясников видел и понимал все эти сложности классовых и национальных отношений здесь, поэтому сейчас энтузиазм населения города по поводу начавшейся большевистской революции радовал его, еще раз доказывая, что, несмотря на все старания националистов, партия большевиков и здесь добилась огромного влияния. Севзапком и президиум Минского Совета продолжали энергично действовать. Но связи с Питером все еще не было.
По указанию областного комитета Щукин еще несколько раз пытался через генквартский прямой провод связаться со Смольным в Петрограде. Но дальше узла связи ставки в Могилеве пробиться не удалось, там на все вопросы отвечали сухо: «С Питером связи нет». Конечно, это была ложь, — просто в ставке, зная о событиях в Минске, не хотят допустить связи минчан с большевиками столицы. А узнали они о делах в Минске не только из вчерашних переговоров штаба фронта со ставкой, но и, по-видимому, от Чернова, который, как выяснилось, поехал из Минска прямо в Могилев, к Духонину.
Зато из штаба Щукин сообщал: Балуев с утра разослал во все армии людей с приказом о том, что подчиняется Минскому Совету. Во 2-ю Кавказскую кавдивизию, например, этот приказ повезли... сами члены Фронтового комитета Нестеров и Колотухин. Вот такие дела...
Весь этот день в кабинете Мясникова почти без перерывов шло совместное заседание областного комитета партии и президиума исполкома Минского Совета. Курили нещадно, говорили возбужденно, спорили до хрипоты. Ох и сложное оказалось это дело — налаживать новую жизнь! Вопросы, которыми большевики в Минском Совете занимались и раньше, но, не обладая реальной властью, не могли решить их, теперь наперебой вносились на общее обсуждение. А их у каждого оказалась чертова уйма.
Наконец Мясников замахал рукой перед собой, отгоняя дым, и, поморщившись, произнес:
— Стойте, товарищи... Во-первых, давайте поменьше курить, а то мы тут зачахнем во цвете лет. А потом, так, как мы делаем, ничего не выйдет. Валить в одну кучу все эти важные вопросы и пытаться всем скопом решать их — разве это по-государственному? Давайте выделим все внутригородские проблемы и передадим их в ведение Минского Совета, — они тут хозяева и справятся без нас. А для решения коренных вопросов в области и на фронте нужно создать новый полномочный орган...
— Оно и правда, — согласился Ландер. — Пора и нам, по примеру питерцев, создать военно-революционный комитет.
— Вот-вот, — кивнул Мясников, — Военревком, который сосредоточит в своих руках всю полноту власти до образования таковой в центре и на местах. Основной его задачей должно быть укрепление Советской власти во всей Белоруссии и на Западном фронте. А ближайшие задачи — не допустить отправки враждебных Советам войск в сторону Петрограда и Москвы, бороться против распространения провокационных и клеветнических слухов о новой революции и Советах, обеспечить безопасность населения в Минске и области. В ВРК, по-моему, должны войти ведущие работники Севзапкома партии, исполкома Минского Совета, а также по одному представителю от других крупных Советов, которые уже созданы или будут создаваться на территории Белоруссии...
— Что ж, спорить с этим не приходится, — сказал Кнорин.
И как раз в это время открылась дверь и вошел Фомин с простым кованым сундучком в руках. При виде его Мясников вскочил.
— Василий, прибыл, дружище! Из Питера?
— Оттуда, Алеша, — весело ответил он. — И с кучей новостей для вас.
Этот плотно сбитый человек также был одним из тех старых и опытных большевиков, которые со времени войны рядом с Фрунзе, Любимовым, Ландером и другими вели работу здесь в Минске. Василий Фомин участвовал в создании Минского Совета и в организации I Фронтового съезда, был избран членом исполкома Совета и Фронтового комитета. В дальнейшем он стал одним из единомышленников и ближайших помощников Мясникова в создании самостоятельной большевистской организации в Минске, в издании газет «Звезда», «Молот» и «Буревестник». А на днях в качестве делегата II Всероссийского съезда Советов он ездил в Питср, и вот теперь, вернувшись оттуда, прямо с вокзала пришел в комитет.
Все окружили его, наперебой спрашивая:
— Ну как там?.. Ты видел?.. Газеты привез? Да рассказывай, черт ленивый!
— Видел, товарищи, все видел, все слышал и газеты привез, — Фомин действительно не торопясь открыл свой сундучок, достал пачку газет и положил на стол. — Вот, пока читайте, а потом я расскажу.
Все было расхватали газеты, но Мясников запротестовал:
— Ну, ну, так не пойдет! Газет же на всех не хватит, вслух надо читать. А ну давай сюда все, что есть! — И, отобрав у кого-то, начал читать первый документ — воззвание Петроградского ВРК, набранное поспешно, разными шрифтами:
«К гражданам России!
Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.
Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!
Военно-революционный комитет при Петроградском Совете рабочих и солдатских депутатов
25-го октября 1917 г., 10 ч. утра».
Читая эти материалы, слушая рассказы Фомина о выстреле «Авроры», о штурме Зимнего, о броневиках, мчавшихся по темным улицам Петрограда, Мясников невольно жалел, что не был там, не участвовал в этих героических событиях, а находился в Минске, где достаточно было отпечатать и расклеить по городу листовку под заголовком «Приказ № 1», чтобы все было кончено.
В этой уверенности, что враг здесь полностью и безоговорочно признал свое поражение, он и его соратники оставались вплоть до утра 27 октября, когда на политическом небосклоне Минска и фронта начали вылезать черные тучи и раздались первые раскаты грома...
— Да крутаните вы этот чертов аппарат еще раз! — с раздражением сказал Мясников тем, кто сидел ближе к телефону. — Что они там, заснули, на станции?
Члены Военревкома, как всегда в эти дни, собрались еще утром. Возбужденные, немного даже ошалелые, курили, смеялись. Перед ними лежали листки только что подготовленного к печати сообщения о создании в Минске Военно-революционного комитета. Они хотели, чтобы новый комиссар фронта Щукин немедленно сообщил но всем армиям и корпусам об этом событии. И тут телефон вдруг перестал работать.
Впрочем, Мясников уже подозревал, что связь прервалась неспроста. Он сопоставлял в уме некоторые факты. По сообщению представителя Совета на почте и телеграфе, вчера вечером кое-кто из работников там не вышел на дежурство. Да и те, кто вышли, о чем-то все шушукались между собой, но сразу замолкали, как только поблизости появлялся представитель Совета. Последний, насторожившись, наконец выудил у одного телеграфиста признание, что еще 25-го вечером из Питера поступила телеграмма о начавшемся саботаже работников столичной почты и телеграфа с предложением минским коллегам последовать их примеру. Днем 26-го на почту пришел Нестеров из Фронтового комитета. Этому сначала не придали значения, ведь на почту может зайти любой. Но теперь неожиданно онемел телефон...
«Плохи будут наши дела, если они начнут саботаж. И без того мы лишены связи с центром, а если и в области и в самом городе тоже окажемся отрезанными от других...» — подумал Мясников и сказал:
— Надо будет ввести на почте и телеграфе военное положение и объявить, что саботажники будут наказаны по всей строгости военного времени.
Все с удивлением уставились на него.
— Саботажники? Ты думаешь, это саботаж? — переспросил Кнорин.
— Не может этого быть! — воскликнул Могилевский. — С чего вдруг связисты начнут саботаж, когда штаб фронта и все остальные признали нашу власть?
В эту минуту открылась дверь и появился Щукин. Он остановился у порога — в расстегнутой шинели, бледный и запыхавшийся. Тревожно глядя сквозь очки на Мясникова, он спросил, запинаясь:
— Вы уже знаете, да?.. — Голос его, обычно ясный, звонкий, сейчас звучал сипло.
— Что знаем? Что случилось, Степан?
— Значит, еще не знаете? — Щукин схватился за голову. — Ох, братцы, ну и маху мы дали... Какую допустили глупость!
Мясников понял: стряслось нечто поистине из ряда вон выходящее, если этот спокойный, невозмутимый человек сейчас так взволнован и растерян.
— Докладывай по-военному — кратко и ясно! Щукин подошел к столу и действительно вытянулся, как на рапорте. Но, видимо не зная, как начать, он поправил очки и совсем не по-военному вздохнул:
— Так вот, товарищи... Ф-фу, дайте отдышаться... Час тому назад ко мне явились эти... Кожевников, Нестеров и Жданов...
— Жданов? — переспросил Ландер. — Бывший комиссар?
— Он самый. — Щукин попытался изобразить улыбку. — Только похоже, что теперь это я — бывший...
— Щукин! — Мясников ударил по столу ладонью и так взглянул на Щукина, что тот невольно отшатнулся. — Скажешь ли ты наконец, что случилось, черт возьми?
Кажется, помогло. Щукин снова вытянулся и торопливо выпалил:
— Они заявили, что отстраняют меня... Что в Минске создан «комитет спасения революции», куда входят представители всех партий, кроме большевиков... Что они не признают Советскую власть ни здесь, ни в Питере...
— Вот как! — Мясников не отрывал взгляда от него. — А ты не сказал, чем это им грозит?
— Конечно, сказал, — кивнул Щукин. — Сказал, что наш полк раздавит их и пусть они не играют с огнем...
— Ну и что же они?
— Говорят, что штаб фронта поддерживает их, что они вызвали сюда кавдивизию и другие части и что мигом «раздолбают» этот «арестантский сброд»...
Вот он и подул, «ветерок»! И странное дело — Мясникову как-то стало легче от этой мысли, — ведь теперь все опять становилось на свои места: дважды два опять четыре, классовая борьба есть классовая борьба...
Между тем Щукин продолжал рассказывать:
— Во всяком случае, теперь мне ясно, что нарочные, которых они вчера посылали в армии и корпуса якобы для передачи приказа Балуева о подчинении Минскому Совету, на самом деле имели задание убедить армейские и корпусные комитеты не подчиняться нам и всячески мешать тем войскам, которые попытаются прийти нам на помощь...
Только теперь все заметили, что Мясников молчит, и обернулись к нему, взглядами приглашая высказаться.
— Да что там, — сказал он спокойно. — Конечно, мы допустили ошибку, поверив, что Фронтовой комитет и штаб действительно без боя отдадут нам власть. И все же этот неожиданный прилив решимости у них немного озадачивает. Похоже, что произошло нечто, о чем мы не знаем, но что внушило им веру в свои силы, подбодрило и заставило так круто изменить свою политику... Что именно?
— Ах да, ты прав! — воскликнул Щукин. — На Петроград, говорят, движется казачий корпус Краснова и еще какие-то части. Бои идут под самой Гатчиной, и там находится Керенский...
— Ну так бы и говорил! И как же там?
— Не знаю... Но вот ставка, конечно, лихорадочно пытается подбросить туда еще войска.
— Да, теперь, кажется, все ясно, — произнес Мясников. — Все дело в этом походе Краснова на Питер. Но тут-то, по-моему, и кроется их коренная, роковая ошибка — и Керенского в Питере, и этих фендриков здесь, в Минске. Они полагают, что какой-то корпус или даже целая армия в состоянии изменить ход событий, подавить революцию, которая давно назрела и стала велением истории... — Он с минуту молчал, потом заговорил более уверенно: — Я не знаю точно, что происходит в Петрограде, какие силы там у каждой стороны, но мне одно совершенно ясно: раз Владимир Ильич определил, что именно сейчас можно и нужно начать вооруженное восстание, начать революцию, стало быть, он не сомневается в ее победе. Следовательно, все расчеты керенских, красновых, духониных ложны, построены на песке... Революция должна победить, не может не победить!
Мясников, снова помолчав, продолжал с горькой усмешкой:
— А вот что касается нас, товарищи, и в первую очередь лично меня, то мы оказались порядочными шляпами. Будь это в иных условиях, нас надо бы прогнать взашей, как дилетантов от революции... Но что было, то было, теперь нам же нужно исправить свои ошибки.
— Да, — озабоченно согласился Кнорин. — Времени у нас в обрез, надо быстро выработать план действий.
И тут Мясников сам с удивлением подумал о том, что этот план действий, собственно, давно намечен им, — не веря в то, что враги смирились, ожидая их неизбежного сопротивления, он невольно прикидывал, за что и как нужно браться, если дела примут плохой оборот.
— Что ж, план таков, — сказал он, доставая из кармана часы: — Для того чтобы кавдивизия поднялась с места и походным строем дошла сюда, требуется минимум три-четыре часа. Положим, что через два часа она будет здесь. До ее подхода здешние силы штаба пока не посмеют начать действовать, это несомненно. Значит, мы должны к этому сроку успеть собрать наши силы в кулак и приготовиться к обороне...
— То есть оставить все пункты, занятые нами? — спросил Ландер. — И почту, и мосты, и прочее?
Мясников не ответил. Встал из-за стола, подошел к окну, выглянул: на улице было людно. Да, жаль, очень жаль, что не удалось избежать кровопролития. Мясников вздохнул, обернулся к Ландеру.
— Да, Карл Иванович... Ведь сейчас наши и без того малочисленные силы разбросаны по всему городу и будут по частям разбиты превосходящими силами противника. А мы стянем их вокруг Совета и казарм Тридцать седьмого запасного полка, противник же вынужден будет распылить свои войска по всему городу. Единственный пункт, который мы ни за что не должны отдать казакам, — это станция. Там наши товарищи должны заявить казакам: «Если посмеете сунуться сюда, взорвем все линии, мосты, депо, паровозы!» И должны быть готовы сделать это. Не колеблясь!
— Правильно, — кивнул Кнорин. — И еще заявить им, что через Минск не пропустят ни одного эшелона в сторону Питера и Москвы.
— Само собой, — согласился Мясников. — Эти меры мы принимаем, чтобы продержаться до подхода помощи с фронта. А за ней должны отправиться наши люди во все армии. Надо уже сегодня-завтра провести армейские съезды и, сбросив там эсеро-меньшевистское руководство, послать отовсюду ультиматум штабу фронта. В частности, во Вторую армию поедут... — он оглянулся, поймал ожидающий, прямо-таки просящий взгляд Степана, — товарищ Щукин... — он опять поискал глазами, остановился на худом, жилистом прапорщике, — и Соловьев. И они должны срочно выслать нам на подмогу верные воинские части.
— Гренадеров не будем трогать? — тут же подавив радость, деловито спросил Щукин. Видимо, он считал себя виноватым в том, что произошло, и теперь рвался действовать.
— Посмотри на месте. Но лучше взять помощь в Третьем Сибирском корпусе, в частности полк Каменщикова. Пусть туда поедет Соловьев, а ты, Степа, займись армейским съездом. — Степан торопливо кивнул, а Мясников обратился к Соловьеву: — Мы договорились с Каменщиковым, что я пошлю ему телеграмму или записку: «Выезжай с литературой» — и это будет сигналом, чтобы он спешно выступил сюда. Поскольку телеграф отпадает, то ты сам повезешь туда мою записку. Если почему-либо не сможешь добраться до полка, знай, что у него от полка до станций Койданово и Столбцы установлена летучая конная почта, - передашь записку через нее. Понял?
— Ясно, Александр Федорович.
— В общем, помощь должна подойти как можно скорее, помни это!
Мясников обратился к Могилевскому и Фомину: — Товарищу Могилевскому надо поехать в Полоцк, в Третью армию, а Фомину — в Молодечно, в Десятую. На Десятую армию надо будет обратить особое внимание, Василий, ибо она расположена ближе к Минску, там штаб фронта и ставка имеют сравнительно больше сторонников.
— Понимаю, Алеша, — серьезно сказал Фомин.
— Ну, теперь быстро за дело, — обернулся Мясников к остальным и начал натягивать видавшую виды шинель.
И все по его примеру кинулись одеваться.
Над Минском вновь низко нависли тяжелые серо-черные тучи — словно погода откликалась на события.
Во всех концах города началось молчаливое, но тревожно-быстрое движение. Со станции к Минскому Совету двинулись зенитные орудия на конной тяге. Оставив мосты и другие важные объекты, скорым шагом подходили роты полка имени Минского Совета и 37-го запасного полка. На Коломенской площади, Петроградской и других улицах, примыкающих к Совету, воздвигались баррикады. Из чердачных окон выглядывали стволы пулеметов.
А спустя еще некоторое время в конце Захарьевской улицы послышалось цоканье множества копыт. Это сотня за сотней в город входила Кавказская кавалерийская дивизия, состоящая из терских и кубанских казаков.
Весь город, затаив дыхание, ждал, что вот-вот вспыхнет кровопролитный бой...
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
В кабинете за столом, где остались обрывки бумаг и окурки в пепельницах, сидели только Ландер и Кнорин, готовя новое воззвание к населению города и к войскам фронта.
И вдруг зазвонил телефон, который молчал с самого утра. Ландер и Кнорин некоторое время пораженно смотрели на аппарат, словно на их глазах произошло чудо воскрешения из мертвых. Потом Кнорин посмотрел на Ландера и высказал догадку:
— Ага, выходит, кончился саботаж?
— Конечно, — согласился тот, — ведь в городе снова их власть!
И поскольку аппарат продолжал трезвонить, он обошел стол и взял трубку.
— Минский Совет рабочих и солдатских депутатов...
— Это товарищ Ландер? — послышалось в трубке. — Говорит Штерн...
Штерн был одним из видных меньшевиков города и членом Фронтового комитета. «Что ему нужно от нас?» — подумал Ландер. И подтвердил сухо:
— Это я, Ландер.
— Послушайте, товарищ Ландер, — торопливо начал Штерн, — да что ж это происходит в городе? Неужели мы, революционеры, социалисты, еще вчера вместе томившиеся в царских застенках, сегодня должны идти друг на друга с пушками и пулеметами, вести гражданскую войну?
Ландер прямо-таки взорвался.
— Да вы что, в своем уме, Штерн? Разве это мы вызвали сюда казаков, разве мы собираемся развязать гражданскую войну?! — заорал он в трубку. — Если вас это действительно беспокоит, то звоните вашим дружкам из Фронтового комитета!
— А мы им уже звонили, — заверил Штерн. — И говорили то же самое.
— Кто это «мы»? — удивился Ландер.
— Ну, я, Вайнштейн из думы, Перель из Бунда, Мараховецкий из профсоюзов и еще ряд товарищей... И мы хотим, чтобы, пока еще не пролилась кровь, представители всех демократических партий и организаций встретились и нашли общий язык. Ведь так же нельзя, товарищи, ведь может пострадать ни в чем не повинное население! Могу я переговорить с товарищем Мясниковым?
— Мясникова здесь нет, — ответил Ландер. — Но я пошлю за ним, а вы позвоните через полчаса. — Он положил трубку и, кратко изложив Кнорину содержание разговора, спросил: — Что это значит, как ты думаешь?
— Видно, у них там начались какие-то раздоры и несогласия. Но вот по какой причине — пока не пойму никак, — задумчиво сказал Кнорин.
— Только, боюсь, Алеша и не захочет встретиться с ними. Помнишь, когда летом происходило размежевание между нами и меньшевиками, самые жаркие споры происходили как раз между Мясниковым и Штерном, которого называли «героем единого социалистического фронта»...
— Да, но все же надо поставить его в известность об этом звонке.
Выйдя в коридор, Кнорин нашел кого-то и велел срочно вызвать Мясникова и всех членов ВРК, кого только отыщет.
Они пришли довольно быстро. Узнав о звонке Штерна, Мясников, вопреки ожиданию товарищей, облегченно вздохнул.
— Кажется, этот слизняк хоть раз в жизни может оказать хорошую услугу революции! — воскликнул он.
— Так что же, пойдем на переговоры? — спросил, не веря своим ушам, Кнорин.
— Еще бы! Вы что думали: «а он, мятежный, ищет бури»? Нет, друг, нам бури сейчас не надо. Нам необходимо выиграть время, не дать разгореться сражению при невыгодных для нас условиях. И я все это время мучительно думал, как бы начать дипломатические переговоры, при этом не выдавая истины, что мы пока не желаем ввязываться в бой. И вот такое неожиданное предложение!.. От имени кого он звонил?
— От своего, Вайнштейна из думы, Переля из Бунда, Мараховецкого из профсоюзов.
— Хороша компания! — поморщился Мясников. — Ну да ладно...
И тут снова зазвонил телефон. Мясников покосился на аппарат, но сам трубки не взял, а сделал знак Ландеру подойти к телефону.
— Исполком Совета рабочих и солдатских депутатов, — негромко сказал тот, потом прибавил: — Да, пришел. Сейчас позову к аппарату.
Он прикрыл ладонью микрофон, посмотрел на Мясникова. Тот поднял палец: мол, погоди минутку, чуть позже взял трубку и сказал недовольным голосом:
— Мясников у аппарата.
Оп довольно долго слушал — вероятно, разглагольствования о «социалистах, еще вчера томившихся в царских застенках», — затем строго произнес:
— Послушайте, Штерн, вы же знаете, что мы взяли власть на законном основании и вполне серьезно. Поэтому действия ваших единомышленников — Жданова, Нестерова, а также генерала Балуева — мы рассматриваем как мятеж. И мы намерены были примерно наказать их. Но мы и сами понимаем: если в городе развернутся бои, то пострадает население... Вы же знаете нрав тех войск, которых вызвали сюда мятежники, и можете представить, с каким удовольствием они начнут погромы и грабежи.
В трубке снова послышался торопливый, захлебывающийся говорок Штерна, после чего Мясников сказал примирительно:
— Ладно, давайте организуйте такую встречу. Ради спокойствия населения и во избежание ненужного кровопролития мы готовы пойти на переговоры. Когда уточните место и час встречи, сообщите нам.
Он положил трубку и обернулся к товарищам.
— Как я и предполагал, — сказал он, — то, что правые эсеры и меньшевики, называющие себя «революционерами», прибегли к помощи казаков, которые всегда были оплотом царизма против революционеров, сильно подорвало их политическое реноме. На этой почве у них возникли и колебания, и неуверенность, и даже раскол...
— Да, это надо было предвидеть. Вот почему они и не решаются сразу начать боевые действия, — подтвердил Ландер.
Он впервые встретился с ними в начале апреля этого года, на съезде солдатских депутатов Западного фронта и области.
С тех пор, почти ежедневно сталкиваясь с местными лидерами эсеров и меньшевиков, Мясников имел возможность поближе узнать этих господ. Все они были люди, разумеется, отнюдь не глупые, начитанные и энергичные и, вероятно, считали себя революционерами. Однако они страдали общей для них болезнью неверия в свой народ, в его творческие силы. Поэтому главной задачей русской революции они считали устранение самодержавия, после чего должен был наступить длительный период «догоняния» Европы в экономическом и культурном отношении, период «воспитания» народа и вывода его «из состояния дикости и невежества», — конечно, под руководством их, «просвещенных демократов и социалистов». Программу же большевиков о переходе от демократической революции к социалистической, о построении социализма в России они считали вредной и гибельной авантюрой, так как по их понятиям страна еще не созрела для социалистической революции.
В их отрицании большевистской платформы были некий личный момент. Ведь Февральская революция дала им возможность пробиться в «верхи», занять важные посты в правительстве, армии и других органах правящего механизма страны. А намерение большевиков передать всю власть Советам, где эсеры, меньшевики и другие мелкобуржуазные партии в последнее время потеряли влияние, означало, что «либерданы», как называл Ленин руководителей этих партий, вместе взятых, не просто теряют теплые местечки, но и вообще выкидываются на свалку истории. Ведь вот же, не успели большевики взять власть, как арестовали Временное правительство в Петрограде, а здесь отстранили от поста комиссара Жданова. А завтра если им удастся провести новый фронтовой и прочие съезды, то, конечно, будут сброшены с постов также и Нестеров, Колотухин, Злобин и другие.
И теперь, находясь среди них, Мясников отлично понимал, чем вызвана злорадно-торжествующая улыбка на их лицах: ведь им кажется, что они уже выиграли сражение. Вот Жданов снова вернулся на свой пост в штабе; в противовес двум полкам большевиков они ввели в город целую кавдивизию, а против военно-революционного комитета создали свой «комитет спасения революции», во главе которого стал Колотухин.
Собственно говоря, соотношение сил теперь таково, что этому «комитету спасения революции» вовсе не нужно идти на переговоры, думал Мясников. И если Жданов и его подручные предпочли сесть за стол переговоров, значит, они не очень уверены в своем превосходстве, что-то им мешает начать военные действия. Но что именно?
Правда, одну из причин большевики уже выяснили — настроение населения города, заставившее поколебаться часть членов Фронтового комитета, и в особенности бундовцев и профсоюзных деятелей. Вот они сидят между двумя крайними лагерями, Штерн, Вайнштейн, Перель, Мараховецкий — типичные представители «болота», пытающиеся сгладить острые углы и примирить непримиримые противоречия...
Впрочем, Жданов в начале переговоров вздумал было сделать вид, что в их лагере нет никакого раздора. С места в карьер он потребовал весь максимум: ликвидацию военно-революционного комитета, разоружение большевистского полка, возвращение арестованных в тюрьму и, наконец, передачу всей власти «комитету спасения революции»...
Как ни странно, но именно такая постановка вопроса успокоила Мясникова. Он сразу вспомнил Баку, где ему пришлось работать с Шаумяном и другими большевиками. Вспомнил шумный восточный базар; там торговец за какой-нибудь чепуховый товар вдруг заламывал невероятно высокую, ни с чем не сообразную цену, причем опытный покупатель знал, что это делается именно потому, что хозяину очень хочется продать свой товар, и он будет долго канючить, торговаться, хлопать папахой о землю, призывать аллаха и всех гурий рая в свидетели бессовестнейшего грабежа, но в конце концов уступит товар за цену, во много раз меньшую, чем запрашивал...
Усмехнувшись и мысленно приготовившись к такому изнурительному восточному торгу, Мясников заявил:
— Мы не можем принять всерьез ваши требования, господин Жданов. Я хочу напомнить, что еще два дня назад и вы как комиссар Временного правительства, и Фронтовой комитет, и командование фронта признали Советскую власть в Петрограде и Минске. Поэтому именно мы имеем право предъявить вам требования о немедленном выводе из города кавдивизии, роспуске незаконно созданного «комитета спасения революции» и заявить, что иначе все ваши действия будут рассматриваться как мятеж против законной власти.
— Ого! — запальчиво воскликнул Жданов. — Ну нет, незаконна именно ваша власть в Питере! Это они там и вы здесь — мятежники! Да будет вам известно, что верные Временному правительству войска уже находятся у стен столицы и не сегодня-завтра они прогонят это ваше опереточное правительство — Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным!
— Ну, это мы еще посмотрим, — насупился Мясников. — Думаю, что произойдет как раз обратное: Советское правительство, возглавив петроградский пролетариат, развеет в прах мятеж ваших «верных» войск — точно так же, как это случилось с корниловским мятежом.
— Да послушайте, друзья, так же нельзя! — взмолился Штерн. — Мы же собрались здесь не для таких препирательств и не для того, чтобы предъявлять друг другу требования, означающие капитуляцию одной из сторон. Мы собрались, чтобы выработать приемлемое для обеих сторон соглашение о том, как избежать в городе гражданской войны и кровопролития. — Он положил перед собой лист бумаги. — Ну, давайте обсудим...
— Первым пунктом, на котором мы категорически настаиваем, — взял слово Колотухин, — должно быть то, что «комитет спасения революции» не признает образовавшийся в Петрограде Совет Народных Комиссаров и не подчиняется ему!
Штерн посмотрел на Мясникова и сказал просительно:
— Давайте запишем это, а?.. А зато вторым пунктом напишем: «Комитет спасения» признает, что вопрос о власти решается не здесь, не в Минске и не на Западном фронте, а в столице». — Он повернулся к Жданову: — Ведь это же так, ведь на самом деле все решается именно там!
«Черта с два, — подумал Мясников. — Если даже случится, что Керенскому и Краснову удастся на время захватить Питер, — поднимем весь фронт и двинемся туда!»
Наверное, сидевший рядом с ним Ландер думал так же, потому что сказал:
— Ладно, мы согласны с обоими пунктами, но третьим пунктом, на котором уже мы категорически настаиваем и без которого не может быть никакого соглашения, должно быть следующее: ««Комитет спасения» отказывается от посылки каких-либо вооруженных частей в Петроград а Москву и не пропускает таковые в Минск».
Судя по тому, как быстро согласились с этим пунктом Жданов и остальные, было ясно, что они делают это формально. На самом же деле они, конечно, приложат все усилия, чтобы послать подмогу Керенскому. И это стало ясно из следующего контрпредложения Жданова:
— Теперь об этом вашем арестантском «полке»... Оп должен быть немедленно разоружен.
— Ну вот, опять мы возвращаемся к вопросам, которые делают соглашение невозможным, — недовольно поморщился Ландер. — Ведь вы уже предлагали разоружить полк и вернуть солдат в тюрьму и получили категорический отказ, — к чему же продолжать толочь воду в ступе?
Жданов с апломбом возразил:
— Мы же идем на уступку, сняв предложение о возвращении арестованных в тюрьму!
Комендант города Кривошеин, в чьем непосредственном подчинении был полк, сказал с нажимом:
— Отобрать оружие у политзаключенных, вышедших на свободу и получивших его, можно, только убив каждого из них — убив в жестоком бою! А мы ведь, кажется, собрались для того, чтобы избежать такого боя, не так ли?
Наступило минутное молчание. Потом Штерн предложил очередную «резиновую» формулировку:
— Давайте запишем так: «Комитет спасения» признает амнистию политических заключенных, произведенную Минским Советом, но находит необходимым разоружить их»... Погодите, слушайте дальше! — замахал он руками, видя, что Мясников гневно привстал. — А устно мы договоримся, что это разоружение произойдет, когда между договаривающимися сторонами установится атмосфера взаимного доверия и честного сотрудничества...
«То есть никогда!» — подумал Мясников, снова сев на место. Потом, переглянувшись с товарищами, он кивнул в знак согласия.
— Теперь следующий пункт, — сказал Жданов. — «Комитету спасения революции» принадлежит вся власть в районе Западного фронта...
— Вот как?! — воскликнул Алибегов. — Это же перечеркивает второй пункт, где говорится, что «комитет» признает, что вопрос о власти решается не здесь, в Минске, и не на Западном фронте, а в столице!
Снова начались споры и пререкания, и опять Штерн предложил смягчить безоговорочность Жданова вводом «разъяснений». В результате пункт был сформулирован в следующем виде:
««Комитету спасения революции» временно принадлежит вся власть в районе Западного фронта до окончательного сконструирования власти в центре и на местах. «Комитет» составляется из представителей общественных организаций и политических партий города Минска и окрестностей — по два от каждого».
— Кого делегирует в Комитет ваша партия? — тут же осведомился Штерн.
— Севзапком нашей партии не может делегировать своих представителей в эту организацию! — резко ответил Мясников.
— Почему? — удивился Штерн.
— Потому, что она, прикрываясь фальшивым названием «комитета спасения революции», на самом деле преследует цель погубить подлинно народную революцию, совершившуюся в Петрограде! Участвуя в таком деле, областной комитет РСДРП покрыл бы себя позором в глазах революционных масс!
— Что ж, вольному воля, — сказал на это Жданов. — Не хотите — не надо. «Комитет» обойдется и без вас.
Мясников посмотрел на него, уловил в его глазах с трудом сдерживаемую радость и вдруг понял, какую сейчас допустил ошибку. Да, погорячился! Они ведь этого и хотят, чтобы их «комитет спасения» свободно и бесконтрольно творил свои гнусные дела против революции... Но как быть, как быть? Нельзя же в самом деле своим участием в этой грязной затее вносить путаницу в сознание масс, создавать у них представление, что этот «комитет» действительно «спасает революцию»!
И тут раздался спокойный, ровный голос Ландера:
— Товарищ Мясников совершенно прав: Северо-Западный комитет большевиков представляет именно ту партию, против которой и восстали все остальные партии, поэтому он не может войти в «комитет спасения». А вот Минский Совет — организация беспартийная, в него входят представители всех партий, профсоюзов и так далее. Поэтому Совет может делегировать в «комитет спасения» двух представителей, чтобы проследить за точным выполнением заключенного соглашения.
«Вот он, выход! — с ликованием подумал Мясников. — Молодец Карл Иванович! Вот это голова!»
— И конечно, эти представители будут большевики? — багровея, спросил Жданов.
— Это пока неизвестно. Но кто бы ни был, они будут представлять, повторяю, беспартийную организацию, выбранную массами и при участии всех партий в нашем городе, в том числе и вашей, товарищ Жданов, — любезно пояснил Ландер.
— Наши партии ушли из Совета! — гневно закричал Жданов. Теперь в его глазах была ненависть, ибо он понимал, что большевики этим ходом получают возможность одновременно и участвовать в работе «комитета спасения», и открыто заявлять всюду и везде, что это контрреволюционная организация, в которой их партия не участвует.
— Что же, вольному воля, — тоном самого Жданова ответил уже успокоившийся Мясников. — Их никто к этому не принуждал. И ушедшие фракции могут вернуться в Совет, если они этого захотят.
На это Жданову возразить было нечего. Поэтому Ландер обернулся к Штерну:
— Итак, пишите следующий пункт: «Минский Совет делегирует в «комитет спасения революции» двух представителей до тех пор, пока «комитет» будет строго придерживаться взятого на себя обязательства о непосылке войск в столицы на подавление восстания».
Теперь уже Жданову и остальным скрепя сердце пришлось согласиться с этим пунктом.
После этого обе стороны договорились, что Минский Совет сдает под охрану 2-й кавалерийской дивизии также и оружейные мастерские, после чего с улиц и площадей убираются пулеметы и орудия, войска отводятся в казармы, а в городе в целях соблюдения порядка устанавливается патрулирование с участием сил и «комитета спасения», и Минского Совета.
Еще утром 27 октября, когда стало известно о подходе кавдивизии к Минску, в оружейные мастерские прибыла рота полка имени Минского Совета.
Командиром роты был сумрачный бородач Николай Курятников, минчанин, который еще в 1915 году был курсантом учебной команды в Дорогобуже и одним из тех, кого Мясников привлекал в свой тайный кружок. Выпущенный унтер-офицером, Курятников в шестнадцатом году участвовал в боях на Брест-Литовском направлении. После Февральской революции он был избран делегатом на Первый фронтовой съезд, где среди делегатов нашел своего бывшего командира и наставника.
Съезд решил: члены нового Фронтового комитета должны остаться в Минске, получая денежное и прочее довольствие от хозяйственного управления штаба фронта.
Вот тогда Мясников и обратился к Курятникову е просьбой помочь найти комнату, где он может жить.
— Комнату? — Курятников почесал бороду, прикидывая что-то в уме, потом сказал: — У меня есть сосед, еврей, Портной по фамилии, — видать, оттого, что и дид его, и батька, и сам он — портные. Ха-арошие люди и занимают целых три комнаты. Правда, народу у них вполне... Но, может, уговорю я их освободить для вас одну хоть самую малюсенькую комнату...
И действительно, ему удалось, прежде чем самому вернуться в полк, устроить Мясникова на квартиру к этому портному. А летом, когда в связи с намечаемым наступлением на фронте началась «чистка» армии от «опасных смутьянов», противников продолжения войны, Курятнякова арестовали и отправили в минскую тюрьму.
Очутившись здесь вместе с сотнями других большевиков и сочувствующих им революционных солдат, Курятников был одним из тех, кто начал подумывать: а что, если из этих опытных фронтовиков создать целый полк, поднять восстание и вырваться из тюрьмы? Посовещавшись с товарищами, Курятников через свою жену Агафью, изредка допускавшуюся к нему для свиданий, сообщил об этой идее Мясникову. И вскорости получил ответ: мысль о создании полка из политзаключенных замечательна, но его нужно создавать не для того, чтобы просто вырваться из тюрьмы, а для того, чтобы после выхода оттуда превратить в одну из основных воинских частей революционных сил в городе.
Вот так у них закипела работа. В камерах, набитых сверх меры арестованными, создавались отделения, взводы, роты и команды. В числе ротных командиров оказался и сам Николай Курятников. И когда 25 октября они вышли из тюрьмы, то именно ему, как минчанину, было поручено со своей ротой занять телеграф и телефон. А вот сегодня он вдруг получил приказ оставить эти пункты и двинуться на Захарьевскую для охраны оружейных мастерских.
Прибыв туда, Курятников вместе с Яном Перно обошел мастерские, с удовлетворением осмотрел несколько тысяч смазанных тавотом винтовок, еще стоявших на пирамидах, десятка два пулеметов, ящики с патронами и кратко вымолвил: «Порядок. Дадим здесь им жару! Пусть только сунутся». И быстро, со знанием дела изложил Перно свой план обороны мастерских.
Вскоре рота заняла круговую оборону, установив множество пулеметов и выдвинув вперед дозоры. После полудня дозорные доложили, что к мастерским подъезжает какой-то-автомобиль. Выскочив на пустынную улицу, Перно сразу узнал старенькую машину коменданта города Кривошеина.
Автомобиль остановился перед воротами мастерских, и оттуда вышел хмурый Кривошеин в кожаной тужурке и в надвинутой на глаза фуражке. Поздоровавшись с Перно и подошедшим Курятниковым, он проговорил:
— Скоро сюда прибудут караульные от казаков. Сдадите мастерские им под охрану, а с ротой подтянитесь к Совету...
Перно вытаращил глаза.
— Сдать мастерские?.. На каком основании? Для чего?
— Так сложились дела, товарищ, — отводя взгляд, пробурчал Кривошеин. — Вынужденная мера...
— Неправильно это! — сердито вмешался Курятников. — Конники силой взять мастерские не могут. Зачем же отдавать так?
Кривошеин посмотрел на него с сочувствием, спросил:
— Как ваша фамилия, товарищ?
— Курятников. А что?
— А-а, так вы и есть тот самый «сября»[5] товарища Мясникова? Он ведь живет по соседству с вами, правда? — И когда Николай кивнул, он продолжал: — Так вот, товарищ Курятников, я тоже думаю, что конникам в городе драться несподручно и мы в случае боя могли бы им здорово наложить... Но это вопросы тактики, а товарищ Алеша решает вопросы стратегии, и он считает нужным, чтобы мы пока — он подчеркнул это «пока» — сдали мастерские...
— Так это решение Мясникова? — сразу остыл Курятников.
— Его и военревкома, — уточнил Кривошеин. И обратился к Перно: — Как только сдашь мастерские, сразу приходи в ВРК, к Алеше. Для тебя есть особое задание.
— Ладно... Что, плохи наши дела?
— Так-сяк... — Кривошеин снова посмотрел на Курятникова. — А драться с ними мы еще успеем, товарищ Курятников.
После того как он уехал, Перно и Курятников собрали роту, сообщили, что уходят, и приказали забрать все исправные пулеметы да еще каждому по лишней винтовке и побольше патронов.
Солдаты выполнили приказ и едва успели построиться в колонну, как во двор мастерских въехал отряд конников в черных бурках — человек десять во главе с вахмистром.
Соскочив с коня, вахмистр, плечистый кубанец с большими закрывающими рот усами, подошел к поджидавшему его Перно.
— Кто тут у вас будет начальник?
— Я буду, — ответил Перно.
— Получили распоряжение о сдаче мастерских под нашу охрану?
— Получил, — кивнул Перпо. — Так что пойдемте в контору, составим акт о сдаче и приеме.
Вахмистр оглядел стоящий вблизи строй роты и, конечно, сразу заметил множество пулеметов, винтовок и ящиков с патронами.
— А это что за оружие у солдат? — удивленно спросил он.
— Оружие? — Перно через плечо посмотрел на роту, потом сказал по своему обыкновению медленно, чуть растягивая слова: — А... Так это оружие, которое еще позавчера было выписано для полка имени Минского Совета... Вот они и получили сегодня.
— Придется оставить, — нахмурился вахмистр. — Никакого оружия отсюда выносить нельзя.
— Это почему же? — с наивным видом спросил Перно.
— Потому что этот ваш полк будет разоружен.
— Да? — с интересом спросил Перно. — Вот об этом нам ничего не говорили.
— Не говорили, так скажут!
— Ну, когда скажут, тогда и сдадим... А пока нам сказано, чтобы мы сдали вам под охрану склад, и, как видите, мы тихо-мирно сдаем...
— Тогда подождите немного, — не сдавался вахмистр. — Сейчас пошлю конника в наш штаб узнать, как нам быть.
— Что же, посылайте, пожалуйста. Но вы же понимаете, что мы не будем подчиняться распоряжению вашего штаба, а приказ нашего штаба уже есть. — И Перно дружески хлопнул по плечу вахмистра. — Да вы не беспокойтесь, друг, если действительно есть такая договоренность о разоружении нашего полка, так мы сдадим и это оружие, и то, что было получено в первый день. Ведь правда?
Вахмистр сунул кончик уса в рот, задумчиво пососал, еще раз посмотрел на дружески улыбающегося, невозмутимого латыша, на хмурых и решительных солдат из полка имени Минского Совета, молча и пристально следивших за их переговорами, и понял, что со своими десятью казаками все равно не сможет помешать им унести оружие.
— Вот чертяки гладкие! — усмехнулся он, закручивая мокрый кончик уса. — Ладно, давай пойдем подпишем акт.
Они вошли в здание и минут через десять вышли. Видно, сдача и прием мастерских прошли без долгих формальностей.
— Так вот, друг мой, — с той же дружеской улыбкой сказал Перно вахмистру, — охраняйте склад как полагается. И еще, видали, как мы тихо, без лишнего шума сдали вам все? Так вот, когда через несколько дней я вернусь, смотрите, чтобы также не было никакого шума. Поняли?
— Думаете, ваша возьмет? — хитро прищурил желтые глаза вахмистр.
— Можете не сомневаться, — уверил его Перно.
— Ладно, — весело кивнул вахмистр. — Ежели ваша возьмет, шуметь не будем. Прогневайте.
Курятников подал команду, и рота, громыхая колесами двух десятков пулеметов по булыжнику мостовой, двинулась к зданию Совета.
— В жизни не видывал более глупого документа, — говорил Кнорин на возобновившемся заседании Военно-революционного комитета, стуча согнутым пальцем по листу «соглашения». — Ну хоть бы один пункт, который удовлетворил бы обе стороны!
— Точно, — подтвердил Ландер. — И жить этой бумажке ровно столько, сколько понадобится одной из сторон, чтобы набраться сил и раздавить другую.
— Ну, если бы дело обстояло так, то они могли бы сделать это хоть сегодня, — пожал плечами Алибегов. — И я просто диву даюсь: какого черта они вообще пошли на эти переговоры?
И как раз в это время вошел Ян Перно. Когда он рассказал о том, как он сдавал мастерские казакам, как вынес оттуда оружие и боеприпасы и как отнеслись к этому казаки, Мясников многозначительно оглядел товарищей.
— Вот вам еще одна причина их колебаний: они отлично знают, что наши малочисленные силы будут тем не менее драться насмерть, а вот будут ли их казаки драться так же — неизвестно... Ведь революция не могла пройти мимо казачества, теперь оно не желает быть слепым орудием в борьбе против народа — рабочих и крестьян, казак больше не хочет носить на себе клеймо душителя свободы, опричника и палача. Вот эти настроения и пугают ждановых и балуевых...
— Ну что ж, во всяком случае, мы максимально использовали обстоятельства, чтобы некоторое время продержаться, пока подойдут наши с фронта, — сказал Ландер. — Так кого же мы пошлем в этот комитет погибели революции?
— Надо двух членов исполкома Совета, — напомнил Кнорин. — Чтобы никто не смог придраться, что мы нарушаем соглашение.
— Одного я давно уже наметил, — сказал Мясников и, обернувшись к Алибегову, сделал свирепое лицо: — Помните ли вы, многоуважаемый провидец, кто позавчера первым начал уверять, что «они не будут сопротивляться», что «у них нет желания лезть в драку»? Вы тогда убедили нас, а сейчас будьте любезны пойти туда и теперь уже их убедить в этом! — И когда все невольно рассмеялись, он уже другим тоном продолжал: — Нет, серьезно, Ванечка, крутись там как хочешь, изворачивайся, измочаль язык, но только не давай этому Жданову уговорить штернов и вайнштейнов перейти к активным действиям.
— Ну а другим делегатом предлагаю члена исполкома Совета Перпо, — сказал Кривошеий. — Он со своим обычным спокойствием и хладнокровием будет хорошим дополнением к Алибегову.
— Гм, ничего себе придумали наказаньице мне, — пробурчал Алибегов.
— Да ладно, чего там, — философски сказал Перно. — Ведь это и в самом деле интересно — сидеть с ними в этом «Ноевом ковчеге» и трепать языком.
— Почему в «Ноевом ковчеге»? — спросил кто-то.
— Ну а как же, там было «каждой твари по паре», и здесь тоже от каждой организации по два представителя. А этих организаций в городе тьма-тьмущая!
К вечеру пушки и пулеметы были убраны с площадей и улиц Минска, пехотные и кавалерийские части ушли в казармы. Советские караулы, оставив позиции, стянулись к баракам 37-го запасного полка, к зданию Минского Совета и к Коломенской площади.
Город опять выглядел мирно, но все чувствовали: под серым пеплом этого спокойствия таятся жаркие угли и каждую минуту может вспыхнуть пожар яростной гражданской войны.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Представители Минского ВРК были направлены во все три армии Западного фронта, но помощь раньше всех ожидалась от Второй армии, штаб которой находился в Несвиже, в замке польских магнатов Радзивиллов.
Степан Щукин и Георгий Соловьев, собираясь во Вторую армию, решили, что Соловьев займется переброской войск на помощь Минску, а Щукин останется помогать армейскому ВРК проводить перевыборы корпусных и армейского комитетов. Чтобы их отъезд из Минска остался незамеченным, они договорились, что Щукин поедет в Песвиж на автомобиле, а Соловьев — по железной дороге, передав по пути на станции Койданово или Столбцы записку Мясникова представителям полка Каменщикова.
Однако случилось так, что Соловьев, выехавший в Городею с первым же товарным поездом, ни на одной из указанных станций не найдя конников летучей почты Каменщикова, записку передать не сумел. Оставалось одно: добраться до Несвижа и оттуда через ВРК установить связь с этим полком и другими частями.
В Несвиж, который находился от Городеи в 14 верстах, прибыл он поздно вечером 28 октября. Снова моросил дождик, Соловьев весь вымок, продрог да и устал порядком. Шагая по пустынным и темным улицам уютного городка, он мучительно раздумывал, как бы узнать местонахождение Военревкома или его председателя Рогозинского. Конечно, проще всего было бы сразу направиться в замок, где находились штаб и армейский комитет. Поскольку Рогозинский был заместителем председателя комитета известного эсера Титова, там наверняка знали бы его адрес. Однако Соловьев не хотел, чтобы в штабе начались расспросы, кто он, откуда и зачем ему нужен большевистский руководитель в армии.
На противоположном тротуаре послышались шаги. Соловьев быстро пересек улицу и подошел к незнакомцу как раз в момент, когда тот, остановившись и повернувшись спиной к ветру, зажег спичку, чтобы прикурить папиросу. При слабой мерцающей вспышке Соловьев успел заметить кожаное пальто, лоснящееся от дождя, и сразу понял: офицер. Но делать было нечего, и он спросил:
— Простите, пожалуйста, вы не знаете, где я могу найти заместителя председателя армейского комитета поручика Рогозинского?
И сразу заметил, как незнакомец вдруг резко вскинул голову, пытаясь в темноте разглядеть его, потом с силой пыхнул папироской, отчего ее огонек стал ярче, и только потом спросил чуть напряженным голосом:
— Это кто же — большевик Рогозинский?
У Соловьева екнуло сердце: разговор сразу принимал нежелательный оборот. Но отступать уже было нельзя, и он ответил равнодушным тоном:
— Возможно, что и большевик, меня он интересует как заместитель председателя армейского комитета.
Снова помолчав, офицер сказал:
— Пойдемте. Я иду в ту сторону.
И, не дожидаясь, двинулся в темноту. Соловьев задержался на секунду, потом решительно догнал офицера и зашагал рядом. Скоро он заметил, что спутник его слегка прихрамывает, — вероятно, недавно был ранен. Офицер сказал, что идет «в ту сторону». Что это значит — в армейский комитет или к Рогозинскому домой?
— А это далеко? — спросил он вслух.
— Да нет, тут близко, на первой улице налево, — не оборачиваясь, ответил спутник.
— Это что — армейский комитет? — снова спросил Соловьев.
— Армейский комитет в замке, — спутник наконец повернулся к нему. — Но, насколько мне известно, ни Рогозинский, ни другие большевики в армейском комитете уже почти не бывают. Теперь у них есть свой, военно-революционный комитет.
— А... — с интонацией несведущего человека протянул Соловьев. — И вы идете туда же?
— Да. К этому самому поручику Рогозинскому.
«Интересно, по какому делу, — подумал Соловьев. — Впрочем, мы это скоро узнаем».
Они подошли к двухэтажному кирпичному зданию со множеством освещенных окон. Офицер в кожаном пальто остановился у крыльца, бросил в лужу окурок а сказал:
— Это, должно быть, здесь. Простите, но я ни разу не был внутри и не знаю, где там искать поручика Рогозинского. Так что вам придется самому...
— Погодите, а вы? — удивился Соловьев. — Вы же сказали, что тоже идете к нему...
— Да нет, ничего, как-нибудь в другой раз... — ответил офицер и, не попрощавшись, повернул обратно.
«Чудной какой-то», — подумал Соловьев.
Войдя в помещение и открыв первую же дверь, за которой раздавались голоса, он сразу увидел за столом плечистого, рослого Рогозинского. Вокруг стола с большой керосиновой лампой сидело еще несколько человек, из которых он узнал доктора Тихменева, остальные были ему незнакомы.
— Ба, Соловьев! — удивленно вскинув брови, вскочил с места Рогозинский. — Какими судьбами, что случилось?
Соловьев, поздоровавшись с ним, спросил:
— Щукин еще не приехал к вам?
— Щукин? Нет... А что, он тоже должен был приехать?
— Да, — сказал Соловьев. — Ну ладно, еще успеет. Как скоро можно собрать ваш военревком? Есть важное дело.
Рогозинский, прежде чем ответить, внимательно посмотрел на него.
— Из членов ревкома здесь есть доктор Тихменев, Лысяков, Ксенофонтов и Пролыгин, — знакомьтесь. А остальных, кто сейчас в Несвиже, можно быстро собрать.
— Ну так побыстрей собирайте. — Соловьев снял мокрую шинель, повесил на один из гвоздиков, вбитых в стену, потом оглянулся, увидел в углу жестяную печку с задымленным чайником и прибавил: — А пока соберутся, дайте-ка кружку чаю с куском хлеба, — я продрог до костей и с утра ничего не ел.
— Сейчас, сейчас, — засуетились ревкомовцы.
На столе появились хлеб, банка с мясными консервами, кружка чаю и сахар. Набив полный рот, Соловьев с трудом проговорил:
— Меня сюда привел какой-то офицер в кожаном пальто. Сначала сказал, что сам тоже идет к вам, но дойдя до крыльца, почему-то раздумал. Не знаете, кто это?
— Фамилию не назвал? — спросил Рогозинский.
— Нет, да я, понятно, и не расспрашивал. Он, похоже, слегка прихрамывает.
— Прихрамывает? — переспросил Рогозинский. — В кожаном пальто? Так это, должно быть, тот самый летчик, которого перевели сюда летом из Гатчинской школы авиаторов. Он там, говорят, в аварию попал, с тех пор и прихрамывает. Но какое у него могло быть дело ко мне — ума не приложу. Он какой-то молчун, дичится всех. Я даже фамилии его не знаю.
— Евгеньев его фамилия, — подсказал костлявый, сухолицый доктор Тихменев. — У него жена работает старшей сестрой на санитарном поезде. Такая эффектная дамочка!
— Точно! — в свою очередь подтвердил один из присутствующих членов комитета, солдат с пышными усами и высоким выпуклым лбом. — Недавно я и Марьин из Карсского полка ездили в этом поезде в Минск, и она там зачем-то встречалась с товарищем Мясниковым.
Но в это время в комнату вошли еще несколько членов армейского военревкома. Это были в основном солдаты из различных частей армии. Они молча снимали шинели, вешали на гвоздики и рассаживались у стола, с любопытством глядя на прибывшего. Соловьев тут же забыл странного летчика, поспешно дожевав кусок, он сразу же перешел к делу.
— Товарищи, скажите, можно ли будет отсюда отправить в части армии и фронта воззвание Минского военревкомитета? Из Минска это невозможно, потому что все средства связи захвачены этим «комитетом спасения революции».
— Кем, кем? — поразился Рогозинский.
— Об этом я сейчас расскажу подробней. А пока разрешите познакомить вас с содержанием воззвания, поскольку это касается и вас тоже. — Он достал из кармана бумажку и начал читать: — «Товарищи! Совершилось великое дело. В Петрограде власть перешла в руки пролетариата, солдат, рабочих и крестьян, одетых в шинели. Переворот совершился бескровно. Организовано новое правительство под председательством Ленина. Объявлен народам Декрет о мире и о скорейшем и немедленном перемирии. Объявлено о переходе земли помещиков к крестьянству. Товарищи, поддержите свое пролетарское правительство. Пусть ваши комитеты идут вместе с нами и всех призовут к этому. Если есть комитеты, идущие против власти Советов, опрокидывайте их и создавайте новые, которые будут оправдывать наши интересы. Товарищи! От вашей единодушной поддержки еще больше окрепнет рабоче-крестьянская власть и наша революция. Да здравствует рабоче-крестьянская революция!»
Кончив читать, Соловьев поглядел на ревкомовцев. Все сидели молча, видимо обдумывая не только содержание этого документа, но и значение того факта, что минчане не смогли отправить его по нужным адресам.
— Ладно, это мы отправим куда надо, — сказал наконец Рогозинский. — А теперь расскажите, что там у вас творится.
Соловьев коротко рассказал о резкой перемене положения в Минске, о вводе казаков в город и о необходимости немедленно послать помощь.
— По дороге сюда я хотел связаться с командиром Двенадцатого Туркестанского полка Каменщиковым, по не смог. Как бы теперь это сделать? — спросил он.
— Сделаем, — решительно произнес Рогозинский. — Сейчас же пошлем туда нарочного, чтобы уже утром полк выступил.
— Погодите, — сказал Тихменев. — Туркестанский полк, конечно, вполне подходит, но стоит как-то неудобно — довольно далеко от шоссе. Пока выберется по этой грязи, пока дойдет... А вот Шестидесятый Сибирский в этом смысле очень удобен: стоит на самом большаке.
— Это правда, — снова заговорил гренадер с пышными усами. — Но ведь и этому полку придется тащиться пешком. А помощь требуется как можно скорей. Так?
— Так, — кивнул Рогозинский. — Что же ты предлагаешь, Пролыгин?
— У станции Погорельцы, на разъезде Хвоево, стоит бронепоезд... И состав там весь большевистский.
— Бронепоезд? — заговорил Соловьев. — Вот если бы удалось быстро послать его в Минск, пока подойдет пехота...
— Боюсь, что это будет нелегко, — сказал доктор Тихменев. — Личный состав там, правда, большевистский, но офицеры настроены к нам враждебно.
— Что же, тогда надо будет арестовать их и повести поезд самим, — спокойно возразил Пролыгин.
— Кому это «самим»? — посмотрел на него Соловьев.
— Ну, если будет больше некому, то хотя бы и мне, — просто заявил Пролыгин. — Ведь я бывший железнодорожник, машинист. — И он положил на стол мозолистые руки, словно предъявляя диплом.
Соловьев подумал, что для такого дела недостаточно быть просто «бывшим машинистом и железнодорожником». Шутка ли, ведь надо убедить команду бронепоезда, арестовать офицеров и буквально продраться через несколько станций, быть может с боями, к Минску. Для такого дела надо уметь не только водить паровоз. И он был удивлен, когда Рогозинский сказал как само собой разумеющееся:
— Ну, тогда тебе надо будет этой же ночью отправиться туда. Возьмешь кого-нибудь на помощь?
— Думаю — обойдусь, — ответил Пролыгин. — Ведь тут люди нужны для организации съездов.
Рискуя обидеть этого человека своим вопросом, Соловьев спросил у Рогозинского:
— Так вы что, уверены, что товарищ Пролыгин справится с этим делом? Со всеми трудностями, связанными с захватом поезда и доставкой его в Минск?
— Пролыгин? — Рогозинский посмотрел на него, потом на хитро сощурившегося гренадера и улыбнулся. — Он справится, не беспокойтесь!
— Да, конечно, справится, — поддакнули остальные члены комитета.
— Впрочем, мы можем одновременно отправить по шоссе в Минск и наш отряд бронеавтомобилей, — сказал другой член комитета, Ксенофонтов. — Если бронепоезд... почему-то не дойдет, так хоть броневики поспеют.
Соловьев вспомнил, что фамилию Ксенофонтова он недавно встречал в большевистском списке кандидатов в Учредительное собрание от Северо-Западной области. Значит, тоже дельный человек, подумал он.
— Правильно, — кивнул Рогозинский. — Отправим в бронеотряд Катушкина. Итак, что же у нас получается? В Минск идут Шестидесятый Сибирский и Двенадцатый Туркестанский полки, Пролыгин поведет бронепоезд, а Катушкин — отряд бронеавтомобилей. — Он повернулся к Соловьеву. — Хватит?
— И половины этого хватит, — энергично откликнулся тот. — Лишь бы эти гады из «комитета спасения» увидели, что фронт идет нам на помощь. — И уже весело сказал: — Так что же, товарищи, выходит, что мы начинаем настоящую боевую операцию? А раз так, следовало бы создать нечто вроде штаба, а?
Тут же предложили в состав Революционного штаба товарищей Рогозинского, Тихменева, Ковача, Лысякова, Пролыгина и отсутствующего подполковника Каменщикова.
Рогозинский на стареньком «ремингтоне» отстукал мандаты на имя Пролыгина и Катушкина, тоже солдата Гренадерского корпуса, подписал именем Революционного штаба Второй армии, и оба уполномоченных, несмотря на ночь и дождь, отправились выполнять задание.
— Ну а вы останетесь здесь, с нами? — спросил Рогозинский Соловьева.
— Нет, я же сказал, что сюда должен приехать товарищ Щукин, а я немедленно возвращаюсь в Минск. Там ведь не знают, когда подойдет помощь и откуда. Надо спешно сообщить им, что мы тут предприняли.
— Ну тогда поспите хоть часок-другой, отогрейтесь. Ехать-то вам на попутных, а это сами знаете, сколько времени. — И, подойдя к стене, Рогозинский потрогал шинель Соловьева. — Вот и шинель еще мокрая, я повешу у печки, пусть просохнет...
Первое заседание «комитета спасения» было созвано утром 28 октября. И едва только был избран председательствующий этого заседания (председатель городской думы Вайнштейн), как встал прапорщик Злобин и потребовал слова для внеочередного заявления.
— Товарищи! — начал он с дрожью негодования в голосе, постепенно переходя на крик. — Я не знаю, насколько мы правильно поступили, заключив вчера соглашение с большевиками из Минского Совета и поверив, что они действительно захотят выполнить его. Ведь подумать только: не успели просохнуть их подписи, не успели они сдать власть Комитету спасения революции, как сразу же вероломно нарушили соглашение и начали творить беззакония.
— Да что случилось, товарищ Злобин? — спросил с места Алибегов.
— Случилось нечто вопиющее, недопустимое! — резко повернулся к нему Злобин, словно только и ждал его вопроса. — Час тому назад патрульные этого арестантского сброда, именуемого у вас «полком имени Минского Совета», посмели арестовать меня за раздачу листовок-воззваний партии эсеров! Можно представить себе что-либо более нелепое и противоестественное, чем это? Партия, в сущности ушедшая в подполье, навязывает свою волю правительственным партиям, арестанты, бежавшие из тюрьмы, средь бела дня арестовывают членов правительства!
— Безобразие! — крикнул Кожевников.
— Позор! — мрачно добавил Нестеров.
— Вот плоды вашего либеральничания, товарищи «миротворцы»! — сверкнул серо-стальными глазами на сидевшего рядом Штерна Жданов. — Скоро дождетесь, что они вас тоже посадят в тюрьму.
— Да, пора кончать с этой бандой! Разоружить и загнать обратно туда, откуда они бежали! — кричал Николаев.
Эти крики, ругань, аффектация явно были рассчитаны на то, чтобы как-то расшевелить бундовцев, профсоюзных деятелей и тех меньшевиков, которые явились инициаторами переговоров. Зная наперед, что правое крыло «комитета спасения» будет добиваться этого, Алибегов и Перно понимали, что должны проявить спокойствие и выдержку и ни за что не допустить, чтобы эти крикуны склонили на свою сторону «болото». И когда председательствующий Вайнштейн, возбужденно сняв и снова нацепив на мясистый нос пенсне, потребовал строгим тоном, чтобы представители Минского Совета дали объяснение, Перно встал с места. Он и без того говорил неторопливо, а сейчас намеренно растягивал слова.
— Да мы с удовольствием, товарищ председатель. Но ведь для этого нужно, чтобы заседания «единственного и полномочного правительства», как назвал наш «комитет» товарищ Злобин, велись с соблюдением элементарных правил приличия. Тот, кто бывал на заседаниях исполкома Минского Совета, например, знает, что там не бывает ни базарного крика, ни ругани, ни тем более голословных обвинений.
Это колкое замечание, сделанное спокойным и насмешливым тоном, заставило Вайнштейна обратиться к остальным:
— Да, товарищи, давайте вести наши заседания как полагается, с соблюдением порядка и демократии. — И потом повернулся к Перно: — Продолжайте.
— Разрешите мне? — поднял руку Алибегов. Перно сразу кивком головы дал согласие и сел. Вайнштейн в свою очередь кивком разрешил Алибегову говорить.
Иван Яковлевич уже понял, почему так медленно говорит Перно: чтобы не только успеть обдумать каждое слово, но и ослабить напряженность, которую явно старались внести в атмосферу заседания Злобин, Жданов и другие. Раньше, на заседаниях «у себя», горячий Алибегов даже злился на эту медлительность речи, свойственную латышам, — Перно, Ландеру и Кнорину. А те, смеясь, отвечали ему: «Скажи спасибо, что здесь нет эстляндцев и финнов». И сейчас Алибегов решил, что здесь он будет говорить как финн. Конечно, все выпучат глаза, так как не раз слышали его выступления, но пускай, он будет говорить, как самый медлительный из финнов. И он долго ходил вокруг да около, пока наконец не произнес:
— Ну вот, например, товарищ Злобин утверждает, что его якобы «арестовали» наши патрули...
— Значит, по-вашему, я вру? — побагровев от гнева, снова крикнул Злобин.
— Я не говорю, что вы «врете» — Алибегов, повернувшись к нему, минуту словно изучал его лицо, — и вообще считаю недопустимым употребление подобных выражений на этом высоком собрании. Я лишь хочу обратить внимание присутствующих на то, что слово «арестовать» употреблено так же не к месту, как и слово «врать». Если бы товарищ Злобин был действительно арестован, то сейчас не находился бы здесь, а сидел бы где-нибудь под замком. Стало быть, его не «арестовали», а только «задержали».
— Какая разница? — уже взвизгнул Злобин. — Кто они такие, чтобы задерживать члена Фронтового комитета или Комитета спасения революции?!
— Вот тут и кроется источник недоразумения, товарищ Злобин, — наставительно произнес Алибегов. — Вы забываете, что бойцов полка имени Минского Совета по милости Временного правительства долгие месяцы незаконно держали в тюрьме за их политические убеждения. Поэтому, будучи изолированы от повседневной политической жизни, они не присутствовали на митингах, собраниях и заседаниях и не знают вас в лицо, извините... Вы думаете, если я сейчас выйду на улицу и начну расклеивать наши большевистские листовки, то наши патрули узнают меня и не тронут? Ничего подобного. Им вчера, после заключения нашего соглашения, было сказано, чтобы они не допускали распространения возбуждающих слухов, а тем паче призывов к погромам, к межнациональным и межпартийным распрям, поэтому они задержали бы меня точно так же, как задержали вас. Ведь в тех условиях, в каких находится наш город, всяким черносотенцам, монархистам и просто бандитам нетрудно будет ловить рыбку в мутной воде... И именно этого боится население города.
Жданов, Злобин и другие, действительно поражаясь необычной манере речи, но все же понимая, куда клонит этот хитрый кавказец, возмущенно и враз заговорили, запротестовали, порываясь помешать ему говорить.
Но Вайнштейн вспомнил, как вчера утром один из представителей местных ремесленников и лавочников, пришедших в городскую думу, сердито размахивая руками, говорил: «Они вызвали сюда казаков — бить большевиков. Может быть, это и хорошо, разве я знаю... Но боже ж мой, зато я знаю этих казаков! Они ж будут искать большевиков в моей лавке, — и разве это хорошо?»
— Тихо, товарищи, давайте организованно! — нахмурившись, призвал он к порядку. — Ведь в том, что говорит товарищ Алибегов, есть доля правды. Продолжайте, товарищ Алибегов!
— Таким образом, наши патрульные не только могли, но и обязаны были задержать человека, который расклеивал или раздавал народу листовки с неизвестным текстом. Но тут важно что? — Алибегов, обернувшись к Злобину, многозначительно поднял палец кверху. — А то важно, что, выяснив, кто такой задержанный, его отпустили! Разве это называется «арестовать»? — Алибегов еще раз оглядел присутствующих и остановил взгляд на Штерне. — Я хочу заверить «комитет спасения», что Минский Совет честно выполняет заключенное соглашение. Да, мы признали «комитет спасения революции», но вместе с тем обязаны следить за тем, чтобы в городе не распространялись листовки и другие печатные издания, направленные против существа нашего соглашения. А чтоб в дальнейшем не имели места подобные недоразумения, давайте договоримся, что отныне, и мы и вы, будем заранее согласовывать тексты этих листовок и воззваний. Тем самым мы лишим всякие черносотенные и монархические элементы возможности распространять свои грязные издания.
Это предложение, разумеется, вызвало бурный протест эсеров и меньшевиков. Захлебываясь от бешенства, они кричали, что это «черт знает какая наглость». Свергнутый Минский Совет, похоже, хочет установить свой контроль — чуть ли не цензуру! — над изданиями господствующих партий, слыханное ли это дело! Но Алибегов и Перно, снова и снова выступая, доказывали, что речь идет только о добровольном взаимном согласии в духе как раз достигнутой договоренности, что это будет способствовать главной задаче — избегать лишних трений и конфликтов в городе и так далее и тому подобное. Бурные споры о законности этих притязаний заставили «комитет спасения» отклониться от обсуждения первоначально поставленного вопроса о разоружении и роспуске полка имени Минского Совета.
День 28 октября был очень тяжел для Мясникова. Сознание того, что он, лишенный всех средств связи, не знает, как идут дела там, в корпусах и армиях, не знает, что происходит на железной и шоссейных дорогах, по которым должны были двигаться в Минск посланные на подмогу части, сознание своей оторванности от центра всех важнейших событий просто сводило его с ума. Даже здесь, в Минске, он пе мог участвовать хотя и в словесных, но достаточно тяжелых (он знал это) баталиях, которые сейчас вели его два товарища в этом осином гнезде — «комитете спасения революции».
За окном в это утро, как обычно, по-осеннему дождило. В палисадниках, под темными стенами деревянных домов с подслеповатыми окнами, прели опавшие коричнево-бурые листья. Здание Совета не отапливалось, но во многих комнатах уже стояли жестяные печки. Однако у Мясникова печки еще пе было: обычно здесь все время сидело много народу, бывало накурено и душно. Но и теперь, когда Мясников остался на время один, оп не замечал холода. Все шагал из угла в угол, курил папиросу за папиросой и повторял мысленно: «Что там делается? Отправили нам помощь? И когда она подоспеет? Когда?»
И вдруг, поймав себя на том, что все время поглядывает на телефон, Мясников понял, почему сидит один в холодном кабинете. Из-за этого аппарата с черной эбонитовой ручкой... Он где-то в глубине души еще лелеет надежду, что именно из этого желтоватого цвета ящичка получит нужные ему сведения от посланных в армии Фомина, Щукина, Могилевского, Соловьева и других, от Алибегова и Перно... А ведь этого не будет! Теперь всякие сведения из внешнего мира могут дойти до него, как во времена орды, только через гонцов, и если он хочет узнать что-то хоть минутой раньше, то ему нужно выйти на улицу и встретить нарочных там.
Быстро натянув на себя шинель, он вышел из кабинета и, пробежав по коридору, спустился по лестнице в вестибюль Совета. Туда в это время как раз входила группа солдат в мокрых шинелях и, топая ногами по каменному полу, шумно галдела. Чей-то знакомый голос громко командовал, мешая русские и белорусские слова:
— Давай, давай, хлопцы, в дяжурку! Там печка для вас натоплена, — обсушитесь, поешьте. А после можно и поспать часок-другой...
«Это Николай, — подумал Мясников. — Произвел смену наружных караулов... Толковый человек... Пожалуй, один из лучших ротных командиров».
Курятников тоже увидел его и подошел. На обычно суровом его лице сейчас появилась какая-то мягкая и теплая улыбка.
— Здравия желаю, Александр Федорович, — отдал он по привычке честь. — Ну как вы живете-поживаете?
— Да ничего, Николай Митрофанович, все в порядке. Вот собрался выйти — обойти казармы, дозоры и караулы...
Курятников махнул рукой:
— Я сейчас был там, служба везде идет справно, зачем вам под дождем зря мокнуть? — И вдруг он придвинулся близко и спросил тихо: — Небось с утра ничего не евши, а?
— С чего ты взял? — пожал плечами Мясников. — Я поел.
На самом же деле у него со вчерашнего дня и крошки не было во рту, но до этой минуты, объятый тревожными мыслями и беспрерывно куря, он не думал о еде. Однако стоило теперь Курятникову заговорить об этом, как он сразу почувствовал сильнейший приступ голода.
— Ну, Александр Федорович, побойтесь вы бога, нехорошо же так, — тем временем жалобным голосом говорил ему Курятников. — Ведь Гапка моя убивается, што которую неделю даже на обед не ходите. Воровкой, разбойницей себя чувствует она, понимаете?
— Глупости какие! — сердито сказал Мясников. — Не хожу, потому что сам знаешь, какие тут дела творятся, дыхнуть некогда. Однако, как видишь, и ем, и пью, но умер еще с голоду.
Еще летом, когда Курятников был посажен в тюрьму, Мясников заглянул к нему домой — узнать, как живут его жена и двое мальчиков — восьми и шести лет, — и сразу понял, что дела их плохи. Хлеба, который Агафья, жена Николая, получала в продовольственных пунктах для семей фронтовиков, простояв несколько часов в очереди, конечно, не хватало. Спасибо родителям: иногда подкидывали ей из деревни мешка два бульбы, которую она и тратила с величайшим бережением. Она еще подрабатывала стиркой на офицеров из штаба, но на деньги, которые получала за это, на базаре ничего путного купить нельзя было. Минск буквально голодал, из-за развала транспорта и плохой работы снабженческих органов думы, Союза земств и городов получал наполовину меньше продовольствия, чем раньше, население же почти удвоилось в результате скопления беженцев с оккупированных территорий. На врачебно-питательных пунктах города произошли голодные бунты беженок-белорусок, не имеющих возможности прокормить детей. А 1 июля Михаил Васильевич Фрунзе в статье «К продовольственному вопросу», напечатанной в «Крестьянской газете», с горечью отмечал: «В городах нет хлеба, нет мяса и молока; среди детей небывалая смертность; растет озлобление рабочего и вообще всего малообеспеченного городского населения...»
Мясников сказал Агафье, что ему надоело питаться в столовой 37-го запасного полка, куда были прикреплены почти все приезжие большевики — члены Фронтового комитета, что соскучился по домашним обедам в семейной обстановке. Поэтому-де он хочет получать свое питание сухим пайком, как это делают многие офицеры, имеющие в городе семьи, и кормиться у Курятниковых. Бедная женщина, питавшая к бывшему начальнику, а теперь «старшому сябре» своего мужа подлинное благоговение, не решилась возразить, хотя и понимала, что Мясников просто хочет помочь ей и ее детям. Она решила про себя, что будет готовить для него отдельно и кормить тоже отдельно, благо, знала от соседей Портных, что жилец их уходит из дому рано утром, а возвращается всегда поздно, иной раз и ночью. Вот она и будет ставить перед ним миски со «снеданем»[6] и уверять: «Так хлопчики ж мои поели вже, а з ними и я. Так што ешьте, ешьте, Ляксандр Хведорович!»
Но ничего из этой затеи не вышло. Ляксандр Хведорович раза три или четыре действительно приходил к ним обедать, но, слыша вышеупомянутое объяснение, подозрительно косился на Агафью. Потом он и вовсе перестал появляться в их тесной комнатке. К этому времени он был избран председателем Севзапкома партии да еще редактировал новую большевистскую газету «Звезда», так что и в самом деле был занят день и ночь. Обосновавшись в своем кабинете в здании Совета, он поставил там койку и часто не ходил даже ночевать в свою каморку у Портных. Агафья, приготовив для него обед, до поздней ночи сидела у стола и ждала, когда же он придет, чтобы накормить его. А утром ей волей-неволей приходилось подогревать вчерашний обед и ставить перед вечно голодными детьми. Глядя на них, она сокрушенно качала головой и думала, что это из-за ее ребятишек Ляксандр Хведоровпч морит себя голодом.
А между тем Мясников, по его мнению, очень даже хорошо устроился. Поскольку его товарищи — Щукин, Кривошеин, Полукаров и другие — уже догадались, почему Мясников вдруг начал получать продукты сухим пайком, они каждый раз, идя в столовую, таскали и его с собой. Потом, получив «на всю артель» борщ и кашу в общих бачках, разливали в миски и ели. По этому поводу Алеша, посмеиваясь, рассказал им анекдот о сердобольной матери, которая сварила для своих детей по два яйца, не оставив себе ни одного, а дети, потрясенные столь великодушным поведением родительницы, отдали каждый по одному яйцу ей, так что та в итоге съела целых пять штук...
— Впрочем, я слышал, что там у караульных есть какой-то обед, — сказал он теперь Курятникову. — Если найдется для меня котелок, то поем с ними.
— Пошли, пошли, конечно, найдется! — обрадованно сказал Курятников.
В эти дни сложилась прелюбопытная ситуация. Основные продовольственные склады и пакгаузы находились на железнодорожной станции. Там же стояло несколько неразгруженных эшелонов с мукой, картофелем, мясными консервами, крупой и сахаром для фронта. Взяв 25 октября в свои руки власть, большевики установили охрану и над этими складами и эшелонами. А через два дня, отдав под охрану казаков даже оружейные склады и мастерские, они твердо заявили, что станцию не отдадут ни за что, в результате чего в их руках остались и продовольственные склады.
Тем не менее большевикам и в голову не приходило использовать это обстоятельство для борьбы со своими противниками. Соблюдался великий закон солдатской солидарности: два политически враждующих лагеря русской армии могли завтра начать менаду собой яростное сражение, стрелять друг в друга, колоть штыками, но лишать «своих фронтовиков» законного пайка, морить голодом — это было бы не по-солдатски, подло и недостойно. И поэтому каждый день к складам на станции подъезжали обозные подводы как большевистских частей, так и казаков, текинцев, польских легионеров и ударных батальонов, и интенданты, предъявляя скрепленные подписями и печатями списки личных составов, получали строго по установленным нормам все, что полагалось на их часта.
Мясников и Курятников вошли в одну из бывших классных комнат реального училища, превращенную сейчас в казарменное помещение караульной роты полка имени Минского Совета. Большая часть комнаты была занята двухэтажными деревянными нарами, а в свободном углу, сидя вокруг большой железной печки и держа между колен круглые медные котелки, солдаты с удовольствием, смачно уплетали кашу.
Курятников взял с печки один из полных котелков (возможно, это была его собственная порция), усадил Мясникова на лавку, достал из-за голенища деревянную ложку, обтер ладонью и подал гостю со словами:
— Снедайте на здоровьице.
— А хлеба, хлеба-то забыл, командир! — воскликнул кто-то из солдат.
Ну а потом, конечно, посыпались вопросы: как там, идет ли нам подмога? Сколько? Когда подойдет и с какой стороны? И Мясников, который полчаса назад сам мучительно думал об этом, теперь, сидя среди своих, «советских», и обретя уверенность, не кривя душой, уверял:
— Скоро, скоро, товарищи... А пока нам надо бдительно следить за каждым шагом противника и быть готовыми дать отпор, если он внезапно нападет до подхода наших.
Вскоре Мясников, подкрепившись у караульных, в сопровождении Курятникова обошел посты охраны, расставленные вокруг здания Минского Совета и на Коломенской площади, потом зашел в казармы Тридцать седьмого запасного полка, к красногвардейцам-железнодорожникам, везде призывая: «Будьте начеку, товарищи!»
...Поздно вечером, вернувшись совершенно разбитыми и усталыми в Совет, Алибегов и Перно подробно доложили Мясникову о первом заседании «комитета спасения революции» и под конец начали жаловаться:
— Просто какое-то наказание иметь дело с этой бездарной публикой, Алеша! Создали какое-то опереточное «правительство», но никаких вопросов, связанных со снабжением или медицинским обслуживанием населения, не обсуждают. Только одно их интересует — разоружение нашего полка.
— Так это же и есть их главнейшая цель, друзья, — пожал плечами Мясников, — убрать с пути полк имени Минского Совета и другие силы, разгромить нас здесь и потом поскорей отправить помощь своим под Петроград и в Москву.
— Но неужели они настолько глупы, чтобы верить, будто достаточно вынести постановление о роспуске нашего полка? — развел руками Перно.
— Ну, персонально никого из них глупым не назовешь, — усмехнулся Мясников. — Во всяком случае, и Жданов, и Нестеров — умные и подготовленные люди... Все дело, видимо, в этом пресловутом «колесе истории», которое вновь пытаются повернуть вспять. Когда тот или иной класс не понимает, что пробил его час и надо покидать арену, — а этого не хочет понять ни один обреченный класс! — то он и его представители начинают совершать акции, абсолютно не соответствующие реальной действительности, не чувствуя, что со стороны иной раз выглядят просто дураками... — Мясников почему-то вздохнул и покачал головой. — Это было, есть и будет до тех пор, покуда будут классы, так что с этим надо считаться как с неизбежным злом. Ну а вы в данном случае избрали правильную тактику: нужно продолжать всячески мешать попыткам Жданова и других правых элементов «комитета спасения» склонить колеблющихся штернов и перелей на свою сторону...
Член военревкома Второй армии Василий Пролыгин отправился из Несвижа на разъезд Хвоево в ту же ночь, 28 октября. Но, вынужденный дожидаться попутного транспорта, он добрался до места только к вечеру следующего дня.
Ветер гнал по небу рваные серые облака, трепал голые, темные от дождей ветки деревьев, выстроившихся за запасной линией, и на их фоне особенно массивными и мрачными выглядели угловатые, словно сложенные из гранитных плит, вагоны бронепоезда. Пролыгин двинулся было в ту сторону, но, боясь напороться на офицеров, об антибольшевистских настроениях которых его уже предупреждали, раздумал. Оглядевшись вокруг, он увидел по другую сторону путей несколько приземистых бараков и решил, что солдаты, должно быть, живут там. И все же сразу заявиться к ним было бы неосторожно, поэтому он все топтался на месте, пока не заметил какого-то солдата, шедшего от бронепоезда к баракам. Тогда он зашагал с независимым видом по шпалам, наперерез солдату. Когда они сошлись совсем близко, он достал из кармана кисет и, сделав вид, что только сейчас заметил солдата, спросил:
— Слышь, браток, не найдется ли у тебя огонька прикурить?
Тот внимательно, изучающе оглядел его забрызганные грязью сапоги и шинель, косматую папаху, потом молча достал из кармана спички.
Пролыгин свернул цигарку из махры и по неписаному солдатскому закону предложил незнакомцу кисет и обрывок газеты:
— На, заверни тоже.
— Благодарствую. — Видимо поняв, что этот усатый незнакомец с хитринкой в глазах неспроста завязал с ним разговор, солдат сворачивал цигарку не спеша, ожидая, сока Пролыгин заговорит.
— Ты с бронепоезда будешь? — спросил тот, кивнув в сторону тупика, где стоял поезд.
— Оттуда. — Солдат, не отрывая глаз от цигарки, скручявал ее в аккуратный цилиндрик. — А что?
— Как бы мне встретиться с председателем вашего солдатского комитета? — спросил Пролыгин.
— А на что он тебе? — поинтересовался солдат.
— Дело есть к нему... Как звать-то его?
— Яшей звать, — солдат вернул ему кисет.
— А фамилия?
— Да неважно... Зовем его Яшей — и все. Ну дай-ка огоньку.
Пролыгин зажег спичку и, защищая пламя ладонями, поднес солдату. Тот, нагнувшись, прикурил и снизу вверх взглянул Пролыгину в глаза.
— Так какое это будет дело, а?
Пролыгин тоже присматривался к своему собеседнику: чуть рябоватое лицо, пытливые, умные глаза, на тонких губах еле уловимо брезжит усмешка... Нет, с этим играть в молчанку не стоит, все равно не пройдет.
— Из Несвижа я прибыл, — сказал он, — от Революционного штаба Второй армии... Мне нужно встретиться с председателем вашего комитета.
— А-а... Ну что ж, это можно... Ты, однако, спички себе в карман не ховай.
— Прости, солдат, — смутился Пролыгин. — Дурная привычка.
— Ничего, это со мной тоже бывает. Пошли-ка. — Солдат повернулся и пошел к баракам.
— Где он? — спросил Пролыгин.
— Тот крайний барак видишь? — через плечо посмотрел на него солдат. — Там у нас вроде клуба, и там каждый вечер наши комитетчики собираются.
— Выходит, вовремя пришел?
— В самый раз, — кивнул солдат.
В бараке были расставлены грубо сколоченные из тесаных досок скамейки и столы, на которых в беспорядке лежали старые, истрепанные брошюры. А возле одного стола, на котором горела керосиновая лампа с закоптелым стеклом, сидели солдаты.
— Вот, товарищи, — обратился к ним спутник Пролыгина, — к нам заявился этот товарищ и уверяет, что послан сюда каким-то «революционным штабом» Второй армии. Слыхали о таком штабе, а?
Кто-то из сидящих поднял фитиль лампы, и Пролыгина начали разглядывать, словно диковинную вещь. Солдат, сопровождавший Пролыгина, зашел ему за спину, словно боялся, что сейчас он повернется и убежит. А тот, с лампой, солдат с квадратной бородой, произнес:
— Первый раз слышим о таком штабе.
— Подвиньтесь-ка, я сяду, — сказал Пролыгин. И, сев на кончик скамейки, спросил: — Вы в самом деле солдатский комитет бронепоезда?
— Ну да, мы и есть комитет, — мотнул головой тот же бородач. — Не веришь, что ли?
— А не вы ли будете председатель комитета? — обратился к нему Пролыгин.
— Я? — Тот кивнул головой за его спину. — Вон он, председатель, сам же привел тебя сюда,
— Ты? — Пролыгин оглянулся на своего недавнего спутника и сказал укоризненно: — Так чего же сразу не сказал, брат?
— А ради какого беса я буду первому встречному докладывать, кто я да что я? — пожал плечами тот. И снова спросил: — Так как же насчет этого «революционного штаба»? Ведь нету же такого, а?
— Есть. Организован прошлой ночью на экстренном заседании военревкома армии с участием представителя военревкома фронта товарища Соловьева, прибывшего из Минска. — Пролыгин расстегнул шинель и достал из кармана гимнастерки бумажку. — А вот и мой мандат.
Председатель взял мандат, придвинулся поближе к лампе и начал громко читать:
— «Член Революционного комитета и Революционного штаба Второй армии тов. В. Пролыгин направляется на бронепоезд Второй армии с целью немедленно двинуть его в Минск, на помощь Минскому Совету и пролетариату в борьбе с контрреволюцией. Солдатскому комитету бронепоезда предписывается оказать полное содействие тов. Пролыгину в выполнении этого важного боевого революционного задания.
Подписи:
Начальник Революционного штаба армии Н. Рогозинский
Представитель ВРК Западного фронта Г. Соловьев».
— А где печать? — повертев бумажку в руках, спросил председатель комитета.
— Ну, брат, это же глупый вопрос! — пожал плечами Пролыгин. — Какая тут может быть печать, ежели наш штаб был создан только прошлой ночью и это первый документ, составленный штабом?
— Но ведь такую бумажку может написать каждый, кто захочет! — возразил Яша. — Долго ли отстукать на машинке да поставить подписи? А мы, как дураки, сняли с позиции бронепоезд и погнали в Минск.
— А ты сядь друг, у меня же шея заболела — с тобой снизу вверх через плечо разговаривать! — И когда Яша сел напротив, Пролыгин спросил: — А для чего погнали в Минск? Чай пить или драться за революцию? Да вы хоть разбираетесь, кто есть революционеры, а кто — враги революции? Разбираетесь или нет? Стало быть, ежели я поведу вас против врагов революции, вы поймете, что я тот самый человек, о котором написано в мандате. И если я прикажу стрелять в революционеров, значит, я провокатор, контра, и тогда неужто у вас не найдется для меня пули?
Члены комитета переглянулись между собой: этот простой довод казался убедительным. На губах Яши снова появилась улыбка, на этот раз доверительная.
— Ну-ка достань свой кисет... — сказал он. — И спички тоже, ведь есть они у тебя.
— Конечно, есть, — с улыбкой сознался Пролыгин, выкладывая на стол кисет, сложенную квадратиком газету и коробок со спичками. И пока комитетчики сворачивали цигарки, продолжал: — И еще меня удивляет, как это вы до сих пор не задали вопрос: а что творится в Минске, зачем нужно двигать туда бронепоезд? А творятся там страшные для революции дела, товарищи, и спасти положение можем только мы с вами...
И он рассказал обо всем: и о контрреволюционных частях в Минске, и о том, что у наших всего две-три тысячи солдат против двадцати тысяч врагов. «Надо выручать наших!» — закончил Пролыгин.
Минуту все молчали, но потом тот же солдат с квадратной бородой, прищурив глаза от едкого дыма цигарки, произнес задумчиво:
— Да что там... Конечно, негоже для русского солдата сидеть сложа руки, когда свои там в беде.
И это решило все. Яша поднялся и сказал Пролыгину:
— Ты тут посиди малость, товарищ Пролыгин, а я пойду в бронепоезд да погляжу, нету ли там офицеров. А потом соберемся.
В разговорах между собой большевики в Минске удивлялись, почему, мол, штаб фронта и «комитет спасения», имея подавляющее превосходство в силах, все же не нападают на них сейчас же, медлят и упускают благоприятный момент, когда еще могут рассчитывать на победу. Между тем враг, вполне точно оценивая соотношение сил на всем Западном фронте, намерен был, прежде чем начать действовать в Минске, обезопасить себя от революционных частей фронта, подведя последние под удары немецкой армии.
В таком предательском намерении русской контрреволюции не было ничего необычного. История полна примеров, когда господствующие классы той или иной страны, не будучи в силах сами справиться с вышедшими из повиновения «низами», привлекали для борьбы с ними армии даже враждующей страны. И русская буржуазия тоже начиная с лета 1917 года постепенно приходили к выводу, что без вмешательства немецкой армии ей но обойтись.
Уже в августе, после провала летнего наступления и с период нарастания революционного движения в армии, Корнилов сделал первую такую попытку. 19 августа по его приказу с Рижского участка фронта внезапно были сняты некоторые части, в результате чего обнажились фланги революционно настроенных латышских и русских полков Двенадцатой армии. Немецкое командование, зная планы контрреволюции, перешло в наступление. Корнилов тогда надеялся, что большевистские полки будут быстро разгромлены, а захват Риги немцами даст возможность взвалить вину на те же полки, на «упадок дисциплины в армии» и на этом основании ликвидировать введенные в армии после Февральской революции солдатские комитеты, запретить участие солдат в политической борьбе.
На деле же оказалось, что в боях с перешедшим в наступление противником наиболее упорно дрались именно революционные части. И хотя они понесли огромные потери, но их стойкость позволила Двенадцатой армии Северного фронта организованно отойти на новые рубежи. Правда, Ригу пришлось все же сдать, но взвалить вину за это на якобы «разложившиеся под влиянием большевиков» войска не удалось. Наоборот, армия и страна поняли, кто является истинным виновником прорыва на фронте, сдачи Риги и страшных людских потерь, понесенных нашей армией, и это явилось одной из главных причин ненависти к Корнилову и провала его мятежа в последующие дни.
Но и этот урок не смог образумить контрреволюцию, ибо, чем выше поднималась революционная волна в стране, тем чаще буржуазия вынуждена была обращать взоры к той силе, против которой еще вчера призывала бороться «до победного конца». Вот почему на историческом заседании ЦК большевистской партии 10 октября было уделено так много внимания «несомненному решению русской буржуазии и Керенского с К0 сдать Питер немцам», намерениям отвести русские войска на Северном фронте и «переговорам между штабами и ставкой подозрительного характера» на Западном фронте. Ленин в те дни еще и потому так торопил ЦК с принятием решения о восстании, что донимал реальность планов удушения русской революции с помощью немецких штыков.
Октябрьская революция действительно сорвала замыслы русской контрреволюции открыть Северный фронт и сдать Питер немцам. Но на одном из участков Западного фронта, именно против позиций Гренадерского корпуса, в эти дни немецкие войска все еще вели деятельную подготовку к наступлению. С Юго-Западного фронта скрытно подвозились свежие резервы, усиливалась артиллерия, пополнялся боезапас для всех видов оружия.
Вообще-то немцы, убедившись после летних боев, что русские войска не способны и не желают наступать, сами также не имели никакого намерения вести здесь наступательные бои. Наоборот, обеспокоенные вступлением в апреле этого года Америки в войну, немцы перебрасывали на запад возможно больше сил, тем самым до предела ослабляя на востоке свои войска. И уже тот факт, что как раз в этот самый неблагоприятный, дождливый период осени, на самом неудобном болотистом участке двухтысячеверстного русского фронта немцы тем не менее вдруг начали готовить наступление против одного из самых боеспособных соединений противника, свидетельствовал, что они имеют точные сведения, что именно на этом участке и именно в эти дни смогут добиться несомненного и легкого успеха.
...Да, в тот знаменательный вечер 22 октября, после беседы у Балуева, Чернов, довольно точно определив, кто из присутствующих может быть введен в узкий круг посвященных в тайну «этого деликатного дела», пригласил к себе на конфиденциальную беседу Жданова. А на следующий день Жданов связался с Дитерихсом и получил уже более детальные указания, что уже сделано по этому вопросу и что остается сделать.
События 25 октября и отстранение Жданова от должности комиссара фронта, казалось, сорвали и эту затею корниловского охвостья в ставке. Но затем поход Керенского на Питер и его первоначальные успехи под столицей снова возродили у контрреволюционеров надежду на успех. Как раз 26 октября из Второй армии в Минск прибыл один из участников заговора — комиссар армии Гродский. Найдя Жданова, он сообщил ему то, чего нельзя было передать даже шифрованной телеграммой, — что немецкая сторона готова действовать. Удар по Гренадерскому корпусу будет нанесен в районе так называемых Срубовских высот 30 октября. В этот день комиссар Гродский созовет у себя в Несвиже всех старших начальников армии на «важное совещание». Таким образом, в момент германской атаки войска корпуса останутся совершенно без руководства, что сделает их разгром неминуемым.
Услышав это, Жданов решил, что ничто еще не пропало и что они получают прекрасный шанс повернуть ход событий в свою пользу. Вот почему комиссар Западного фронта с такой энергией взялся за сплочение вокруг себя всех антисоветских сил, за создание «комитета спасения революции» и возглавил контрнаступление против большевиков в Минске. Да и на переговоры с ними он согласился умышленно: он догадывался, что Мясников и его помощники хотели выиграть время, пока к ним подойдет подмога, но ведь и Жданову нужно было дождаться 30 октября, когда немецкие орудия на Срубовских высотах нанесут первый сокрушительный удар по большевистским силам.
Единственным человеком, которого он посвятил в свои планы, был начальник штаба генерал Вальтер, чья ненависть к большевикам была ему отлично известна.
И только 29 октября утром он и Вальтер вызвали в штаб командира Кавказской кавдивизии генерала Копачева и командира Польского корпуса генерала Довбор-Мусницкого.
— Господа, — обратился Жданов к ним, — по согласованию со ставкой предлагаю вам привести в боевую готовность ваши части к завтрашнему дню для наступления и быстрого разгрома большевистских войск в Минске. Однако приготовления к выступлению должны быть проведены весьма скрытно и атака должна начаться только после моего сигнала, который будет дан по телефону.
Оба генерала удивленно переглянулись, потом Довбор-Мусницкий спросил:
— Прошу прощения, господин комиссар, но почему именно завтра решено начать боевые действия против большевиков? И не укажете ли вы нам хотя бы приблизительное время наступления — утром, днем, вечером?
Жданов после некоторого колебания понял, что хоть этим генералам он обязан открыть часть истины.
— Предупреждаю вас, господа: сообщение, которое я сейчас сделаю, должно остаться тайной. И не только сейчас, но и на всю вашу жизнь! — Он понизил голос и сказал с расстановкой: — Мы до сих пор не могли приступить к решительным действиям из опасения перед ответными действиями Гренадерского корпуса. — Жданов еще более понизил голос: — Так вот... завтра этот корпус будет разгромлен противником на фронте!
Генерал Копачев, минуту глядя немигающими глазами на Жданова, спросил сдавленным голосом:
— Да откуда вам это известно? Довбор-Мусницкий, который быстрее уловил смысл происходящего, неодобрительно глянул на простака коллегу и буркнул:
— На то, кажется, и существует разведка, чтобы узнавать о намерениях противника, господин генерал...
Генерал Вальтер решил со своей стороны поддержать эту версию Довбор-Мусницкого:
— Иосиф Романович прав, господа. К сожалению, большевики здесь и во Второй армии создали такую обстановку, что мы даже при сильном желании не можем ничем помешать немцам провести эту свою операцию, господа.
Но Жданов решил, что хитрить больше не имеет смысла, и жестко произнес:
— Во всяком случае, это последний наш шанс. Понимаете? Мы надеемся, что разгром Гренадерского корпуса приведет к срыву не только корпусного съезда, который начнется завтра, но и армейского съезда, который намечен в явочном порядке большевиками и должен открыться 1 ноября в Несвиже. Надеюсь, вы понимаете, какую цель преследуют эти съезды? Избрать новые большевистские комитеты и отобрать у нас с вами армию! Если же в результате разгрома гренадеров перевыборы во Второй армии, являющейся главной опорой большевиков, будут сорваны, то произойдет замешательство также и в Третьей и Десятой армиях. Тем самым мы получим достаточно времени, чтобы превосходящими силами разгромить большевиков здесь, в Минске, и обезглавить большевистское движение на всем Западном фронте и в Северо-Западной области...
— Дай-то бог! — одобрительно произнес Довбор-Мусницкий.
— Итак, сигнал к вашему выступлению будет дан, как только я получу сведения о том, что Гренадерский корпус разбит немцами и корпусной съезд сорван. — Жданов посмотрел на часы. — Я должен пойти на заседание Комитета спасения революции, а вас попрошу сейчас же начать вместе с генералом Вальтером составление плана действий ваших частей в Минске, чтобы завтра к утру быть готовыми к выступлению. Сигналом к этому будет одно слово, переданное мной по телефону: «Свершилось!»
Но хорошее настроение Жданова скоро было испорчено до того, что он даже не смог пойти на заседание «комитета спасения».
В этот день на минский телеграф начали поступать из частей фронта телеграммы, адресованные Минскому Совету и военно-революционному комитету. Одной из первых пришла телеграмма 18-го Карсского гренадерского полка, гласившая:
«18-й Карсский гренадерский полк с великой радостью встретил весть о победе пролетариата и революционных солдат в столице и заверяет Минский Совет Рабочих и Солдатских депутатов, что по первому его требованию выступит на защиту Советской власти.
Да здравствует власть Советов! Да здравствует вождь пролетариата Ленин!»
А затем телеграммы такого же содержания начали поступать из полков и дивизий всех трех армий фронта. Минские телеграфисты, первыми начавшие саботаж против Советской власти, разумеется, и не думали доставлять их адресату — Совету депутатов, а немедленно пересылали в штаб фронта, где они приводили Балуева, Жданова и других одновременно и в бешенство, и в трепет. Правые лидеры «комитета спасения» понимали, что большевики несколько опередили их, — фронт приведен ими в движение. Ну а что, если, несмотря на ожидаемые события у Срубовских высот, остальные войска все же двинутся с оружием в руках на Минск для поддержки Совета и большевистского Севзапкома? И невольный страх перед неминуемым возмездием подсказывал им мысль, что, пожалуй, не стоит пока слишком задирать большевиков, что нужно избегать насильственных действий по отношению к ним.
Но Жданов и его приспешники в «комитете спасения» не знали, что эти сомнения в еще большей степени одолевают войска, с помощью которых они хотели разгромить большевиков в Минске. Им доносили, что уже давно среди польских легионеров в Минске работает группа поляков-большевиков, руководимых членом Северо-Западного комитета и исполкома Минского Совета Станиславом Берсоном, но они не представляли, насколько энергичными стали действия этой группы в последние дни. Им казалось, что введенные в город кубанские и особенно терские казацкие сотни просто невосприимчивы к агитации большевиков. На деле же со дня ввода их в город областной комитет большевиков и ВРК направили к ним лучших агитаторов. И они завязывали знакомства с казаками на улицах, даже проникали к ним в казармы и объясняли, убеждали, стыдили: «Неужто, братцы, вы опять, как при царе Николашке, будете слепо выполнять приказы ваших контрреволюционеров командиров, будете проливать кровь своих братьев крестьян, одетых в шинели, или рабочих и голодных беженцев, собравшихся здесь из захваченных немцами районов? Вы что, рехнулись? Или не понимаете, что весь фронт теперь стоит за большевиками, и если оттуда подойдут их войска, то вам придется ой как несладко?..»
И ни Жданов, ни генералы Довбор-Мусницкий и Копачев не знали, что как только в кавдивизии и Польском уланском полку начались подозрительные приготовления, то сразу же нашлись люди, которые сообщили об этом Минскому военревкому. И Мясников, который все эти дни ждал контрреволюционного нападения, сразу приказал привести в боевую готовность советские части.
Да, Жданов еще не знал об этом. Он поддерживал постоянную связь со ставкой и получал оттуда сведения, что наступление Краснова под Петроградом идет успешно, большевики серьезного сопротивления не оказывают. Поэтому и ему, и минскому «комитету спасения» предписывалось, во-первых, ни в коем случае не допускать переизбрания старых комитетов в армиях и перехода их в руки большевиков, во-вторых, во что бы то ни стало разоружить воинские части Минского Совета и ликвидировать как Совет, так и военно-революционный комитет Западной области и фронта, в-третьих, отправить как можно больше войск на помощь Краснову и Керенскому.
Руководствуясь этими указаниями, Жданов и «комитет спасения революции» в этот и последующие дни рассылали во все части фронта телеграммы о том, будто войска «законного правительства снова вошли в Петроград», что «так называемое правительство Легаша разогнано» и что в Минске «Совет депутатов добровольно уступил власть единственно законному правительству в области и на Западном фронте, которому и должны подчиниться все воинские части и гражданские организации». А в секретных телеграммах командующим армиями и эсеро-меньшевистским комитетам предписывалось всячески препятствовать проведению перевыборов старых комитетов в частях и соединениях и готовить верные войска для отправки в Петроград.
Вечером 29 октября, в тот самый час, когда на полустанке Хвоево Василий Пролыгин вел переговоры с бойцами бронепоезда о походе на Минск, на заседании «комитета спасения революции» произошла очередная стычка между большевиками и их противниками. Уже порядком уставшие члены «комитета» собирались было разойтись, когда в комнату ворвался возбужденный Николаев и, не дожидаясь разрешения председательствующего, начал выкрикивать:
— Товарищи! Только что стало известно, что Минским Совет и большевистский военно-революционный комитет, который, несмотря на наши требования о роспуске, продолжает функционировать, задумали страшное предательство! В то время как их представители, — Николаев метнул гневный взор на Перно и Алибегова, — ведут здесь сладкие речи с целью усыпить нашу бдительность, их полк, направив жерла зенитных орудий на штаб фронта, движется сюда, чтобы арестовать Комитет спасения революции, арестовать штаб и расправиться со всеми нами! Товарищи, я предупреждаю вас — в особенности вас, товарищ Штерн, вас, Вайнштейн и Перель, это вы ведете здесь трусливую политику потакания большевистским обманщикам, — что в опасности находится не только дело революции и демократии, но и ваша собственная жизнь! Необходимо принять немедленные и самые решительные меры, иначе будет поздно!
Поднялся невообразимый шум, кричали наперебой о вероломстве большевиков, об их стремлении нарушить соглашение, которое они сами же подписали. Накаляя атмосферу, один за другим выступали Злобин, Кожевников и Нестеров, снова и снова требуя, чтобы «большевистские заговорщики во главе с этим азиатом Мясниковым» были немедленно арестованы, а «разбойничья банда, именуемая полком Минского Совета, разоружена», ибо только после этого в городе и области воцарится спокойствие и появится возможность сохранения демократической власти...
Была минута, когда Алибегов и Перно, ничего не знающие о том, что происходит в городе, вдруг усомнились: «А что, если это правда и наши решили выступить против штаба и «комитета спасения»? Но нет, при нынешнем соотношении сил наши на такую авантюру не пойдут! Да и как они могут начать такое дело, не предупредив нас?»
И когда Штерн наконец потребовал от представителей Минского Совета объяснения, Перно поднялся с места и спокойно заявил:
— Мы категорически отвергаем все эти инсинуации насчет «тайных замыслов» Минского Совета. Вы все, здесь присутствующие, достаточно хорошо знаете наших товарищей — Мясникова, Ландера, Кнорина и других — и должны понять, что они не могли бы предпринять такие шаги, не предупредив меня и товарища Алибегова, ибо это означало бы отдать нас на растерзание вам... Может быть, вы, эсеры и меньшевики, способны так поступать с вашими товарищами, но большевики на такое не способны!
Сказав это, Перно не счел нужным продолжать свои доводы и сел. Но тут встал с места Алибегов.
— Вчера представитель партии эсеров Злобин голословно и бездоказательно кричал тут, что его якобы «арестовали»... — начал оп. — И вот сегодня другой представитель партии эсеров закатил столь, же великолепную историку. И почему-то никому не приходит в голову предложить: «Давайте выйдем на улицу и посмотрим, где эти наступающие войска, где эти пушки, жерла которых якобы направлены на штаб, и почему до сих пор не раздается гром сражения?»
— А ведь правда... — невольно вырвалось у Переля.
— Что «правда»? — окрысился на него Николаев. — Выйдите на улицу и увидите, что повсюду расставлены пикеты этого большевистского полка!
— Ну, во-первых, это заявление тоже нуждается в проверке, — пожал плечами Алибегов. — Но даже если пикеты действительно выставлены, то разве это означает «наступление»? Вы же военный, поручик Николаев, и должны бы знать, что наступающие не выставляют пикеты, а высыпают вперед дозоры! Ну вот и давайте пойдем со мной и выясним, что это за пикеты, кем выставлены, с какой целью... И если окажется, что они выставлены нашими, то я на основании полномочий от Минского Совета берусь немедленно снять их и. тем самым еще раз подтвердить лояльность Совета в отношении «комитета спасения революции».
— Правильно! — вновь и еще громче воскликнул Перель, которого явно обидели слова и тон Николаева. — Хватит панических заявлений, выкладывайте факты!
Николаеву ничего не оставалось, как согласиться.
- Что ж, пойдемте...
На улице была темная ночь, лил проливной дождь, было безлюдно, из редких окон падал тусклый свет. Алибегов и Николаев шли молча, говорить им было не о чем.
Едва они прошли немного по Захарьевской улице и свернули за первый угол, как перед ними возникли два темных силуэта и раздался оклик:
— Стой! Кто идет?
Николаев потянулся было к револьверу, но Алибегов поспешно шагнул вперед и отозвался:
— Уполномоченный Минского Совета Алибегов! Один из солдат с винтовкой наготове приблизился вплотную к нему, стараясь разглядеть его лицо.
— Ну я это, я, Алибегов! — проворчал Алибегов и спросил: — По чьему распоряжению выставлен пикет?
— По приказу комиссара Тридцать седьмого запасного полка, — ответил один из солдат.
Комиссаром этого полка, после того как его отстранили от должности коменданта города, был Кривошеий. Николаев знал об этом, поэтому злорадно воскликнул:
— Ага, видите? Вот вам и «голословные обвинения»!
— Погодите вы! — резко бросил Алибегов и вновь обратился к караульному: — А по какому поводу?
— Да говорит, будто казаки собираются напасть на нас, — сообщил тот. — Есть такие сведения.
— Казаки? Чепуха! — возмутился Николаев.
— Чепуха или не чепуха — это мы выясним в штабе полка, — оборвал его Алибегов. И снова повернулся к караульным: — Проводите нас к вам в штаб.
По дороге в казармы 37-го полка они встретили еще несколько пикетов, и каждый раз Николаев что-то ворчал, но Алибегов не обращал на него внимания, шел дальше.
Наконец они дошли до казармы 37-го полка и вошли к Кривошеину. Тот сидел за столом, в кожанке и при оружии, вид у него был усталый, ему явно не мешало бы выспаться. Увидев эту странную пару — Алибегова и эсера Николаева, — он протер глаза и с удивлением уставился на них.
Алибегов, поздоровавшись, коротко объяснил причину их совместного появления здесь.
— Почему выставлены пикеты? — Кривошеий мрачно посмотрел на Николаева и, достав из кармана какую-то сложенную бумажку, бросил на стол: — Прочтите-ка это.
И поскольку Николаев не спешил взять бумагу, первым ее прочитал Алибегов. Там неровным почерком и без всяких знаков препинания было нацарапано:
«Товарищи
пишет вам друг из кавк кавдивизии будти осторожны наши охвицера хочут ночью напасть на вас уничтожит бо ви им паперек горла так что смотрите воба
ваш друг казак сочувствующий вам»
Читая, Алибегов чувствовал, с каким напряжением следит за ним Николаев, и поэтому намеренно не торопился передать ему записку, снова и снова перечитывая ее и хмуря брови.
— Ну что там такое? — наконец не выдержал Николаев.
Алибегов перевел взгляд на него и произнес раздельно:
— Очень интересные вещи, Николаев, о-чень!.. Николаев взял записку, пробежал глазами и, несмотря на все свое желание казаться спокойным, невольно побледнел.
— Чушь! — наконец сказал он, бросив записку на стол. — Бред какой-то!
— Вы в этом уверены? — насмешливо спросил Алибегов.
— Совершенно. Это или написано каким-то провокатором, или, скорее, сфабриковано здесь же!
При этих словах Кривошеин гневно вскочил на ноги. Да и сам Алибегов в другое время схватил бы этого офицерика за ворот и вытряс бы из него душу. Но сейчас заставил себя улыбнуться.
— Послушайте, то-ва-рищ Николаев, вы не замечаете, что именно вы все это время несете несусветную чушь? Ведь если бы это была фальшивка, мы бы не держали ее здесь. Фальшивки создаются для того, чтобы предъявить кому-то и использовать их как повод для начала враждебных действий. А эта записка, как видите, никому не была предъявлена, и наш полк выставил пикеты только с целью защиты от ваших враждебных действий...
— Ерунда! — крикнул Николаев. — Повторяю, это провокация! Никакого нападения на вас никто не задумывал... — И вдруг выпалил: — Я требую, чтобы было созвано собрание. Я хочу говорить с солдатами, которых кто-то вводит в обман!
«Вот дурак, — подумал Алибегов. — Совсем потерял голову и допускает ошибку за ошибкой». Он повернулся к Кривошеину и, подмигнув ему, сказал:
— Что ж, давайте созовем полк на собрание, ведь все равно по милости этих господ люди не спят.
Алибегов был уверен в провале Николаева и не ошибся. Когда тот попытался в своей речи убедить солдат, что «комитет спасения революции» не имеет никаких намерений нападать на полк, и призвал подчиниться «комитету» как «единственной законной власти» на фронте и в области, ему ответили свистом и криками: «Враки!.. Рассказывай сказки своей бабушке, ядрена вошь!.. Долой!..»
В первом часу ночи Алибегов и Николаев вернулись в «комитет спасения», где представитель Минского Совета доложил о результатах проведенной проверки и выразил решительный протест по поводу вероломных действий эсеро-меньшевистских лидеров против Минского Совета.
И снова Жданову и Колотухину с компанией пришлось перейти от наступления к обороне.
Ну что ж, так или иначе, был выигран еще один день...
Собрав в 11 часов ночи в одном из блиндированных вагонов пулеметную, артиллерийскую и техническую нестроевую команды бронепоезда, Яша представил им «прибывшего по очень важному для мировой революции делу члена Революционного штаба армии» товарища Пролыгина.
Было видно, что председатель комитета пользуется непререкаемом авторитетом у команды, поэтому столь высокая аттестация сразу настроила присутствующих в пользу Пролыгина.
Пролыгин рассказал теперь уже всей команде о положении большевиков и Минского Совета и контрреволюционных действиях Фронтового комитета и штаба фронта, о необходимости того, чтобы бронепоезд немедленно направился в Минск, ибо от этого зависит не только судьба революции на Западном фронте, но, может быть, и судьба революции в самом Петрограде, где рабочий класс и революционные солдаты во главе с товарищем Лениным ведут смертельную борьбу за светлое будущее.
Речь эта была встречена аплодисментами, но Яша тем не менее поставил вопрос на голосование. И тут поднялся один из солдат и сказал:
— Погодите-ка, братцы! Ну, мы тут все, что и говорить, за мировую революцию и за поход на Минск. Но как же будет, ежели наши командиры не захотят пойти с нами?
— Товарищи, — сказал Пролыгин, — вопрос, конечно, правильный. Но сейчас важно, чтобы команда захотела идти в этот поход. А что касается офицеров, то попробуем уговорить их; согласятся — хорошо, а нет, так обойдемся без них!
— Как это так — «обойдемся»? — моргая белесыми ресницами, продолжал тот же солдат. — Кто же будет командовать?
— Ну я, например, — улыбнулся Пролыгин. — У меня от Революционного штаба есть полномочия... А вы будете мне помогать. — И, оглядев собрание, продолжал: — Я вижу, что есть еще товарищи, которые стоят за революцию, но ясно не представляют, что это значит. А это значит, братцы, что мы, рабочие и крестьяне, берем в свои руки власть и начинаем сами управлять всеми делами. Понимаете это? Каждый из нас, у кого на плечах голова, а не кочан капусты, завтра может командовать полком, дивизией и армией, будет управлять заводом или фабрикой вместо буржуев, будет сидеть в правительстве вместо бывших министров... Будет трудно, думаете? А как же — с непривычки да оттого, что у нас еще мало знаний. Но что поделаешь, когда-то надо начинать. Так вот мы сейчас и начинаем... И думаю, что рабочему человеку все по плечу и бояться трудностей ему нечего, он все выдюжит!
Кое-кто с недоверием хихикнул, но этот напористый гренадер определенно нравился всем, ему снова похлопали. Яша опять предложил голосовать: кто за то, чтобы бронепоезд пошел в Минск на помощь Совету, если даже командный состав будет против? Присутствующие все, как один, подняли руки.
— Мне пришла в голову еще одна мысль, — улыбаясь, заявил Пролыгин. — Поскольку ваш бронепоезд стал первым бронепоездом революционной армии, предлагаю назвать его именем вождя революции товарища Ленина.
Раздался гром аплодисментов и крики одобрения.
— Только учтите, — предупредил Пролыгин. — Имя это марать нельзя, ежели придется драться, так до последнего дыхания, до последней капли крови!
Когда и с этим единодушно согласились, Пролыгин предложил послать людей в барак, где жили офицеры бронепоезда, и привести их сюда для беседы.
Выяснилось, что коменданта там нет, (то ли уехал в штаб армии, то ли дулся в карты где-нибудь на станции), поэтому к Пролыгину привели помощника коменданта и трех младших офицеров, начальников команд. Разбуженные среди ночи и приведенные под конвоем, не понимая, что происходит, они были порядком напуганы. Но когда помощника коменданта ввели в купе, к сидящему рядом с членами комитета солдату с пышными усами, и тот, вкратце объяснив, кто он и зачем прибыл, предложил ему участвовать в походе, помощник коменданта нашел в себе силы твердо и решительно отказаться.
Именно потому, что Пролыгин ничего иного и не ожидал услышать, он отнесся к этому спокойно.
— Что ж, господин штабс-капитан, тогда мы вынуждены арестовать вас. Вы будете сидеть в купе под охраной, вас будут кормить, но учтите: при первой же попытке помешать нам или совершить побег вы немедленно будете расстреляны! — предупредил Пролыгин.
То же самое произошло и с остальными офицерами. Все они были разоружены, заперты в купе для комсостава, и к ним была приставлена охрана. Команда, видимо, давно недолюбливала этих офицеров, поэтому отнеслась к их аресту с явным одобрением. Но когда за отказ вести бронепоезд пришлось арестовать и машиниста, то среди части солдат возникло замешательство. Раздались голоса:
— А кто же поведет паровоз?
— Что ж, придется этим делом заняться мне, — просто ответил Пролыгин.
— А ты умеешь?
— Если берусь, значит, умею, — улыбаясь ответил Пролыгин и обратился к Яше: — Дайте-ка бумагу и чем писать...
Минут через десять он громко прочитал личному составу написанный им боевой приказ:
«1. За неподчинение Революционному штабу Второй армии мной, в согласии с комитетом и личным составом бронепоезда имени вождя революции Ленина, арестованы командный состав и машинист бронепоезда.
2. Объявляю личному составу, что с этой минуты вступаю в командование бронепоездом имени Ленина и назначаю старших унтер-офицеров артиллерийской, пулеметной и технической команд своими заместителями.
3. Приказываю: в 8 часов утра 30 октября бронепоезду быть готовым к походу на Минск, в помощь Совету депутатов и Военно-революционному комитету Западного фронта.
4. В связи с этим предлагаю командам перенести нна бронепоезд все наличие пулеметных лент и все снаряды к 38-миллиметровым пушкам. Взять в резерв 50 ящиков патронов. Пересмотреть, почистить и привести в полную боевую готовность все оружие бронепоезда.
5. Кашеварам приготовить к 6-ти часам утра обед для личного состава и иметь запас продуктов на дальнейший путь следования.
6. Во избежание всяких провокаций и враждебных действий против бронепоезда выставить вокруг усиленную охрану.
Член Ревштаба Второй армии Западного фронта В. Пролыгин».
Этот обстоятельный и деловой приказ произвел на команду весьма сильное впечатление. Оно и понятно: приказ Пролыгина доказывал, что этот невесть откуда взявшийся человек не из тех говорунов и «портачей», что умеют лишь «толкать» речи.
Вся команда немедленно приступила к подготовке похода, а сам Пролыгин как машинист начал готовить поезд к отправке. Сначала он прошелся вдоль броневых вагонов, обстучав молотком все колеса и смазывая маслом подшипники. К бронепоезду было прицеплено несколько платформ с рельсами и шпалами — на случай аварии. Пролыгин осмотрел и их. После этого заправил топку и, когда пар в котле поднялся до нужного давления, раза два прокрутил колеса на холостом ходу.
Все это время за ним по пятам ходила группа солдат, видимо все еще не совсем веря, что он способен справиться с управлением паровозом. Пролыгин вполне понимал их, поэтому не только не прогонял, но и часто деловито просил: «Помоги-ка, браток, смазать втулку шатуна. Вот эту, эту... Ага. А теперь давайте проверим сальники... Порядок!» И эта демонстрация знания деталей механизма помогла окончательно рассеять все сомнения команды. Поэтому, когда к восьми часам утра Пролыгин дал приказ занять свои места, он уже знал, что является полным хозяином положения и может рассчитывать на людей до конца.
Вместе с Яшей и еще одним солдатом из технической команды он поднялся в будку машиниста, дал свисток и начал выезжать из тупика на разъезд.
Офицер, которого Соловьев встретил на улице Несвижа, был и в самом деле Виктор Иванович Евгеньев.
После ссоры с женой он целых два дня сидел почти безвыходно в своей комнате. К комиссару Гродскому он, конечно, не пошел, ведь туда пошел Веригин! Внутренне он ощущал, что если ему и нужно пойти к кому-либо, то, вероятно, к большевикам, как это и предлагала Беллочка. Но вся беда как раз в том, что она, предлагая это, давала конкретный адрес Мясникова. И тут у Евгеньева в голове все начинало путаться. Каждый раз, когда он вспоминал свою встречу с этим человеком в поезде, им овладевало какое-то чувство неловкости за свое поведение. Да, уже тогда он понимал, что перед ним человек не просто хорошо образованный и воспитанный, но и обладающий непоколебимыми убеждениями и той внутренней силой, которая отличает по-настоящему незаурядных людей. Но Евгеньев тогда, совсем еще не превыкший совмещать в своем представлении понятия «офицер» и «политик», разговаривал с Мясниковым надменным и даже оскорбительным тоном. И как же теперь он пойдет к нему и что скажет? «Вот, мол, я теперь все понял и поверил в ваши идеи?» Чушь, ни во что он еще не поверил и ни в чем не уверен!
Да, но Беллочка в одном права: его колебания не могут длиться бесконечно. В стране уже поднялась буря, и она быстро сметет всякого, кто не поспешил ухватиться за что-то крепкое, имеющее сильные корни или фундамент. И раз он по личным соображениям не может пойти к самому Мясникову, то все же к кому-то надо пойти.
Тут он вспомнил о руководителе армейских большевиков Рогозинском. Этот офицер, вчера такой же поручик, как он сам, теперь стал во главе какого-то «военно-революционного комитета» армии, намеревающегося после проведения армейского съезда взять в свои руки командование армией. К этому уже легче пойти и спросить: «Скажите-ка, голубчик, ведь вы тоже наверняка не из рабочих и крестьян, что же побудило вас стать большевиком? Неужели вы не понимаете, что Россия не может существовать без армии, а армия — без дисциплины, без подчинения младших старшим, солдат — офицерам? А ваша революция есть бунт солдат против офицеров, то есть она призвана погубить армию, а стало быть, и Россию! Так зачем же вы пошли на это? Из честолюбия, из желания стать солдатским кумиром, «вождем», а там хоть трава не расти? Или у вас действительно есть какая-то иная правда, которую я еще не могу постигнуть? Так какая она, скажите, поделитесь, чтобы я тоже мог разобраться в этом кавардаке, знать, куда мне идти, с кем и зачем...»
Евгеньев считал, что в эти дни имеет право обращаться с такими вопросами к любому офицеру и ждать ответа. Думая так, он наконец собрался в тот дождливый вечер к Рогозинскому, когда встретил Соловьева. И пока шагал рядом с ним к дому, где помещался военревком армии, вдруг посмотрел на предстоящий разговор совсем иными глазами. Во-первых, он понял, что этому разговору помешает шагающий рядом человек, который, конечно, был большевиком. Да и сам Рогозинский едва ли станет разговаривать с невесть откуда взявшимся летчиком о том, почему он выбрал этот, а не иной жизненный путь. Скорее всего, он примет Евгеньева за провокатора, подосланного штабом. От этой мысли ему стало так не по себе, что он немедленно повернулся и пошел назад.
Но, не дойдя до своего дома, он остановился, потрясенный: что же, выходит, ему некуда идти? Ни к комиссару Гродскому, ни к Рогозинскому? «То есть как это — некуда? — тут же спросил он самого себя. — Ты же знаешь... Туда, к гренадерам! Да, да! Как сказал в тот день капитан Веригин? «Мы это дело так не оставим». Я должен был сразу же догадаться, что если прольется кровь (как уверенно говорила об этом Изабелла), то прежде всего там, в Гренадерском корпусе...»
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Бронепоезд, непрерывно давая гудки, подошел к небольшому обветшалому зданию станции Синявка и остановился. В прифронтовой полосе, где движение обычных поездов почти не было, а воинские и санитарные эшелоны отправлялись с ведома военных властей, неожиданное появление бронепоезда вызвало страшный переполох.
Начальник станции и дежурный по станции, военный комендант и диспетчер, все сонные, выскочили на мокрый после ночного дождя перрон, тараща глаза на бронепоезд. Удивление начальника станции еще более усилилось, когда вместо коменданта бронепоезда, с которым он не раз играл в карты, с паровоза соскочил незнакомый усатый солдат без шинели, с перепачканными углем и маслом руками и потребовал у него пути на следующую станцию — Замирье.
— Кто ты такой? Где комендант поезда? Где офицеры? — пораженно спрашивал начальник станции.
— Старое командование бронепоезда отстранено, — спокойно сообщил Пролыгин. — Бронепоездом теперь командую я.
— Что?.. По чьему распоряжению? Почему нас не известили об этом? — вмешался военный комендант станции, офицер в чине поручика, разглядывая этого кряжистого гренадера.
—Смена командования произведена по распоряжению соответствующих органов и признана командой бронепоезда, — все так же спокойно отвечал Пролыгин, не спешивший открывать все свои карты. — А остальное вас не касается.
— Не касается? — побагровев от гнева, крикнул комендант. — Да ты бандит какой-то! И я сейчас тебя арестую!
— Ну, ну, стоп и задний ход, господин поручик, — насмешливо произнес Пролыгин. — Поглядите-ка на бронепоезд.
Все оглянулись. Боевые люки бронепоезда были открыты, и оттуда выглядывали дула пушек и пулеметов, нацеленные на станцию.
— Ну как, даете путь на Замирье или нет?
— Без приказа командования фронтом и начальника передвижения не имею права, — уже со страхом, но достаточно твердо ответил начальник станции.
— Ну и черт с вами! — бросил Пролыгин. — Мне путь не нужен, бронепоезд обойдется и без вашего пути. Но предупредите следующую станцию о нашем выезде. Учтите, если навстречу нам будет пущен поезд, я вернусь сюда и тогда ваши минуты сочтены!
Он спокойно повернулся и влез в будку паровоза, откуда все это время за их разговором следили Яша и кочегар. Дав свисток, Пролыгин двинул поезд вперед.
Некоторое время ехали молча. Но когда миновали закрытый семафор, Яша сказал с явной почтительностью в голосе:
— Здорово ты с ними разговаривал. Только учти, командир, впереди Десятый железнодорожный батальон, а там заправляют эсеровские гады...
— Думаешь, могут устроить нам какую-нибудь пакость? — спросил Пролыгин.
— Все может быть, — пожал плечами тот. И кивнул назад, в сторону Синявки: — Эти-то сейчас, поди, по всему пути поднимут тревогу о нашем движении.
— Что ж, будем ехать осторожно. Позвони-ка в головной вагон, чтобы смотрели в оба.
Яша позвонил по внутреннему телефону в головной вагон и передал приказ коменданта поезда: внимательно следить за дорогой и докладывать обо всем, что покажется подозрительным.
А в это время начальник и военный комендант станции Синявка в самом деле передавали в штаб фронта депешу:
«Бронепоезд Второй армии захвачен неизвестными лицами зпт видимо большевиками тчк командный состав арестован зпт может быть даже расстрелян тчк после нашего отказа дать путь станцию Замирье отправился туда самовольно зпт угрожая открыть огонь против сопротивляющихся тчк просим принять меры».
Жданов был напуган. Записка, посланная неизвестным солдатом из кавдивизии, насторожила большевиков и заставила их принять меры на случай нападения войск «комитета спасения». Еще она свидетельствовала об успешной работе большевиков среди самых верных «комитету спасения» войск, о том, что если казаки и не склонны перейти на сторону большевиков, то и не горят желанием схватиться с ними.
Да еще этот эпизод утром, когда Жданов ехал на своем автомобиле в штаб. По дороге он увидел взвод солдат из этого ненавистного большевистского полка. Солдаты шагали, печатая шаг на булыжной мостовой и глядя прямо, словно на параде, и чувствовалось, что это делается вовсе не напоказ, а от внутренней подобранности, словно они хотели сказать всему свету: «С нами не шути!»
Немногочисленные прохожие невольно останавливались, и Жданов, к своей досаде, читал в глазах большинства восхищение этими людьми.
И в это время из-за угла скорым шагом выехали несколько казаков. Конник всегда знает, что при встрече с пешими те обязательно уступят ему дорогу, даже если это солдаты, идущие в строю, — они или свернут в сторону, или же расступятся, обходя с двух сторон верховых. Поэтому и сейчас казаки продолжали ехать прямо по середине узкой улицы, уверенные, что взвод пехоты уступит им дорогу. Но ничего подобного не случилось. Идущий впереди взвода солдат с лихо заломленной шапкой оглянулся через плечо на строй, словно говоря: «Ну-ка подтянись!» И взвод, еще крепче чеканя шаг и держа равнение в рядах, продолжал идти на конников. Когда до них оставалось буквально шагов пять, казаки удивленно натянули поводья, потом начали осаживать коней, поспешно отводя их в стороны. А взвод все тем же четким шагом, словно бронированная машина, прошел между ними, чуть ли не касаясь боков лошадей. С тротуаров послышались одобрительные возгласы и даже аплодисменты. Казаки растерянно смотрели на этих сумрачных, решительных людей, потом один из них, смущенно улыбнувшись, воскликнул:
— Вот чертяки скаженные!
Жданов, чья машина вынуждена была остановиться, пока эти две группы разойдутся, хотел было накинуться на казаков и обругать их слюнтяями и бабами, по вместо этого досадливо буркнул своему шоферу, тоже удивленно глазеющему на эту сцену:
— Да езжай ты, растяпа!
И потом долго еще мысленно возвращался к этому и произносил с ненавистью: «Хамье!.. Мерз-завцы!.. Наглые выскочки!.. Ну погодите же, погодите!..»
Но это было только началом его невезения в этот день. Он нетерпеливо ожидал сообщения из Второй армии. Долго никаких известий не поступало. Прошел час, потом другой... К его величайшему огорчению, он не мог сам запросить по телеграфу штаб Второй армии и узнать, что же там творится. Четыре дня назад, инструктируя Гродского, он лично дал указание, чтобы об этом не велось никаких предварительных телеграфных переговоров, даже шифрованных. Нет, весть об атаке немцев на Гренадерский корпус должна быть сообщена штабом армии открытым текстом только после ее начала, да и в дальнейшем переговоры об этом между армией и фронтом должны убедить всех, кто будет знакомиться с ними, будто никто на русской стороне и не подозревал даже о намерениях противника...
И когда его нетерпение достигло предела, ему вдруг позвонил Балуев:
— Венедикт Алексеевич, прошу срочно зайти ко мне! — в голосе командующего звучала явная тревога.
Жданов вспомнил: ведь после той памятной встречи с Черновым, испугавшись, что этот честняга солдат все же не годится для подобных дел, он в дальнейшем уже не стал вводить Балуева в курс того дела. Он понимал, что когда это произойдет, главком догадается, что к чему. Но тогда уже дело будет сделано, и Балуеву придется смириться с совершившимся фактом. А сейчас генерал, наверное, получил депешу об этом, и вот...
Жданов буквально ворвался в кабинет главкома. Там уже находились генерал Вальтер и почему-то еще начальник передвижений штаба фронта, круглый как шар полковник Парамонов. Его и без того налитое кровью лицо сейчас стало почти лиловым.
— Посмотрите, Венедикт Алексеевич, — Балуев протянул комиссару телеграфный бланк, — посмотрите, что делается!
Жданов взял, быстро прочитал телеграмму и, решив, что кто-то вздумал глупо подшутить над ним, сердито оглядел присутствующих. И лишь потом, спохватившись, снова начал читать телеграмму:
«Бронепоезд Второй армии захвачен неизвестными лицами зпт видимо большевиками...»
Они ехали медленно, осторожно, все время вглядываясь в железнодорожную насыпь. Стоило им заметить свежераскопанное место возле рельсов или еще что-либо подозрительное, Пролыгин останавливал паровоз и несколько человек бежали осматривать, не минирован ли путь.
Подъезжая к блокпосту, возле которого виднелся верстовой указатель с цифрой 848, Пролыгин заметил дежурного с путевкой в руках. Он замедлил ход и остановил поезд. Дежурный у блокпоста, пяля на него испуганные глаза, вручил путевку. Когда поезд снова тронулся, Яша крикнул ему насмешливо:
— Чего глядишь как вурдалак, зенки повылазиют!
Потом, некоторое время помолчав, Яша сказал:
— А ведь дали путь, а? Значит, теперь по всей линии, до самого Минска, знают о нас. И готовятся...
— Само собой, — согласился Пролыгин. — Такое уж дело железная дорога: с пути не сойдешь, меж кустиков по-пластупски не проползешь.
— Угу... Но ведь на пути есть не только ихние, но и наши, — с надеждой произнес молодой солдат-кочегар по фамилии Глонта. — Ведь железнодорожники — самый что ни на есть пролетарьят...
— В Минске так оно и есть, — кивнул Пролыгин. — А вот по пути... всякое может случиться...
Помолчали еще немного. Потом Яша снова сказал:
— А ведь ты в самое время прибыл к нам, браток, прямо на спасение наших душ.
Пролыгин удивленно посмотрел на него, а тот продолжал серьезно:
— Истинно говорю тебе, поверь. Понимаешь, и так мы уже который месяц плесневели на этом проклятом тупике. Правда, собрания проводили, газеты читали, политкурсы открыли. И вдруг в последние дни, откуда ни возьмись, появились эти... ну, б...
— Да ну? — удивился Пролыгин. — В такой-то глухомани?
— Ага... Облепили и поезд, и бараки — ну прямо как клопы. Вертятся вокруг да около, цепляются: «Солдатами, соколики...»
Глонта, шуровавший лопатой в топке, оскалил окаймленный черными губами рот: «гы...», потом, застеснявшись, снова отвернулся к топке.
— М-да... И что же? — спросил Пролыгин.
— Ну, в первое время мы на это сквозь пальцы смотрели: ладно, мол, что там, солдаты не монахи, который уж год живут без баб... Но потом смекнули: а ведь это ихние дела, буржуев да офицерья!
— Думаешь? — покосился на него Пролыгин.
— А ты сам смекай, брат, ведь ремесло-то у этих стерв на богатых рассчитано, на таких, у кого в кармане хоть какие-то денежки водятся... А тут — солдаты, у которых в кармане мыши давно дыры прогрызли. Стало быть, им кто-то за нас платит, а? А тут вдруг вся команда бронепоезда на стороне большевиков. Кое-кому страшновато...
Пролыгин с восхищением посмотрел на изрытое оспинками лицо Яши, сказал одобрительно:
— Ну, умницы... Видать, варит у вас башка. — и продолжал задумчиво: — Это точно, в такие времена буржуи часто против нашего брата пускают люмпен-пролетариат.
— Люмпен-пролетариат? — Казалось, Яша пробует на вкус новое, незнакомое слово: — Это что, по-ученому так этих баб зовут?
— Нет, по-ученому их зовут проститутками. А люмпен-пролетариат — это и проститутки, и бродяги, и нищие, и воры, и всякая шпана... — И Пролыгин сочувственно вздохнул: — Они, брат, вышли из нашей среды, из бедного люда, только жизнь толкнула их на самое дно, и нету у них никакого классового сознания... Ну и как же вы с ними?
Кочегар, которого, видимо, страшно заинтересовало столь высоконаучное освещение весьма прозаической темы, оставил толпу и, стоя боком к старшим, прислушивался к разговору.
— Ну, сначала поговорили в комитете, а потом обсудили вопрос на общем собрании. Уговаривали: мол, остерегайтесь, товарищи, это дела классового врага. А ребята как загогочут! — Яша сокрушенно покачал головой. — Не дорос еще наш брат солдат до того, чтоб такое понять, а? Спасибо, одному из членов комитета пришло на ум рассказать команде про сифилис. Про то, как у людей носы отваливаются да все такое... Тут, конечно, ребята струхнули и проголосовали, чтоб гнать подальше этих баб.
Глонта снова осклабился: «Гы...»
— Дела... — улыбаясь, протянул Пролыгин. — И как же?
— А так, что эти... как ты сказал?
— Проститутки?
— Не-е, другое слово...
— Люмпен-пролетарии?
— Угу. Кто-то, видно, сообщил им о нашем решении, так они явились к нам скопом — еще вчера днем — и давай честить на чем свет стоит комитетчиков, а в особенности меня. Таких уж я словечек наслушался, что прямо совестно повторять... Но ничего, шуганули мы их: катитесь вы, мол, туды вас растуды...
Пролыгин засмеялся, потом спросил:
— Так почему же ты меня спасителем называешь? Ведь сами же справились...
— Э, нет, друг, — покачал головой Яша. — Дело это сурьезное. Понимаешь, чувствовали мы, что сидим словно в болоте и еще немного — глядишь, и засосет в типу... И тут вдруг являешься ты и зовешь на такое дело: спасать революцию, помочь пролетарьяту... Ты думаешь, почему наши за тобой, незнакомым, вот так сразу и пошли? Ведь ты их чистым воздухом подышать позвал, — вот и поверили, двинулись за тобой!
— Ну скажете тоже... — смущенно пробормотал Пролыгин. Потом выглянул в окно, воскликнул: — Впереди станция! Должно быть, Замирье...
У Балуева было устроено экстренное совещание с участием комиссара, начальника штаба, генерал-квартирмейстера фронта, начальника службы передвижения и руководителей эсеровской и меньшевистской фракций «комитета спасения». Все еще раз внимательно перечитали полученную телеграмму. Как быть, что предпринять?
Жданов сразу же категорически заявил, что теперь уже ре остается иного выхода, надо немедленно атаковать всеми имеющимися силами войска большевиков в Минске, разгромить их раньше, чем подойдет бронепоезд, после чего бросить все силы против бронепоезда.
Генерал Вальтер, Злобин и Колотухин выразили полное согласие с ним. Но тут поднялся с места генерал-квартирмейстер штаба, худой и подтянутый полковник Липский, и с хмурым видом обратился к Балуеву:
— Разрешите, ваше превосходительство, задать вопрос... — И когда главком кивнул, продолжал: — Я прошу поверить, что мне, как офицеру, абсолютно непонятны и чужды идеи большевиков, в особенности в вопросе войны и мира. Однако несколько дней тому назад, взяв в городе власть, они прилагали очевидные усилия, чтобы не было кровопролития. Мы, штабные офицеры, не могли не обратить внимания на то, что 25 октября против нас не было послано ни одно из их подразделений. И 27 октября, когда в город вошла 2-я Кавказская кавдивизия и с большевиками было заключено соглашение, мы все восприняли это так, что штаб фронта и Фронтовой комитет тоже не желают кровопролития. А теперь предложение господина комиссара я понял так, что мы отказываемся от этого принципа, готовы начать бои в черте города?
Жданов, побагровев от гнева, заорал:
— Да вы в своем уме, господин полковник?! Как вы можете ставить на одну доску нас и большевиков! Ведь они мятежники, предатели интересов родины! И мы обязаны подавить их мятеж во что бы то ни стало...
Но полковник Липский, видимо, был человеком, обладающим своей логикой и взглядами, которые он готов был отстоять перед кем угодно. Поэтому, пожав плечами, он заявил:
— Я мог бы возразить вам, господин комиссар. После того, как 25 октября штаб фронта признал новую власть в Петрограде и здесь, в Минске, наши действия юридически можно квалифицировать как мятежные. Во всяком случае, большевики имеют основание так утверждать. Но сейчас речь идет не об этом. Уверены ли вы, что, даже бросив все силы, мы сразу, в течение нескольких часов, разгромим большевиков? Ведь насколько нам всем известно, они держатся начеку, а этот полк из бывших политических заключенных и опытных фронтовиков будет сражаться с понятным ожесточением. И к тому же вы не можете не знать, что к ним сейчас же присоединятся рабочие города. В таком случае я уверен, что они смогут продержаться до прибытия бронепоезда, что уже само по себе даст им значительное превосходство и в военном, и в особенности в моральном отношении. А тем временем с фронта подойдут и другие верные им войска, подойдут гренадеры, — и тогда большевики будут вправе поступить с нами как с вероломными нарушителями недавно заключенного политического соглашения...
— Гренадеры сюда не придут! — сквозь сжатые от ненависти зубы выдохнул Жданов.
Липский с удивлением глянул на него.
— Почему вы так уверены в этом, господин комиссар? Ведь сегодня, 30 октября, как вам известно, открывается корпусной съезд и, по убеждению всех, на этом съезде большевики устранят старый комитет и изберут новый, свой... И что же тогда помешает им направить сюда гренадеров?
Жданов чуть было не крикнул ему в лицо, что да, он это знает, но знает и то, что именно сегодня, 30 октября, Гренадерский корпус будет разгромлен, разбит, развеян в прах. Но он понял, что при этом полковнике, думающем, что большевики «имеют основание считать командование фронта мятежниками», о таких делах и заикнуться нельзя. Поэтому он, сдерживая гнев, спросил:
— И как вы относитесь к этому? Может быть, вы полагаете, что нам надо сидеть и ждать, пока большевики возьмут в свои руки весь фронт?
— Я снова повторяю, что идеи большевиков лично для меня непонятны и неприемлемы. Но я полагаю, что остальные партии (здесь Липский показал на Жданова, Колотухина и Злобина) имели не меньше возможностей, чем большевики, доказать армии и народу правоту своих идей. И если, несмотря на это, армия пошла за большевиками, значит, их идеи ей чем-то ближе и понятней...
— Вот как? — скривив губы в презрительной усмешке, воскликнул Колотухин. — А как у вас обстоит дело с понятием о присяге, полковник? Надеюсь, вы не забыли, что присягали на верность Временному правительству, а не большевикам?
— О присяге? — Липский резко повернулся в его сторону и смерил взглядом. — А вы, поручик, надеюсь, не забыли, что, прежде чем присягнуть вашему Временному правительству, я уже присягал божьей милостью монарху и императору? И благодарите господа, что в тот день, 2 марта, государь сам отрекся от престола, а не обратился к армии с призывом выполнить данную ему присягу. Ибо тогда я, не имея повода и времени задуматься о том, что выше — воля народа или присяга, — обязательно пошел бы с оружием против вас, социа-лис-тов всех мастей!
— Господа, господа, прошу успокоиться! — поднялся с места Балуев. И обернулся к Жданову: — Должен сообщить вам, Венедикт Алексеевич, что я тоже, как человек военный, считаю ваш план неразумным, хотя и по иным соображениям: просто он основан на чувствах, а не на трезвом учете обстановки. Вы предлагаете начать военные действия, не имея даже приблизительной уверенности в их успешном окончании. А это самый верный способ погубить дело, за которое вы ратуете... — После небольшой паузы, он продолжал: — Совершенно очевидно, что сначала надо попробовать задержать бронепоезд, а потом уже начинать действовать здесь. Поэтому начальнику службы передвижения необходимо всячески препятствовать продвижению бронепоезда... Господа Злобин и Колотухин должны выехать навстречу поезду: быть может, в команде имеются ваши единомышленники, с помощью которых можно будет изменить ход событий... А вам, Венедикт Алексеевич, — снова обратился он к Жданову, — следует все же найти какой-то способ для разоружения большевиков в Минске через Комитет спасения революции...
Бронепоезд остановился у водоразборной колонки на станции Замирье. Пока Глонта и еще несколько солдат набирали воду, Пролыгин оглядывал станцию.
На платформе было довольно много народу, и все с явным интересом разглядывали бронепоезд. Лица одних выражали радость, других — испуг, а у иных были и кисло-враждебные физиономии. Во всяком случае, для Пролыгина стало ясно: здесь уже все знают об их бронепоезде, знают, чей он и куда следует.
К паровозу подошел пожилой штабс-капитан с бледным лицом и обратился к выглядывающим из окна Пролыгину и Яше:
— Кто у вас начальник, господа?
Пролыгин понял, что это военный комендант станции, и, спрыгнув вниз, ответил:
— Я начальник.
Снова его замасленная одежда и перепачканное углем лицо стали предметом пристального и удивленного изучения.
— Кто вы будете? — словно не веря, задал вопрос комендант.
— Член Революционного штаба Второй армии. По его приказу и действую. — И Пролыгин на всякий случай добавил: — Каждый, не подчиняющийся распоряжению штаба, будет мною немедленно арестован, а при сопротивлении — расстрелян. — Он достал свой мандат без печати и показал коменданту. — Видите?
И без того перепуганный, комендант торопливо сказал:
— Да мне что, я ведь ничего не говорю. Но вас просит к аппарату начальник передвижений войск штаба фронта.
Вокруг них уже собралась большая толпа солдат с бронепоезда и людей случайных. Сопровождаемые ими, Пролыгин и комендант пошли на станционный телеграф.
— Сообщи в Минск, что новый начальник бронепоезда у аппарата, — сказал телеграфисту комендант.
Когда аппарат отстукал это, последовал ответ. Пролыгин прочитал на ленте:
— У аппарата начальник передвижений войск Западного фронта. Кто у аппарата?
Пролыгин продиктовал телеграфисту:
— У аппарата член Революционного штаба Второй армии солдат Пролыгин. Что нужно?
— Отвечайте, подчиняетесь ли вы распоряжениям главкома фронта? — спрашивали из Минска,
— Нет! — отрезал Пролыгин.
— Фронтовому комитету?
- Нет!
— Командарму?
- Нет!
— Армейскому комитету и комиссару Второй армии?
— Нет!
— Кому же подчиняетесь? — допытывался начальник передвижений.
— Революционному штабу Второй армии, Минскому Совету рабочих и солдатских депутатов! — ответил Пролыгин.
После этого аппарат минуту молчал, а затем снова застучал:
— Подождите в Замирье полчаса ради недопущения могущего быть кровопролития по недоразумению. Дам ответ, что вам делать.
Пролыгин нагнулся к телеграфисту и резко приказал:
— Передай этому господину: «Ждать не буду, ответ от вас может быть дан мне по пути следования. Предлагаю вам сделать распоряжение по всем станциям, чтобы мне был дан свободный путь. Если где будет закрыт семафор и не подготовлены стрелки, буду считать, что станция занята нашим противником, и стану расстреливать, начиная со стрелочных будок и кончая всем окружающим. Я поехал. Разговор окончен».
Выйдя на платформу, Пролыгин отыскал по околышку фуражки дежурного по станции и приказал ему открыть семафор. Потом, обернувшись к бронепоезду, зычным голосом, чтоб было слышно всем, скомандовал:
— Команде бронепоезда — открыть все люки и приготовиться к бою!
Расчет его был прост: все это будет передано на станции по дороге в Минск, а главное, в штаб 10-го железнодорожного батальона, расположенного в четырех верстах от станции Замирье. Пусть знают и подумают: стоит ли делать попытку задержать поезд?
Подъезжая к Негорелому, Пролыгин вгляделся и увидел, что выводной семафор закрыт, а дежурный но станции стоит на перроне с какой-то бумажкой в руках.
Он остановил паровоз перед станционным зданием, и дежурный, подбежав, спросил:
— Кто тут у вас начальник?
— Ну я... — Пролыгину уже начинал надоедать этот вопрос. — Что нужно?
— Вам есть депеша, — почти подобострастно сообщил дежурный. — Получите, пожалуйста.
Пролыгин взял бумажку и прочитал: «Навстречу вам едет делегация. Скоро прибудет Негорелое. Просим подождать».
— Поезд с делегацией уже вышел и скоро будет здесь, — со своей стороны, добавил дежурный. И тут же, чтобы подчеркнуть свою полнейшую незаинтересованность, спросил: — Будете следовать дальше? Или изволите все же дождаться их?
Пролыгин решил остаться.
— Пусть все остаются на своих местах, в полной готовности. А я пойду и попытаюсь связаться с Минском... — сказал он Яше.
Они с дежурным направились в здание и вызвали по телефону Минск. Когда оттуда ответили, Пролыгин попросил соединить его с Минским Советом.
— Телефоны Совета отключены, — сухо ответила телефонистка.
— Тогда давайте штаб фронта.
— Соединяю, — ответила телефонистка.
Немного погодя в трубке послышался мужской голос:
— Кого хотите?
— Дежурного по штабу, — повторил Пролыгин.
— Дежурный вышел, подождите минутку. Голос был знакомый, и Пролыгин спросил:
— А кто со мной говорит? Кто у аппарата?
— Да так, посетитель...
— Погоди, не Кривошеин ли? — осенила Пролыгина догадка.
— Ну я, — удивился собеседник. — А вы кто?
— Да это я, Пролыгин, из Второй армии... Ты как тут очутился?
— Да вот пришел заявить протест по одному делу... Скажи, а ты где находишься? По какому делу звонишь в штаб?
— На станции Негорелое. Слышишь, Кривошеий, я здесь с бронепоездом, иду к вам на помощь, сообщи, чтоб держались...
И не успел сказать это, как связь сразу оборвалась. Пролыгин чертыхнулся и вышел со станции.
«Ах, гады, следят за каждым звонком! — подумал он. — Но наши, видно, еще держатся, раз Кривошеин даже пришел в штаб, чтобы заявить какой-то протест. И хорошо, что я успел сказать им о том, что бронепоезд уже близко».
— Эй, командир, давай к нам, перекусим! — крикнул с паровоза Яша.
Он поднялся в будку, где Глонта с почтительной поспешностью подал ему кружку дымящегося чая и кусок хлеба с чайной колбасой.
— Откушайте, товарищ командир, а то все дела да дела...
Тон его был таков, что заставил Пролыгина внимательно посмотреть на этого солдатика. Что ж, обыкновенный рабочий парень, курносый, с чуть грустными глазами и юношескими прыщами на щеках... Но Яша, перехватив его взгляд, сказал с добродушной усмешкой:
— Слышь, командир, а Глонта сейчас в любви признавался к тебе...
— Это в каком же смысле? — перевел на него взгляд Пролыгин.
— Говорит: «Вот это командир так командир! Не какой-нибудь офицер, барчук-шкуродер, а свой... За таким пойдешь хоть в огонь, хоть в воду!»
— Да ну, — смущенно отвернулся Глонта. — Это же вся команда так говорит...
— Вся команда? — Пролыгину было важно знать об этом, и он начал расспрашивать: — Откуда знаешь? Сам слышал?
— Конешна... Увидали они, как вы с этими охфицерами да начальниками разговариваете, — и все друг другу: «Вот это орел! С ним не пропадешь...»
— Вот как... Ну спасибо, брат, — без ложной скромности высказал свое удовольствие Пролыгин. И снова с любопытством оглядел парня: — А ты что такой застенчивый, а? Все молчишь, глаза опускаешь, словно девица на выданье. Не по нынешним временам это, брат!
— Что застенчивый — это ничего, — все продолжая улыбаться, сказал Яша, — но вот поди ж ты, он же эсер!
— Да ну? — поразился Пролыгин. И обернулся к Глоите: — Это ты серьезно? Сознательно стал эсером?
— А что? — нахмурился тот. — Разве эсеры не за народ?
— За народ? — Казалось, от неожиданности этого утверждения Пролыгин готов задохнуться. — Тогда зачем же мы идем в Минск?.. Ведь там эти твои эсеры да меньшевики как раз и решили сбросить Советскую народную власть, ты это не понимаешь?
— Да ладно, ты не сердись на него, товарищ Пролыгин, — вступился Яша. — Баловство это, какой он убежденный эсер... Просто когда все решили вступать в большевистскую партию, этот да еще несколько дурней сказали: «А мы вот подадимся к эсерам...» Понимаешь? Сами, мол, с усами...
И тут с другого конца станции послышался свисток паровоза.
Пролыгин спрыгнул с паровоза и пошел в конец перрону, куда подъезжал другой паровоз с одним классным вагоном.
Как только поезд остановился, к вагону подбежал дежурный и, встретив трех вышедших военных, повел к Пролыгину. Один из них был кругленький коротыш с полковничьими погонами, два других — молодые поручики.
Они остановились перед Пролыгиным, изучающе оглядывая его. Потом один из поручиков — это был Колотухин — спросил:
— Вы командуете бронепоездом?
— Я, — ответил Пролыгин, удивляясь, что разговор с ним ведет не полковник.
— Пойдемте, товарищ, к нам в вагон и переговорим.
— А кто вы будете? — спросил Пролыгин.
— Делегация и члены комитета.
— Какого комитета? — Пролыгин уже понял, что это «политики», которым доверили вести с ним переговоры.
— Не все ли равно какого... — ответил Колотухин.
— Нет, не все равно! — усмехнулся Пролыгин. — С представителями одних комитетов я не буду говорить, а с другими не только буду разговаривать, но и исполню все, что мне прикажут.
Делегаты переглянулись менаду собой, и опять Колотухин сообщил:
— Мы члены Комитета спасения революции, признанного всеми партиями и Минским Советом.
«Ага, вот вы кто!» — подумал Пролыгин и сказал вслух:
— Говорить нам не о чем. Можете ехать туда, откуда приехали.
— Товарищ! — вышел вперед другой член делегации, Злобин. — Ведь вы едете на погибель! Вам же неизвестно, сколько у нас войск...
Пролыгин окинул его насмешливым взглядом.
— Поберегите лучше свои головы! Сколько войск у вас, я знаю, а вот сколько у нас — вы действительно не знаете. Бронепоезд видите? — он кивнул через плечо. — А через полчаса по шоссе проедут наши бронеавтомобили. С позиции сняты два полка, они тоже будут здесь с часу на час... — Он сообщал эти сведения, будучи уверен, что в штабе фронта и без него узнают обо всем.
— Мы разберем путь! — крикнул наконец толстяк полковник, видимо начальник передвижения войск.
— Да? Подойдите-ка к бронепоезду! — предложил Пролыгин и, показывая на платформы с рельсами и шпалами, наставительно пояснил: — Имея это, мы сможем отремонтировать путь в два-три часа, а если не хватит материала, разберем за час пять верст пути и устраним любое повреждение... Зато тем, кто пытался нам помешать, придется несладко!
Но полковник все не унимался:
— Мы пустим навстречу вам порожний состав!
— А глупее вы ничего не придумаете? — снова усмехнулся Пролыгин. — В лучшем случае состав этот, пущенный под уклон, я поймаю на себя, предотвратив крушение. В худшем же — перебью ось бронебойным снарядом и пущу состав под откос, а расчистка пути потребует часа два... Так что убирайтесь-ка с вашими угрозами, покуда не поздно! — И, считая разговор оконченным, повернулся к дежурному по станции: — Сообщите на Фаниполь, что бронепоезд трогается туда и чтобы там все было готово к приему...
Но Злобин не считал, что разговор окончен, поэтому крикнул Пролыгину:
— Погодите-ка, солдат! А по какому праву вы разговариваете с нами от имени всей команды? Не царские ведь времена, сейчас в армии демократия!
Пролыгин остановился, пораженно посмотрел на него и только воскликнул:
— Ишь ты!
— Вот тебе и «ишь ты»! — продолжал наседать на него Злобин. — Имеется ли на бронепоезде комитет? Мы хотим встретиться с ним... Мы хотим встретиться с представителями других партий, с социалистами-революционерами, социал-демократами, меньшевиками!
— С комитетом, говорите? С эсерами и меньшевиками?.. Ну что ж, пойдемте.
Сопровождаемый тремя офицерами, он направился к бронепоезду. Чуть позади от этой группы шагал начальник станции, всем своим видом подчеркивающий, что его хата с краю и занимать чью-либо сторону он не намерен.
Бронированная дверь и окно паровоза были открыты, оттуда на них смотрели Яша и Глонта. Председатель комитета, видимо, уже что-то учуял, так как глаза его были выжидательно и враждебно прищурены, но Глонта продолжал оставаться спокойным и равнодушным.
— Слезайте, товарищи! — крикнул им Пролыгин. — Эти господа желают поговорить с вами. — Он повернулся к Злобину: — Вон тот товарищ и есть председатель солдатского комитета поезда, а тот — один из членов эсеровской партии. — Он снова повернулся к Яше и Глонте: — Ну давайте, давайте сюда, чего вы...
Яша тяжело спрыгнул вниз и как-то боком, словно шел на кулачный бой, двинулся к группе офицеров. Глонта же, тоже спрыгнув, сделал два шага и остановился в нерешительности.
— Ну, чего им от нас нужно? — спросил Яша, подойдя к офицерам, но обращаясь к Пролыгину.
— Да вот, господа эти недовольны, что я от имени всех вас тут разговариваю, — с серьезным видом объяснил Пролыгин. — Требуют созвать комитет: авось, вы окажетесь сговорчивей, откажетесь идти на Минск...
— Вот именно, — сказал Злобин. — Выслушайте нас, обсудите все демократическим образом, а потом принимайте какое угодно решение.
— Ой не советую, господа хорошие, — повернулся к нему Яша. — Как бы эта демократия не вышла вам боком!
— Почему? — запальчиво спросил Злобин.
— Видите тот блиндированный вагон? — кивнул в сторону поезда Яша. — Там под замком сидят наши офицеры. Сидят по демократическому решению комитета и общего собрания команды за то, что отказались идти на Минск... Ну что хорошего, если мы соберем комитет, а он возьмет да решит: «Ах, и эти туда же? В кутузку их, контриков!» А? Ведь тогда ни я, ни товарищ Пролыгин ничего поделать не сможем, — демократия!.. Так что не лучше ли вам уйти от греха подальше? Для вашей же пользы...
Полковник Парамонов, поняв, что этот рябоватый солдат не шутит, начал тихонько отступать, но Злобин все еще не хотел сдаваться.
— А вы, товарищ? — обратился он к стоявшему чуть поодаль Глонте. — Вы эсер? Можете собрать членов нашей партии?
— Я?.. — Глонта растерянно заморгал закопченными ресницами, решительно не понимая, что нужно этому офицеру от него.
— Да, вы, — пододвинулся к нему Злобин. — Ведь мы с вами; единомышленники, боремся за одни и те же идеалы народной воли и свободы! И если они, — Злобин кивнул в сторону Пролыгина и Яши, — стакнувшись, действуют против нас, то и мы должны держаться друг друга, действовать сообща!
Теперь уже Глонта, испуганно вытаращив глаза, попятился назад. Он не столько понимал, сколько чувствовал из потока выспренних слов, что этот картинно-красивый и щегольски одетый офицер считает его «своим» и предлагает пойти против остальных — против Пролыгина, которым он восхищался, против Яши, против всей команды. И когда это стало ему совершенно ясно, его первоначальный испуг неожиданно перешел в гнев против столь чудовищного, противоестественного предложения. Задыхаясь от ярости, не умея, да и не желая найти иных слов, он выпустил в Злобина замысловатую матерную очередь, да такую длинную, что тот успел понять всю бессмысленность своей затеи и ретироваться раньше, чем Глонта выдохся.
Когда они втроем снова очутились в паровозной будке, Глонта, став спиной к старшим товарищам, воровато вытащил из нагрудного кармана какую-то бумажку и, скомкав, закинул подальше в глубь топки. И когда он с багровым от отблесков огня лицом следил, как горит бумажка, Пролыгин и Яша с улыбкой подмигнули друг другу и сразу сделали равнодушно-скучающие лица...
Пока на железной дороге происходили эти события, на фронте кое-что пошло не так, как планировалось сначала. И виной тому на этот раз была природа.
Да, немецкие войска собирались именно в этот день, 30 октября, атаковать Срубовские высоты, для чего подтянули на узком участке свыше трехсот орудий и подвезли свежие войска с Юго-Западного фронта. Однако для обеспечения полного успеха немецкое командование решило применить еще и газовую атаку. Между тем в ночь на 30 октября на фронтовой полосе внезапно подул сильный восточный ветер, который, конечно, должен был погнать газовое облако обратно, в сторону немецких войск.
Начальнику штаба Восточной группы немецких армий генералу фон Зауберцвейгу очень не хотелось отказываться от применения газов и тем самым ослаблять силу атаки своих войск, поэтому он попросил у командующего Восточной группой немецких армий Эйхгориа и начальника штаба Восточного фронта Гофмана разрешения перенести наступление на следующий день.
И атака была перенесена на 31 октября.
— Ну и ну, батенька! — говорил полковник Водарский, сверля колючим взглядом сидящего перед ним Евгеньева. — Вот уж не думал, не гадал, что ко мне будут ходить, как к оракулу дельфийскому, за подобными советами...
Когда позавчера вечером Евгеньев после мучительных размышлений решил, что должен отправиться к гренадерам и, если там случится «это», разделить с ними их судьбу, он еще не думал о встрече с полковником Водарским. Лишь вчера, прибыв в фольварк Фалясин, где размещался штаб корпуса, и увидев царившее там возбуждение в связи с открываемым на следующий день корпусным съездом, он вспомнил пересуды армейских штабников о Карсском полку и его странном старике командире, оставшемся с солдатами своего полка. И тогда-то он решил: «Вот с кем я могу поговорить об этом — не с большевиком Рогозинским, а с этим заслуженным офицером — о выборе пути в эти бурные дни».
И на следующее утро, 30 октября, он зашагал из Фалясина по грязной дороге в деревню Ятвезь, где находился штаб Карсского полка. Но когда он, дойдя туда и попросив Водарского принять и выслушать его, не очень вразумительно рассказал о своих сомнениях и попросил объяснить, как ему быть дальше, старик, похоже, даже возмутился. Прищурив маленькие глаза, он пристально посмотрел на этого летчика в забрызганном кожаном пальто и спросил подозрительно:
— Погодите-ка, милейший, а не потешаться ли вы пришли над стариком? Ведь признайтесь, у вас там, в штабе, поди, меня все считают придурком армейского масштаба, а?
— О вас там говорят разное, господин полковник, — ответил Евгеньев. — Но наиболее серьезные люди допускают, что вы сделали свой выбор на достаточно веском основании, хотя пока не совсем ясном для других...
— И вы пришли выведать у меня, каково оно? — насмешливо спросил Водарский.
— А что тут странного, господин полковник? — с отчаянием в голосе спросил Евгеньев. — Разве военная этика не обязывает старших офицеров помогать младшим советом даже во второстепенных вопросах? А тут вопрос не шуточный: оставаться ли верным присяге или нет?
— Оно конечно, — произнес Водарский, — но мне просто не верится, что у вас до сих пор не было возможности посоветоваться с кем-либо, сравнить разные взгляды и сделать выбор... Вы что, ни разу на митингах не бывали, что ли?
— А разве вы сделали свой выбор в результате посещения митингов? — не очень вежливо отпарировал Евгеньев.
— Я нет. Мне было достаточно одного разговора, чтобы я понял, где правда.
— Вероятно, это был очень важный разговор?
— О да, — хохотнул Водарский. — О вони!
— О... чем? — поразился Евгеньев.
— О вони. О запахе, который стоит в помещении, где спят солдаты... — Водарский, хитро прищурив глаза, поглядывал на Евгеньева, видимо ожидая вопросов, но так как тот недоверчиво молчал, он продолжал: — Слышали вы о таком генерале — Лукомском? (Евгеньев кивнул.) Ну да, после августовских событий он стал знаменитостью, так как оказался арестованным вместе с Корниловым и Деникиным и сидит в быховской тюрьме, недалеко от Могилева... Так вот, этот Лукомский — мой дальний родич, и разговор наш происходил после срыва июньского наступления и перед походом Корнилова на Питер. Мы встретились с генералом и довольно долго просидели за бутылкой вина... Вначале он говорил о том, что, мол, вот мы триста лет создавали и пестовали русскую армию, а теперь какие-то социалисты-революционеры, социал-демократы и прочие «политиканы» хотят отнять у нас ее и что мы не должны, не имеем права допустить этого... И пока разговор шел в этом общем плане, я был согласен с ним. Но вот он начал говорить о смертной казни, которую они, «корниловцы», требовали восстановить в армии, чтобы снова привести в послушание «отбившихся от рук солдат». И тогда у него вырвалась эта фраза: «Странное дело, я уже не могу выносить их расхристанного вида, их разглагольствований на митингах, даже их запаха, да, запаха... Мало ли мне раньше приходилось бывать с ними в одной казарме или землянке? Бывало, зайдешь ночью на дежурстве в помещение, где спят солдаты, — вонь стоит такая, что не продохнуть! Но ничего, поморщишься и уйдешь, понимая, что так и должно быть: здоровые люди, целый день шагают, бегают, роют окопы, стреляют, а пища грубая — вот и результат... А теперь я уже не могу выносить этого запаха, их запаха... Понимаешь?»
В это время постучали в дверь и в горницу хаты, где они сидели, вошел какой-то солдат. Он был огромного роста и из-за непропорционально короткой шеи напоминал снежную бабу, когда на один большой снежный шар кладут другой, поменьше, изображающий голову. Покосившись — только глазами — в сторону Евгеньева, солдат обратился к Водарскому:
— Господин полковник, обед для солдат готов, надо бы снять пробу...
Водарский сверкнул на него глазами.
— Во-первых, товарищ Захаркин, мы, кажется, условились на комитете, что ко мне будете обращаться не «господин», а «товарищ» полковник, почему же вы нарушаете порядок? Думаете, при постороннем офицере, — полковник кивнул на Евгеньева, — я буду чувствовать себя неловко, что солдат называет меня товарищем? Разве я не объяснял вам, что перед Полтавской битвой сам царь Петр обращался к солдатам со словом «товарищи»?
— Прощения просим, товарищ полковник, — смущенно пробормотал солдат.
— То-то оно... — удовлетворенно промолвил Водарский. — Ну а насчет пробы... поскольку ты сейчас замещаешь председателя комитета, то тоже имеешь право снимать ее. Сделай это, голубчик, тут у меня важный разговор с поручиком. А потом прикажи подать и нам поесть, гость наш, поди, изрядно проголодался, пока добирался сюда.
— Слушаюсь, товарищ полковник! — Захаркин сделал четкий поворот кругом и вышел.
Водарский минуту с теплой улыбкой смотрел ему вслед, потом обратился к Евгеньеву:
— Так на чем мы остановились?
— Вы рассказывали о генерале Лукомском. О его словах насчет... запаха солдат...
— Да-с... Так вот тут-то, милейший друг, на этой чепуховой, но конкретной детали, мои мысли впервые срикошетили и понеслись в новом направлении... Да, да, тут я впервые заметил, что речь-то идет уже не о «политиканах», а о солдатах, то есть о той армии, которую они хотят не отдавать «политиканам». И странно было не то, что они хотели восстановить смертную казнь на фронте, а то, что боевой генерал-фронтовик уже не мог выносить запаха солдат. Чем объяснить это? Конечно, не внезапным же обострением его обоняния, а какими-то иными причинами. «Какими?» — спрашивал я себя. И ответ был один-единственный: был солдат послушен — ему прощали и некультурную речь, и тяжелый дух в помещении, а стал непослушен — уже невозможно стало выносить его запаха... — Водарский посмотрел на Евгеньева и, словно угадывая его внутреннюю реакцию, усмехнулся: — Не слишком богатая мысль, скажете? Согласен. Но для начала и ее было достаточно, ибо родилась другая, нет, не во время этой беседы, а уже в следующие дни: «А почему солдаты стали непослушны? Только ли в том дело, что социалисты мутят им мозги? Разве мы, офицеры, ничего не сделали, чтобы солдаты отвернулись от нас, перестали верить нам?» И пошло, и пошло, милейший поручик... Я вспомнил японскую войну, вспомнил Мукден и Порт-Артур и должен был сознаться, что не русский солдат проиграл ту войну, а мы — командование, руководство страной... Впрочем, и эту войну тоже прокакали не солдаты, а руководство, офицеры. Мы вступили в войну технически совершенно неподготовленными, не имея ни достаточно оружия, ни боеприпасов, за что опять расплачивались — своими боками, своей кровью! — солдаты... Я знаю полковника по фамилии Федоров, изобретателя автоматической винтовки. Как-то он с болью в голосе рассказывал об одной своей беседе с самим царем. Полковник преподавал в Михайловском артиллерийском училище, и однажды во время занятия в аудиторию вошел царь в сопровождении свитских. Жестом велев продолжать урок, он сел рядом с юнкерами и стал слушать. А в перерыве подошел к Федорову и спросил: «Вы изобрели автоматическую винтовку?» — «Я, ваше величество», — ответил Федоров. «Я против ее применения в армии», — сказал царь. — «Разрешите узнать почему?» — «Для нее не хватит патронов!» — отрезал царь и зашагал к выходу... Понимаете ли вы это? Величайшая держава перед величайшей в истории войной не могла принять на вооружение новое совершенное оружие, так как не была способна обеспечить для него производство патронов в достаточном количестве! Впрочем, что я говорю вам, вы же летчик и в своей области, наверное, тоже знаете немало таких примеров нашей отсталости и неподготовленности к войне. На каких аэропланах вы летаете?
— На «фарманах», «нюпорах»...
— То есть на заграничных? А почему не на русских? Разве у нас нет ученых и инженеров, способных создать отечественные аппараты? Ну, ну, не мнитесь, говорите честно!
Евгеньев действительно медлил с ответом, чувствуя, что разговор принимает снова тот оборот, который принял полгода тому назад с другим человеком в поезде. Но уклониться от ответа он не мог, поэтому выдавил из себя:
— Есть, конечно. У нас имеется такой замечательный ученый, как профессор Жуковский, который открыл закон, определяющий величину подъемной силы крыла аэроплана, разработал вихревую теорию винта, определил наивыгоднейшие профили крыльев и лопастей винта. И конструкторы есть: Гаккель, Григорович, Сикорский, которые создали весьма неплохие образцы аппаратов. Но выпускаются эти аппараты в очень небольших количествах...
— Вот видите, опять то же самое... А солдаты видят, что во время боя над нашими позициями висят немецкие аэропланы, наблюдают, где у нас орудия, где скапливается пехота для атаки, и корректируют огонь своих батарей, громят наши войска. Видят и спрашивают: «А где же наши аэропланы, почему их нет или так мало?» А мы им что? «Цыц, не рассуждать, не ваше это собачье дело!» Да-с, поручик, мы давно показали, что своим неумелым, бездарным правлением только навлекаем неисчислимые беды и несчастья на их головы. Как мы должны были поступить по-честному? Или исправить свои ошибки, или отойти в сторону, не так ли? Но тут выясняется, что мы ничего исправлять не намерены и никуда отойти не хотим: «А вы, быдло, хамье, живите, как всегда жили, и никаких разговоров!» Нужно ли удивляться, что они тоже взбеленились и отвечают нам: «Ах так? Тогда мы вас в шею!» И тут-то у нас и начинает обостряться обоняние...
— Хорошо, господин полковник, — Евгеньев судорожно глотнул слюну, — они нас в шею, а дальше как? Кто будет командовать полками, дивизиями, армиями? Кто будет строить аэропланы? Они, солдаты?
— Думаете, не смогут? — насмешливо посмотрел на него Водарский. — Ну конечно же, ведь у нас есть образование, а у них нет! И мы считаем это даром, ниспосланным нам свыше и недоступным им, не желая признать, что мы просто лишили их возможности получить это образование... Но даже в этих условиях наше убеждение, поручик, просто самообман... И живое доказательство этому — наш Карсский полк, где вы сейчас находитесь. Он уже почти месяц как официально расформирован; командование армии и фронта не присылает нам ни приказов, ни распоряжений, снабжаемся мы почти подпольно, только благодаря поддержке новых комитетов остальных частей корпуса; ведь состав нашего полкового комитета и я вкупе с ними отданы под суд, а главное, почти все офицеры ушли из полка. По вашему суждению, так полк должен был давно распасться, разбежаться по домам, не так ли? А полк — вот он, весь здесь, исправно несет караульную службу, проводит строевые и стрелковые занятия, дисциплина отменная, и поддерживают ее ротные и командные комитеты. Более того, полк готов завтра же вступить в бой, если это понадобится, понимаете?
Водарский минуту шагал по комнате, которая, видимо, была ему и кабинетом, и спальней, потом продолжал:
— Образование... Навыки и знания... Я не хочу преуменьшать их значения, но мы забываем, что они в зерна уже имеются у представителей народа, — мы сами об этом позаботились... Да, они имеются у унтер-офицерского состава, который подбирается из опытных и дельных солдат, все время связан с солдатской массой и знает ее думы и чаяния. Что на унтер-офицерах и держится обучение и воспитание солдат во всех армиях мира — знает каждый грамотный офицер. Унтера отлично знают дисциплинарный и караульный уставы, знают материальную часть оружия, тактику наступательного и оборонительного боя для отдельного бойца и мелких подразделений. А это, батенька, в основе своей и есть то, что в более широком объеме знают офицеры и генералы. Поэтому толковый унтер может командовать и взводом, и ротой, и батальоном, а многие талантливые их представители смогут возглавить даже полки и дивизии... Ведь так же было и во время Французской революции, ведь многие маршалы Наполеона вышли именно из этой среды.
Итак, круг замкнулся, подумал Евгеньев. Все те же доводы, все те же примеры — об отставании нашей авиации, о Французской революции... Остается, чтобы этот полковник сказал еще и о моем долге — внести свою лепту в построение новой армии и нового общества. Но ведь тогда об этом говорил убежденный большевик, один из их вождей, а здесь я беседую с одним из полковников русской армии, отнюдь не большевиком. Что же это получается, а? Что же получается?..
А Водарский тем временем продолжал:
— Вот так-с, поручик. Если вы действительно пришли ко мне как к старшему коллеге и товарищу за советом, то вот вам мои сказ: сегодня правда на стороне солдат и каждый честный офицер, если он действительно заботится о благе родины, должен быть с солдатами и помогать им получше исправить то, что было испорчено нами. Тогда они скорее научатся командовать полками и дивизиями, строить аэропланы и управлять государством...
В это время в сенях послышался топот сапог и голоса людей, потом снова постучались, и вошел Захаркин с каким-то солдатом.
— Борщ и каша хороши, товарищ полковник, — доложил Захаркин. — Солдаты обедают, и мы вам тоже принесли поесть. Разрешите подать, пока борщ горячий?
— Ну что ж, давайте... — сказал Водарский. — А вы, поручик, если хотите вымыть руки, в сенях есть умывальник и полотенце.
Когда Евгеньев вернулся в горницу, на столе стояли два бачка с борщом и кашей и две тарелки; деревянные лежки и нарезанный толстыми ломтями хлеб лежали прямо на чистой скатерти. Захаркин сам налил в тарелки борща, поставил перед гостем и полковником, сказал вежливо: «Угощайтесь» — и направился к двери:
— Ты что, будешь находиться там? — спросил его Водарский.
— А как же, надо быть с солдатами. А вдруг недовольство какое... — ответил тот.
— Ну правильно. Спасибо тебе, иди.
Другой солдат тоже вышел в сени. Водарский, кивнув вслед ему, пояснил:
— В полку отменены денщики для оставшихся офицеров. Но мне лично разрешено иметь «адъютанта». Сапоги он мне не чистит, но полковой комитет обязал его оказывать мне помощь в сдаче белья в стирку, доставке пищи на дом, когда я не могу обедать с солдатами, и в других подобных мелочах, чтобы я «имел возможность уделять больше времени командованию полком»...
После этого они некоторое время молча ели.
— И вот вам еще тема для размышлений, — снова заговорил Водарский. — Этот солдат, Захаркин, — один из тех, кто вместе со мной приказами Временного правительства, ставки, командования фронта и армии были отданы под суд военного трибунала... Что ж, со своей точки зрения, они правы: и я, и полковой комитет, и весь полк отказались выполнить приказ правительства и командования о расформировании, — значит, мы мятежники и должны быть наказаны. И что же? Оказалось, что и правительство, и ставка, и командование фронта и армии бессильны осуществить свои приказы! — Водарский возмущенно фыркнул в усы. — Оказалось, что я, полковник Водарский, сильнее Керенского, сильнее Духонина, Балуева и других вышестоящих лиц, потому что за меня горой стоит не только мой полк, но весь Гренадерский корпус, вся армия, а за ними — нет реальной силы... Не жалкая ли это картина? И разве даже одного примера не достаточно, чтобы оправдать большевиков, которые на днях пинком вышвырнули вон это бессильное и беспомощное «правительство»? А вот их, большевиков, ни жалкими, ни беспомощными не назовешь! Да-с, сударь, я здесь имею дело с их рядовыми представителями и могу заверить вас, что даже они способны на бо-ольшие дела. А что сказать об этом Мясникове, сидящем в Минске? (Евгеньев чуть не поперхнулся, услышав эти слова.) Мне мои комитетчики дают читать его статьи, статьи других минских большевиков в их газете «Буревестник». И, читая, вижу, чувствую, что и Мясников, и его окружение — во! — Полковник сжал кулак, показывая и силу, и единство людей, о которых говорил. — И тогда я начинаю думать об их вождях, что сидят в Петербурге, в частности о Ленине... Не-ет, батенька, это вам не краснобай Керенский; этот знает, что надо делать и как надо делать. Этот не будет издавать приказы, которые заведомо не может выполнить, но уж если издаст — тогда держись! — Водарский помолчал минуту, потом добавил: — И раз я вам сказал столько, скажу и последнее: сдается мне, что у кормила державы нашей встает личность, достойнее которой не было со времен Петра Великого. И, как русский человек, хочу верить, что под его вождением Россия излечится от всех недугов дурного устройства жизни и займет подобающее место в мире...
День, начавшийся для Жданова с такой, в сущности, ничтожной неприятности, как сцена встречи казаков с большевиками-пехотинцами, продолжал приносить ему все новые и уже нешуточные неудачи.
Комиссар Второй армии Гродский так и не удосужился сообщить ему, что же творится на участке Гренадерского корпуса, начала ли эта проклятая немчура свое наступление и если нет, то почему.
Зато неожиданная весть о захвате большевиками бронепоезда и настойчивом продвижении его к Минску ввергла всех в панику. Она нагнала страху не только на начальников станций и военных комендантов, но и на главкома фронта и штабных офицеров, в результате чего ему, Жданову, так и не удалось уговорить их сейчас же начать военные действия в городе.
Вынужденный на время отказаться от своих планов в городе, Жданов решил направить все усилия на то, чтобы задержать продвижение бронепоезда к Минску. Но посланная навстречу поезду делегация в составе полковника Парамонова, председателя «комитета спасения» Колотухина и эсера Злобина вернулась со станции Негорелое ни с чем.
«Хам, хам, хам!» — орал, брызгая слюной, Колотухин, пока полковник Парамонов рассказывал в штабе о том, как Пролыгин презрительно высмеял все их предупреждения и угрозы и буквально прогнал со станции Негорелое. И теперь Колотухин и Злобин так же, как это делал утром Жданов, в исступлении выкрикивали: «Погоди же, наглец, попадешься нам!»
Но события этого дня вынуждали Жданова со страхом думать, что, пожалуй, произносить подобные угрозы имеет больше оснований именно этот солдат, который сейчас ломится со своим бронепоездом в Минск. И тогда его мысли вновь и вновь обращались к тому, кто руководил всеми этими страшными людьми, — к Мясникову.
Да, чем дальше, тем больше этот человек превращался для Жданова из политического противника в своего рода личного врага. С тех пор как Жданов оказался во главе сил, борющихся против развертывания большевистской революции на Западном фронте и в Белоруссии, он, затевая ту или иную акцию, первым делом думал: а как воспримет ее этот прапорщик со спокойными карими глазами, какие примет меры? И каждый шаг Мясникова или большевиков — в любой точке и в любой воинской части фронта — он воспринимал как удар, направленный прежде всего против него, против его воли, удар, рассчитанный на его, Жданова, капитуляцию.
Какие планы разгрома большевиков на фронте и в Минске лелеял он еще вчера! Был уверен, что уже сегодня сумеет разогнать Совет, арестовать Мясникова и его подручных, создать перелом и здесь, и повсюду... А на деле гренадеры сидят на фронте целы-невредимы и даже шлют сюда дерзкие телеграммы, бронепоезд движется на Минск, грозя всем расправой, а Мясников, чувствуя приближение помощи, чего доброго, возьмет да и сам перейдет к боевым действиям — нападет на штаб, арестует его, Жданова, разгромит «комитет спасения»...
А Мясников, не подозревая, что является предметом подобных размышлений, в это время чувствовал себя осужденным на самую адскую из казней, на которую только можно обречь руководителя, — на незнание обстановки...
Он все еще ждал нападения врага, потому что был уверен: оно должно быть, не может не быть! Не такие же глупцы этот Жданов или Балуев и Вальтер, думал он, чтобы не воспользоваться нашей слабостью и не попытаться разгромить раньше, чем подойдет подмога... Поэтому он сразу поверил анонимной записке, переданной каким-то казаком одному из патрульных 37-го полка. Поверил и по тревоге поднял все советские войска для отпора врагу, а на следующий день отправил Кривошеина в штаб — заявить протест.
И можно понять, какова был его радость, когда Кривошеий, вернувшись к полудню из штаба фронта, рассказал ему и остальным товарищам, как он, ожидая в приемной Балуева, пока адъютант доложит о нем, вдруг «по какому-то наитию» поднял трубку трезвонившего телефона и услышал голос члена армейского комитета Второй армии большевика Пролыгина, который успел только сообщить, что идет с бронепоездом на помощь Минску и сейчас находится в Негорелом.
— С бронепоездом? — взволнованно переспросил Мясников. — Значит, наши послали сюда бронепоезд?..
— Да, видно, так...
— Ну а ты знаешь, кто этот Пролыгин? Имя это я вроде где-то слышал...
— Да я его встречал раза два, и то мельком, — признался Кривошеий. — Помню, что он тоже гренадер, кажется из Екатеринославского полка, активный большевик... Но убей — не припомню его внешность.
И вдруг Мясников сам вспомнил: ах да, ведь именно эту фамилию назвала Изабелла Богдановна в тот вечер! Сказала, что Пролыгин и Марьин будут провожать ее до станции... Вот совпадение!
В тот же день, 30 октября, часа через два, в Минск вернулся Георгий Соловьев. Он устал, оброс, был весь в грязи, но настроение у него было приподнятое.
— Ну, товарищи, порядок! — радостно сообщил он членам военревкома. — Скоро сюда прибудет достаточно сил, чтобы поставить этих «спасителей революции» на место!
И рассказал о заседании военревкома Второй армии, о создании там Революционного штаба, о решении послать в Минск два полка пехоты, а также бронепоезд и отряд бронеавтомобилей.
— О бронепоезде мы уже имеем сведения, он в Негорелом, — сказал Ландер. — Звонил оттуда этот самый товарищ Пролыгин... Ну как он, справится?
— Я его лично тоже не знаю, — ответил Соловьев. — Но, как видно, Рогозинский и другие товарищи недаром так уверены в нем, — вон ведь допер же с бронепоездом до Негорелого! Стало быть, и сюда дойдет...
— Что ж, будем надеяться на это... — Мясников на минуту задумался, потом с виноватым видом произнес: — Я знаю, товарищ Соловьев, вы устали сверх меры и сейчас вам не мешало бы поспать хорошенько... Но нам надо все время быть в курсе событий на железной дороге, поэтому придется вам сейчас же отправиться на станцию и вместе с Голубевым и Четырбоком постараться добыть сведения о продвижении бронепоезда. Что же касается остальных частей, идущих сюда, то о них, конечно, больше нас будут знать в этом «Ноевом ковчеге», и Алибегов с Перпо сейчас должны любыми путями заставить Жданова и других проговориться, выболтать, как же обстоят дела с этими частями... — Он минуту подумал и вдруг обернулся к Кнорину: — А знаешь, чем мы будем заниматься с тобой тем временем? Будем готовить издание с 1 ноября нашего «Буревестника» под старым названием «Звезда»...
— Ты думаешь, это так важно сейчас? — удивился Ландер.
Но Кнорин уже понял, зачем Мясников задумал это,
— Правильно! — с воодушевлением воскликнул он. — Это очень важно именно сейчас. Ведь в свое время «Звезду» закрыл Керенский, а теперь, когда в этом «комитете спасения» все надеются на победу Керенского под Питером, мы этим шагом говорим: «Нету больше вашего Керенского и не будет! А вот «Звезда» возродилась и будет сиять еще ярче, чем прежде!»
Поскольку военные действия на фронте давно были приостановлены, многие штабные офицеры вызвали в Минск свои семьи, и теперь жили, как в доброе мирное время: утром отправлялись на службу, в обед приходили домой, по вечерам навещали друзей, играли в карты, пили водку или чай из самовара, попутно обсуждая политические события в городе и стране.
Привез в Минск свою семью и Жданов. И сегодня утром, когда он уезжал в штаб, жена его, крупная, большеглазая блондинка, уже знала, что он полон надежд и энергии. Она слепо обожала мужа, считала его выдающимся человеком, а в эти последние дни прониклась верой в то, что именно на его плечи история возложила великую миссию спасения России от грозящей гибели... Но в обед Жданов приехал домой молчаливый и мрачный, время от времени бормоча проклятия и угрозы.
— Что случилось, Беня? — робко спросила жена. Жданов сперва ответил: «Ничего особенного», потом отрывочно и не очень связно все же рассказал ей о провале планов наступления на большевиков, о бронепоезде, идущем к Минску, о трусливом поведении главкома и других штабных офицеров и о нахальстве большевиков, которые, несмотря на свою малочисленность, ведут себя крайне вызывающе, и что не будет ничего удивительного, если они сами перейдут здесь в наступление и начнут арестовывать членов «комитета спасения» и командование фронта...
Через некоторое время из штаба фронта позвонил адъютант главкома и сообщил, что из Второй армии пришла депеша в ответ на запрос, сделанный Ждановым после возвращения Колотухина и Злобина из Негорелого.
— Пришлите немедленно депешу ко мне домой! — с тревогой в голосе приказал Жданов.
Положив трубку, он минуту смотрел в одну точку, раздумывая над этим сообщением, затем сам позвонил на квартиру к Колотухину.
— Вы знаете, что этот тип с бронепоезда не врал нам? Они действительно направили сюда кроме бронепоезда еще два пехотных полка и отряд бронеавтомобилей... Что будем делать?
— Все зависит от того, знают ли Мясников и другие об этом, — ответил Колотухин. — И если знают, то намерены ли ждать, пока эти силы подойдут, или начнут действовать раньше?
Жданов молчал, двигая желваками. А Колотухин продолжал развивать свою мысль:
— Вся наша беда в том, что мы об их планах ничего не знаем, а о каждом нашем шаге они узнают тотчас же... Впрочем, быть может, нам удастся заставить проговориться этих, Алибегова и Перно?
— Гм... Едва ли, — промычал Жданов.
— Ну каким-нибудь образом спровоцировать, чтобы они раскрыли свои карты. В конце концов, это ведь единственные большевики, с которыми мы общаемся, стало быть, кроме них, мы ни у кого больше не узнаем ничего...
— Да, это правда, — согласился Жданов. — Давайте скорей собирайте экстренное заседание. Я сейчас же приду туда...
* * *
— По достоверным сведениям, имеющимся у нас, так называемый военно-революционный комитет, который должен был прекратить свое существование еще третьего дня, не только не распущен, но и разослал в армии фронта своих представителей, — спокойным, почти торжественным тоном говорил Колотухин. — И я хотел бы задать вопрос уважаемым коллегам, представителям Минского Совета: не будут ли они добры сообщить Комитету спасения революции цель поездки этих лиц в армию?
Срочный созыв «комитета спасения» в целом обрадовал Алибегова и Перно, так как только там они могли каким-либо образом выяснить, знают ли эсеро-меньшевики о приближении помощи Минскому Совету и что намерены предпринять. Но теперь этот неожиданно вежливый тон, это церемонное «уважаемые коллеги» озадачили большевистских представителей. Что бы это значило? Тут что-то не то.
— Насчет того, что военно-революционный комитет якобы должен был прекратить свое существование, — начал Алибегов, — здесь, уважаемый коллега, представитель партии меньшевиков несколько путает... Такое предложение было сделано, но Минский Совет не согласился с ним, поэтому вопрос так и остался открытым. Что же касается отправки каких-то представителей в армии, то мы просим уважаемого коллегу Колотухина уточнить, кого именно он имеет в виду. Нам об этом ничего не известно.
Колотухин понимал, что, подражая его тону и манере выражаться, Алибегов, в сущности, высмеивал его, но, сдерживая раздражение, сказал все еще спокойно:
— Речь идет о Щукине, Фомине, Соловьеве и других членах этого военно-революционного комитета.
Поскольку Соловьев уже вернулся в Минск, то Алибе-гову представлялась возможность сразу перейти в контрнаступление:
— Вот и снова выясняется, что вы находитесь в полном заблуждении, коллега. Не далее как час назад я видел собственными глазами Георгия Соловьева и, если это понадобится, могу через полчаса представить его лично вам...
— Да и Щукина я встречал еще вчера где-то здесь, — не моргнув глазом, объявил Перно.
— И тоже сумеете представить его через полчаса нам? — насмешливо спросил Колотухин.
— Ну, может быть, не так скоро, — пожал плечами Перно. — Бедный Щукин, после того как его отстранили от поста комиссара фронта, ходит без дела, и кто знает, у какого своего знакомого в городе он сейчас коротает время...
— В общем, как видите, ваши сведения являются не такими уж «достоверными», — заключил Алибегов.
Это было уж слишком. Жданов, не выдержав, гневно крикнул:
— Ложь! Хватит валять дурака! Откуда же появились телеграммы с фронта о поддержке Минского Совета?
Алибегов сразу вскочил на ноги.
— Телеграммы?.. Ах, значит, есть такие телеграммы? Тогда почему же они не доставляются адресату? И вообще, почему Минский Совет лишен связи не только с фронтом, но и в самом городе?
— Ишь чего захотели! — уже загрохотал Жданов. — Дать вам связь, чтобы еще легче было осуществить ваши гнусные планы? Ведь признайтесь, вы послали на фронт Щукина, Фомина, Могилевского, Соловьева, чтобы вызвать войска и совершить в Минске контрреволюционный переворот!
— Опять начинаются голословные обвинения, — поморщился Перно. — Да научитесь ли вы наконец говорить с доказательствами в руках или нет?
— Доказательства? Будто вы не знаете, что бронепоезд Второй армии находится на подступах к Минску... Не знаете, что сюда идут Двенадцатый Туркестанский и Шестидесятый Сибирский полки, отряд бронеавтомобилей... — Жданов повернулся к остальным членам «комитета»: — Я официально заявляю вам, что эти факты свидетельствуют о намерении большевистского военно-революционного комитета свергнуть наш Комитет спасения революции и арестовать штаб! Арестовать всех нас, здесь сидящих! Поэтому если вы не перестанете колебаться и вести трусливую политику потакания этим... — он указал коротким, словно обрубленным, пальцем на Алибегова и Перно, — этим пройдохам, обманывающим вас на каждом шагу, то вы погубите все дело спасения революции... Нужно упредить их! Разделаться с военревкомом! Арестовать Мясникова и его банду!..
И как раз в это время раздался звонок телефона. Колотухин взял трубку, послушал, потом передал Жданову со словами:
— Вас просят, из дому.
Присутствующие притихли, а Жданов, послушав, вдруг взбешенно закричал:
— Что?! Грузовик с солдатами?! Не открывай дверь ни за что! Я сейчас позвоню в штаб и попрошу прислать помощь!
Он бросил трубку и дико оглядел присутствующих:
— К моему дому подъехал грузовик с солдатами! Жена говорит, что это солдаты большевиков, они приехали арестовать меня и мою семью! Докатились...
Он снова бешено закрутил ручку телефона и, вызвав штаб фронта, приказал дежурному отправить взвод конников-текинцев для защиты его семьи, добавив, что он сам тоже скоро прибудет туда.
Доложив трубку, он обернулся к Алибегову и бросил свирепо:
— Ну, все!.. Теперь уже конец!.. Конец!
И выбежал.
После короткой паузы Штерн в свою очередь обратился к Алибегову:
— Ну, товарищи... если окажется, что вы действительно начали прибегать к таким мерам, то я сам первый буду голосовать за то, чтобы против вашего Совета начали военные действия...
И в это время вновь зазвонил телефон. Колотухин схватил трубку, послушал и сказал кому-то:
— Комиссар штаба? Его нет, он побежал домой в связи с сообщением о прибытии туда грузовика с солдатами большевистского полка.
По телефону — очевидно из штаба — что-то долго говорили. Колотухин слушал с растерянным лицом, потом, сказав «ладно», положил трубку. Все ждали, что он скажет, но Колотухин явно был не в состоянии собраться с мыслями.
Чувствуя, что снова произошло нечто очень благоприятное для них, Перно произнес:
— Ну?
Колотухин гробовым голосом сообщил:
— Произошло недоразумение... Оказывается, комиссар штаба сам просил отправить ему домой какую-то бумагу, а в штабе за неимением свободного легкового автомобиля послали грузовик. Подождем немного, сейчас комиссар вернется...
Алибегов и Перно, прищурив глаза, смотрели на остальных. Эта компания сейчас была бы украшением любых похорон, и можно было бы позволить себе громко посмеяться над ними. Но ни Алибегову, ни Перно смеяться не хотелось.
Так, в полном молчании, прошло несколько минут. И когда всем стало ясно, что в этот день комиссар Жданов больше сюда не вернется, Штерн предложил:
— Давайте прервем заседание... Соберемся утром.
— Правильно! — радостно подхватил Колотухин. И никто не стал возражать.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
В ночь с 30 на 31 октября под Петроградом наступил перелом в борьбе между революцией и контрреволюцией. До этого идущий из Пскова казачий корпус генерала Краснова и примкнувшие к нему пехотные части продвигались к столице почти беспрепятственно и к 30 октября заняли Гатчину и Царское Село. Брошенные против них революционные части и красногвардейские отряды были охвачены той же решимостью, с которой они 25 октября штурмовали Зимний дворец и преодолевали сопротивление юнкеров в других пунктах Петрограда. Однако, руководимые выборными командирами или солдатскими комитетами, они были плохо организованы. Между ними не было четкой связи и взаимодействия, они не вели разведку и не знали ни намерений противника, ни расположения его сил. Поэтому казалось, что в полевой войне с регулярными и четко управляемыми войсками противника вне города они будут разбиты и рассеяны,
Но все эти дни Центральный Комитет, Советское правительство и Петроградский военно-революционный комитет прилагали отчаянные усилия для сплочения и правильного руководства красными частями. Здесь, на Царскосельском направлении, впервые произошло настоящее большое сражение между казачьими войсками и отрядами петроградских и колпинских рабочих, балтийских матросов и солдат петроградского гарнизона.
Организованность регулярного войска? Оказалось, что одной ее мало, чтобы одержать верх над невиданной храбростью народных масс, охваченных верой в правоту своего дела и готовых сражаться насмерть и победить. В нарушение всех правил военного дела, эти массы неудержимо бросались навстречу конной лаве и, остановив своими телами первые ряды, приводили в расстройство последующие, потом стаскивали казаков с вставших на дыбы, испуганно ржущих коней, рвали, кололи штыками, душили руками... Матросы, расстреляв патроны, с яростным криком «полундра!» кидались в бешеную атаку. И так как у казаков не было именно этого — неодолимого желания победить, умереть, но победить, — они повсюду начали показывать спину.
К ночи 30 октября Царское Село было отбито у противника, и красные войска, продолжая преследовать отходящих казаков, продвигались все дальше. Корпус Краснова таял, как снег под весенним солнцем...
По странному стечению обстоятельств (или в этом была какая-то закономерность?) в те же самые дни на одном из участков Западного фронта назревало сражение, от исхода которого судьба революции непосредственно не зависела, но которое могло серьезно повлиять на дальнейшее ее развитие.
В этом сражении друг другу противостояли все те же старые противники в не закончившейся еще мировой войне — германская и русская армии. Но на этот раз им предстояло схватиться вовсе не за прежние цели...
Словно для того, чтобы угодить германскому командованию, погода в это утро резко улучшилась. Ветер за ночь круто переменил направление и подул ровно и сильно в сторону русских позиций. Тучи на небе разошлись, видимость, столь нужная артиллеристам, улучшилась, земля подсыхала, облегчая передвижение пехоты.
И тогда по приказу генерала фон Зауберцвейга триста орудий внезапно обрушили ураганный огонь на позиции Гренадерского корпуса, сосредоточив основной удар на Срубовских высотах, где оборонялись 6-й Таврический и 7-й Самогитский полки 2-й гренадерской дивизии.
В это время атакованные русские части, в сущности, оставались без командиров. Но все же не без руководства, как рассчитывал кое-кто в штабе фронта. Председатели полковых, батальонных и ротных комитетов, отправляясь на съезд в Фалясин, оставили вместо себя самых дельных и толковых членов комитетов. Во всех ротах и командах большевики-агитаторы разъясняли солдатам: «Смотрите, товарищи, германский и русский империализм могут сговориться, чтобы совместно задушить нашу народную революцию... И ежели на нас нападут, всем стоять насмерть!»
Вот почему при первых же звуках артиллерийской канонады все полки корпуса сразу поднялись на ноги. Полковые, ротные и командные комитеты немедленно взяли на себя руководство подразделениями. Корпусная артиллерия — 1-я и 2-я бригады — дружно открыла огонь, причем корректировщиками были опытнейшие солдаты. Меткая стрельба, открытая ими, вскоре заставила замолчать многие батареи противника.
Уже это несколько озадачило немецкое командование. Оно психологически заранее настроилось на то, что на атакуемом участке русские части, оставшиеся без руководства, неминуемо должны прийти в замешательство и не оказывать организованного сопротивления. Так чем же объяснить этот внезапный, дружный и меткий огонь русских батарей?
Тем не менее с истинно немецкой методичностью и последовательностью германское командование продолжало осуществлять намеченный план наступления. В течение получаса бризантные и осколочные снаряды рвали на русских позициях нитки окопов и ходов сообщения, разворачивали бревна блиндажей и пулеметных точек, а затем над этой изрытой, перепаханной землей начали лопаться — шумно, но как-то не страшно — химические снаряды, и буро-желтые облака быстро накрыли собой весь передний край обороны...
По русским окопам пронеслась передаваемая из уст в уста команда: «Газы! Всем надеть маски!» Гренадеры знали: как только газовое облако будет унесено ветром к ним в тыл, немецкая пехота пойдет в атаку.
Так оно и случилось. Отборные части, недавно переброшенные на этот участок с Юго-Западного фронта, плотными цепями двинулись в наступление на позиции Таврического и Самогитского полков. Но, вопреки их ожиданию, оттуда, где земля недавно буквально кипела под ударами немецких снарядов и еще носились рваные облачка рыжеватого газа, затараторили, захлебываясь от спешки, десятки пулеметов, защелкали ружейные выстрелы... Наступающие, карабкаясь вверх по склону, несли огромные потери. А когда они наконец подошли достаточно близко к русским окопам, оттуда выскочили плечистые гренадеры с перекошенными в яростном крике «ура!» лицами и ринулись лавиной на немцев, опрокинули штыковым ударом, обратили в бегство...
Теперь немецкое командование взбеленилось. Шутка ли, так долго и тщательно готовить наступление, твердо верить, что русская солдатня будет разогнана первым же ударом, — и потерпеть такое жестокое фиаско... Немецкая артиллерия вновь открыла огонь по русским позициям, а пехота, подкрепленная спешно подтянутыми резервами, снова бросилась вперед. Теперь, когда уже не было прежней беззаботной уверенности в легкой победе, она двигалась стремительно и упорно.
С первого взгляда могло показаться, что разгорелось сражение, каких немало было в этой войне. Русские гренадеры и раньше отличались стойкостью в обороне и храбростью в рукопашном бою. Однако немецкие войска, лучше вооруженные и управляемые, в конце концов все же брали верх, в результате чего и оказались здесь, в ста пятидесяти верстах от Минска. Но в этот день в начавшемся у Срубовских высот сражении происходило нечто необычное, подлинного смысла которого еще никто не сознавал. Немецкие войска дрались с присущим им упорством и управлялись не хуже, чем в прежних сражениях. Все более ожесточаясь, они вновь и вновь кидались в яростные атаки. Но сломить противника на этот раз им никак не удавалось...
И было ясно, что в эти дни изменилась сущность не германского солдата, а русского. Конечно, он еще не стал солдатом той новой армии, которой только предстояло родиться, чтобы удивить мир своими подвигами. Но он уже и не был солдатом старой царской армии, ибо в эти дни к его обычной стойкости и храбрости прибавилось нечто новое и бесконечно важное — сознание того, что теперь он защищает свою власть, свое государство. И это сознание заставляло его, простого солдата, без приказов и понукания со стороны командиров (их ведь и не было рядом!) драться насмерть и яростно отражать атаки врага.
Мясников, разумеется, все еще не был в курсе этих событий, происходящих под Питером и на участке обороны Гренадерского корпуса. Сведения, доставленные 30 октября Соловьевым, дали ему основание полагать, что во всяком случае в Минске период выжидания вот-вот должен кончиться. Подходит момент, когда они сами смогут взять инициативу в свои руки, перейти в контрнаступление.
Эта его уверенность еще более укрепилась после «стратегической разведки», проведенной 30 октября Алибеговым и Перно в «комитете спасения». Вернувшись оттуда, они доложили военревкому, что Жданов и Колотухин явно в состоянии бессильной ярости в споре с ними, в сущности, подтвердили, что к Минску подходят бронепоезд, отряд бронеавтомобилей и пехотные части. Более того, из их слов стало ясно, что в адрес Минского Совета и ВРК поступают со всего фронта телеграммы, в которых выражается поддержка Советской власти здесь и в Петрограде, и что в корпусах и армиях уже начались или начинаются съезды.
Под конец, рассказав о трагикомическом эпизоде со звонком из квартиры Жданова, Алибегов заключил:
— Они не просто нервничают, товарищи, они уже в панике. И я думаю: а может, нам и в самом деле пора выступить, а?
— Выступить? — удивленно посмотрел на него Мясников. — То есть первыми завязать вооруженную схватку в городе с численно превосходящими силами противника и не только нанести огромный вред населению, но и самим понести большие потери? Зачем это нужно?
— А как же? — в свою очередь удивился Алибегов. — Неужели ты надеешься, что удастся взять власть без вооруженной борьбы?
— А почему бы и нет? Если они до сих пор не решились сами завязать борьбу, то сейчас, когда фронт идет нам на помощь, они и подавно не решатся на это. А если мы к тому же сумеем по-настоящему показать им нашу силу, еще больше припугнуть, то они сдадут власть как миленькие...
— Я тоже начинаю верить, что такой исход возможен, — согласился Ландер. — Во всяком случае, мы сами должны всячески избегать открывать боевые действия первыми. Ведь то, что 27-го мы не кинулись слепо в драку с казаками, а пошли даже на временную уступку власти, дало нам огромный моральный перевес в глазах не только рабочих и тысяч несчастных беженцев, но даже мелких лавочников и ремесленников. И зачем же нам сейчас пойти на кровопролитие, не попробовав сначала взять власть мирным путем?
Подходящий повод для того, чтобы большевики «показали силу», дали сами эсеры. 31 октября в их газете «Социалист-революционер» была помещена статья, в которой минским большевикам предъявлялись обвинения в нарушении соглашения от 27 октября и в конце задавался вопрос: «Заявите открыто: поддерживаете ли вы революционный порядок или сознательно, или бессознательно намерены вести революцию к гибели?»
— Ну вот и все, — с удовлетворением сказал Мясников товарищам, когда они снова собрались вместе и еще раз прочитали эту статью. — С вашего позволения я сам на страницах нашей газеты, которая с завтрашнего дня выходит под старым названием «Звезда», поговорю «по душам» с этими господами. И заодно объясню, что ждет их в недалеком будущем.
— Правильно, — согласился Кнорин. — Мы разошлем этот номер «Звезды» по всем районам города, во все воинские части, на заводы и фабрики. Садись, Алеша, сейчас же за статью и, как только кончишь, пришли в типографию.
Как и все свои статьи последних месяцев, Мясников писал ответ эсерам сразу набело: не было времени ни на то, чтоб дать материалу «отстояться», ни даже на то, чтобы после правки хоть раз снова переписать. Чуть подумав, он написал заголовок: «Маски долой!» Кратко и четко описав события, происшедшие в Минске после образования «комитета спасения», и причины, заставившие большевиков пойти на соглашение со ждановыми и колотухиными, перечислив все действия «комитета спасения», он затем задал вопрос: «Что все это? Поддержка революции и спасение ее или подножка революции и предание ее?
«Социалист-революционер» (№ 7 газеты местных социал-революционеров) ставит нам следующий вопрос: «Заявите открыто: поддерживаете ли вы революционный порядок или сознательно, или бессознательно намерены вести революцию к гибели?» Да, г-да сподвижники Керенского и его друзей Корниловых и Калединых! Да, мы, и только мы, поддерживаем революцию! Рабочие и солдаты восстали против ига узурпаторов, предателей, изменников и палачей, они прогнали Керенского и Кишкина, они создали власть Советов, народное правительство, мы за него, мы поддерживаем его. Мы за восстание. Вместе с нами и Советы, и Минский Совет. Вместе с нами и вся армия, и все солдаты. Все низы, понимаете? Мы получаем от них многочисленные резолюции с выражением готовности поддержать новый революционный порядок. А вы? С кем вы? Вы за какой революционный порядок? За кого вы? Поддерживаете ли вы Керенского и его правительство? Вы молчите, ваши жалкие, трусливые вожди (г-да Черновы) не отвечают на это! Вы за «революцию» г-д Керенских, мучителей солдат; вы сознательно и бессознательно поддерживаете контрреволюцию. С вами штабы и подлые комиссары низложенного правительства; с вами все враги рабоче-крестьянской революции; с вами жалкие типы из никому не нужных комитетов, от которых уже отвернулись массы, которые они свергают и революционным путем на их место выбирают новые; с вами мертвые, вся гниль русской революции.
Наша революция углубляется. Началась третья русская революция, революция рабочих и крестьян. Революция или контрреволюция. Рабочие и крестьяне или капиталисты и помещики. Другого выхода нет. Кого признаете, кого защищаете вы, так называемые социалисты-революционеры, вы — партия «крестьян»?
Но вы показали, что ваша партия не является крестьянской, она партия беспочвенных спутников буржуазии. Вы в самый решительный момент предали крестьян, отказали им в мире и земле. С вашего лица уже снята маска.
Но вы надели новую маску: создали «Комитет спасения революции», где вы предаете революцию, а не спасаете ее. Но скоро и эта новая маска будет снята с вашего безобразного лица. На фронте совершается революция. На фронте солдаты производят коренную чистку ваших авгиевых конюшен. Создаются там новые, революционные комитеты, всюду происходят армейские съезды. Через несколько дней вы не узнаете фронта. И тогда будут сочтены и ваши дни.
Революционный фронт возьмет и вашу контрреволюционную позицию, которую вы создали в Минске.
Это вопрос ближайших дней.
Знайте это, господа в черных масках!
Алеша».
После позорного конфуза с воображаемым арестом его семьи Жданов решил больше не ходить на заседания «комитета спасения революции». И не только потому, что боялся насмешек со стороны этого хитреца Алибегова и язвительного Перно. Просто он уяснил себе, что вчера выболтал им больше своих секретов, чем выведал у них. И что вообще эти заседания и бесконечные пререкания на руку только большевикам, которые выгадывают время, пока их эмиссары на фронте подтягивают к Минску верные им части. Ну нет, решил он, пора кончать с этой болтовней. Ведь чем дальше, тем меньше у нас остается шансов на какую-то победу...
И когда утром 31 октября он прибыл в штаб, то снова был полон решимости действовать. Там его уже ждала вчерашняя троица — генералы Вальтер, Довбор-Мусницкий и Копачев.
— Господа, — сказал им Жданов. — Полагаю, что ряд обстоятельств, заставивших вчера отложить наши планы, сегодня уже потеряли значение. Поэтому снова прошу отправиться в части и быть готовыми по первому сигналу начать выступление по согласованному плану. Пароль тот же: «Свершилось!»
Генерал Копачев мрачно спросил:
— Выходит, немцы будут наступать на гренадеров сегодня?
— Я сейчас иду на телеграф и лично буду следить за событиями.
— А как этот самый бронепоезд? — спросил Довбор-Мусницкий.
На этот раз ответил генерал Вальтер:
— Он еще в пути... Сегодня его ждут в Фаниполе.
— Мы примем меры, чтобы он не дошел сюда, — уверенно заявил Жданов.
— Ладно, поеду к себе, — сказал Копачев без всякого энтузиазма в голосе.
— Я также, — в тон ему откликнулся Довбор-Мусницкий.
Как только в районе Срубовских высот началась канонада, в 18-м Карсском полку, расположенном в тылу, в деревне Ятвези, была объявлена боевая тревога.
Выскочив из штабной избы, полковник Водарский минуту внимательно прислушивался к грохоту орудий и по направлению и интенсивности огня сразу понял, что к чему.
— Это артподготовка перед наступлением! — взволнованно крикнул он стоящему рядом Захаркину. — В районе Срубовских высот.
— Точно, — подтвердил тот. — А там нет командиров, надо двинуться туда на помощь!
— Немедленно свяжись с соседним Екатеринославским полком и передай, чтобы тоже выступили туда же! — приказал Водарский. — А я подниму полк.
Захаркин кинулся в штаб — звонить в полковой комитет екатеринославцев.
Тем временем на улицах Ятвези быстро строились ротные и батальонные колонны. Вокруг них в возбуждении носилась деревенская детвора. Да и взрослые, давно уже не слышавшие со стороны фронта боевой стрельбы, тоже встревоженно высыпали на улицу.
И вдруг кто-то крикнул:
— Смотрите!.. Смотрите, что это за желтое облако сюда ползет?
Со стороны Срубовских высот, подгоняемое ветром, плыло плотное маслянисто-желтое, облако, грозя накрыть деревни Ятвезь, Чернаши, Ломоши, Верба и Погорельцы.
— Газы! — наконец догадался кто-то. — Это же ядовитые газы!
Выкрик вызвал панику среди крестьян. Началась суматоха, крики, плач...
— Костры! — закричал Водарский. — Полк, бегом за деревню! Разжечь защитные костры! Сплошной линией!
Мужики бросились помогать солдатам, таскать хворост, сырые листья.
Это был довольно примитивный, но единственно доступный способ защиты. Дымовая завеса должна была и не пустить дальше, и увлечь газы ввысь. Но главное, энергичные действия солдат, бросившихся разжигать костры перед деревней, успокоили крестьян и паника улеглась.
— Теперь держитесь ближе к кострам и подкидывайте хворосту и листьев, — объяснил Водарский крестьянам. — А мы должны идти туда, на подмогу товарищам.
Полк двинулся к Срубовским высотам, откуда продолжал доноситься грохот орудий: корпусная артиллерия вела ответный огонь. Но желтое облако газов, нависшее над местом сражения, не позволяло видеть, что творится там.
Гренадеры шли в противогазах. Маски были не очень совершенными, а марш — ускоренным, люди почти задыхались. Болела голова, виски давило словно обручем, но шага гренадеры не замедлили. Скорей, скорей туда, где так нужна помощь!
Полки шагали уже второй час. Осевший в складках местности желтый туман все еще не позволял снимать противогазы. Но вот наконец дорога пошла в гору, к Срубовским высотам, откуда ветер уже сдул остатки газов. И когда начальник химической команды дал сигнал снять маски, все буквально срывали их с лиц и, жадно глотая открытыми ртами свежий воздух, валились на сырую землю.
«Вот тебе, вот тебе, вот тебе! Получил?» — мысленно ругал себя Евгеньев. — «Мерзавец, негодяй, предатель, ты этого хотел?»
Он лежал у обочины грязной дороги, прямо на земле, среди солдат Карсского полка, выделяясь в своем черном кожаном пальто, как ворон среди серых воробьев. Лежащие рядом солдаты с удивлением поглядывали на него и вполголоса переговаривались:
— Кто такой? Откуда взялся этот?..
— Не знаю... Перед выходом из Ятвези привел его Захаркин из полкового комитета и сказал, что это наш товарищ из армии, пойдет с нашей ротой...
Евгеньеву было трудно шагать в пехотном строю, да еще в противогазе, который он надевал впервые в жизни. Давала себя знать больная нога. Поэтому он только невероятным напряжением воли, словно в каком-то тумане, дотащился сюда и, наконец сорвав с лица маску, свалился на мокрую жухлую траву, шумно дыша, словно загнанная лошадь.
Но ни тяжелый марш, ни ноющая боль в ноге не могли заглушить в нем страшную мысль о том, что там, вон на тех высотах, происходит трагедия, которую он, поручик Евгеньев, быть может, мог бы предотвратить, если бы не был хлюпиком, тряпкой, а в сущности — негодяем, предателем... О господи, что же делать? Остается только одно: добраться туда и умереть вместе с теми, кого он предал...
...После разговора, окончившегося поздно ночью, Водарский поручил Евгеньева заботам Захаркина. Тот провел его в соседнюю избу и сказал:
— Вот вам койка нашего председателя Марьина. Он сейчас в Фалясине, на корпусном съезде, спите здесь.
«Марьин? — подумал Евгеньев. — Я где-то слышал эту фамилию». И тут же вспомнил: «Ах да, ведь об этом гренадере и говорила мне Белла в тот день... Вот удивится она, когда я расскажу ей, что спал на его койке!»
Уснул он только под утро, а проснулся от грохота орудий где-то не очень далеко. Выскочив наружу, он увидел поспешно строившиеся на длинной деревенской улице роты и переполошившихся крестьян. Отгоняя от себя страшную догадку, Евгеньев начал озираться по сторонам и наконец увидел Захаркина.
— Что случилось? — крикнул он, подбежав.
— Немцы. Напали на наших в районе Срубовских высот... Газы пустили, сволочи! Идем туда, на выручку нашим!
— Туда? Я пойду с вами! — - крикнул Евгеньев.
— Зачем? — удивился Захаркин. — Что вам делать там? У вас ведь даже оружия нет!
— Выдайте мне что-нибудь, — умоляюще сказал Евгеньев. — Я должен быть там! Обязательно... Вместе с вами.
Захаркину некогда было допытываться, для чего этот летчик так рвется с ними в бой.
— Ладно, — махнул он рукой, — над койкой, где вы спали, висят винтовка и противогаз Марьина... Возьмите и айда в первую роту, вон она строится там!
В это время Таврический и Самогитский полки отбивали уже десятую атаку немцев. Все пространство перед окопами было завалено трупами немцев, но и гренадеры понесли страшные потери. Во многих ротах осталась едва четверть состава, и дрались они уже из последних сил.
Да, гренадеры не знали, что своим упорным, яростным сопротивлением уже сломили боевой дух противника. Для немецкого командования исход этого сражения не имел решающего значения, между тем потери, понесенные в бесплодных атаках, были удручающе велики. Еще большее замешательство вызвало у них непонятное поведение русских. Все действия внезапно атакованного противника — и то, как он быстро открыл ответный огонь, и то, с какой организованностью переходил в контратаки и выбивал немцев из захваченных окопов передней линии, — свидетельствовали о том, что эти войска хорошо управляются. Так или иначе немецкие резервы полностью были введены в бой, но не смогли изменить ситуации, в то время как наблюдатели на передовых позициях сообщали о подходе больших масс русских резервов.
И тогда генерал фон Зауберцвейг понял, что сражение проиграно, и отдал приказ о прекращении атак.
Между тем в фольварке Фалясин, неподалеку от станции Погорельцы, в корпусном клубе продолжал работать открывшийся еще накануне съезд. Делегаты от вновь избранных комитетов войсковых частей, в основном большевики или сочувствующие им, один за другим поднимались на сцену и требовали переизбрания старого корпусного исполнительного комитета, как не соответствующего настроениям солдатских масс.
Члены старого исполкома во главе с врачом-меньшевиком Куликовым отлично понимали, что если дело дойдет до голосования, то руководство корпусом перейдет в руки большевиков. Поэтому они по указанию комиссара Гродского уже второй день всячески оттягивали время.
Наконец к середине дня Куликов и прибывший от минского «комитета спасения революции» эсер Голочев получили от комиссара армии Гродского известие, которое должно было помочь им прервать работу съезда и не допустить перевыборов. Немедленно выйдя на трибуну, Куликов с драматическими нотками в голосе прокричал:
— Товарищи делегаты! Только что получено ужасное известие: оказывается, пока мы здесь по настоянию одной из фракций проводим этот съезд и обсуждаем никчемный вопрос о том, кто будет в дальнейшем заседать в исполкоме, жестокий враг, злорадно следящий за нашими мелочными распрями, воспользовался тем, что солдаты в частях корпуса остались без руководства, и, напав на этих несчастных с применением отравляющих газов, истребил их! Фронт прорван, товарищи, и враг движется сюда!.. Вот до чего довела беспринципная, непатриотическая грызня! Предлагаю немедленно прекратить работу съезда. Всем нам надо сейчас же вернуться в части, чтобы спасти остатки корпуса, приостановить разгром армии, спасти родину!
Это сообщение ошеломило всех. Сидевший в президиуме Степан Щукин, который прибыл сюда накануне, чтобы помочь корпусным большевикам в проведении съезда, сразу вспомнил о предупреждении Мясникова, что против Гренадерского корпуса готовится какая-то серьезная провокация. «Значит, вот о чем шла речь...» — подумал он. Но действительно ли там, на передовой, положение сложилось именно так, как описывает Куликов? Разве не подозрительно, что сообщение о разгроме корпуса сделано как раз в тот момент, когда съезд должен был приступить к перевыборам? Случайно ли это?
Поднявшись с места, Щукин замахал руками, призывая к тишине, потом обратился к Куликову:
— Мы требуем, во-первых, доказательств и, во-вторых, более конкретных сведений, что именно происходит на фронте, какие именно части разгромлены и где прорван фронт.
И тогда вскочил на ноги представитель «комитета спасения» Голочев и, сверля Щукина глазами, произнес с укором:
— И вам не стыдно, Щукин? Мы с вами здесь гости, посторонние, и не должны вмешиваться в дела хозяев, если на них обрушилось такое несчастье... Впрочем, что я говорю: ведь Гренадерский корпус вы, большевики, всегда объявляли «своим»... Так кто же еще, если не вы, должны были бы первыми крикнуть: «Сейчас не время съездов, не время голосований! Все должны бежать туда, на помощь нашим гренадерам!»? А вы требуете каких-то доказательств, чуть ли не свидетелей...
И вдруг сзади, оттуда, где были двери клуба, раздался громкий голос:
— Клевета! Клевета на гренадеров, на армию!.. Долой провокаторов!
Все обернулись назад и увидели группу солдат, только что вошедших в помещение. Они были облеплены грязью, черны от порохового дыма, их шинели в пятнах крови, порваны. Не было сомнений, что прибывшие недавно вышли из жаркой схватки.
Один из них, с короткой шеей и могучим торсом — это был Захаркин из 18-го Карсского полка, — быстро пройдя вперед, прыгнул на сцену и спросил у Голочева:
— Свидетели, говорите? Вот они — свидетели и участники сражения! — он показал на себя и своих спутников. — Мы только что прибыли с передовых, где немцы действительно начали против гренадеров наступление с газами... — Захаркин повернулся всем телом к зашумевшему валу и крикнул: — Но никакого прорыва фронта нет, товарищи, никакого отступления в беспорядке тоже нет! Наоборот, наши героические Таврический и Самогитский полки наголову разбили врага у Срубовских высот и с помощью подоспевших Екатеринославского и Карсского полков закрепили победу!
Эти слова были встречены громом аплодисментов и криками «ура!». Захаркин, подождав, пока уляжется шум, продолжал:
— Товарищи! От имени гренадерских полков разрешите приветствовать корпусной съезд и поздравить вас с первой победой советских войск, одержанной ими на Срубовских высотах!
Снова раздались аплодисменты и крики «ура!». Захаркину пришлось довольно долго ждать, пока зал успокоится, после чего он закончил свою речь словами:
— Товарищи, тут кое-кто пытался ложью и клеветой на революционную армию сорвать наш съезд. Но напрасно они стараются. Солдаты революции твердо стоят на своих позициях, защищая и Родину, и революцию, так что вы можете спокойно продолжать ваш съезд!
Да, это был удар, который разнес на куски не только надежды, связанные с сохранением эсеро-меньшевистского исполкома в Гренадерском корпусе. Вместе с ним рушились и все, решительно все планы «комитета спасения» по поводу изменения хода событий на Западном фронте.
А на съезде, как и следовало ожидать, сразу же начались выборы нового исполкома, и туда попали главным образом большевики и сочувствующие им беспартийные. Председателем исполкома был избран рядовой солдат 5-го Московского гренадерского полка Евгений Конобеев. Из одних лишь большевиков были избраны и делегаты армейского съезда, который должен был открыться на следующий день в Несвиже.
Под конец съезда Евгений Конобеев зачитал составленную им резолюцию с требованием, обращенным к старым исполкомам Второй армии и Западного фронта, а также к минскому «комитету спасения революции», немедленно признать Советскую власть в Петрограде и в Минске. Когда текст резолюции был единогласно утвержден, Щукин предложил, чтобы его повез в Минск и предъявил «комитету спасения» тот же Захаркин.
— И второе важное дело, — продолжал Щукин. — Гренадеры понесли большие потери, говорят, с поля боя вынесли больше тысячи раненых. Нужно немедленно организовать их перевозку в Минск, ибо здесь лечение их обеспечить невозможно. Надо выделить дельных и энергичных людей, которые сумеют организовать быструю эвакуацию раненых.
Тут же поднялся с места председатель комитета Карсского полка Марьин.
— А это поручите мне, — сказал он. — В армейском санитарном поезде у меня есть друзья, они помогут все организовать быстро и хороню.
— Ну тогда давайте, товарищи, действуйте быстрее.
«Ах ты дубина стоеросовая, хвастун несчастный!» — ругал себя Пролыгин. Ругал еще со вчерашнего дня, когда некоторое время спустя после отъезда делегатов «комитета спасения» вдруг понял, какую упустил возможность быстро и безопасно добраться до Минска. Для этого ему надо было сейчас же пристроиться в хвост их поезду и дальше, не отрываясь, вместе с ними ворваться в Минск. Тогда никто не стал бы минировать или разбирать путь, пускать навстречу ему порожняк. А он увлекся спором с этими фендриками, гордо бросил им: «Убирайтесь туда, откуда приехали!» — и дал им возможность спокойно вернуться в Минск. А сам, боясь, что они осуществят свои угрозы, тащился с бронепоездом со скоростью черепахи, останавливаясь у каждой подозрительной кучки земли и насыпи или тревожно вглядываясь вперед: не мчится ли на них пущенный навстречу поезд?
Вот почему, вместо того чтобы прибыть в Минск уже 30-го, он добрался до Фаниполя — последней перед Минском станции — лишь 31-го, да и то когда короткий день уже переходил в сумерки. Досадуя на себя за эту задержку, Пролыгин хотел продолжить путь, но Яша, внимательно оглядев его, вдруг спросил:
— Скажи-ка, браток, когда ты спал в последний раз?
Пролыгин мутными глазами посмотрел на него и, потерев пальцами виски, с трудом начал припоминать: кажется, в последний раз спал 27 октября — четвертые сутки на ногах...
— А к чему ты это? — спросил он Яшу.
— То-то я вижу — сидишь тут и клюешь носом, того и гляди свалишься в топку... — И Яша решительно заявил: — Никуда дальше не поедем! Будешь спать, понял?
— Да ты что, очумел? — возмутился Пролыгин, округляя покрасневшие глаза. — Забыл, что там нас ждут?
— Ждут... А кто ждет, только наши?.. Нет, брат, нас там ждут и враги тоже! Ждут с пушками и пулеметами. И вот подойдем мы среди ночи к Минску, ввяжемся в бой, а где наши, где чужие, куда стрелять — не знаем... Это знает только наш командир, а он едва на ногах держится, и в голове у него от бессонницы одна муть... — Яша придвинулся к нему и сказал с расстановкой: — Пойми, товарищ, мы на сурьезное дело идем и нам нужно, чтобы у тебя голова там была ясная!
Пролыгин задумался. В том, что говорил председатель комитета бронепоезда, был большой резон. Подойти к Минску среди ночи, не имея представления о положении дел в городе, о расположении сил сторон, действительно было рискованно. Как бы не получилось так, что бронепоезд, совершив успешный поход, в самый последний момент будет выведен из строя из-за незнания обстановки... Нет, этого допустить нельзя, не для того его направили в Минск!
И тут Яша положил конец его колебаниям, решительно заявив:
— Если сейчас же не лягишь спать — созову комитет и проведу решение: дальше ни на шаг, пока командир не проспится!
— Ладно, — сдался Пролыгин, — буду спать... Только ты, пожалуйста, расставь вокруг поезда охрану, и чтоб у орудий и пулеметов всю ночь была вахта!
— В этом не сомневайся. Сам буду всю ночь на ногах, пока ты не встанешь, — заверил его Яша. — Давай, давай, иди!
Пролыгин прошел в первый бронированный вагон и не успел лечь на койку, как сразу же словно провалился в бездонный темный колодец...
Нет, комиссару Жданову не пришлось и в этот день передать по телефону столь желанный, заветный сигнал «Свершилось!».
До самого полудня он сидел в узле связи штаба, ожидая сообщения от комиссара Второй армии Гродского. Но тот молчал. Несколько раз к нему заглядывал генерал Вальтер, вопрошающе смотрел на Жданова и, не получив ответа, так же молча удалялся.
Наконец часам к двум Жданов не выдержал и приказал телеграфисту вызвать к прямому проводу Гродского.
«Почему молчите? — запросил Жданов. — Как дела на вашем участке фронта?» Он не хотел при телеграфисте уточнять, какой именно участок его интересует. Но комиссар армии отлично понимал его, ибо после короткой паузы ответил:
«Утром 9.00 противник внезапно начал наступление участке Срубовских высот применением газов тчк Однако однако гренадеры героически контратакуют тчк Исход сражения неясен тчк Съезд Фалясине продолжает работу Гродский».
Жданов снова и снова перечитывал ленту, пытаясь понять смысл сообщения. Если первая фраза комиссара армии была ясна и логична, то все остальное казалось просто нелепицей. Его так и подмывало тут же задать этому дураку на том конце провода вопросы: «То есть как это — контратакуют? Кто же командует гренадерами? Как может быть «неясен исход сражения», начавшегося пять часов назад атакой немцев с применением газов?» Не спятил ли с ума комиссар Второй армии?
Наконец он обратил внимание на то, что слово «однако» повторено дважды. И тогда у него мелькнула догадка, что это не просто ошибка телеграфиста. Нет, слово повторено с умыслом, чтобы намекнуть ему, что у Срубовских высот происходит нечто из ряда вон выходящее. Но что именно?
К сожалению, он не мог даже шифрованной телеграммой запросить подробности и разъяснения. Поэтому, делая вид, что полученное известие о нападении противника является для него полнейшей неожиданностью, он продиктовал телеграфисту:
«Беспокоимся положении Гренадерского корпуса тчк Сообщите ходе сражения Жданов».
Потом он передал текст депеши Гродекого в ставку, генерал-квартирмейстеру Дитерихсу, но уже без повторного «однако», и, взяв с собой ленту, ушел к генералу Балуеву, так как теперь уже полагалось поставить в известность и главкома, и начальника штаба о таком важном факте, как наступление противника на один из русских корпусов.
С этой минуты, к величайшей досаде Жданова, следить за ходом сражения у Срубовских высот должны были сам командующий, начальник штаба и квартирмейстер. Жданов, чтобы не выдать своих мыслей и чувств, вернулся к себе в кабинет и нервно курил, шагая из угла в угол...
Только к вечеру позвонил генерал Вальтер и попросил зайти к нему. Жданов, еще надеясь на что-то, почти бегом поспешил к нему и в дверях кабинета начальника штаба встретил полковника Липского. Худое и чуть удлиненное лицо квартирмейстера сияло от радости.
— Ну, господин комиссар, поздравляю! — возбужденно воскликнул он. — Гренадеры дали жару немцам!.. Давно такого не было на нашем фронте!
Жданов, чуть не оттолкнув его, вбежал в кабинет Вальтера, уставился в его лицо. Тот молча протянул ему уже наклеенную на бланк депешу. Она гласила:
«Ура! Гренадерский корпус после многочасового сражения наголову разбил противника отстоял свои позиции тчк Корпусной съезд Фалясине полностью переизбрал исполком тчк Делегаты выехали Несвиж участия открывающемся завтра армейском съезде тчк Гродский».
Жданов минуту стоял, опустив голову, и не знал, что сказать и что делать. Между тем Вальтер, почему-то ехидно поглядывая поверх пенсне, протянул ему вторую депешу:
— Не угодно ли прочесть и это?
Телеграмма, переданная со станции Фаниполь, сообщала:
«Бронепоезд Второй армии прибыл станцию Фаниполь 19.35 стоит под усиленной охраной третьем пути намерения неизвестны»
— Что же будем делать, а? — растерянно спросил Жданов.
Вальтер сухо ответил:
— Я уже позвонил в кавдивизию и легион, чтобы людей уложили спать. — И прибавил уже чуть мягче: — Это самое разумное, что мы можем сделать в создавшихся условиях...
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Проснувшись под утро 1 ноября, Пролыгин подумал, что, пожалуй, Яша был прав, возражая против немедленного продолжения похода на Минск. Он, хотя и не совсем ясно, понимал, что там установилось некое равновесие сил, в результате чего ни одна сторона не решается первой открыть боевые действия. Прибытие же бронепоезда, конечно, означало бы нарушение этого равновесия и могло вынудить «комитет спасения» открыть военные действия. И тогда отсутствие связи с Минским военревкомом и невозможность быстро разобраться в обстановке могли привести к тому, что бронепоезд, вместо того чтобы облегчить положение минчан, даже ухудшил бы его.
Вот почему, прежде чем тронуться в путь, Пролыгин пошел на станцию, чтобы разузнать обстановку и попытаться каким-либо образом связаться с Минском ВРК.
Между тем, как ни правильны были в целом рассуждения Пролыгина, но дела обстояли как раз так, что, явись бронепоезд в Минск прошлой ночью, никто не посмел бы сделать и выстрела по нему, а теперь, утром 1 ноября, настроение резко изменилось.
Всю ночь Жданов прошагал из угла в угол в своем кабинете, каждую минуту ожидая услышать гром пушек и стрекот пулеметов со стороны станции. Но бронепоезд почему-то продолжал оставаться в Фаниполе, и, поскольку пистолет все еще не был приставлен к его виску, мысли этого упрямца постепенно начали принимать иной оборот. Гренадерский корпус не разгромлен? Да, но он понес страшные потери и все еще не двинулся сюда... Бронепоезд в Фаниполе? Но ведь можно еще попытаться сделать так, чтобы он не дошел сюда... До сих пор все их усилия были направлены на то, чтобы нанести основной удар большевикам там, на передовой линии фронта... Но ведь гидру надежнее поразить, отрубив ей голову! Надо вывести из строя бронепоезд на последнем перегоне к Минску.
Под утро он уже весь был поглощен этой мыслью. Глаза снова горели, узкие губы были плотно сжаты. Вызвав чуть свет к себе Колотухина и поручика Завадского, знающего взрывное дело, и изложив им суть дела, он заявил:
— Наш последний шанс спасти положение — это во что бы то ни стало остановить бронепоезд на пути из Фаниполя в Минск. Надо пустить против него порожний состав и устроить крушение. А если это не удастся — взорвать путь и пустить бронепоезд под откос... Я беру на себя организацию крушения, а вам поручаю произвести взрыв. Едем на станцию, чтобы уточнить, где должны быть совершены обе акции!
С тех пор как Соловьев прибыл на станцию, он вместе с комиссаром красногвардейцев-железнодорожников Четырбоком пристально наблюдал за событиями на линии Брест — Минск. И как ни тщательно скрывала администрация станции все, что связано было с бронепоездом, им удавалось следить за всеми перипетиями продвижения бронепоезда и сообщать об этом военревкому.
Первого ноября утром Четырбок сообщил Соловьеву о том, что на станцию неожиданно прибыли комиссар фронта Жданов, председатель «комитета спасения» меньшевик Колотухин и адъютант главкофронта эсер Завадский, что у них весьма озабоченные лица и что сейчас они заперлись у начальника станции и о чем-то совещаются. Внезапное появление этих трех ярых врагов большевистского военревкома, конечно, встревожило Соловьева, и он дал указание: всем большевикам на станции следить, что делается вокруг, и докладывать о каждом подозрительном факте.
И вот вскоре пришло первое сообщение: начальник станции и Жданов по телеграфу запрашивали Фашшоль, не вышел ли оттуда бронепоезд, и, узнав, что он еще там, приказали немедленно сообщить, как только он отправится в Минск.
Несколько позже Жданов и начальник станции вызвали к себе одного из машинистов, меньшевика Васина, целых полчаса о чем-то беседовали, Васин ушел явно озабоченный.
Наконец, часам к одиннадцати в штаб красногвардейского отряда, где сидели Соловьев и Четырбок, позвонил старший стрелочник поста у паровозного депо большевик Девочко и сообщил, что сейчас мимо них проехал на пересечение вспомогательный поезд и остановился на третьем пути шестого парка.
— Вспомогательный поезд? — удивился Четырбок. — А что, разве где-нибудь случилось крушение?
— Да нет, никто об этом не слыхал... Да и на поезде нет рабочих-ремонтников. И паровоз-то ведет один лишь машинист, даже помощника нет...
— А кто машинист — не знаешь? — спросил Четырбок.
— Я-то не заметил, но погодите, спрошу у моего напарника Макаревича, это он первый увидал вспомогательный... — Девочко некоторое время молчал, видимо переговариваясь с Макаревичем, потом сказал в трубку: — Машинистом там этот самый Васин...
— Ладно, ждите наших указаний, — сказал Четырбок и, положив трубку, повернулся к Соловьеву: — Понял, что происходит? Вспомогательный поезд обычно стоит на запасном пути и трогается с места, когда где-нибудь происходит крушение. А тут он выведен на третий путь шестого парка, откуда можно без маневров двигаться по всем направлениям... И самое главное, на нем нет путейцев-ремонтников и ведет паровоз тот самый меньшевик машинист Васин, которого час назад вызывали к Жданову...
— И все это после того, как Жданов запрашивал Фаниполь насчет бронепоезда... — задумчиво глядя куда-то в угол, прибавил Соловьев. И чуть погодя поднял глаза на Четырбока: — Ты думаешь, они хотят пустить вспомогательный против бронепоезда? Устроить крушение?..
— Никак иначе это не объяснишь. Понимаешь, как только они получат сообщение, что бронепоезд вышел из Фаниполя, вспомогательный выйдет ему навстречу. Приблизившись, этот меньшевистский гад поднимет пары, сам выпрыгнет из паровоза, а поезд на полном ходу врежется в бронепоезд...
— Да, дела... — протянул Соловьев.
— Что же делать, а? — спросил Четырбок. Соловьев минуту раздумывал, потом придвинулся и Четырбоку:
— А что, если мы захватим вспомогательный и пойдем навстречу бронепоезду? И поможем ему благополучно прийти в Минск?..
Теперь уже задумался Четырбок. Потом сказал:
— Что же, пожалуй, это единственный выход...
Минут через пятнадцать — двадцать Соловьев, Четырбок, составитель поездов Кузьменков, стрелочники Девочко и Макаревич с группой рабочих-красногвардейцев, вооруженных винтовками, подбежали к тихо пыхтевшему паровозу вспомогательного поезда. Соловьев, Четырбок, Кузьменков и Макаревич поднялись на паровоз.
Машинист Васин, человек лет тридцати с бесцветными глазами, испуганно заморгал, глядя на этих четверых, тесно окруживших его в паровозной будке. Он знал, кто они, и понимал, что явились неспроста.
— Что ты тут стоишь один-одинешенек, друг Васин? — спросил насмешливо Четырбок.
Глаза у Васина забегали, и он ответил запинаясь:
— Не знаю... Приказано стоять тут и ждать указаний...
— Указаний? — переспросил Четырбок. — Ну вот мы и даем тебе указание: трогайся в путь!
— Куда?
— Туда, куда ты и должен был ехать, — в Фаниполь! В глазах машиниста отразились одновременно недоумение и страх.
— Да, но я не могу так... без ведома начальника станции...
— Послушай, Васин, — прервал его Четырбок. — Ты же знаешь, что помимо твоего начальника на станции есть и я, комиссар красногвардейского отряда. Знаешь, что когда ваши потребовали сдать оружие и распустить отряд, то я им показал дулю, и отряд до сих пор существует... И, конечно, знаешь еще, что, когда ваши хотели пропустить через Минск какие-то эшелоны, я им сказал, что разнесу станцию вдребезги и взорву все пути, после чего ни один эшелон даже не подошел к Минску... Ведь знаешь это? Так вот знай и то, что с этой минуты твоим начальником и вообще хозяином твоей жизни является вот этот человек, член военревкома товарищ Соловьев. Куда он прикажет, туда и поедешь! — Считая вопрос решенным, Четырбок повернулся к Соловьеву: — Сейчас я пойду и рассажу людей по платформам, и вы трогайтесь в путь. Если этот будет артачиться, то шлепните его и позовите меня, — я сам поведу поезд...
Он спустился и дал команду красногвардейцам сесть на платформы, а старшему стрелочнику Девочке сказал:
— Немедленно беги к Мясникову и доложи о том, что произошло. Пусть кто-нибудь из военревкома прибудет на станцию, чтобы встретить бронепоезд... Отряд красногвардейцев держать в боевой готовности!
После этого он дал рукой знак выглядывающему из оконца паровоза Макаревичу трогаться, а сам прыгнул на ступеньки последнего вагона состава, чтобы следить, не идет ли за поездом погоня.
Когда паровоз, уже набирая скорость, подходил к закрытому семафору, на полотно выскочил какой-то путеец, отчаянно размахивая красным флажком. Но, видя, что вспомогательный не намерен остановиться, он в ужасе отскочил в сторону перед самым носом паровоза, грозя кулаком и выкрикивая проклятия. И тут же увидел, как один из красногвардейцев, сидевших на платформе, поднял винтовку, делая вид, что целится в него. Тогда, низко нагнув голову, он кинулся прочь от путей.
В кабинете начальника станции царила гробовая тишина. Колотухин, Завадский и сам начальник молча смотрели на Жданова.
Да, это могло бы сломить любого. Эта бесконечная цепь неудач, постоянный срыв всех попыток изменить ход событий здесь, в Минске, и на фронте... И вот теперь рушилась последняя преграда, которую пытался поставить Жданов на пути продвижения большевистского бронепоезда. Что же это, а? Неужели он, Жданов, так и останется в истории событий на Западном фронте лишь заурядным неудачником? Растяпой, пачкуном и бездарью, которому так и не удалось провести в жизнь ни один серьезный замысел против большевиков?
Жданов поднял красные от бессонницы глаза на сидящих напротив него Колотухина, Завадского и начальника станции. Они сразу отвели взгляды, и Жданов решил, что те примерно так и думают о нем... И эта мысль вызвала в нем взрыв гнева. Ну нет, это не я, это все вы бездарные растяпы! Все, начиная с командующего фронтом и кончая тем разнесчастным машинистом, которого сейчас увезли с собой в Фаниполь большевики! Это у вас не хватает ни решительности, ни умения доводить какое-либо дело до конца... И все же я заставлю вас выполнить хоть одну из моих задумок. Заставлю!
— Что ж, — сказал он срывающимся голосом, — остается ведь еще один шанс... Взорвать путь под бронепоездом.
Этот вариант они уже обсудили. Тогда было решено, что взрыв будет произведен у переезда на 712-й версте, куда Колотухин и Завадский смогут подъехать на автомобиле и заложить под рельсы взрывчатку. И если почему-либо столкновение вспомогательного с бронепоездом не произойдет, то они взорвут путь под самим бронепоездом.
Но если еще два часа назад это казалось делом вполне выполнимым, то теперь, после угона вспомогательного, вдруг все разуверились в возможности организации этой диверсии.
— Боюсь, что теперь они будут начеку, Венедикт Алексеевич, — нерешительно сказал Колотухин.
И тогда Жданов, вскочив на ноги, стукнул кулаком по столу и в отчаянии закричал:
— Почему?! Почему вы все такие?.. Трусы, трусы несчастные! Почему у этого Мясникова даже полуграмотные солдаты могут сделать все, порой невозможное, а у нас даже офицеры, даже партийные руководители не способны совершить самое простое дело!
В этих словах была горькая правда, и это задело Завадского. Поднявшись со стула, он вытянулся в стойку «смирно».
— Хорошо, господин комиссар. Мы поедем туда. Прикажете ехать сейчас же?
— Сейчас же! — запальчиво сказал Жданов. Но тут вмешался начальник станции.
— Простите, господин комиссар, по мне кажется, что это будет неосмотрительно... Ведь вспомогательный был захвачен только потому, что вышел из тупика раньше времени и привлек к себе внимание большевиков на станции. Теперь же преждевременное появление двух офицеров на переезде 712-й версты может вызвать у кого-нибудь подозрение, и кто знает... Надо ждать сообщения о выходе бронепоезда из Фаниполя и тогда только отправиться; ведь это же недалеко, на автомобиле можно быстро подъехать и все успеть приготовить.
Колотухин и Завадский вопросительно посмотрели на Жданова. Тот проворчал:
— Ладно, будем ждать сообщения из Фаниполя... — И тут же прибавил свирепо: — Но упаси вас господь пропустить сюда этот бронепоезд!
Выход в свет 1 ноября газеты «Буревестник» под старым названием «Звезда» вызвал в «комитете спасения» и штабе панику. Ибо сам по себе это был вызов, означавший, что большевики считают поражение своих противников предрешенным и уже ни во что не ставят старые распоряжения о запрете «Звезды». Но еще более сильное впечатление произвела напечатанная там статья Мясникова «Маски долой!». И Балуев, и Жданов, и остальные отлично представляли, какое впечатление произведут на казаков, польских легионеров и «ударников» слова большевистского вожака: «Революционный фронт возьмет и вашу контрреволюционную позицию, которую вы создали в Минске». Ведь слухи о том, что с фронта на помощь большевикам идут бронепоезд, броневики и пехотные части, уже проникли в эти части, и это отнюдь не усилило их желания ввязаться в драку со здешними большевистскими силами. А вот рабочие заводов и фабрик, железнодорожники и прочая «голытьба», конечно, уже ликуют. В «комитете спасения» стало известно, что рабочие повсеместно устраивают сходки, читают эту статью, после чего открыто требуют, чтобы «комитет спасения» убрал казаков из города и вообще сдал власть Минскому Совету...
Но Мясников понимал, что именно эти настроения масс могут толкнуть контрреволюционеров на отчаянные выступления. Поэтому он отнюдь не удивился, когда в середине дня в ВРК прибежал запыхавшийся железнодорожник со странной фамилией Девочко и торопливо начал рассказывать о событиях, происшедших недавно на станции: о прибытии туда Жданова, Колотухина и Завадского, об очевидном намерении их послать навстречу бронепоезду порожний вспомогательный поезд с целью устроить крушение и, наконец, о том, как Соловьев и Четырбок с группой железнодорожников, захватив этот поезд, отправились в Фаниполь, чтобы помочь бронепоезду добраться в Минск.
Это сообщение впервые вывело из равновесия обычно непоколебимого и спокойного Ландера.
— Ты посмотри на эту гадину, а! — закричал он, явно имея в виду Жданова. — Ты посмотри, что он задумал! Ну, ладно, придет время — он получит за все сполна!..
Но Мясников прервал его, сказав:
— Оно конечно, Карл Иванович, ты прав... Но в том, что ждановы и колотухины борются до последней секунды, что они готовы испробовать все до последнего средства, чтобы выжить, нет ничего удивительного и необычного. А я вот думаю о другом... Понимаешь, раньше я много читал и сам не раз говорил о том, что революция, мол, породит новые таланты, что из недр народа выйдут командиры-самородки, способные на большие дела... Говорить говорил, а как это произойдет на деле — не представлял. И вот теперь это чудо происходит на наших глазах. Возьми хотя бы этого солдата Пролыгина, который сумел один, без чьей-либо помощи возглавить команду бронепоезда, арестовать офицеров и теперь, несмотря на все чинимые препятствия, спешит на помощь нам. И сейчас ты, Карл Иванович, напрасно тратишь нервы и слова, гневаясь на этого Жданова. Потому что важно не то, что Жданов хотел совершить очередную подлость, а то, что наши — Соловьев, Четырбок и красногвардейцы-железнодорожники — сами разгадали замыслы Жданова и приняли смелейшее решение — захватить вспомогательный поезд и отправиться на помощь бронепоезду. Понимаешь? Пока у нас есть это, Ждановы могут трепыхаться сколько угодно и ни-че-го-шень-ки не добьются!
— Это правда, — сразу согласился Ландер, успев остыть. — Но я думаю, что эта подлая акция была задумана не просто так: устроить крушение бронепоезда и все... Пожалуй, нам надо готовиться к возможной атаке в городе, а?
— Это — другое дело. — И вспомнил любимую присказку Ландера: — Как сказано в евангелии от Матфея, на инициативу масс надейся, но сам не плошай. Надо привести в боевую готовность все наши силы в городе. Это раз. Затем, послать одну роту полка имени Минского Совета вместе с Полукаровым на станцию, чтобы продолжали следить за продвижением бронепоезда и оказали ему содействие в момент подхода к станции, — ведь против них могут устроить подлости и на самой станции... И наконец, снова двинуть наших агитаторов на заводы и фабрики и в части противника...
* * *
Как ни старался Пролыгин, в Фаниполе связаться с Минским военревкомом ему не удалось.
— С ним связи нет, может, связать со штабом фронта? — говорили ему начальник станции и военный комендант.
Со штабом фронта Пролыгину разговаривать было не о чем. Утешительным было только то, что даже из этих холодно-враждебных ответов фанипольского начальства было ясно, что в Минске ситуация не изменилась. Военревком, по-видимому, все еще держался.
Не удалось Пролыгину ничего выяснить и о продвижении остальных частей, посланных на помощь Минску. Связь везде еще находилась в руках противника. Пролыгин понял, что ему остается одно: ехать засветло в Минск и быть готовым сразу же ввязаться в сражение на свой страх и риск.
Но пока он обдумывал этот вариант, со стороны Несвижа на станцию прибыл санитарный поезд. Оттуда высыпали на перрон сестры милосердия, врачи и легкораненые. Так как в последние месяцы на Западном фронте боев почти не было, то Пролыгин был поражен: откуда взялся целый поезд, переполненный ранеными?
Он направился к поезду и вдруг услышал оклик:
— Пролыгин! Вася! Оглянувшись, он увидел на платформе Марьина.
— Марьин? — удивился он. — Как ты тут очутился?
— Еду с санитарным. Толкаю, чтоб скорее пропустили в Минск.
— А что за раненые, откуда взялись?
— А ты что, не слыхал разве про вчерашнее сражение с немцами? — в свою очередь удивился Марьин. — Ох, брат, там было жарко!
И он начал торопливо рассказывать о сражении на Срубовских высотах, о газовой атаке, рукопашных схватках и поражении немцев.
— Ну и ну... — удивился Пролыгин. — Вот так дела...
— Да, брат, всыпали им по первое число. Но и наших полегло там порядком, в особенности в Таврическом и Самогитском полках... Да и раненых, покалеченных и отравленных газами много. Потому и новый корпусной исполком отрядил меня и еще нескольких большевиков ехать с санитарным и всячески ускорить его прибытие в Минск.
— Новый исполком, говоришь? — переспросил Пролыгин. — Значит, съезд уже состоялся?
— Конечно, хотя те стервецы делали все, чтобы сорвать перевыборы... — Тут Марьин оглянулся на стоявший неподалеку бронепоезд и спросил: — А это что за бронепоезд? Почему он стоит здесь?
— Это мой бронепоезд, — просто сообщил Пролыгин. — Собираюсь идти в Минск, на помощь нашим, да вот боюсь, как бы вместо пользы не наделать вреда...
И он, так же торопливо, как только что Марьин, рассказал о сложной ситуации в Минске и о том, почему он боится без связи с минчанами и знания тамошней обстановки отправиться туда.
— Так послушай, может, ты пойдешь за нами следом, а? — сказал Марьин. — Впереди поедем мы, санитарный, а позади нас, маскируясь за нами, ты!
— Ну и что будет? — спросил Пролыгин. — Отсюда все равно дадут телеграмму, — когда и в каком порядке мы вышли. И если там решат дать бой, то не постесняются раздолбать и ваш поезд... Нет, брат, если уж кто-то должен за кем-то прятаться, так это вы за нами.
— Да, это правда, раненых в такое дело впутывать негоже, — согласился Марьин. И, подумав, сделал новое предложение: — Тогда пошли кого-нибудь из своих с нами: свяжется с военревкомом, получит указания и вернется к вам...
— Сказанул! — рассердился Пролыгин. — Пока вы туда доедете, пока этот наш человек свяжется с военревкомом да неизвестно как прибудет сюда, пройдет черт знает сколько времени, понимаешь? Да и санитарному нельзя сейчас раньше нас соваться туда, потому как именно на станции может раньше всего начаться бой...
И в это время рядом послышался знакомый Пролыгину женский голос:
— Товарищ Марыш, вот вы где... А я ищу вас по всей станции...
Пролыгин живо обернулся и, узнав женщину, воскликнул:
— Ба! Изабелла Богдановна! Здравствуйте. Какими судьбами?
Евгеньева тоже узнала его и деловито кивнула:
— Здравствуйте... Так ведь это же наш поезд, не узнаете? Везем в Минск раненых. — И она тут же повернулась к Марьину: — Кирилл Иванович, надо спешить с отправкой поезда, ведь у нас есть тяжелораненые, которых надо срочно оперировать!
Марьин посмотрел на нее, потом на Пролыгина, почесал за ухом.
— Да вот вишь, Богдановна, получается такая петрушка, что нам с вами спешить туда без надобности...
— То есть как? — поразилась Евгеньева. — Почему? Марьин кивнул на Пролыгина, и тот объяснил.
— Неужели вы думаете, они смогут открыть огонь по санитарному поезду с ранеными? — недоуменно пожала плечами Евгеньева.
— По умыслу, конечно, не откроют, но по ошибке или сдуру, вполне может случиться... И потому лучше, если сначала туда пойдем мы с бронепоездом, наведем порядок, а потом уж придет ваш поезд, — ответил Пролыгин.
— Да и по умыслу тоже могут открыть огонь! — вдруг с жаром сказал Марьин. — Ведь мы везем не просто раненых, а гренадеров. А после того, что рассказал мне ваш муж, я понял, что там нас не очень жалуют и всякую подлость могут сотворить.
Изабелла Богдановна резко повернулась к нему, спросила:
— Так он вам рассказывал об этом?
— Угу. И мы еще с этим разберемся, дайте срок... Ну а пока идите к раненым. А мы с Пролыгиным продумаем, как все же быть...
Евгеньева, молча повернувшись, ушла.
— Что говорил ее муж? — поинтересовался Пролыгин. — Где ты его видел?
— Так ведь он же едет в этом поезде, раненый...
— Погоди, он же летчик, был при штабе армии, каким образом оказался среди раненых гренадеров? — изумился Пролыгин.
— Это длинная история, брат... Ну, что мы будем делать? Может, все же рискнем и отправим вперед санитарный?
И в это время со стороны Минска, давая протяжные гудки, подошел какой-то поезд. Оба они, Пролыгин и Марьин, повернулись в ту сторону, глядя на состав с одним классным вагоном и длинным рядом платформ, груженных шпалами и рельсами.
Потом Пролыгин увидел человека, который, соскочив с паровоза, побежал в сторону бронепоезда, и вдруг узнал: да это же Соловьев, тот самый представитель Минского военревкома, который приезжал к ним в Несвиж и просил послать помощь!
Направляясь к своему вагону, Изабелла Богдановна продолжала думать над словами Марьина о муже и все повторяла мысленно: «Так Виктор рассказал ему об этом? О том, что кое-кто в Минске и вообще в наших штабах «не жалует гренадеров»... Значит, он понял, что в тот день в споре со мной был не прав? Но почему тогда он ведет себя так странно? Почему держится так, словно это я в чем-то провинилась перед ним?»
В действительности же в последние дни оба они еще меньше, чем до этого, имели возможность разобраться в своих запутавшихся отношениях, как-то сосредоточиться и понять мысли и переживания друг друга, уразуметь, с кем что произошло и кто из них чего хочет...
Когда вчера к вечеру на станцию Городея пришло сообщение о том, что в этот день немцы внезапно напали на Гренадерский корпус, да еще с применением газов, и что санитарный поезд должен отправиться на ближайшую от места сражения станцию Погорельцы, чтобы принять раненых, то Изабелла Богдановна, конечно, сразу подумала о муже. Впрочем, все эти дни после ссоры с Виктором Ивановичем она постоянно думала о нем. Вспоминала все подробности их тяжелого, нехорошего, обидного разговора, и ею овладевали то гнев, то жалость к этому человеку, по-настоящему благородному, но до крайности растерянному, переставшему что-либо понимать в происходящем вокруг... И пока поезд шел к станции Погорельцы, Изабелла Богдановна, уверенная, что муж сидит в Несвиже, терзаемый все теми же сомнениями, с каким-то сладострастным чувством торжества думала: «Здесь его, конечно, нет!»
Да, будь Виктор Иванович сейчас рядом, она уж поговорила бы с ним... Ну как, Витенька, что ты теперь скажешь? «Не уверен... Не могу поверить...»? И теперь будешь ругать меня за то, что осмелилась пойти к Мясникову?
Но она сразу забыла обо всем этом, как только санитарный поезд прибыл в Погорельцы. К этому времени на узком деревянном перроне скопилось уже несколько сот раненых. Их привозили на телегах и подводах, а многие легкораненые добрались сюда пешком. Кругом стоял гомон голосов, стоны тяжелораненых и громкий, надрывный кашель отравленных газами, которых оказалось довольно много.
Поезд был маленький, всего шесть пропахших карболкой пассажирских вагонов для раненых и один вагон для персонала, поэтому сразу стало ясно, что забрать столько народу не удастся. Надо было первым делом помогать тяжелораненым, а это в наступивших сумерках и в царившей суматохе было не так легко. Поскольку после начальника поезда, старичка терапевта и двух хирургов Евгеньева была старшей над остальными сестрами милосердия, санитарами-носильщиками, поварами и другими, то ей теперь и выпала на долю задача отобрать в этой толчее тех, кого нужно было эвакуировать в первую очередь, рассортировать по характеру ранения и распределить но вагонам. А это было тем более трудно, что, как только поезд остановился у перрона, многие легкораненые кинулись вперед и втиснулись в вагоны...
Хорошо, что как раз в это время на станцию прибыл Марьин, направленный вновь избранным корпусным комитетом на помощь санпоезду. Он сразу нашел Изабеллу Богдановну и, вместе со своими помощниками выдворив из вагонов легкораненых, начал пропускать туда только тех, кого отбирали и направляли врачи и Евгеньева.
И вот тут-то и случилось самое неожиданное. Обходя в полутьме с фонарем в руке группы раненых на перроне и громко спрашивая: «Есть тут тяжелораненые, кого надо отправить в первую очередь?», она в одном месте услышала в ответ:
— Да вот нашего командира бы надо... У него и в боку рана, да еще старая в ноге разболелась...
И тут же до боли знакомый голос отозвался протестующе:
— Да что вы, не надо! Здесь есть куда более тяжелые, нужно сначала их...
Изабелла Богдановна прямо застыла на месте. Услышать этот голос здесь, среди раненых гренадеров, она никак не ожидала. И тем не менее это был его голос, голос Виктора! Она кинулась туда, на этот голос, подняла над головой фонарь и сразу увидела среди кучно сидящих прямо на перроне солдат Виктора Ивановича. Он прислонился спиной к стене и зажимал рукой левый бок, обляпанное грязью кожаное пальто было распахнуто, сапог с левой, когда-то раненной, ноги был снят...
— Виктор... Витенька, это ты?.. — задохнувшись, сдавленным голосом закричала Изабелла Богдановна.
— Белла.., Белла... — отозвался Виктор Иванович, то-же не ожидавший этой встречи.
Он сделал попытку встать, но, едва приподнявшись, вновь упал я схватился за бок. И тогда Изабелла сама рухнула на колени возле него, обхватила его шею рукой, зарыдала.
— Виктор, что с тобой?.. Ты ранен? Как ты попал сюда? Господи, что это?..
— Ну, ну, успокойся, Белла... — отвечал Виктор Иванович, почему-то пытаясь освободить шею от ее руки. — Ну ничего страшного у меня нет, поверь... Успокойся и встань...
И в это время возле них громыхнул голос Марьина:
— Богдановна, где ты? Там одному нашему товарищу надо срочно помочь... Помирает он, скорей!
От этого голоса Изабелла Богдановна очнулась. Ставшее привычным сознание, что она должна быть рядом с теми, кто больше всего нуждается в ее помощи, заставило ее подняться на ноги.
Секунду поколебавшись, она сказала, все еще плача:
— Марьин, миленький, это мой муж... Мой муж, понимаете? Он ранен, понимаете?..
— Ваш муж... здесь? — изумился Марьин. Но потом быстро сообразил: — Ну ладно, ладно... Я сейчас его возьму в поезд, а вы идите туда, в тот конец перрона... Идите, идите, не беспокойтесь, Богдановна, ради бога!
Изабелла Богдановна, взяв фонарь, как во сне пошла в указанную сторону, а Марьин нагнулся к Евгеньеву.
— Ваша фамилия Марьин? — с трудом выговорил Евгеньев и вдруг прибавил просящим голосом: — А ведь и перед вами очень виноват... Понимаете, я сегодня ходил туда с вашей винтовкой и противогазом и... потерял их... Выронил, когда меня ранили... Словом, не знаю, как теперь мне быть...
— Ходили в атаку с моей винтовкой?! — воскликнул Марьин, — Ну, чудеса... Да ладно, давайте сейчас в поезд, а там по пути расскажете.
— Да нет, товарищ Марьин, — снова попытался запротестовать Евгениев, — вы сначала заберите тяжелых, а у меня пустяковая рана...
Но Марьин ответил строго:
— Какая у вас рана — Богдановна определит, ясно? Так что давайте-ка в вагон!
Между тем Евгеньев сейчас находился в том состоянии, когда, еще сильнее и глубже любя Изабеллу, он меньше всего хотел оставаться с ней наедине. Не хотел, потому что со жгучим чувством стыда вспоминал свой последний разговор с ней, те не только глупые, но и глубоко несправедливые слова, которые тогда осмелился бросить ей в лицо...
Это чувство стыда за свою неправоту стало просто невыносимо, когда сегодня утром он вместе с гренадерам и карсцами добрался до позиций Самогитского полка на Срубовских высотах. До этого он еще никогда не участвовал в бою, тем более в пехотном, поэтому ничего не понимал из того, что делается вокруг. Только растерянно смотрел на развороченные вражескими снарядами окопы и траншеи, на разрубленные и раскиданные столбики с колючей проволокой и валявшиеся около них в неестественных позах тела в серых шинелях и не мог взять в толк: где же враги, а где свои? Потом он вдруг увидел в ближних траншеях каких-то солдат в невероятно грязных шинелях. Сбившись в небольшие группы, они, казалось, безучастно смотрели вниз, в сторону подножия высоты. Евгеньев тоже посмотрел туда и только теперь заметил других людей, в таких же грязных шинелях. Держа винтовки наперевес и широко разинув рты, они лезли по склону вверх. С какой-то замедленностью в сознании он понял, что это немцы, идущие в атаку на наших... Сейчас же в нем возникла мысль, что рота, с которой он дошел сюда, не имеет командира и что поэтому он, офицер, должен что-то предпринять, давать какие-то команды и приказы. Но какие именно? Какие? А те снизу продолжали карабкаться вверх, и наконец Евгеньев понял, почему у всех рты так странно открыты: они что-то кричали, нечто вроде «а-ла-ла!». Тогда он тоже обернулся и крикнул пришедшим с ним гренадерам: «Это немцы!.. За мной!» — и побежал вперед, не замечая, что боль в левой ноге, до сих пор страшно мучившая, вдруг прекратилась.
А дальше все происходило словно в тумане. Он услышал сзади, слева и справа дружные крики «ура!», заметил, как те люди, что сгрудились в наших траншеях, оглянулись в их сторону. И когда он, Евгеньев, перепрыгивал через траншею, солдаты тоже выскочили и побежали рядом с ним навстречу немцам... А он сам, крича и не слыша, что кричит, бежал и бежал вниз, пока вдруг не столкнулся лицом к лицу с каким-то усатым немцем в стальной каске с высоким шишаком. Впрочем, он до сих пор не мог точно сказать, был ли он усат, или лицо немца было забрызгано грязью... Да и какое у него вообще было лицо, он не помнил, потому что единственное, что вклинилось ему в память, были его глаза — синие-синие и полные ненависти... Глядя снизу вверх на Евгеньева этими синими-синими и полными ненависти глазами, он выставил вперед винтовку с ножевым штыком, целясь прямо в живот. Но тут немец вдруг поскользнулся и упал на колено. Евгеньев сразу увидел, как ненависть в его глазах вдруг сменилась страхом, даже мольбой... Он понимал, что должен ударить его штыком, но не мог, никак не мог сделать это, а стоял перед ним в оцепенении... И наблюдал, словно в синематографе, как немец, продолжая стоять на одном колене в грязи, медленно поднял винтовку и двумя руками ткнул ею вперед... И лишь ощутив боль в левом боку, повыше бедра, Евгеньев тоже сделал выпад, навалясь всем телом и чувствуя, как штык уходит во что-то мягкое... Раздался душераздирающий крик того, а сам он потерял сознание... Пришел он в себя довольно скоро, почувствовав, что кто-то поднимает его под руки. Это были солдаты роты, с которой он шел в контратаку. Рана его была и в самом деле не очень тяжелая: удар штыка, и без того несильный, был ослаблен кожаным пальто, и он потерял сознание скорее от психического шока, когда услышал крик немца и понял, что убил его... И сейчас, стараясь не смотреть в ту сторону, заковылял от этого места прочь, снова, но гораздо острее, чем раньше, ощущая боль в ноге. Хорошо, что его вели под руки двое солдат, все время приговаривая что-то успокаивающее и ласковое. Доведя его до наших траншей, они заставили Евгеньева снять пальто, потом френч и, достав откуда-то бинт, туго перевязали ему рану. Кругом было необычно тихо, и в этой тишине он впервые явственно услышал голос одного из этих солдат: «Ну вот и все. Отвоевался ты, сынок... Теперь полежишь недельки три-четыре в госпитале, а там, глядишь, и войне конец...» — «А как же немцы?» — спросил Евгеньев. «Что немцы? — услышал он в ответ. — С ними все. Наложили мы им по первое число, и теперь они сюда больше не сунутся!» Евгеньев поднялся и вновь окинул взглядом место сражения. Весь изрытый, словно покрытый гноящимися ранами, холм... Развороченные линии проволочных заграждений... Окопы и траншеи с разрушенными брустверами... И всюду трупы, трупы, трупы... И тогда Евгеньев решил, что произошла какая-то ошибка: он, если не виновник, то соучастник этого страшного дела, он, пришедший сюда, чтобы умереть вместе с другими, — не только не умер, но и сам убил кого-то и теперь будет вечным должником тех, кто остался лежать здесь...
Это сознание своей вины в происшедших событиях не покидало его и в поезде, куда его властно посадил Марьин. Там, в окружении стонущих и кашляющих людей, он продолжал терзать себя мыслями о том, что все произошло так только потому, что он своевременно не предупредил, кого надо, о готовящемся предательском ударе. Значит, нет ему прощения!
Вот почему, когда Изабелла, все время хлопотавшая в других вагонах над тяжелоранеными, все же улучила несколько минут и, прибежав к нему, начала снова и снова спрашивать: «Как ты очутился там, Витя? Это я, да?.. Из-за меня ты пошел туда?», он не сумел сразу найти верный тон. Ему бы отбросить глупую мужскую гордость и сразу признать, что был неправ и в тот день, и всегда, но что теперь с его колебаниями покончено и он четко понимает и откуда что «пошло быть», и куда ему самому надо идти дальше. А вместо этого он с каким-то хмурым видом ответствовал: «При чем тут ты — не понимаю... Попал я туда совершенно случайно, да и рана моя, повторяю, чепуховая... Так что ты напрасно тратишь на меня время, лучше вспомни свои же слова о том, что сейчас каждый должен быть на своем месте, и отправляйся в те вагоны, — там ты нужней...»
Этот ответ, конечно, больно кольнул Изабеллу Богдановну, она ушла, растерянная и обиженная поведением Виктора Ивановича.
Ну а потом к нему пришел Марьин. Подсел на койку и самым серьезным образом потребовал:
— Ну-ка, Виктор Иванович, теперь давайте выкладывайте начистоту: что за чертовщина такая приключилась? Как вы, летчик из армейского авиаотряда, оказались в нашем полку и потом с моим ружьем пошли драться?
Тут уж Евгеньев понял, что вилять и уходить от правды ему не удастся.
И он, путаясь и сбиваясь, рассказал гренадеру обо всем. Марьин, внимательно и молча выслушав его, минуту смотрел себе под ноги. Потом произнес:
— Веригин, говорите? Знаю я этого гада... Вернусь в армию — разыщем!.. Ну а что касается разговоров насчет вашей вины, то тут, Виктор Иванович, извините, вы немного того-с... — И он без стеснения покрутил пальцем у виска. — Ну что вы такого сделали или не сделали? Может, у вас в руках были документы о том, как стакнулись наши гады с немцами, а вы взяли да спрятали? Не было и не могло быть у вас их! Если что у вас и было, так это хороший нюх... Учуяли, что где-то поблизости нехорошо воняет, поморщились да сказали жене. И правильно, что только ей сказали, — сурьезный мужчина, военный человек с этим не пойдет звонить повсюду. А жена ваша, Богдановна то есть, кто? Баба!.. И по-бабски она и поступила, молодчина! Побежала, рассказала земляку своему, товарищу Мясникову то есть... Ну и то, что вы потом ворчали на нее, — тоже правильно. Какой мужик на свою бабу не ворчит за то, что она, как услышит что, пошла чесать языком на всю околицу? Я, например, страсть не люблю это и всегда ворчу на свою... А у вас это просто только начинается, погодите чуток — не то еще будет между вами! — Марьин хохотнул, хлопнул ладонью себя по колену и потом нагнулся к нему: — А что самое главное, Виктор Иванович, так то, что мы немцев ведь все равно побили! Одни солдаты, почти без офицеров, даже без нас, комитетских вожаков, немца побили, а? Что за этим кроется — понимать надо!.. И еще важно, что вы в этом деле нашли свою стежку-дорожку к нам, к солдатам. Я ведь там, на перроне Погорельцев с ребятами из нашего полка беседовал о вас. И услышал много такого, что дай бог каждому. Они, думаете, не понимали, что раз в такой день чужой офицер, да еще летчик, да еще хромой, пошел с большевистским полком в драку, да еще с винтовкой в руке первым кинулся в атаку, — такое не каждый день увидишь! Такое солдат уважает... Потому и говорю: бросьте себя казнить всякой дребеденью, все было хорошо, а будет еще лучше!
Они собрались в бронепоезде и снова обсудили все. С бронепоезда были Пролыгин и Яша, со вспомогательного — Соловьев и Четырбок, с санитарного — Марьин.
Соловьев рассказал о положении в Минске и заяви», что надо двигаться туда немедленно. Там на станции Красная гвардия стоит начеку, и ее поддерживают зенитчики. А в случае чего им на помощь подтянутся и полк имени Минского Совета, и 37-й запасный. Вместе они как-нибудь продержатся, пока бронепоезд пробежит последний перегон — от Фаниполя до Минска. Впрочем, это отлично понимают и командующий фронтом, и эсеро-меньшевики из «комитета спасения», поэтому на станцию не сунутся. Вот разве что по дороге в Минск попытаются устроить очередную пакость, чтобы остановить или пустить под откос бронепоезд. Тут, конечно, надо смотреть в оба...
Обсудили и этот вопрос со всей дотошностью. Четырбок предложил план, который показался всем наиболее подходящим.
Когда они наконец кончили совещаться и вышли из бронепоезда, короткий ноябрьский день переходил в сумерки. Они гурьбой вошли к начальнику станции.
— Вот что, господин начальник, — сказал без всяких предисловий Четырбок, — пора отправлять все три поезда в Минск. Порядок отправления будет таков: сначала двинется санитарный, а вслед за ним пойдут сцепленные вместе вспомогательный и бронепоезд.
— Порядок и время отправления поездов, как вам известно, устанавливает диспетчерское отделение, — недовольно буркнул начальник станции.
— Разве? — насмешливо произнес Четырбок. — А вот на этот раз вам придется сделать так, как установили мы. Поняли?
— Ну что ж, — пожал плечами начальник.
— Сейчас вы пойдете с нами и поможете совершить маневр — отвести в сторону вспомогательный и бронепоезд, пустить вперед санитарный, после чего все три поезда отправятся в путь.
— В этом вам поможет диспетчер, — хмуро ответил начальник станции. — Это входит в его обязанности.
— Что ж, диспетчер так диспетчер, — согласился Четырбок.
Когда они вместе с диспетчером выходили из здания, Четырбок шепнул Соловьеву:
— Понял, почему он сам не пошел с нами? Сейчас пошлет телеграмму о нас в Минск...
— Надеюсь, что так, — также шепотом ответил Соловьев.
Представитель Гренадерского корпуса Захаркин выехал после корпусного съезда 31 октября из Фалясина на автомобиле Щукина и на следующий день догнал вблизи Минска колонну пехоты, впереди и сзади которой ехали бронеавтомобили. Он сразу понял, что это свои, идут на помощь Минскому ВРК.
Остановившись, он предъявил документы начальнику колонны, члену ВРК Второй армии Катушкину, и от него узнал, что это батальон 60-го полка 3-го Сибирского корпуса. Он первым из полка вышел в поход, а по дороге его нагнал отряд бронеавтомобилей Катушкина. Старенькие боевые машины на разбитой осенней дороге часто выходили из строя, и отряд то и дело останавливался, чтобы чинить их. Правда, он мог прийти в Минск раньше пехоты, но после встречи с батальоном Катушкин решил, что идти туда вот такими маленькими группками не годится. Ведь в Минске все же большие силы противника, и в отдельности они разобьют и бронеотряд, и батальон пехоты. Поэтому было решено идти дальше вместе, прикрывая друг друга и в пути, и в особенности при подходе к Минску.
— Правильно решили, — согласился Захаркин и прибавил; — Ладно, я сейчас поеду вперед и сообщу нашим, что вы на подходе. А вы давайте поторапливайтесь, чтобы еще засветло попасть в город.
Через час Захаркин добрался до окраин Минска, где сошел с автомобиля, чтобы не привлечь к себе внимания казачьих патрулей, если таковые встретятся, и дальше пошел пешком. Еще через час он уже был в здании Минского Совета.
Сообщение Захаркина о приближении к Минску бронеавтомобилей с батальоном пехоты еще более ободрило военревкомовцев. Хотя этого было очень мало — всего один батальон и несколько автомобилей, — но важно было то, что фронт уже идет на помощь Минскому Совету и военревкому. И это должно было оказать огромное моральное воздействие на обе стороны, противостоящие друг другу в Минске.
Но когда Захаркин рассказал о вчерашнем сражении на участке Гренадерского корпуса, о корпусном съезде и показал привезенную с собой резолюцию съезда, то даже всегда сдержанный Мясников вскочил с места и, обняв гренадера, с ликованием воскликнул:
— Ну молодцы гренадеры! Вот это помощь!.. Это больше, чем если бы сюда пришла целая дивизия! Это должно свалить их, убить наповал! — Он повернулся к Кнорину: - Давай веди товарища Захаркина туда, в этот паршивый «Ноев ковчег». — И опять обратился к Захаркину: — Прочтете им эту резолюцию сами. Прочтете медленно, как говорится с чувством, с толком, с расстановкой. И сразу повернетесь и уйдете, никаких там обсуждений и разговоров. Поняли?
...Через полчаса Захаркин уже стоял перед онемевшими членами «комитета спасения революции», словно массивное изваяние, и, время от времени сурово поглядывая на них, громко читал текст резолюции съезда Гренадерского корпуса:
— «Обсудив выступление Исполнительного комитета Западного фронта против Военно-революционного комитета и власти Советов, съезд постановил:
1) считать выступления армейского и Фронтового комитетов изменой революции;
2) считать армейский и Фронтовой комитеты утратившими свои полномочия, не прислушиваться к их голосу и не подчиняться их постановлениям;
3) требуем немедленного созыва армейского и фронтового съездов; это требование мы, гренадеры, готовы поддерживать всеми мерами;
4) через своего представителя потребовать от «комитета спасения революции» (Захаркин сделал паузу, грозно окинув взглядом членов «комитета») признания совершившейся революции и подчинения новому правительству. В случае отказа (Захаркин повысил голос) съезд требует насильственного разгона «комитета спасения революции»; для осуществления этого требования корпус примет все меры, выполнение которых съезд поручает вновь избранному Исполнительному комитету корпуса».
Закончив чтение, Захаркин сложил документ, передал его — как бы на хранение — Алибегову, а сам повернулся к Штерну.
— Слышали? — спросил он. — Так вот, советую вам закрыть эту вашу лавочку и разойтись по домам. Наши гренадеры после вчерашнего сражения с немцами малость осерчали, и сохрани вас бог, ежели вы заставите их прийти сюда и навести порядок! Я ухожу.
И, сопровождаемый молчаливым Кнориным, вышел.
После маневров, произведенных на глазах у фанипольского начальства и многочисленных ротозеев, все три поезда выстроились наконец в затылок друг другу: впереди санитарный, а затем сцепленные вместе вспомогательный и бронепоезд. Дав протяжный свисток, они двинулись в сторону Минска.
Выходной семафор был открыт, и поезда, казалось, должны были набирать скорость. Однако идущий впереди санитарный поезд неожиданно остановился у стрелки последнего перед семафором запасного пути. Из его паровозной будки соскочили Марьин и Макаревич и подбежали к стрелочнику.
— А ну покажь, как у тебя стоит стрелка? — потребовал Макаревич.
Стрелочник был намного старше Макаревича и даже обиделся, что этот молодой «стрекач» с Минской станции вдруг решил проверять его.
— Но, но... Ехай себе и ехай, — сказал он строго. — Не молокосос, как ты, службу знаем и несем справно.
— А вот и не справно! — оскалил зубы Макаревич. — Санитарный-то надо на запасный!
— Как на запасный? — поразился стрелочник. — Велено было выпустить его на Минск!
— Значит, неправильно было велено! Надо на запасный.
И сам, схватив ручку стрелки, перекинул ее на другую сторону. Старый стрелочник, увидев такое самоуправство, совсем взбеленился:
— Да что ты тут у меня вытворяешь со стрелкой-то, паршивец! — закричал он тоненьким голоском и даже топнул ногой. — Да я сейчас тебя за это!..
Но тут стоявший рядом огромный Марьин обнял его за плечи ручищей, прижал к себе и сказал ласково:
— Не шебурши, дед, мы только на минутку встанем на запасный, пропустим вперед бронепоезд и тогда пойдем вслед за ними.
Дед задрал редкую бороденку, снизу взглянул на гренадера и все еще запальчиво спросил:
— А ты хто тут будешь?
— Я начальник санитарного поезда, дед, — спокойно ответил Марьин.
— Начальник! — презрительно хмыкнул стрелочник. Но потом, видимо вспомнив, в какое время он живет и что происходит вокруг, вырвался из объятия гренадера и буркнул: — А ну вас! Развели кругом беспорядок, не поймешь что... — Но к стрелке уже не подходил, исподлобья следя за тем, как по сигналу Макаревича санитарный поезд медленно направляется на запасный путь. И вдруг, словно о чем-то догадавшись, с интересом посмотрел на Марьина: — А почто вы это так, а?
Тот терпеливо объяснил.
— А вдруг оттуда, — Марьин кивнул в сторону Минска, — кто пойдет навстречу и начнет палить по бронепоезду? А санитарный между ними... На что это раненым? Пусть те идут впереди, а мы пойдем в отдельности. А?
Старик подумал и согласился:
— Это правильно. Слыхал я, этот бронепоезд там не ахти как желают видеть... — И снова, уже испытующе, посмотрел на Марьина: — А как наши-то? Должен я сказать им, что вы тут переставились местами? Может, не надо говорить?
— Да что ты, дед, они же все сами видят, ведь хвост бронепоезда еще у самой платформы торчит, — засмеялся Марьин. И продолжал серьезно: — Наоборот, дед, как только поезд отойдет, беги туда и скажи, что тут и как произошло.
— Значит, так надо, а? — переспросил дед. — Ну тогда пойду и наговорю о вас: такие-сякие, охальники, безобразничали со стрелкой,
— Во, правильно, дед, — одобрил Марьин.
Тем временем санитарный уже стал на запасный, и Макаревич быстро перевел стрелку обратно и дал сигнал вспомогательному двинуться вперед. Тот, таща за собой бронепоезд, медленно пошел к семафору. Когда паровоз поравнялся со стрелкой, Макаревич вспрыгнул на ступеньки, помахал рукой стрелочнику и Марьину. Вспомогательный набрал скорость и вышел на магистраль.
Когда его хвостовые фонари скрылись в полутьме быстро наступающего вечера, Марьин сказал стрелочнику:
— Ну теперь давай выпускай и нас, дед.
— Сейчас, сынок, сейчас, — ответил тот и перевел стрелку обратно. Потом, дав свисток, помахал фонарем. И когда санитарный вышел на магистральную линию, снова перебросил стрелку и попытался вытянуться по-военному в струнку:
— Готово! Можешь ехать, начальник!
— Ну бывай, дед, — пожал ему руку Марьин. — Спасибо тебе.
— Счастливого пути, сынок, — ответил стрелочник. Он подождал, пока санитарный тоже минует семафор.
Потом, что-то вспомнив, быстро засеменил к станции. И по всему было видно, что в эту минуту он чувствовал себя участником очень большого и важного события.
Расчет большевиков на станции Фаниполь был в общем весьма точен. Когда они выходили из кабинета начальника станции, этот последний не пошел с ними именно для того, чтобы поскорей сообщить в Минск о порядке выхода поездов из Фаниполя.
Комиссар фронта Жданов, все еще ждавший на Минской станции, получив эту депешу, скривил презрительную гримасу:
— Какая гадость! Хотят прокрасться за санитарным поездом! Хамье! — И обернулся к Колотухину и Завадскому: — Вам пора туда, господа! Значит, пропустите первый, санитарный поезд, а потом взорвете путь под вторым или перед самым его носом.
Оба офицера встали, с решительным видом надели шинели, молча поклонились и вышли. Недалеко от здания стоял их легковой автомобиль со спрятанной под сиденьем взрывчаткой.
Жданов и начальник станции остались в кабинете. Первый сидел в кресле, словно оцепенев от напряжения, тогда как второй ходил взад-вперед возле стола, поглядывая на телефон.
И спустя полчаса после первой депеши телеграфист поспешно принес ему новую:
«Перед самым выездом со станции поезда неожиданно переменили порядок движения тчк Сейчас впереди идет не санитарный зпт а вспомогательный с прицепленным бронепоездом тчк Повторяю впереди идет вспомогательный с прицепленным бронепоездом».
Минуту Жданов и начальник станции тупо смотрели друг на друга, не понимая, что это означает. Первым смысл происшедшего уловил начальник станции. Он в ужасе посмотрел в сторону двери и закричал:
— Надо вернуть их! Они же взорвут санитарный!.. Жданов наконец вскочил с места, дико посмотрел на него, на дверь и... рухнул обратно в кресло. Он знал, что тех двух уже не догнать, что они уже находятся на месте и закладывают под рельсы взрывчатку. И вероятно, пропустят в темноте бронепоезд и взорвут санитарный. Последняя его попытка как-то повернуть ход событий тоже сорвана... Это было выше его сил, и он больше не мог выдержать. К черту, к черту все!
— Что делать, господин комиссар? — все еще в ужасе спросил его начальник станции.
— К черту! — уже вслух произнес Жданов. — К черту все это!
Но тут уже взбесился начальник станции. Стиснув зубы, он надвинулся на Жданова и процедил:
— Вы, вероятно, не понимаете, господин комиссар, что будет с нами, если вместо бронепоезда будет взорван санитарный с ранеными... Нас же растерзают в клочья рабочие станции, обыватели города, женщины, у которых мужья и братья на фронте! Я сейчас же пошлю паровоз на переезд, чтобы предупредили взрыв!
Он резко повернулся и выбежал из кабинета.
И тут же зазвонил телефон. Жданов сидел, словно не слыша звонка. Но телефон продолжал звонить настойчиво, тревожно, и он наконец встал и взял трубку.
— Вас слушают, — механически произнес он.
— Мне нужен комиссар фронта господин Жданов, — услышал он голос Злобина.
— У телефона Жданов.
— Это вы, господин комиссар? — торопливо сказал Злобин. — Послушайте, что сейчас случилось...
И он, захлебываясь от спешки, рассказал о неожиданном появлении на заседании «комитета спасения» представителя Гренадерского корпуса и его ультиматуме с угрозой разгона «комитета». О том, что после ухода гренадера представители Бунда и профсоюзов тоже молча ушли и похоже, что больше не вернутся... и под конец задал вопрос: что же теперь им делать?
— К черту! — - снова заорал в трубку Жданов, — К черту всех вас со всеми потрохами!
Он бросил трубку на рычаг и минуту стоял, устремив глаза в одну точку. Теперь ему было, все равно: взорвут ли на 712-й версте бронепоезд или санитарный, вернутся ли Перель с Вайнштейном в «комитет спасения» или нет. Все равно это его детище отныне мертво. Все равно этот Мясников сможет, если захочет, привести свой Гренадерский корпус, свою Вторую армию, весь свой Западный фронт целиком сюда, в Минск, затем двинуть их в Могилев, в Москву, в Питер — и сделать все, что захочет. Ибо хозяином положения здесь является Мясников, а не он, Жданов, или Балуев, или кто-нибудь еще. Поэтому-то ему удается все, а Жданову — ничего...
В этот день в Несвиже, в замке Радзивиллов, собрался II Чрезвычайный съезд Второй армии Западного фронта. Подавляющее большинство делегатов съезда было из большевиков, да и после вчерашних событий на фронте и на съезде Гренадерского корпуса командование армии и старый исполком армейского комитета были в состоянии шока. Поэтому, как только съезд открылся, председатель старого исполкома эсер Титов поднялся на трибуну и заявил, что он вместе со старым комитетом слагает свои полномочия.
Это был достаточно мудрый шаг, поэтому Титов удостоился аплодисментов большинства присутствующих.
Съездом от имени Северо-Западного областного комитета РСДРП (б) руководил Щукин, и он, на основании давно принятого плана, позаботился, чтобы основной документ — резолюция «О Фронтовом комитете» — достаточно четко отразил отношение солдатских масс Второй армии к текущим событиям в стране и на Западном фронте. Там говорилось:
«1. Деятельность Фронтового комитета Западного фронта и так называемого «Комитета спасения революции», направленную против власти Советов, против Петроградского ВРК, против Совета Народных Комиссаров, — считать предательством и изменой революции.
2. Немедленно отозвать из состава Фронтового комитета представителей Второй армии.
3. Предложить Фронтовому комитету и «Комитету спасения революции» на Западном фронте подчиниться Петроградскому ВРК и изменить свою политическую деятельность в направлении развития, расширения и углубления власти Советов и комитетов. В противном случае съезд поручает ВРК Второй армии прекратить противонародную деятельность названных комитетов силою оружия.
4. Предложить Фронтовому комитету отстранить от должности комиссара Западного фронта Жданова, как комиссара несуществующего правительства и как лицо, деятельность которого особенно вредна для революции и народа.
5. Поручить Исполнительному комитету армии войти в связь с другими армиями Западного фронта и образовать комиссию для созыва фронтового съезда. Комиссия должна направиться в Минск и приступить к спешному созыву фронтового съезда по схеме, уже разработанной Фронтовым комитетом.
6. Послать представителей в другие армии фронта для установления связи и координирования действий. Уполномочить представителей изложить взгляды и решения Второй армии по вопросам момента и просить армейские, корпусные и др. съезды поддержать требования и постановления Второй армии.
7. Постановления эти довести до сведения Фронтового комитета, «Комитета спасения революции» на Западном фронте и комиссара Западного фронта через особую делегацию, которая уполномочивается затребовать точный и определенный ответ на требования армейского съезда.
Принятие тех или иных мер в случае отказа удовлетворить требования армии или оставления их без ответа возлагается на Исполнительный комитет армии».
После этого был избран новый, большевистский исполком во главе с Рогозинским, которому и поручили сменить старое командование и взять на себя руководство армией.
Они двигались вперед со скоростью пятнадцать верст в час. Впереди попыхивал паровоз вспомогательного, таща за собой не только платформы со шпалами и рельсами, но и бронепоезд. Там Пролыгин, уже освобожденный от обязанностей машиниста, вместе с Соловьевым перешел в первый бронированный вагон, чтобы в случае нужды руководить боем.
А Четырбок, Кузьменков и Макаревич, теснившиеся в паровозной будке, буквально обливались потом. И ее только потому, что было жарко. Лишь теперь они поняли, какую тяжкую ответственность они взвалили на себя, добровольно взявшись ехать впереди бронепоезда и первыми принять на себя удар, если враг попытается его нанести. А что враг сделает такую попытку, в этом они почти не сомневались. Ведь это же был последний переход, на котором он еще мог как-то преградить путь бронепоезду. И хотел же он столкнуть вот этот самый вспомогательный с бронепоездом, так почему же он не захочет сделать и других попыток?
— Смотрите, смотрите внимательней вперед! — беспрестанно повторял Четырбок Кузьменкову и Макаревичу.
Те, свесившись с двух сторон паровоза, освещали путь своими сигнальными фонариками. Но их свет проникал всего на несколько аршин впереди паровоза и едва бы помог предотвратить крушение, если бы путь был разобран или заложена мина.
А она была заложена!
Два человека, приехавшие полчаса тому назад на автомобиле к 712-й версте, успели пройти по шпалам чуть выше от переезда, подложить в насыпь под рельсами динамитные шашки, вставить взрыватели с бикфордовым шнуром и спрятаться за оголенные кусты недалеко от пути.
Всего несколько минут они просидели так, подняв воротники и поеживаясь от ночного сырого воздуха и еще более от нервного напряжения. И вдруг впереди послышалось пыхтение паровоза, затем сквозь мрак едва замерцал свет фонарика, светящего сбоку паровоза.
— Идет санитарный, прячьтесь! — шепнул Колотухин Завадскому.
Они распластались на земле за кустами, больше всего боясь, что с поезда заметят их и дадут сигнал идущему сзади бронепоезду. Паровоз запыхтел совсем рядом, потом послышался ровный гул и дробное постукивание колес на стыках рельсов. Поезд тащился медленно и бесконечно долго, и Колотухин с Завадским все лежали, не смея даже приподнять головы и взглянуть в ту сторону.
Но вот наконец прошел последний вагон. Они еще немного подождали, потом Завадский шепотом спросил:
— Будем ждать, пока подойдет второй?
— Шнур длинный, — ответил Колотухин. — Пока он будет гореть, поезд проскочит...
— Можно отрезать...
— Тогда мы не успеем отбежать... Нет, зажигайте шнур сейчас... — нервно сказал Колотухин.
Завадский торопливо зачиркал спичкой, зажег, но едва поднес к концу бикфордова шнура, как порыв ветра погасил огонь.
— А, черт!.. — выругался Завадский, достал уже дно спички и, сложив вместе, снова зажег.
Тем временем Колотухин наконец поднялся на ноги и посмотрел вслед уходящему поезду. И хотя было достаточно темно, а поезд ушел достаточно далеко, но он все же успел заметить, что последний вагон вместо обычной прямоугольной имеет какую-то причудливо-угловатую форму с двумя похожими на рога выступами по бокам.
Пока он изумленно всматривался вперед, Завадский наконец зажег шнур и тоже поднялся на ноги.
— Пошли, готово! — прошептал он.
— Послушайте... — повернулся к нему Колотухин. — Кажется... это прошел бронепоезд!
— Как — бронепоезд? Ведь первым должен был идти санитарный.
— Не знаю... Но я видел башни и пушки. Это был бронепоезд...
— Вы уверены? — вцепился в его плечо Завадский.
— Почти... Шаль, мы слишком поздно посмотрели..,
— Это должен быть санитарный! — Завадский потряс за плечо Колотухина. — Слушайте, вы! Скоро последует второй поезд, так взрывать его или нет?.. Ну?!
— Н-не знаю... — пролепетал Колотухин. — Пожалуй, лучше погасить шнур...
И тут Завадский вспомнил о самом главном. О том, что, пока они тут говорили, шнур горел. Огонь, спрятавшись в просмоленной оболочке шнура, неумолимо двигался к запалу взрывчатки. В иных условиях, следя за временем, Завадский смог бы определить, сколько еще осталось до взрыва и успеет ли он подбежать и перерезать шнур. Но теперь ему вдруг показалось, что они тут проговорили целую вечность и вот-вот произойдет взрыв.
— Поздно уже... Бежим! — в панике закричал он и, схватив за руку Колотухина, побежал прочь от железнодорожного полотна.
Спотыкаясь в темноте о кочки, падая и поднимаясь, они уходили все дальше, по взрыв почему-то не раздавался. И когда им уже показалось, что там со шнуром что-то случилось и взрыва не будет вообще, позади них вдруг загрохотало, небо озарилось отблеском пламени и снова все померкло.
— Вон там машина! — крикнул Завадский, успев за этот короткий миг сориентироваться.
— Стойте! — вдруг остановился Колотухин. — Там же есть путевой сторож, на переезде... Вдруг он нас запомнит и потом...
— Да мы его застрелим как собаку! — крикнул в бешенстве Завадский. — Бежим, уходить надо отсюда!
Взрыв раздался, когда паровоз уже приближался к переезду. Васин испуганно потянулся к тормозной ручке, Макаревич и Кузьменков сразу выпрямились и посмотрели на Четырбока.
— Где? — коротко спросил тот.
— Позади... Кажись, на линии, — ответил Кузьменков. Они снова выглянули и как раз увидели стоявшую у переезда пустую автомашину.
— Глянь-ка! — сказал Макаревич, смутно догадываясь, что между этой машиной и взрывом на пути есть какая-то связь.
— Остановить поезд? — спросил Васин, продолжавший держать ручку на тормозе.
— Гони вперед! — закричал ему Четырбок. — Гони что есть мочи!
Васин ускорил ход. Макаревич и Кузьменков снова высунулись из паровозной будки в обе стороны.
— Навстречу идет поезд! — крикнул Макаревич.
— По вашей колее? — спросил Четырбок, чувствуя, что холодеет.
— Не... По другой! — успокоил их Макаревич.
Все кинулись к левому выходу и увидели быстро мчащийся навстречу паровоз.
Он поравнялся с их поездом, дал гудок и промчался дальше. К паровозу был прицеплен единственный классный вагон.
В будке опять все переглянулись.
— Туда? — теперь спросил уже Кузьменков.
— Думаю, что так... Что-то творится непонятное... — ответил Четырбок.
— Впереди Минск! — произнес Васин.
— Сбавь ход, — приказал ему Четырбок. — У семафора Макаревич и Кузьменков спрыгнут вниз и пойдут впереди паровоза, проверяя стрелки. Станем опять на третьем пути шестого парка. И как только отцепим бронепоезд, вспомогательный сразу же пойдет обратно к переезду... — Он придвинулся к Васину, процедил сквозь зубы: — Ты понял, кто это там работал у переезда? И знаешь, что мы с ними сделаем, ежели с санитарным произойдет крушение?..
Васин посмотрел на него и искренне сказал:
— Ну, тогда я первый их к стенке поставлю!
Застрелить путевого сторожа Колотухину и Завадскому не привелось. Ибо, когда они прибежали к сторожке у переезда, там никого не оказалось. Тогда, не мешкая, они сели в автомобиль и погнали.
...Путевой сторож возвращался с очередного осмотра дороги, когда к переезду подъехал и остановился легковой автомобиль.
Зная, что на таких автомобилях ездит только большое начальство, сторож хотел было броситься туда, но тут ж в нем взяла верх исконная настороженность и недоверие начальству, и он остановился. Ведь черт их знает, этих бар, к чему они тут могут придраться, а ежели пьяные, так еще и обругают, ударят...
Услышав, что его зовут, он укрылся за ствол дерева неподалеку от пути в надежде, что те, не дозвавшись его, поедут дальше. Но из машины вышли двое и, быстро вытащив какой-то мешок и лопату, торопливо пошли по шпалам в сторону Фаниполя. Сторож было тронулся за ними, но снова в нем заговорило смутное предчувствие какой-то беды... Некая уверенность, что здесь происходит что-то неладное и ему лучше держаться в сторонке... Кто знает, может, они убили человека и несут его хоронить?..
Осторожно, прячась за деревья и кусты, он издали проследовал за этими двумя, пока они не остановились и не начали возиться возле рельсов. И тогда он понял, что они затеяли...
Господи, да они же хотят взорвать путь!
Он решил было броситься вперед, чтобы помешать им, но его снова окатил страх. Они были моложе его и, несомненно, вооружены, а ведь пристрелить какого-то старика таким ничего не стоит.
И он, спрятавшись в кустах по другую сторону насыпи, с замиранием сердца ждал... Ждал, пока те, закончив возиться, не кинулись прочь от пути. Потом послышалось пыхтение приближающегося поезда. И тогда сторож беззвучно заплакал — от того, что сейчас произойдет на его глазах нечто страшное, а он бессилен чем-нибудь помешать этому...
Но паровоз пропыхтел около него и прошел дальше, и тогда сторож посмотрел на низкие платформы, которые, стуча колесами, плыли мимо него. Он поразился, узнав вспомогательный поезд, который днем прошел из Минска в Фаниполь. Господи, зачем нужно этим людям взрывать вспомогательный поезд, груженный рельсами и шпалами? Но пока он думал об этом, впереди показался безобразный силуэт приближающегося вагона. «Что это?.. Ах, да это же бронепоезд! — догадался сторож. — Вот что хотят взорвать они!»
И пока он рассуждал об этом, произошло чудо... Бронепоезд миновал то место, где недавно возились те двое, а взрыва не было... Что же они тогда делали там? Всматриваясь в темноту, сторож увидел, как один из них встал на ноги... Потом на секунду замерцал отблеск зажженной спички, словно кто-то закурил папиросу, и второй тоже встал. Они минуту стояли так, о чем-то громко разговаривая. Потом вдруг кинулись бежать в сторону и сразу пропали в темноте.
Путевой сторож все еще продолжал оставаться в своем укрытии. Ушли? Ну да, ушли. Убежали, не взорвав бронепоезда, не повредив пути. Слава богу! Но что же тогда они делали там, на полотне, и зачем прятались?
Он отцепил от пояса фонарик и, открыв дверцу, зажег свечку, снова аккуратно закрыл дверцу и только хотел встать на ноги, как вдруг там, на полотне, из земли взметнулась вверх огромная рыже-красная роза и потом раздался оглушительный грохот... Взрывная волна промчалась над его головой, обдав жаром, и сторож снова упал на сырую землю. «Боже милостивый, убили...»
Так он лежал некоторое время, пока до его сознания не дошло, что он все-таки жив, — вот ведь думает и может пошевелить руками. Тогда он встал и, пошарив рукой вокруг, нашел погасший фонарь. Дрожащей рукой он снова зажег в нем свечку и, подняв фонарик над головой, посмотрел в ту сторону, где произошел взрыв.
Там, прямо посреди полотна, чернела огромная яма, по обе стороны которой слабо поблескивали четыре нитки рельсов. Они все-таки взорвали путь!
И едва он успел подумать об этом, как вдали послышалось пыхтение паровоза. Оттуда, как раз из Фаниполя! Господи! Остановить его! Остановить, пока не поздно!
Он тяжело, задыхаясь, побежал к полотну, обошел яму с искореженными рельсами на краях и, выйдя на насыпь, побежал, размахивая фонарем, навстречу поезду...
* * *
— Вот какой вы есть, товарищ Пролыгин, — с интересом разглядывая сидящего перед собой человека, проговорил Мясников.
Пролыгин как-то неловко поерзал на месте, оглянулся на сидящего рядом Соловьева. Час тому назад они прибыли на станцию Минск, где их встретили красногвардейцы с Кривошеиным во главе. Поставив бронепоезд на третий путь шестого парка и сразу же отправив вспомогательный на 712-ю версту для помощи санитарному, Пролыгин и Соловьев направились в город и несколько минут тому назад доложили Мясникову о прибытии бронепоезда в распоряжение Минского военревкома.
— Ну так как же, — нетерпеливо обратился Пролыгин к Мясникову, — будем сейчас же начинать бой?
— Какой бой, дружище? — удивленно спросил тот. — Зачем?
— Как зачем? — растерялся Пролыгин. — Для чего же тогда мы пришли сюда? Надо же взять Минск и разогнать эту шушеру!
Мясников посмотрел на него, улыбнулся.
— Да все уже, все, — сказал он мягко. — Минск наш, наш с той минуты, когда вы с бронепоездом вошли сюда... Ведь они, «шушера», как вы сказали, еще до этого, имея численное превосходство, не смели напасть на нас, — что же они смогут сделать теперь, когда вы, несмотря на все трудности, довели бронепоезд сюда и когда с другой стороны в город вошли бронеавтомобили и батальон пехоты?
— Всего батальон?
— Неважно, что всего один батальон, всего несколько бронеавтомобилей и всего один бронепоезд, — снова улыбнувшись, терпеливо объяснил Мясников. — Важно, что это прислал сюда фронт, а этой «шушере» оттуда никакой помощи не будет. Об этом им сегодня заявил представитель Гренадерского корпуса и тем самым положил «комитет спасения» в гроб и заколотил крышку... А ведь это был их главный политический орган, организатор сопротивления революции в Минске, на Западном фронте и во всей Белоруссии... И они знают, что сегодня... — Мясников энергично повторил, — да, уже сегодня начался съезд Второй армии и она теперь наша. А завтра-послезавтра то же самое произойдет с Третьей и Десятой армиями... Но самое главное — то, что в Питере наши победили! Керенский бежал, войска Краснова рассеяны, а сам Краснов сдался нашим и отпущен под честное слово, что больше не будет бороться против Советской власти.
— Да ну! — воскликнул Соловьев. — А откуда вы это узнали, Александр Федорович?
— Об этом мне конфиденциально сообщил кое-кто из штаба фронта. И я верю этому. Стало быть, у них нет даже верховного руководства, нет цели для борьбы, ибо судьба революции в сердце страны, в Питере, решена в нашу пользу! Так зачем же они будут стрелять здесь, проливать кровь? Чтобы мы их задавили, уничтожили? Нет, на это они не пойдут, а нам открывать бой здесь, проливать кровь солдат и горожан и подавно ни к чему...
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Да, теперь Мясников был убежден, что им удастся справиться с врагами революции здесь, в центре Белоруссии и Западного фронта, без кровопролития. Но для этого надо было держать их под постоянным психологическим нажимом, все время напоминать, что при малейшей попытке сопротивления они будут раздавлены.
Именно с этой целью номер «Звезды» от 3 ноября открывался сообщением, набранным крупным шрифтом:
«1 ноября около 12 час. ночи к Минску подошел присланный армией на помощь Минскому Совету блиндированный поезд с многочисленными пулеметами и орудиями. Предатели революции хотели взорвать поезд, но это им не удалось. Поезд принял под свою охрану Минский Совет и весь город».
В том же номере было опубликовано воззвание большевистской фракции исполкома Западного фронта:
«Петроградское, а вслед за ним и всероссийское восстание рабочих, солдат и крестьян наконец сняли маску с Фронтового комитета. Комитет резко и решительно выступил против восстания, против Советов. Недостаточно этого: для подавления Минского Совета и гарнизона Фронтовой комитет обманным путем вызвал в город вооруженные конные части, взял под свое покровительство штаб и бывшего комиссара Керенского г-на Жданова...» И дальше говорилось:
«Мы открыто заявляем, что в эти ответственные дни русской революции Фронтовой комитет предал Минский Совет и военно-революционный комитет, он предал фронт, он предал Советы, предал революцию. Он временно спас контрреволюционное гнездо фронта — штаб, спас агентов Керенского, его комиссаров. Такой Фронтовой комитет не может считаться представителем солдат фронта. Это представительство ложно-искаженное... Мы, члены Фронтового комитета в количестве 10 человек, составляющие часть комитета, одну из его фракций — большевистскую, обязанные быть и бороться вместе с революционными солдатами и, не желая обманывать их, оставаясь в рядах такого нереволюционного органа, как Фронтовой комитет, через его голову обращаемся к фронту с призывом — теснее сомкнуть свои ряды, дружнее закончить свое дело, и революционные волны фронта докатятся до мертвых берегов гнилого Фронтового комитета.
Долой Фронтовой комитет, да здравствует революционный Фронтовой комитет!»
Если вчера ультиматум съезда Гренадерского корпуса убил наповал «комитет спасения революции», то это заявление большевистской фракции — Мясникова, Фомина, Щукина, Кривошеина, Могилевского и других, — в свою очередь, было равносильно смертному приговору Фронтовому комитету. Да, на первый взгляд это была странная картина: из важнейшего органа, созданного после Февральской революции, имеющего в своем составе несколько десятков человек, уходила, в сущности, небольшая группа, еще вчера бессильная как-нибудь повлиять на решения комитета. А сегодня с их уходом остальные превращались в ничтожную и слабую кучку. Ибо оказалось, что именно они, эти десятеро, и стали вершителями судеб фронта и края.
Все понимали или хотя бы чувствовали это. И во многих концах города тихо и незаметно происходили изменения, которые в иных условиях должны были произойти при звоне мечей и грохоте пушек.
Избавившись от своих «дипломатических» обязанностей, Ян Перно вдруг оказался не у дел. Хорошо было Ивану Алибегову, — тот сразу вернулся к себе в городской комитет и с головой ушел в дела, которых за дни его отсутствия накопилось предостаточно. А в оружейных мастерских все еще стояла охрана из казаков, и поэтому Перно считал, что ему там пока делать нечего.
Проснувшись утром 2 ноября, он решил пойти в военревком и попросить приставить его к какому-нибудь делу. Но не успел он подойти к подъезду Совета, как его окликнул чей-то голос:
— Эй, сября!.. Товарищ Перно!
Он обернулся и увидел Курятникова, командира роты, с которым он уходил из мастерских.
— А, брат, здравствуй, жив-здоров?
— А што не быть живым? — улыбнулся тот, пожимая ему руку. — Думали, драчка будет, клюнем кого, так здешние петухи не кукарекают, а квохчут... — Он досадливо махнул рукой, потом спросил: — Ну как, опять вернулся в свои мастерские?
— Ну куда там... — теперь махнул рукой уже Перно. — Ведь еще нет соглашения о возвращении мастерских.
— Ну и что? — удивился Курятников. — А на кой бис тебе нужно это соглашение? Знаешь, у меня рота как раз на отдыхе, давай возьмем один взвод и пойдем туда.
— Пойдем — и что? — не понял Перно.
— Пойдем и скажем: кончилась ваша власть, катитесь отсюда. А?
— А? — пораженно повторил Перно. А мысль в это время лихорадочно работала: «А что ж, действительно, что-то рановато я в дипломаты подался, жду какого-то соглашения или договоренности. Надо действовать по-революционному, явочным порядком... Пойти и сказать: «Была сила на вашей стороне — вы взяли, теперь сила у нас — отдайте!» Потом произнес вслух: — Это идея, брат. Погоди-ка минутку, только поднимусь, поговорю с товарищем Алешей...
— Вот уж, ей-богу! — разозлился Курятников. — Да что ты будешь человека тревожить, ну? У него что, других делов нема, штоб всякими пустяками заниматься? Вот уж чертов интеллигентский характер: то ему соглашение с теми нужно, то согласовать с нашими... — И он почти грозно спросил: — Ну, так идем за взводом аль нет?
— Погоди, — Перно посмотрел на Курятникова, засмеялся. — Убедил меня, брат... Но раз уж так, то и взвода никакого не нужно. Пойдем вдвоем. И прогоним.
— Вдвоем? — теперь поразился Курятников.
— Вдвоем. — И Перно, придвинувшись к нему, продолжал почему-то шепотом: — Знаешь, что в первый день Советской власти Мясников поручил взять штаб фронта лишь Щукину и Полукарову? Сказал: пойдете с ротой — драка выйдет, а пойдете вдвоем, — значит, сильны, никого не боитесь... Понял?
Курятников посмотрел на Перно чуть недоверчиво, почесал бороду, съязвил:
— То-то тогда этих двоих турнули из штаба!
— Ну, ведь тогда у нас силы и в самом деле не было, — согласно кивнул Перно. — А теперь...
— Оно и правда, сейчас не такое время, — сказал Курятников. — Пошли!
Когда они вошли во двор мастерских, то увидели слева под навесом несколько расседланных коней, возле которых возился казак с торбой овса. Заметив вошедших во Двор посторонних, он крикнул им: «Эй, эй, куды?» Но, сделав два шага, вдруг остановился, видимо припомнив, как этот небольшого роста крепко сбитый латыш разговаривал с их вахмистром.
— А, это вы? — казак смотрел с любопытством, но настороженно.
— Ну мы, — сказал Перно, потом оглядел двор и ворчливо добавил: — А навозу-то кругом, навозу... Чистить надо двор, казак, это же оружейные мастерские! Понимать надо...
Казак, не зная, что ответить, только хмыкнул. А Перно спросил:
— Ваш начальник, вахмистр, в конторе?
— Угу, тама...
Но в это время во двор из мастерской выбежали рабочие и радостно кинулись к Перно:
— Ян Францевич, душа, наконец пришел!
— Забыл друзей-приятелей, бессовестный!
— Просто навестить аль как?
— Пришел, на работу вернулся, друзья, — растроганно улыбаясь, отвечал им Перно. — Намаялся за эти дни, ребята. И соскучился по вас... Где этот «енарал» ихний? Ну-ка позовите его, ребята.
Пока двое рабочих бегали за вахмистром, Перно продолжал расспрашивать:
— Ну как тут у вас — порядок?
— Порядок, Ян Францевич, все чин чином!
— А эти? — Перно кивнул в сторону казаков. Они к этому времени успели появиться откуда-то из помещении и теперь с напряженным интересом слушали их разговор. — Не озорничали, оружие не трогали?
— Кто, эти? — спросил один из старших рабочих, оглянувшись на казаков. — Да нет, мужики они ничего, место свое знали... Несли караул здесь, а в мастерских как раньше, так и сейчас дела ведет комитет...
— Ну-ну, — одобрительно сказал Перно.
— А-а, хозяин прибыл... — послышался в это время голос вахмистра.
Присутствующие расступились, и он шагнул в круг, в наброшенной на широкие плечи бурке, с чуть красноватыми, как от перепоя, глазами.
— Здравствуй, с чем пришел? — спросил он, однако не протягивая руки.
— Как с чем? — удивленно сказал Курятников. — Сам же говоришь — «хозяин». Вот он и пришел хозяевать... К себе пришел...
— А, и ты тут? — кивнул ему вахмистр и, приподнявшись на носки, через головы рабочих поглядел в сторону ворот. И тут же в его глазах появилось удивление: — А войско твое где?
— Ха! Это вы к нам с войском приперлось, а нам сейчас ходить сюда с войском ни к чему, — усмехаясь, ответил Курятников.
— Да, друг мой, — поддакнул ему Перно, — со вчерашнего дня, как на станции загудело, мы тут снова ходим свободно, без войск и охраны...
— Выходит, ваша взяла? — ухмыльнулся вахмистр.
— Как я вам и говорил, помните?
— Ну что же, — вахмистр протянул руку, — Давай бумажку.
— Какую бумажку?
— Ну от моего начальства. О том, что я должен сдать тебе мастерские.
— Вот еще... — пожал плечами Перио. — Буду я ходить к вашему начальству за бумажкой, чтобы вернуть наши мастерские!
— Да говорят тебе, наша «бумажка» вон на станции стоит и пушками на штаб глядит, где твое начальство сидит... — снова вступился Курятников.
Рабочие дружно загоготали. Но вахмистр, не на шутку встревоженный, заморгал глазами.
— Дык как же ж так, ребята... Я же ж не могу так, без приказу.
— Э, дружище, забыли уговор? — нахмурился Перно. — Ведь условились же, что, когда я вернусь, будете сдавать мастерские тихо-мирно, без шума.
— Дык мне ж попадет, что самовольно... — отчаянно замотал головой вахмистр. — Это ж прямо под расстрел.
— Ни... От кого попадет — от генералов? — спросил Курятников. И объяснил доверительно: — Ты, когда отсюда уйдешь, мимо штаба езжай да понюхай, какая вонища вокруг стоит... А отчего вонь? Оттого, что ваши генералы наложили в штаны и даже в сортир боятся выйти почиститься... До тебя ли им теперь или до мастерских...
Рабочие снова захохотали. А вахмистр, посмотрев на них, сунул копчик уса в рот и погрузился в раздумье.
— Ну как, будем составлять акт о приеме-сдаче? — спросил Перно.
Казак сердито выплюнул кончик уса вместе с руганью:
— Да ну его к..., твой акт! — И, подхватив бурку, кинул казакам: — Седлай коней, ребята!
Когда отряд покинул мастерские, Перно сказал Курятникову:
— Ну спасибо, товарищ ротный, что помог. Вернешься в полк — зайди в военревком и скажи, что мастерские снова наши, и если понадоблюсь им, то адрес мой прежний...
Нанеся два страшных удара по главным центрам противника на Западном фронте — «комитету спасения» и Фронтовому комитету и, в сущности, опрокинув их, Севзапком большевистской партии решил, что пришла пора вернуть власть в городе в руки Совета.
Вечером 2 ноября в городском театре вновь состоялось многолюдное собрание Минского Совета депутатов совместно с представителями воинских и фабрично-заводских комитетов. С докладом о текущем моменте выступил Мясников, появление которого на трибуне вызвало гром аплодисментов. Еще бы, ведь за последние пять дней весь город, затаив дыхание, следил за тем, как «комитет спасения», Фронтовой комитет, штаб фронта, окружив небольшую армию Мясникова во много раз превосходящими силами, пытались сломить, уничтожить ее. И все впали, что если этого не произошло, то в немалой степени потому, что оп, этот высоколобый человек с карими глазами, не только не дрогнул, но и вместе со своими помощниками сам наводил страх на противников и вот сейчас, без единого выстрела одержав победу, снова стоит на этой трибуне и снова говорит спокойно, уверенно о победе Советской власти как в столицах, так и здесь, в Минске.
А Мясников действительно словно преобразился. Мучительный период тягостного выжидания, когда все главные события происходили вдали, томительно долгие дни, когда его соратники и воспитанники держали экзамен на умение самостоятельно решать сложнейшие задачи, а оп в свою очередь держал экзамен, насколько хорошо сумел подготовить их к таким действиям, — остались позади. И от сознания того, что и он, и его товарищи выдержали самое строгое испытание и что наконец он снова обрел свободу действия, Мясников стал как будто выше, плечистей....
Доклад его был программным, ибо в нем Мясников изложил основные задачи Советской власти на ближайшее время. Кратко рассказав о событиях, происшедших в Питере, Минске и на фронте за последние дни, о маневрах контрреволюции, он заявил, что наступило время полной ликвидации «комитета спасения революции» и Фронтового комитета и, наоборот, развертывания деятельности военно-революционного комитета, который должен установить Советскую власть в Минске и в Белоруссии.
Когда он кончил эту речь и предложил голосовать за восстановление полной власти Совета в Минске и области, все, кто был в зале, вместо того чтобы поднять руки, вскочили и громко зааплодировали. Мясников минуту с улыбкой смотрел на эту ликующую массу людей — рабочих, солдат, своих товарищей по большевистскому комитету и Совету, — затем, напрягая голос, чтобы заглушить шум, крикнул:
— Товарищи! Подавляющим большинством голосов депутатов Минского Совета, представителей воинских частей и рабочего класса Минский Совет полностью берет власть в городе и области в свои руки!
Все снова бурно захлопали в ладоши, потом не очень стройно, но с воодушевлением запели «интернационал».
Утром 2 ноября, когда после ремонта пути наконец прибыл санитарный поезд, Пролыгин был одним из первых, кто встречал его. Стараниями военревкома весь городской транспорт был брошен на станцию, чтобы поскорее перевезти раненых в госпитали и больницы, и в этой сутолоке Пролыгин с трудом нашел Марьина.
— Здорово, браток, наконец-то вы добрались, — с чувством облегчения сказал он ему. — Поди, намаялись, пока чинили путь?
— И не говори... Страшнее этой ночи в жизни моей не было, — подтвердил Марьин. — Хорошо, что путевой сторож успел остановить наш поезд, а то ох и была бы кровавая каша... Но и то, пока мы там ждали, несколько тяжелораненых умерло, не дождавшись операции. Ну а как тут у вас дела?
— Тут порядок, считай, что город уже наш, — просто ответил Пролыгин.
— Ну а кто устроил этот взрыв — не выяснили?
— А как же, еще вчера ночью товарищ Мясников приказал Соловьеву заняться этим. Тот сегодня утром первым делом взял за шкирку здешнего начальника станции, а он, спасая свою шкуру, сразу и выложил все: оказывается, путь взорвали председатель «комитета спасения» Колотухин и адъютант главкома Завадский. А сделали они это по приказу комиссара фронта Жданова... Хотели сковырнуть наш бронепоезд, да не вышло...
— Ну и как? Не поймали их еще?
— Ищут, — сказал Пролыгин. — Надеюсь, поймают и тогда всыплют им по первое число за все подлые дела!
— Эх, жаль, что я должен сейчас же вернуться в армию, а то с превеликим удовольствием сам бы шлепнул всех троих! — с досадой воскликнул Марьин. И тут же вдруг вспомнил: — Да, Василий, к тебе просьба будет такая: с поездом обратно поедет и наша знакомая, сестра Евгеньева, — ведь надо заняться оставшимися в Погорельцах ранеными... А тут у нее муж будет в госпитале. Навещай его, ежели выкроишь времечко...
Пролыгин с интересом посмотрел на него, сказал:
— Будет время — навещу, но что ты-то об этом так печешься?
— Ну вот! Говорил же я тебе, что он летчик из армейского отряда, с нашим полком в бой ходил и в том бою ранение получил... Стало быть, он наш, понимаешь? И потом, между ним и Богдановной, похоже, кошка пробежала, и оба они на этом деле, видно, чересчур душой страдают — ведь молодожены же... В общем, поддержать надо человека.
— Ладно, брат, все понял, — кивнул Пролыгин. — А пока прощай, я пойду к своим, на бронепоезд.
Вечером он очень хотел попасть на заседание Минского Совета, но Мясников, все еще опасаясь внезапных враждебных действий со стороны штаба фронта, приказал ему остаться на бронепоезде и быть готовым к немедленным действиям.
И лишь 3 ноября утром он наконец ушел со станции, чтобы посмотреть, что делается в городе. Был пасмурный осенний день, по улицам шагали редкие прохожие, и ничто не говорило о том, что в этом городе произошли великие перемены. Несколько разочарованный этим, Пролыгин направился к Минскому Совету.
Войдя в кабинет Мясникова, он увидел, что перед ним у стола стоит какой-то молодой хорунжий в черкеске с газырями. Мясников хотя и был чисто выбрит, но выглядел очень усталым, и Пролыгин подумал: «Вот уж кто все эти дни не высыпался и не успевал поесть...» Но при появлении Пролыгина на лице Мясникова сразу возникла мягкая улыбка, на миг снявшая печать усталости. Он молча кивнул вошедшему и обернулся к хорунжему:
— Так, говорите, в этом вагоне лежат седла и овес, принадлежащие текинцам из охраны главкома?
— Да, товарищ председатель.
Мясников, не отрывая взгляда от хорунжего, потянулся к телефону, покрутил ручку, попросил центральную дать ему штаб железнодорожной Красной гвардии. Пока он ждал, Пролыгин успел подумать: «Выходит, паши снова взяли под контроль телефонную станцию? Хорошо!»
— Штаб Красной гвардии? — спросил Мясников в трубку. — Четырбока... Товарищ Четырбок? Мясников говорит. Скажи-ка, дружище, есть ли на станции вагон охраны главкома? Стоит на пути артсклада? — Мясников послушал, выразительно посмотрел на хорунжего, потом на Пролыгина. — А что в этом вагоне — не знаешь? — Он снова минуту слушал, потом одобрительно произнес: — Молодец, что осмотрел и запомнил... Ну спасибо за сообщение.
Он положил трубку на рычаг, посмотрел насмешливо-холодно на хорунжего.
— А о том, что в этом вагоне кроме седел и овса есть еще ящики с пироксилиновыми шашками, надо было сказать сразу, хорунжий!
Нагловатое лицо казака сразу стало безразличным, и он пожал плечами:
— А я и не думал о них. Нам лошадей надо кормить. — И он ощерился. — Ведь революция революцией, а лошади должны быть сытыми, правда?
— Истинная правда, — с тем же насмешливо-холодным взглядом кивнул Мясников. — Кстати, познакомьтесь: это товарищ Пролыгин, тот самый товарищ, который возглавил бронепоезд Второй армии и привел его в Минск... Сейчас он комендант этого бронепоезда, ему же вменили в обязанность взять под охрану артиллерийский склад. Он вам и выдаст овес и седла.
«Я? — подумал удивленно Пролыгин. — Почему не Четырбок или кто-нибудь другой из станционных? Ведь я даже не знаю, где стоит этот самый вагон. А... Кажется, понял в чем дело...» — И он повернулся к хорунжему:
— Что ж, приходи через часик-полтора на станцию, выдам тебе и овес, и седла. Но предупреждаю: ежели кто притронется к ящикам с пироксилином — тут же будет расстрелян, понятно?
Казак посмотрел ему в глаза и понял, что этот гренадер попусту говорить не любит.
— Да что мне твои ящики... Они нам ни к чему... — пробормотал он. — Так, говоришь, через полтора часа? Придем, конечно, придем!
Он торопливо отдал честь Пролыгину и вышел из кабинета. Мясников разразился громким смехом:
— Видите, какого вы нагнали страху... Выскочил как ошпаренный. И честь отдал вам, а не мне.
— Думаете, не придут за овсом-то? — понял его мысль Пролыгин.
— Какой там овес... Его у них здесь хватит. — И Мясников добавил уже иным тоном: — А вот за пироксилином присматривайте. Он им зачем-то понадобился. Хотя не могу понять: зачем им сейчас пироксилин? Ведь их дела теперь не то что несколькими ящиками пироксилина, но и целым арсеналом не поправишь... — Он подумал и, вздохнув, покачал головой: — Вот ведь недальновидный народ сидит в этом штабе, товарищ Пролыгин. Ну нисколько не понимают хода истории...
Пролыгин присел на стул и доверчиво, как у опытного врача о состоянии больного, спросил:
— А каков он будет дальше, этот ход истории, товарищ Мясников?
Мясников усмехнулся этому его тону и хотел было ответить шутливой фразой. Но из множества людей, которые за эти последние месяцы неожиданно появлялись возле него, поражая талантом, целеустремленностью и мужеством, этот солдат с хитринкой в глазах особенно понравился ему, поэтому Мясников ответил серьезно:
— Что ж, ход истории пока ясен, товарищ Пролыгин. Социалистическая революция в Питере победила. Ленин крепко стоит у власти — теперь это бесспорно. Ну а у нас дела пойдут несколько медленнее — по причине опасного соседства немецкой армии, которая, как мы в этом убедились, может каждую минуту вмешаться в наши дела... — Он нагнул голову, задумчиво постучал согнутым указательным пальцем по столу, словно забыв о присутствии Пролыгина, потом тряхнул головой и сказал уже другим тоном: — Ну ладно, там увидим... А вот об охране арт-склада на станции — я это сказал серьезно. Вы командуете самой грозной нашей силой в этом районе, поэтому будет правильнее подчинить все остальное вам...
А тем временем дела на фронте шли по намеченному Севзапкомом плану. В первых числах ноября во всех трех армиях состоялись съезды, на которых старые зсеро-меньшевистские комитеты были заменены новыми, большевистскими военно-революционными комитетами. Председателем военревкома Второй армии был избран поручик Рогозинский, Третьей армии — прапорщик Анучин, Десятой — солдат Яркин.
А в Минске 4 ноября военревком издал приказ №5, в котором говорилось: «Ввиду явных контрреволюционных действий бывшего комиссара Западного фронта В.А. Жданова, выразившихся в вызове частей войск для разгрома Минского Совета и посылке войск в помощь Керенскому, подвергнуть В.А. Жданова личному задержанию и немедленно препроводить его в Петроград в распоряжение Военно-революционного комитета... Немедленно подвергнуть Т. Колотухина личному задержанию и предложить военно-полевому прокурору... начать расследование... Ввиду распада «Комитета спасения» объявить его распущенным и приказы его не подлежащими исполнению».
И тогда генерал Балуев понял, что пора выкинуть белый флаг. В тот же день, явно после долгих раздумий, он вызвал к себе генерала Вальтера и некоторое время оставался с ним взаперти в своем кабинете. А когда Вальтер вышел оттуда, находившиеся в приемной адъютанты и штаб-офицеры по его хмурому виду поняли, что между двумя старшими начальниками произошел тяжелый разговор и что командующий принял решение более чем неприятное, в особенности для Вальтера.
Вскоре после этого уже в кабинете председателя военно-революционного комитета раздался телефонный звонок и густой бас генерала спросил Мясникова, не считает ли он, что им необходимо встретиться для выяснения дальнейших отношений между штабом фронта и военно-революционным комитетом.
— Я хочу напомнить вам, господин генерал, что ровно десять дней тому назад мы через наших представителей уже договаривались со штабом об этих взаимоотношениях, — ответил Мясников чуть укоряющим тоном. — Но штаб, увы, оказался очень ненадежным партнером, при первой же возможности вероломно нарушившим принятые им обязательства... Так что вы должны понять, почему мы не спешим еще раз проявлять инициативу в налаживании контактов. Мы ждали, пока штаб сам созреет до понимания истины, что ему надо подчиниться новому политическому руководству.
Некоторое время в трубке слышалось лишь тяжелое сопение, затем генерал произнес:
— Именно об этом я и хотел говорить с вами, господин Мясников.
— Для подобного разговора вы должны встретиться не только со мной, господин генерал, а со всем военно-революционным комитетом, — объяснил Мясников, — Поэтому будет целесообразнее, если вы соблаговолите приехать сюда, скажем, через час. К тому времени мы успеем собрать членов комитета.
В трубке снова послышалось шумное дыхание.
— Я приеду, — наконец ответил Балуев.
Через час Полукаров встретил автомобиль главнокомандующего у подъезда. Там по обыкновению было много разного народа — солдат, красногвардейцев, представителей фабрично-заводских комитетов и просто посетителей, и все они на минуту замолкли, глядя на вылезающего из автомобиля генерала в серой каракулевой папахе и светлой шинели с красной подкладкой. Балуев только на миг задержал взгляд на присутствующих (к его радости, на их лицах не было ни злорадства, ни насмешки), потом, глядя прямо перед собой, последовал за Полукаровым в помещение ВРК.
Члены военревкома, собравшиеся у Мясникова, встретили главкома тоже сдержанно, но без враждебности. Генерал отвесил всем общий поклон, так и не решив, как к ним обратиться: «здравствуйте, господа» или «здравствуйте, товарищи». Мясников каким-то чутьем угадал это и, пригласив сесть, сказал:
— Мы вас слушаем, господин генерал.
Балуев тяжело уселся на стул, минуту молча смотрел на стол, покрытый зеленым в чернильных пятнах сукном, словно не зная, с чего начать, потом полез пальцами в карман кителя и достал сложенную вчетверо бумагу.
— Я составил проект одной телеграммы, которую собираюсь отправить всем начальствующим лицам фронта, — начал он. — В ней кратко изложены вопросы, о которых я намеревался беседовать с вами... Так, быть может, вы просто почитаете и выскажете ваше мнение?.. Гм...
— Можете называть нас «господами», если это обращение вам более привычно, — подсказал ему Мясников.
Он мягко отобрал у смешавшегося от его замечания генерала бумагу, внимательно просмотрел, потом передал сидевшему напротив Щукину.
— Вы ведь наш комиссар при штабе, Степан Ефимович, и вам в первую очередь надо иметь об этом свое мнение... Прочтите-ка вслух, — сказал он.
Щукин поправил очки и начал читать:
— «В Минске «Комитет спасения революции» распался. Комиссар фронта В.А. Жданов сложил полномочия. Верх взял Совет рабочих и солдатских депутатов, образовав Военно-революционный комитет, который взялся держать все в порядке. Наша, начальников, в настоящее время задача заключается в удержании фронта и в недопущении в войсках междоусобных и братоубийственных столкновений. Так как вся власть перешла к Военно-революционному комитету, я заявил ему, что до установления новой власти в России и водворения порядка ни в какую политическую борьбу не вступлю и никаких шагов к выступлениям не буду делать; то предлагаю и вам в политическом отношении держаться принятой мной тактики и обратить все свое внимание и употребить все силы на то, чтобы удержать войска на фронте и без вызова Военно-революционного комитета не допускать самочинных перевозок и передвижений их, пользуясь для этого влиянием образовавшихся в армиях Военно-революционных комитетов.
Балуев».
После прочтения телеграммы наступило молчание. Все понимали, что этот документ, в сущности, является письменным подтверждением капитуляции штаба и самого главкома. Но вот приемлемы ли условия этой капитуляции?..
Мясников снова взял текст телеграммы, скользнул но нему глазами, затем сказал:
— Что ж, это очень разумный документ, господин генерал. В нем, во-первых, правильно констатируется положение дел в настоящий момент: в Минске действительно верх взял Совет и вся полнота власти перешла в руки военревкома. — Мясников сделал движение головой, подразумевая присутствующих. — Мы принимаем к сведению и вашу личную позицию — «ни в какую политическую борьбу не вступать и никаких шагов к выступлениям но делать» — и одобряем ваш призыв к остальным начальствующим лицам — следовать вашему примеру... Правильно поставлена вами и задача начальникам: удержать войска, не допускать самочинных перевозок и передвижений и в целом подчиняться новым военревкомитетам армий... Думаю, что этот документ можно считать своего рода соглашением между штабом и военно-революционным комитетом Западного фронта и Северо-Западной области. Есть ли у членов комитета какие-либо замечания или предложения?
— У меня есть, — сказал Полупаров. — В этом документе очень неопределенно сказано насчет комиссара Временного правительства Жданова — «сложил полномочия»... На самом же деле он пытался устроить крушение бронепоезда Второй армии, чуть не взорвал санитарный поезд с ранеными гренадерами, за что арестован нами. Мне кажется, что в документе нужно дать всему этому соответствующую оценку.
Мясников неожиданно повернулся к Щукину и спросил:
— А что по этому поводу думает новый комиссар при штабе фронта?
Щукин потрогал очки, посмотрел на густо покрасневшего от натуги Балуева и сказал рассудительно:
— Хотя замечание товарища Полукарова в сути своей и правильно, но не надо забывать, что обсуждаемый документ всего лишь телеграмма главкома начальствующему составу фронта. Поэтому едва ли можно требовать, чтобы именно главком и именно в этой телеграмме давал оценку действиям комиссара, назначенного Временным правительством. Достаточно, что это сделали мы, высший политический орган фронта и области, в другом документе. А господин генерал пусть отправляет телеграмму в таком виде.
«Молодец Щукин», — невольно подумал Мясников, сразу поняв, что этим своим выступлением комиссар значительно облегчил дальнейшую совместную работу с генералом.
— Я полагаю, что нам нужно согласиться с мнением комиссара штаба, — кивнул он.
Балуев встал и спросил у Мясникова:
— Тогда позвольте мне считать свою миссию здесь выполненной и откланяться?
— Да, господин генерал, — согласился Мясников.
— До свидания, господа, — поклонился Балуев остальным. И обратился к Щукину: — Я прикажу привести в порядок ваш кабинет в штабе, господин комиссар.
— Спасибо, господин генерал, — церемонно ответил Щукин. — Я приеду сразу после заседания.
...По дороге в штаб генерал Балуев сидел в автомобиле деревянно-прямо, угрюмо уставившись глазами в пустоту и лишь время от времени издавая какие-то глухие вздохи, Где-то в душе он был глубоко смущен тем, что сейчас произошло в кабинете Мясникова. И это было отнюдь не чувство досады и обиды за то, что он, генерал от инфантерии, главнокомандующий важнейшим из русских фронтов, поехал на поклон к каким-то прапорщикам и солдатам. С этим он примирился еще утром и, отправляясь на заседание ВРК, понимал, что едет сдаваться на милость победителя со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Нет, его крайне огорчила атмосфера, которую он почувствовал на этом заседании... Именно огорчила, потому что она разительно отличалась от той, которая окружала его по крайней мере последние месяцы. Как ни грубо была сколочена его солдафонская душа, как ни полон он был всяких предубеждений, но не мог не заметить, насколько четко и с пониманием велось дело на этом кратком заседании ВРК. Начать с того, Что военревкомовцы все сразу поняли, что «телеграмма», которую он, Балуев, представил им якобы на согласование, на самом деле является документом, разъясняющим позиции главкома фронта во вновь создавшейся ситуации в Минске и на Западном фронте. Поняли и обсуждали именно как такой документ.
И примечательно было то, что, относясь к этому документу со всей серьезностью, они не рассусоливали, не развернули долгих словопрений, а быстро утвердили его. Причем то, что все обошлось высказыванием, в сущности, одного Мясникова, вовсе не означало — Балуев сразу понял это, — что остальным здесь была отведена роль молчаливых свидетелей. Балуев очень хорошо знал: полгода назад, когда большевики вышли из подполья, имя Мясникова было известно даже не всем членам его партии, и если он за это время стал первым на Западном фронте, то лишь благодаря своему уму, знаниям, энергии... Нет, просто они все были единомышленники, отлично понимающие друг друга, и не считали нужным повторять то, что Мясников высказал достаточно ясно и правильно.
И тут генерал невольно вспомнил «своих»! Жданова, Нестерова, Злобииа, Колотухина... Они были мелочны, тщеславны, суетливы, упивались своим положением «вершителей судеб фронта», «деятелей крупного масштаба»; на таком, например, совещании, как сегодня, каждый из них произнес бы получасовую речь, чтобы высказать свою «особую» точку зрения. Это было еще полбеды. Но Балуев только сейчас понял, что эти «его» политики имели убеждения... ну как бы это сказать... легковесные, что ли... Во всяком случае, эти убеждения не были выстроены, как у этих, в стройную, словно математически высчитанную, систему... Поэтому они часто путались в любой ситуации, не могли найти верного решения, кидались из крайности в крайность и вот — оказались побитыми,
И несмотря на то, что Балуев был врагом большевиков — хотя бы потому, что они за короткий срок отняли у него полуторамиллионную армию, — но сейчас, сравнивая их со «своими», он невольно укорял последних:
«Да, голубчики, мелко мы плавали... Ну, мы, военные, чего греха таить, оказались не готовыми к революции, не понимали политику и уступили это дело вам... Но ведь и вы оказались не в состоянии тягаться с этими — солидными, настойчивыми, последовательными... Эх-хе-хе!.. Не знаю, до чего доведут они несчастную Россию, но вы наверняка не довели бы ее до добра...»
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Ставка русской армии...
Царящие в ней рутина, неразбериха, равнодушие к нуждам армии уже сами по себе порождали неумелое управление войсками и были причиной многих неудачных, не до конца продуманных и материально плохо обеспеченных операций. С другой стороны, неистребимое низкопоклонство перед союзниками, готовность по первому их требованию бросать — вопреки интересам собственной страны и армии — сотни и сотни тысяч плохо вооруженных солдат в бой при самых невыгодных условиях, лишь бы облегчить положение англо-французов на западе, также приводили к бесчисленным жертвам, территориальным потерям и падению боевого духа армии.
Ставка, вернее, управление генерал-квартирмейстера (начальника оперативного управления) помещалось на высоком берегу Днепра в Могилеве. Рядом стоял дом могилевского генерал-губернатора, отведенный царю, когда тот, один или в сопровождении наследника приезжал в ставку. Вместе с ним в доме размещались престарелый министр двора, гофмейстер Фредерикс, дворцовый комендант Воейков и дежурный флигель-адъютант.
Хотя ставка считалась в походе, но жила вовсе не по-походному. Старшие начальники, офицеры и военные чиновники жили в номерах гостиницы «Франция», а обедали в бывшем кафешантане гостиницы «Бристоль», где были размещены чины военных миссий союзников. Размеренный, неторопливый ритм штабных занятий почти не отличался от довоенного. Единственным заметным «изменением» было, пожалуй, то, что из-за походных условий все бьющиеся, хрустальные, фарфоровые и стеклянные предметы из сервировки были заменены серебряными.
В ставке и вокруг нее вертелись десятки военных и штатских лиц немецкого происхождения, которые шпионили в пользу противника, предавали армию на каждом шагу и против которых ничего нельзя было сделать, ибо эти лица находились под высоким покровительством царского двора и самой императрицы.
Воистину ставка сделала достаточно много, чтобы в стране, и в первую очередь в армии, родилось неодолимое желание покончить войну революционным путем. А теперь ставка же решила взять на себя, и снова не без активного нажима союзников, роль душителя революции.
Еще до Октябрьской революции именно ставка была центром, где развернули свою деятельность Корнилов и комиссар Савинков. Именно отсюда начали поход против революционного Петрограда казачьи корпуса и другие реакционно настроенные части. И когда поход Корнилова потерпел провал, а сам Корнилов и его приближенные и единомышленники оказались в «тюрьме» Быхова — городка, расположенного недалеко от Могилева, — ставка по-прежнему продолжала быть одним из руководящих центров контрреволюции. Она расформировывала революционно настроенные полки и дивизии и отправляла их подальше от столиц и, наоборот, подтягивала к ним казачьи части, батальоны «ударников» и георгиевских кавалеров. Она не постеснялась войти в сговор с противником с целью сдать ему Петроград, готовилась отводить войска на Северном фронте и, как во время корниловщины, подвела под удар врага один из лучших корпусов русской армии на Западном фронте.
После подавления мятежа Керенского и его бегства из Гатчины оставшийся в Могилеве начальник штаба генерал-лейтенант Николай Духонин 1 ноября вступил в должность верховного главнокомандующего. Многие воспитанники Киевской кадетской школы, где в свое время учился Духонин, считали его посредственностью и никак не могли понять, каким образом ему удалось забраться столь высоко по служебной лестнице. О Духонине было известно, что в начале войны он командовал полком на Юго-Западном фронте и был награжден офицерским Георгиевским крестом, но, как говорили, не столько за подвиги, сколько за умение подольститься к начальству. Затем Духонин некоторое время подвизался в штабе Третьей армии. В сентябре семнадцатого занял должность начальника штаба ставки, на которой до него был генерал Алексеев. Именно он, генерал Алексеев, уверенный в рабской преданности Духонина, рекомендовал его на свое место, уходя в отставку.
И вот теперь этот сорокалетний генерал с невыразительным лицом, закрученными и нафиксатуаренными усами, с аксельбантами на кителе, свидетельствующими о причислении к генеральному штабу, стал тем человеком, вокруг которого собирались все силы, жаждущие во что бы то ни стало подавить новую и страшную большевистскую революцию.
Постепенно из Петрограда и других мест в Могилев перебрались многие члены и руководители старого ЦИК — «умеренно-социалистические вожди»: Авксентьев, Чернов, Гоц, бывший министр труда Скобелев, «генерал для поручений» при Керенском Левицкий, военные атташе союзных держав. Туда прибывали также руководители старых армейских комитетов и комиссары, изгнанные в результате перевыборов, состоявшихся после Октябрьской революции.
В Могилеве находился и комиссар Станкевич. Этот поручик, юрист по образованию, являлся ставленником Керенского и некоторое время был комиссаром Северного фронта. Невероятно самоуверенный и одновременно глубоко равнодушный к армии, ее нуждам и настроениям, он был яростным сторонником «войны до победного конца», за что после подавления корниловского мятежа был назначен комиссаром при ставке.
Еще более мрачной фигурой являлся генерал-квартирмейстер штаба ставки Дитерихс. Этот небольшого роста человек с сероватыми глазами и крохотными усиками на худом нервном лице в 1916 году командовал русским экспедиционным корпусом в Салониках. Вернувшись оттуда, он был выдвинут Алексеевым на пост генерал-квартирмейстера ставки.
Наконец, в Могилеве действовал и общеармейский исполнительный эсеро-меньшевистский комитет, настолько реакционный, что его существование не вызывало никакого возражения даже у монархиста Дитерихса. Состоящий из двадцати пяти членов во главе со штабс-капитаном Перекрестовым, исполком был ярым противником большевистской революции и тесно сотрудничал с Духониным и Дитерихсом во всех их делах.
Не успел Духонин вступить в должность главковерха, как немедленно разослал всем командующим фронтами телеграммы, где требовал крепко держать войска в надежных руках, не допускать влияния восставших элементов, поддерживать правительство Керенского.
Собравшиеся вокруг ставки члены Временного правительства, лидеры эсеров, меньшевиков, как и буржуазных партий, реакционные офицеры и военные атташе союзных держав беспрерывно совещались, разрабатывая план дальнейших действий. Было решено создать в Могилеве новое правительство во главе с Черновым, главной задачей которого, по настоянию союзных атташе, было препятствовать выходу России из войны.
Между тем как раз выход России из войны представлялся большевикам самой первостепенной задачей. Недаром первым декретом, принятым Советской властью, был Декрет о мире. Без прекращения войны невозможно было приступить к осуществлению социально-политических преобразований, намеченных Октябрьской революцией. И если поход Керенского и Краснова до сих пор не давал возможности вплотную заняться вопросами заключения сначала перемирия, а затем и мира, то после разгрома врагов революции под Петроградом заключение мира становилось первейшей, неотложной задачей.
И вот 7 ноября Совет Народных Комиссаров по радиотелеграфу передал в ставку Духонина следующее:
«...Совет Народных Комиссаров считает необходимым безотлагательно сделать формальное предложение перемирия всем воюющим странам, как союзным, так и находящимся с нами во враждебных действиях. Соответственное извещение послано Народным Комиссаром по Иностранным Делам всем полномочным представителям союзных стран в Петрограде. Вам, гражданин Верховный Главнокомандующий, Совет Народных Комиссаров поручает... обратиться к военным властям неприятельских армий с предложением немедленного приостановления военных действий в целях открытия мирных переговоров. Возлагая на Вас ведение этих предварительных переговоров, Совет Народных Комиссаров приказывает Вам: 1) непрерывно докладывать Совету по прямому проводу о ходе Ваших переговоров с представителями неприятельских армий; 2) подписать акт перемирия только с предварительного согласия Совета Народных Комиссаров...»
Ответа Духонина ждали до вечера 8 ноября, после чего Совнарком уполномочил Ленина, Сталина и Крыленко запросить Духонина о причинах промедления с ответом. Так как в Смольном еще не было прямой связи со ставкой, то уполномоченные поехали в штаб Петроградского военного округа и в два часа ночи вызвали к аппарату Духонина. После длительных переговоров, во время которых Духонин сначала пытался увиливать от ответа на главный вопрос — намерен ли он вступить с противником в переговоры о заключении перемирия, — Ленин спросил его: «Отказываетесь ли вы категорически дать нам точный ответ и исполнить нами данное предписание?» Ленин задал этот вопрос уже не для себя: просто армия и народ, которым он намеревался завтра же сообщить весь текст переговоров, должны были знать, что Духонин на самом деле не хочет никакого мира.
Духонин ответил достаточно ясно: «Точный ответ о причинах невозможности для меня исполнить вашу телеграмму я дал и еще раз повторяю, что необходимый для России мир может быть дан только центральным правительством».
И тогда Ленин, с потемневшим от гнева лицом, продиктовал телеграфисту следующий текст:
«Именем правительства Российской республики, по поручению Совета Народных Комиссаров, мы увольняем вас от занимаемой вами должности за неповиновение предписаниям правительства и за поведение, несущее неслыханные бедствия трудящимся массам всех стран и в особенности армиям. Мы предписываем вам под страхом ответственности по законам военного времени продолжать ведение дела, пока не прибудет в ставку новый главнокомандующий или лицо, уполномоченное им на принятие от вас дел. Главнокомандующим назначается прапорщик Крыленко». — Дождавшись, пока телеграфист передаст этот текст, он продиктовал подписи: «Ленин, Сталин, Крыленко».
В тот же день был опубликован подробный текст переговоров представителей Совета Народных Комиссаров с Духониным, а радиостанции Петрограда, Кронштадта а военных кораблей передали по всей стране, на весь мир «Радио всем», написанное Лениным. Оно кончалось словами:
«...Солдаты! Дело мира в ваших руках. Вы не дадите контрреволюционным генералам сорвать великое дело мира, вы окружите их стражей, чтобы избежать недостойных революционной армии самосудов и помешать этим генералам уклониться от ожидающего их суда. Вы сохраните строжайший революционный и военный порядок.
Пусть полки, стоящие на позициях, выбирают тотчас уполномоченных для формального вступления в переговоры о перемирии с неприятелем.
Совет Народных Комиссаров дает вам нрава на это.
О каждом шаге переговоров извещайте нас всеми способами. Подписать окончательный договор о перемирии вправе только Совет Народных Комиссаров.
Солдаты! Дело мира в ваших руках! Бдительность, выдержка, энергия, и дело мира победит!»
Хотя генерал Балуев и согласился работать под политическим руководством Минского военревкома, но Мясников достаточно ясно понимал, что это сотрудничество не может быть основательным и долговременным. Марксист и последователь Ленина, он хорошо изучил опыт Парижской коммуны, из которого был сделан научный вывод о невозможности использования аппарата буржуазного государства в целях пролетарской революции. Следовательно, было ясно, что такой важнейший орган, каким был штаб фронта, рано или поздно должен выступить против главных мероприятий пролетарской революции. И, предвидя это, Мясников считал, что ближайшей задачей является обновление аппарата штаба, и первым долгом замена главнокомандующего фронтом. Мысленно перебирая всех возможных кандидатов на этот пост, он остановил выбор на подполковнике Каменщикове, который был крепким большевиком и достаточно подготовленным военным, чтобы разобраться в проблемах фронта.
Обсудив этот вопрос, военно-революционный комитет вызвал Каменщикова из полка, и 7 ноября тот был назначен командующим войсками города Минска и окрестностей.
И вот 9 ноября в Минске было получено «Радио всем», в котором Советское правительство отдавало дело мира в руки самой солдатской массы революционной армии. Севзапком немедленно собрался, чтобы обсудить этот важнейший документ.
— Это указание Советского правительства является событием величайшей важности в истории нашей революции как по своему смыслу, так и по последствиям, — говорил Мясников на заседании. — Теперь дело мира отдается в руки самого народа, самих солдатских масс, проливающих в течение трех лет свою кровь на полях войны. И наша задача — задача областного комитета, военревкома и Минского Совета заключается в том, чтобы возглавить это дело, добиться быстрейшего заключения перемирия на участке нашего фронта, на территории которого находится контрреволюционная ставка... Мне кажется, мы можем заставить Балуева сделать в масштабе Западного фронта то, чего не пожелал сделать Духонин в масштабе всего русско-германского фронта, — войти в прямой контакт со штабом группы армий, находящихся против русского Западного фронта.
— А пойдет ли на это Балуев? — нагнув голову, с сомнением посмотрел на него поверх очков Щукин.
— Думаешь, нет?.. — Мясников подумал, кивнул в знак согласия с подобным предположением. — Что ж, вот тогда мы его и отстраним от должности, как это сделали с Духониным. Все равно нам рано или поздно, я уверен, придется сделать это.
— Ну а если штаб будет сопротивляться? — спросил Ландер. — Ведь отчаянное положение может толкнуть их на такой шаг.
— В общем конечно, — согласился с ним Кнорин. — Но я уверен, что солдатская масса кавалерийской дивизии, Польского корпуса и даже ударных батальонов не может быть равнодушной к тому, что изложено в «Радио всем», — к вопросам мира и войны. Вот это мы и должны использовать.
— Правильно, — вставил Алибегов. — Нужно отправить туда агитаторов для ведения разъяснительной работы.
Через некоторое время программа дальнейших действий была разработана во всех деталях: городскому комитету большевиков поручалось вести агитационную работу среди войск противника, Каменщиков должен был составить план военных мероприятий, а Щукин и Мясников — разработать проект соглашения о перемирии, которое ляжет в основу переговоров с противником.
К казакам, польским легионерам и в ударные батальоны были направлены самые опытные агитаторы. Среди польских легионеров работала группа поляков-большевиков под руководством Станислава Берсона. Для того чтобы эта агитация успела дать результаты, день предъявления ультиматума штабу был назначен на 12 ноября. Каменщиков при участии Мясникова и других командиров советских частей разработал подробный план операции. В плане было предусмотрено, что к часу ночи на 12 ноября все ходы из штаба и караульного полка заблокируют роты полка имени Минского Совета, поддержанные бронеавтомобилями. Бронепоезд должен был занять позицию на мосту Полесских железных дорог. Кроме того, Пролыгину вместе с Красной гвардией железнодорожников было поручено разоружить один из ударных батальонов в случае его попытки выступить на помощь штабу...
Не успело Советское правительство опубликовать переговоры со ставкой и передать по всей стране «Радио всем», как 10 ноября военные атташе стран Антанты, получив указание от своих правительств, направили Духонину совместную ноту, в которой предупреждали, что исполнение требования Смольного они будут рассматривать как «нарушение договоров», заключенных между Россией и их странами, что повлечет за собой самые серьезные последствия.
Для Духонина эта нота была величайшей поддержкой во всех отношениях. Он отлично знал, что после опубликования переговоров Ленина с ним он стал самым ненавистным для миллионов русских солдат человеком. Теперь же пота союзных держав давала ему возможность сказать этим солдатам, что дело вовсе не в его желании продлить войну, что он вынужден считаться с международными обязательствами России, с волей союзников, которые не только сами не готовы заключить мир с германцами, но и будут рассматривать такой шаг со стороны русского командования как измену и, чего доброго, еще откроют военные действия против России, усугубив ее и без того тяжелое положение.
Вот почему ставка, снабдив эту ноту союзных атташе именно такого рода комментариями, немедленно разослала ее по всем солдатским комитетам фронта.
Этот контрудар был по достоинству оценен Советским правительством. На следующее утро Народный комиссариат по иностранным делам выступил с заявлением, в котором охарактеризовал ноту союзников как явное вмешательство во внутренние дела России и как возмутительную попытку путем угроз заставить русский народ продолжать войну во исполнение договоров, заключенных свергнутым царем.
Таким образом, уже через две недели после образования нового, социалистического государства мир капитала предпринял первый официальный нажим, правда пока еще дипломатического характера, пытаясь заставить его идти по угодному империализму пути.
Демарш стран Антанты, как и следовало ожидать, вдохновил силы контрреволюции. Центральный армейский комитет в Могилеве издал декларацию в защиту Духонина. Все антибольшевистски настроенные политики, генералы и офицеры, оставшиеся верными старому строю воинские части — вся гниль в стране начала стягиваться к Могилеву.
В ответ на это из Смольного прозвучало воззвание к фронту:
«Борьба за мир натолкнулась на сопротивление буржуазии и контрреволюционных генералов. По сообщению газет, в Ставке бывшего главнокомандующего Духонина собираются соглашатели и агенты буржуазии: Верховский, Авксентьев, Чернов, Гоц, Церетели и др. Они будто бы собираются даже образовать новую власть против Советов.
Товарищи солдаты! Все названные выше лица уже были министрами. Они все действовали заодно с буржуазией и Керенским. Они ответственны за наступление 18 июня и за затягивание войны. Они обещали крестьянам землю, на деле арестовывали крестьянские земельные комитеты. Они ввели смертную казнь для солдат. Они подчинялись английским, американским и французским биржевикам...
За отказ повиноваться приказам Совета Народных Комиссаров генерал Духонин отставлен от должности верховного главнокомандующего... В ответ на это он распространяет в войсках поту от военных атташе союзных империалистических держав и пытается спровоцировать контрреволюцию...
Не подчиняйтесь Духонину! Не поддавайтесь на его провокацию! Бдительно следите за ним и за его группой контрреволюционных генералов!»
Вслед за тем Крыленко, находясь на посту верховного главнокомандующего, издал приказ:
«Бывшего верховного главнокомандующего генерала Духонина за упорное противодействие исполнению приказа о смещении и преступные действия, ведущие к новому взрыву гражданской войны, объявляю врагом народа.
Подлежат аресту все лица, поддерживающие Духонина, независимо от их общественного и партийного положения и прошлого. Производство ареста поручено будет особо уполномоченным на то лицам...»
Затем, во исполнение указаний Ленина, Крыленко начал составлять эшелоны из самых преданных отрядов матросов, солдат лейб-гвардии Литовского полка и красногвардейцев-путиловцев.
Крыленко во главе отрядов преданных моряков-балтийцев, революционных петроградских солдат и красногвардейцев направился к Могилеву. Движение было медленное, ибо Викжель[7] все еще саботировал воинские перевозки сторонников новой власти; кроме того, по дороге приходилось, во избежание столкновений с войсковыми частями и гарнизонами, еще не определившими своего отношения к Советской власти, вести разъяснительную работу, после чего эти гарнизоны переходили на сторону Советов.
13 ноября эшелоны достигли Орши. Здесь Крыленко узнал о важных событиях, происшедших в прошлую ночь в Минске.
Утром 12 ноября подготовка операции против штаба фронта была завершена. Агитация в войсках противника дала блестящие результаты. Основанная главным образом на разъяснении утаенных командованием документов о переговорах Ленина с Духониным и обращения «Радио всем», она убедила массу казаков и польских легионеров в стремлении Советского правительства добиться немедленного мира и преступном намерении ставки и генералитета помешать этому.
Одновременно подполковник Каменщиков принял все меры на случай, если штаб все же попытается оказать вооруженное сопротивление. В полдень у него состоялось совещание командиров частей минского гарнизона и председателей войсковых комитетов. Командирам был вручен письменный боевой приказ с подробным указанием задач каждой части.
Согласно этому приказу к девяти часам вечера войска заняли исходное положение на случай атаки штаба фронта и для подавления сил, поддерживающих штаб. Одна из рот Минского полка начала очищать улицы от прохожих.
Эти действия, конечно, не могли пройти мимо внимания штаба фронта. Скоро у Каменщикова зазвонил телефон, и офицер для поручений при главкоме Овсянников спросил в трубке:
— Господин подполковник, прошу объяснить причину, по которой подчиненные вам солдаты занимают улицы, ведущие к штабу фронта!
Каменщиков посмотрел на часы; было половина десятого, — значит, нужно еще немного оттянуть время, пока все войска займут исходные позиции.
— Доложите главнокомандующему генералу Балуеву, что я приеду к нему в 10 часов вечера и прошу принять меня, — ответил он Овсянникову.
Перед самой отправкой в штаб ему по телефону сообщили, что туда срочно прискакали генералы Копачев и Довбор-Мусницкий. «Значит, собрались? — подумал он. — Но с какой целью? Неужто дело дойдет до драки?..»
Ровно в 10 часов вечера автомобиль Камешцикова подкатил к штабу фронта. На улицах не было никого, кроме патрулей полка имени Минского Совета. Поднявшись наверх, он прошел в кабинет генерала. Генерал, сидя за письменным столом, под пустой рамой, напряженно смотрел набрякшими глазами на вошедшего подполковника. Отдав по привычке честь, Каменщиков сказал:
— Господин генерал, я прибыл к вам по поручению военно-революционного комитета.
Балуев встал с места, подал ему руку, потом пригласил сесть.
— Чем могу служить?
— Вы, господин генерал, несомненно знаете об обращении «Радио всем» Председателя Совета Народных Комиссаров товарища Ленина. Так вот, на основании этого правительственного распоряжения военно-революционный комитет Западного фронта постановил: поручить вам, господин генерал, немедленно преступить к переговорам о перемирии с командованием германских войск на нашем фронте.
Говоря это, Каменщиков наблюдал, как лицо Балуева постепенно приобретало лиловый оттенок.
Это предложение ставило генерала в тупик. Ибо он, конечно, знал о позиции Духонина, знал и то, что новым правительством Духонин объявлен врагом народа и сейчас несколько эшелонов матросов и солдат рвутся в Могилев, чтобы привести в повиновение мятежную ставку. По Балуев, видимо, не предполагал, что еще раньше нож будет приставлен к его горлу здесь, в Минске. «Что же делать? — думал главком. — Последовать примеру Духонина или смириться? Ведь недаром военревком, прежде чем послать этого подполковника-большевика ко мне, стягивал вокруг штаба свои войска...»
Да, ничего другого Балуеву не оставалось. Сопротивляться или бороться было бессмысленно. Значит, надо просто выходить из игры. Для него в этом мире все стало слишком сложно и путано.
— Я по своему внутреннему убеждению не могу принять к исполнению ваше требование, — наконец проговорил он. — Я считаю этот шаг гибельным для России... Но я сдам обязанности главнокомандующего фронтом тому, кого уполномочит военно-революционный комитет принять у меня должность...
— Это ваше последнее слово, господин генерал? — спросил Каменщиков.
— Да, — тихо, по твердо сказал Балуев. И, тяжело дыша, поднялся, давая понять, что ему больше нечего сказать.
— Хорошо, господин генерал. — Каменщиков тоже встал. — Я передам ваше желание военно-революционному комитету.
Каменщиков вышел в приемную. Здесь уже собрались штабные офицеры, некоторые из них смотрели на подполковника с враждебностью. Но тому сейчас было не до них, он быстро спустился вниз, сел в поджидающий его автомобиль и поехал в военревком.
Военревкомовцы почти в полном составе во главе с Мясниковым ждали его. Каменщиков рассказал о своей краткой беседе с Балуевым.
— Что ж, его можно понять, — задумчиво произнес Мясников. — И едва ли нужно выкручивать ему руки, заставляя делать что-то против его убеждений. — Он обернулся к остальным и еще раз уточнил: — Значит, назначаем впредь до созыва фронтового съезда товарища Каменщикова временно исполняющим обязанности главнокомандующего Западным фронтом?
— Да, конечно, — подтвердили присутствующие. Мясников взял бланк военревкома и написал текст приказа:
«Ввиду отказа главнокомандующего армиями Западного фронта генерала от инфантерии Балуева подчиниться власти народного правительства и согласно предписанию правительства вступить с немцами в переговоры о заключении перемирия на фронте, именем Правительства Народных Комиссаров Военно-революционный комитет Западного фронта предписывает ему сдать, а временно командующему 12-м Туркестанским стрелковым полком подполковнику Камепщикову принять от ген. Балуева должность и штаб и временно вступить в исполнение обязанностей главнокомандующего армиями Западного фронта».
Прочитав вслух этот приказ присутствующим, Мясников вручил его Каменщикову.
— Идите и держитесь там крепко. Помните, что первые часы имеют решающее значение. Кстати, возьмите с собой в качестве штаб-офицера для связи товарища Полукарова и взвод солдат полка имени Минского Совета для охраны.
— Взвод уже готов, ждет внизу, — сообщил Полукаров и улыбнулся: — Пошли, ваше превосходительство, главнокомандующий армиями Западного фронта.
— Да уж... — в свою очередь улыбнулся Каменщиков. — Вот не думал, не гадал... Ладно, идем принимать фронт.
...Оставив взвод у входа в штаб, Каменщиков в сопровождении Полукарова поднялся наверх и вошел в приемную главкома. И сразу заметил, что она теперь уже полна штабными офицерами. Среди них находились также генералы Довбор-Мусницкий и Копачев. Офицеры о чем-то с жаром спорили, но, увидев вошедших Каменщикова и Полукарова, разом смолкли.
— Доложите господину генералу, что подполковник Каменщиков прибыл с мандатом военно-революционного комитета, — обратился Каменщиков к адъютанту.
Тот, бросив на него испуганный взор, молча направился в кабинет.
К Каменщикову подошли Довбор-Мусницкий и Копачев. На их лицах было такое откровенное выражение неприязни, что Каменщиков невольно весь напрягся.
— Подполковник, — угрожающе надвигаясь на него, произнес Довбор-Мусницкий, — мы не позволим учинить насилие! Я предупреждаю, что сейчас же вызову на защиту штаба свои части!
— И я также вызову свои полки! — вслед за ним заявил Копачев.
Каменщиков заметил, что Полукаров шагнул назад, к двери, — вероятно, чтобы вызвать охрану, — и подал ему знак остаться. Нет, эти только пугают его, а сделать ничего не посмеют. Поздно уже, и они сами это понимают.
Усмехнувшись в лицо Довбор-Мусницкому, он отчеканил так, чтобы услышали все:
— Если вы полагаете, генерал, что, предпринимая такой шаг, как смена главнокомандующего фронтом, мы не подумали о возможных контрмерах с вашей стороны, то ошибаетесь. Все нами учтено и взвешено, генерал, и я предупреждаю вас, что если ваши солдаты выйдут из казарм по вашему приказанию, то они будут расстреляны, хотя вряд ли они выйдут... — Затем Каменщиков обернулся к Копачеву: — Что же касается кавалерии, то и вам, генерал, надлежит подумать, выполнят ли ваши полки такое приказание. А те, кто осмелится все же выйти, дальше окраины города не пройдут, ибо будут разбиты!
Наступила тишина, которую, к счастью для обоих генералов, нарушил адъютант Балуева, вернувшийся из кабинета.
—Господин главнокомандующий просит вас к себе, господин подполковник, — сказал он.
Каменщиков еще раз кивнул Полукарову — мол, не робей — и вошел в кабинет. Там он увидел стоявшего у стола генерала Вальтера. «Ну, этот, конечно, пытался отговорить Балуева, — подумал он. — Удалось ли?»
— Я вас слушаю, господин подполковник, — устало произнес Балуев.
— Военно-революционный комитет Западного фронта назначил меня на должность главнокомандующего армиями Западного фронта, господин генерал, — сообщил Каменщиков. — Вот соответствующий мандат.
Балуев на минуту прикрыл глаза, словно его одолела дремота. На самом же деле он думал о бесславнейшем периоде своего командования полуторамиллионной армией на важнейшем из русских фронтов. И вот об этом, еще более бесславном, конце, когда вынужден сдать должность какому-то безвестному подполковнику по приказу самочинно возникшего органа с каким-то прапорщиком во главе. Но он тут же снова вспомнил, что как раз в это время другой прапорщик направляется из Питера в Могилев, чтобы занять пост верховного главнокомандующего вооруженными силами России, и решил, что его собственная участь, пожалуй, еще не столь тяжела. Он открыл глаза и произнес:
— Садитесь, подполковник. Сейчас я напишу приказ о сдаче вам должности главнокомандующего.
Но тут генерал Вальтер хриплым от волнения голосом прокаркал:
— Подполковник Каменщиков, я заявляю вам, что тотчас же после сдачи вам должности его высокопревосходительством генералом Балуевым я также ухожу с поста начальника штаба фронта!
— А мы не задерживаем тех, кто не желает работать с нами и добровольно сдает свою должность, генерал Вальтер. Предлагаю вам сдать должность генерал-квартирмейстеру.
Балуев многозначительно посмотрел на Вальтера, словно хотел сказать: «Ну, получили?..» Тот, круто повернувшись, вышел из кабинета.
А Балуев, взяв со стопки на столе лист бумаги, начал писать текст приказа четкими, похожими на печатные буквами:
«ПРИКАЗ № 2263
от 12 ноября 1917 года. Минск
По постановлению Военно-революционного комитета гор. Минска я отстранен от должности главнокомандующего Западным фронтом и вместо меня Комитетом назначен подполковник Каменщиков.
Генерал-лейтенант от инфантерии Балуев»,
Каменщиков, взяв из той же стопки еще один лист, написал:
«ПРИКАЗ № 1
от 12 ноября 1917 года. Минск
По уполномочию Военно-революционного комитета Западного фронта и области и от имени правительства Народных Комиссаров сегодня вступил в исполнение обязанностей Временного главнокомандующего Западным фронтом.
Каменщиков».
Генерал взял его приказ, прочитал, невольно усмехнулся, видимо заметив, сколь по-разному при всей своей краткости освещают факты эти два документа, и, взяв колокольчик, позвонил.
В кабинет вошел адъютант.
— Возьмите, голубчик, эти приказы — мой и господина подполковника — и немедленно передайте по телеграфу по всем армиям.
Когда адъютант молча вышел, Балуев посмотрел на Каменщикова.
— Кажется все, господин главнокомандующий?
— В смысле сдачи и приема дел, — все, господин генерал, — ответил Каменщиков. — Остается сообщить вам, что отныне вы в Минске оставаться не можете. Поэтому, но поручению военно-революционного комитета, предлагаю вам в сопровождении нашего эмиссара выехать в Петроград, в распоряжение Совета Народных Комиссаров.
Генерал вскинул голову, и впервые в его глазах появился испуг.
— Вы хотите... арестовать меня?
— Нет, генерал. Но, учитывая обстановку, предлагаем вам выехать в Петроград, — поспешил успокоить его Каменщиков. — Оттуда, я полагаю, вы сможете свободно ехать, куда пожелаете. — Чтобы вполне успокоить его, Каменщиков добавил доверительно: — Военно-революционный комитет постановил не арестовывать тех, кто добровольно сдает свою должность, а вы сдали командование добровольно. И вообще военно-революционный комитет склонен вести здесь дела по возможности без применения насилия... во всяком случае, до тех пор, пока нас не принудят к этому.
Балуев кивнул в знак того, что он это заметил и ценит, затем произнес:
— Я прошу передать товарищу Мясникову, — он впервые употребил это слово — «товарищ», — мою просьбу, чтобы мне разрешили выехать в Москву, а не в Петроград... Я уже дал честное слово офицера и готов повторить его, что в настоящий момент не стану на сторону ваших противников.
Эти слова — «в настоящий момент» — прозвучали несколько двусмысленно. Но Каменщиков еще не мог представить, что же произойдет в недалеком будущем в жизни России, поэтому счел, что гадать не имеет смысла. Он подошел к двери и, выглянув в приемную, увидел, что там уже никого нет, кроме Полукарова. Пригласив его в кабинет, он сказал:
— Я прошу вас, товарищ Полукаров, отправиться в военно-революционный комитет и поставить вопрос о разрешении генералу Балуеву, согласно его просьбе, выехать не в Петроград, а в Москву. Передайте также, что я лично не возражаю, чтобы эта его просьба была удовлетворена.
Полукаров с любопытством посмотрел на него, на взволнованного генерала и молча ушел.
— Благодарю вас, подполковник, — Балуев отвесил поклон. — Вы мне разрешите уйти?
— Пожалуйста, генерал. Идите и собирайтесь в дорогу...
Балуев, вновь молча поклонившись, удалился.
На следующий же день Мясников направил телеграмму Ленину:
«В Минске завершен революционный переворот. Главкозап Балуев снят, штаб фронта в руках ВРК. Новый главнокомандующий вступил в исполнение своих обязанностей, и работа в штабе идет нормально. В некоторых пунктах начались переговоры о перемирии. Нами вырабатываются инструкции по ведению переговоров. На фронте и в тылу полный порядок и спокойствие. На 17 — 18 ноября созывается фронтовой съезд в Минске».
Однако еще через день он начал испытывать настоящую тревогу по поводу переговоров, ведущихся солдатскими комитетами дивизий и корпусов на их участках фронта.
Первыми такие переговоры начали вести гренадеры. 11 ноября, после получения обращения Ленина «Радио всем», новый корпусный комитет во главе с Евгением Конобеевым послал радиограмму штабу немецкого корпуса на участке Срубовских высот с предложением начать переговоры о перемирии. И уже на следующий день к пулеметчикам Карсского полка вышел немецкий парламентер с белым флажком и передал письмо командующего корпусом о согласии с предложением русских. Начать же переговоры предлагалось 14 ноября на железнодорожной линии Барановичи — Лида.
Оказалось, что немцы не только готовы подписать соглашение о прекращении огня на этом участке фронта до заключения общего мира, но даже заготовили соответствующий текст на немецком и русском языках. Но Конобеев и Марьин не согласились ограничиться пунктом о прекращении огня, а потребовали добавить еще и пункт о том, что войска обеих сторон не могут быть переброшены с замиренного участка на другие.
— А для чего нужен такой пункт? — удивленно посмотрел на них майор. Это был полный, довольно добродушного вида человек с лоснящимися красными щеками.
— А как же, — объяснил Конобеев, — вдруг ваше командование перебросит отсюда войска на другой участок, где еще нет такого перемирия, и, создав перевес в силах, разобьет находящиеся там русские части?
— Фуй! — пожал плечами майор. — Мы можем дать честное слово солдата, что ничего такого не допустим.
— А зачем — честное слово? — вмешался Марьин. — Не лучше ли записать это в документе, поставить подписи, и тогда и мы, и вы будете уверены, что все будет в порядке?
— Ну что ж, если вы настаиваете, запишем это, — вынужден был согласиться майор.
В Минске получили подробный отчет о переговорах гренадеров с немцами. Такие отчеты поступали и из других частей, и они-то и вызвали серьезную тревогу у Мясникова и остальных военревкомовцев. Немедленно было созвано заседание ВРК для обсуждения создавшегося положения.
— Конечно, готовность немцев пойти на переговоры сама по себе является отрадным фактом, — говорил Мясников. — Вы же помните, сколько было карканья со стороны эсеро-меньшевиков и генералитета насчет того, что немцы-де не захотят даже разговаривать с представителями «взбунтовавшейся солдатни», что солдатские комитеты, в свою очередь, не сумеют обеспечить выполнение перемирия, поскольку на фронте нет дисциплины, и тому подобное... А немцы, как видите, охотно садятся за стол переговоров с солдатскими комитетами. И конечно, они делают это потому, что им тоже очень нужно перемирие. Но обратите внимание на то, что повсеместно они берут на себя инициативу составления документов и, как правило, включают в них один-единственный пункт — о прекращении огня, обходя молчанием все остальные важные вопросы, в частности вопрос о запрещении перебрасывать войска на другие участки фронта, а тем более на запад, к англо-французам, вопрос о братании русских и немецких солдат, о мерах контроля над выполнением заключенных соглашений и так далее... И наши, за исключением гренадеров, к сожалению, необдуманно подписывают эти документы, не предполагая даже, какие осложнения могут вызвать они в будущем... Вот почему надо немедленно положить конец этой самодеятельности на местах и форсировать заключение договора о перемирии для всего нашего фронта. Но для этого надо быстро закончить подготовку нашего проекта, Степан Ефимович.
— Правильно, — подтвердил с места Каменщиков. — Кстати, сегодня ко мне пришли полковник Липский и капитан Крузенштерн из отдела внешних сношений штаба и предложили свою помощь в составлении проекта договора.
— Ишь ты! — недоверчиво воскликнул Щукин. — А ведь эти офицеры до сих пор были активными противниками выхода России из войны...
— Они и сейчас не скрывают этого, — повернулся к нему Каменщиков. — Но, говорят они, поскольку переговоры о перемирии все равно начались, то они хотят помочь нам составить проект договора таким образом, чтобы немцы нас не обставили.
— Ладно, ладно, обойдемся и без их помощи... — проворчал Щукин.
— Ну, ты это брось, Степан, — нахмурился Мясников. — Политическое направление договора мы, разумеется, можем определить и без их помощи, но ведь имеется масса технических тонкостей, всевозможных формулировок, в которых мы очень слабы, и они могут нам здорово помочь...
— Это, конечно, правда, — не мог не согласиться Щукин. — Но ведь они же офицеры, дворяне! И я не знаю, не постараются ли они больше помешать нам, чем помочь...
— Ну зачем же так? Правда, в массе своей они руководствуются классовыми интересами, но поверь, у многих офицеров очень и очень развито чувство патриотизма, и если они враждебно относятся к нам, то лишь потому, что им кажется, будто мы собираемся погубить родину.,. И если мы проявим терпение, понимание, то многие честные и дельные офицеры пойдут с нами.
— Да разве не так пришли к большевикам я или Рогозинский? — воскликнул Каменщиков.
— Хорошо, хорошо, сдаюсь, убедили! — засмеялся Щукин. — Давайте ваших офицеров, сколько их там имеется... И пусть главком поскорее свяжется с немецким командованием и предложит на днях же начать переговоры.
— Да, — согласился Мясников. — И давайте уже сейчас определим количественный состав делегации. Предлагаю: трое из Фронтового ВРК, по два — от каждой армии, один переводчик... Десять человек.
— Плюс эти двое офицеров в качестве технических советников, — добавил Щукин. — Но, конечно, без права подписывать документы.
— Что ж, это правильно, — согласился Мясников. — А главой делегации назначим Щукина. Согласны?
— Конечно, — сказал Ландер. — Он один из составителей проекта, пусть сам и проводит в жизнь.
Восемнадцатого ноября к концу дня из Питера в Минск прибыли представитель ЦК партии Серго Орджоникидзе и представитель Всероссийского ЦИК Володарский. Они должны были ознакомиться с положением дел в Белоруссии и на Западном фронте и участвовать в проведении Второго фронтового съезда.
Володарского Мясников знал мало, а вот с Серго они работали вместе в Баку в 1907 году да еще не раз встречались и беседовали этим летом в Питере, в дни VI съезда партии.
— Как я рад, Серго-джап, как рад видеть тебя!.. — говорил Мясников, когда они устроились у него в кабинете. — Ты не можешь представить себе, как нам приходилось туго, в особенности в первые дни... Связи с вами нет, принимаем всякие решения на свой страх и риск, а на душе кошки скребут: вдруг это не то, вдруг мы тут путаемся сами и путаем ваши карты там?
— Ты что это — серьезно? — недоверчиво переспросил Орджоникидзе. — Ну, удивил так удивил, брат... Скажи, ты постановление ЦК о вооруженном восстании получил? Общая установка Ильича и партии на переход к социалистической революции тебе была известна? Так чего тебе еще кроме этого нужно было?.. Неужто и к такому деятелю, как ты, нужно было приставлять какого-то «дядьку» из центра, чтобы давал советы, что делать да как делать? Кстати, и для советов у тебя рядом было достаточно много опытных и умных людей — Ландер, Кнорин, Могилевский, Фомин, Щукин... Хочешь, я скажу по секрету на ухо? — Серго пощекотал своим длинным усом ухо Мясникова, но сказал громко: — Благодари бога, что у нас не было связи с тобой, что мы не могли добраться до тебя, а то сразу сказали бы: «Ой, друг Алеша, слишком ты там богато живешь, окруженный и революционной армией, и целой когортой опытных работников, — давай отправляй половину их туда, где вообще никого из нашей старой гвардии нет, где совсем зеленая молодежь делает революцию!» Понял?
Володарский, худой, с умными глазами, глядевшими из-под очков на Мясникова, в свою очередь добавил:
— Ну, а если оставить шутки в сторону, в Питере очень довольны вашими действиями. Вашими лично, товарищ Мясников, да и всех товарищей минчан. Когда мы получили ваш подробный отчет о событиях здесь и на фронте, то были весьма обрадованы, насколько умело и организованно вы все провели: и эту дипломатическую игру в «комитете спасения революции», и подтягивание верных сил, и перевыборы в армиях, и, наконец, отстранение главкома фронта. И все это — без кровопролития, без единой жертвы...
«Эх, ничего вы не понимаете, друзья! — с грустной улыбкой подумал Мясников. — Сейчас, когда все осталось позади, конечно, все кажется просто и легко...»
Но Серго, словно угадав его мысли, сказал уже другим тоном:
— Да что там, Алеша, конечно, мы знаем, что вам тут было нелегко... Но так как ты здесь отлично справился со всеми делами, в ЦК и в Совнаркоме тебя считают именно тем человеком, который способен самостоятельно разбираться во всех сложнейших политических, военных, национальных и экономических вопросах края и фронта и правильно проводить линию партии. Поэтому не удивляйся, что и дальше тебе придется возглавлять здесь дела одному. Конечно, поскольку связь с центром восстановлена, помощь советом и указаниями оттуда уже будет. Но людей новых мы сюда присылать не будем, наоборот, кой-кого у тебя возьмем...
— Гм, веселенькие новости!
— Сам виноват, — усмехнулся Орджоникидзе. — Чем — спросишь ты? Вот, например, в отчете в Совнарком ты написал такую фразу: «Могилев становится вторым Версалем». А знаешь ли ты, что некоторое время назад ту же мысль высказал Ильич? И, помня о роковой роли, которую сыграл Версаль в истории Парижской коммуны, он направил в Могилев отряд войск во главе с Крыленко, чтобы разгромить «русский Версаль».
— Кстати, — сказал Мясников, — позавчера наш ВРК решил, что, поскольку Могилев находится в зоне Западного фронта, мы тоже должны направить туда войска...
— Да ну! И как же?
— Один отряд под командованием Берзина из Второй армии уже сегодня двинулся по железной дороге в Оршу, где соединится с отрядом Крыленко и будет наступать на Могилев с севера. А другой отряд во главе с членом нашего ВРК Лисяковым, имея в своем составе полк имени Минского Совета и бронепоезд Пролыгина, отправится завтра утром в сторону Жлобина, чтобы оттуда наступать на Могилев с юга...
— Да уж молодцы, прямо молодцы! — сказал Орджоникидзе. — Но этого мало, придется сделать еще кое-что...
— Что именно? — спросил Мясников.
— Ну вот мы разгромим «русский Версаль», разгоним контрреволюционную ставку, а дальше как? Не может же армия остаться без главного штаба, а? Не может, так как мир с Германией еще не заключен, и еще больше потому, что в стране поднимает голову контрреволюция... На Дону и Кубани уже начался мятеж Каледина и Караулова, к ним примкнула украинская Рада, нужно ожидать, что контрреволюционные выступления будут и в других районах страны... Значит, нужно создать какой-то свой центральный штаб, который будет бороться с этими мятежами. Владимир Ильич для этой цели послал вместе с Крыленко прапорщика Тер-Арутюнянца — есть такой орел, который здорово отличился во время октябрьских боев в Питере и под Гатчиной... Он будет создавать при ставке Революционный полевой штаб, который займется главным образом борьбой на внутреннем фронте. Ведь если даже нам удастся привлечь на нашу сторону часть офицерства из старой ставки, то для борьбы с Калединым и Карауловым, своими прежними сослуживцами, они едва ли годятся, правда?
— Да, на такое им сразу пойти будет трудновато, — согласился Мясников.
— Стало быть, нам надо укомплектовать Революционный полевой штаб нашими офицерами, дельными, знающими и преданными нашей партии... — Орджоникидзе покрутил длинный черный ус, сощурил глаза. — Скажи, твой этот Каменщиков — толковый офицер?
— Погоди! — воскликнул Мясников, чувствуя, как у него сжимается сердце. — Вы что хотите сделать? Ведь он же у нас временно исполняющий обязанности главкома фронта, и мы решили на съезде утвердить его официальным главкозапом!..
— Вот это вы неправильно решили, — неожиданно жестко сказал Орджоникидзе. — Пойми, Алеша, в нынешних сложных условиях главнокомандующим не может быть просто толковый офицер. Им может быть только политический вождь, пользующийся безграничным доверием масс... Поэтому ЦК партии считает, что на эту должность должен быть избран только ты, понимаешь?
— Господи, да я не вытяну столько!
— Вытянешь, — с улыбкой хлопнул его по плечу Сер-го. — Расставь везде помощников, а сам сосредоточься только на коренных, узловых вопросах. Ну а Каменщикова мы отправим в ставку. И, пожалуйста, составь список еще группы офицеров, но не таких, кого тебе не жалко, а тех, кого, наоборот, очень жалко отдавать, понимаешь?
— Разбойники! Ну прямо грабители, ей-богу... — в сердцах сказал Мясников. — А я-то, дурак, горевал: «Не приезжают, не интересуются...»
— Ну а что мы тебе говорили? — засмеялся Орджоникидзе.
Чуть погодя Володарский заговорил о перемирии.
— Вы знаете, ведь только у вас дело ведется во фронтовом масштабе, по заранее подготовленному Севзапкомом проекту договора. Когда начнутся переговоры?
— Завтра наша делегация во главе с членом ВРК Степаном Щукиным выедет на передовую, их встретят немцы и переправят в пункт переговоров, в Солы... Если хотите, я вас ознакомлю с проектом договора, который мы разработали, — сказал Мясников.
Прочитав проект, Володарский вновь с уважением посмотрел на Мясникова.
— Это все здорово, — сказал он. — Но вот согласятся ли немцы подписать такой документ? Особенно пункты о запрещении перебрасывать войска на Западный фронт и о братании... Как бы они не встали на дыбы.
Мясников подумал, покачал головой.
— Немцы везде охотно идут на переговоры, а это значит, что перемирие им очень нужно. Вот увидите, они подпишутся под всеми нашими условиями. Хотя, конечно, торговаться будут отчаянно...
— Ну что ж, — сказал Орджоникидзе. — А теперь давайте соберем партийный комитет, поговорим о съезде.
Поздно вечером того же дня, закончив подготовку ж походу, Пролыгин зашел в военревком к Мясникову.
— Завтра рано утром мы уходим, Александр Федорович, — как-то виновато улыбаясь, сказал Пролыгин. — Вот и пришел проститься... Кто знает, свидимся ли еще?
— Ну что вы, дорогой товарищ Пролыгин. У меня сомнений нет. Ведь вы остаетесь в пределах фронта, так что возможностей для встречи будет достаточно...
— Оно конечно, товарищ Мясников. Но жизнь есть жизнь...
Мясников удивленно посмотрел на него: к чему это он? И вдруг понял: да нет, Пролыгин совсем не за этим пришел сюда, его беспокоит другое, но он почему-то не решается говорить. Ну что ж, торопить его не будем, раз пришел — скажет.
— Да, конечно, жизнь полна всяких неожиданностей... — столь же глубокомысленно высказался он.
— Вот-вот, об этом я и говорю. Знаете, вот я давеча зашел в госпиталь, — проститься с мужем Изабеллы Богдановны, Евгеньевым...
— Да? — спросил Мясников. — Ну и как он там? Я ведь так закрутился тут, что не могу урвать время и навестить его.
— Да ничего... Виктор Иванович почти уже выздоровел... И знаете, даже просил меня взять его на бронепоезд...
— На бронепоезд? Да что ему, летчику, делать на бронепоезде?
— Вот-вот. И я говорю. А он мне: «А что, мол, мне тут делать? Погода сейчас нелетная, авиаотряд разбежался, сидеть всю зиму так, без дела, — с тоски околеешь... А на бронепоезде все же техника, вот и, глядишь, пригожусь на что-нибудь».
— Ну это ведь несерьезно, — досадливо пожал плечами Мясников. — Тоже мне довод: «На бронепоезде все же техника»!
— Конечно, — кивнул Пролыгин. — Сдается мне, он убраться хочет поскорее из Минска да залезть в такие горячие дела, чтоб забыться можно было...
— Убраться из Минска? Забыться? — Мясников пристально посмотрел на Пролыгина. — О чем это вы?
— Видите ли, по-моему, Виктор Иванович считает, что жена разлюбила его... Она... как бы это сказать... боевая, что ли... Из тех, кто не любит, когда мужики, как камыш от ветра, туды-сюды клонятся. А его как раз чересчур долго шатало в этой заварухе, пока он на Срубовских высотах хребет свой не выпрямил... Но он, видно, решил, что это произошло слишком поздно и она успела разлюбить его. Не знаю, прав ли. По-моему, он от этих мыслей немного свихнулся, и... в общем, помочь надо ему, ведь вы же знаете, что Виктор Иванович Евгеньев — хороший летчик-инструктор... А еще я думаю, что революции очень нужны будут и авиация, и летчики, а потому его не на бронепоезд нужно и не куда-нибудь в другое место, а приставить к этому делу — готовить красных летчиков. Вот здесь, думается мне, он найдет себя и все эти сердечные переживания быстро отбросит в сторону... А?
Мясников смотрел на него широко открытыми глазами. И вновь поразился этому человеку — его уму, его широким взглядам. Конечно, он догадался, что Пролыгин знает о той первой встрече Мясникова с Изабеллой Богдановной и Виктором Ивановичем в поезде, об его утверждении, что Евгеньев мог бы стать в определенных условиях отличным руководителем в подготовке летчиков. И вот он, Мясников, говоривший тогда такие слова, забыл о них. А этот солдат сейчас пришел надоумить его, напомнить ему об этом...
Мясников почувствовал смущение, отвел взгляд и глуховато произнес:
— Спасибо вам, товарищ Пролыгин... Даю вам слово, как только кончится фронтовой съезд, я приму все меры, чтобы летчик Евгеньев отправился в Гатчинскую школу авиаторов и начал готовить красных летчиков. И еще хочу уверить вас, что он поедет туда с женой!
Пролыгин, несколько растерянный от этих последних слов, некоторое время молчал, потом поднялся.
— Ну, я тут задурил вам голову... Разрешите идти?
— Еще раз спасибо за разговор, товарищ Пролыгин... Они крепко пожали друг другу руки, и Пролыгин торопливо вышел.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Чем ближе к Могилеву подходили эшелоны с революционными войсками, тем сильнее становилась паника в ставке и тем меньше оставалось войск, готовых защищать это гнездо контрреволюции. В самом же Могилеве начались какие-то раздоры между батальонами «ударников» и георгиевских кавалеров, пока Могилевский Совет, в котором к этому времени перевес взяли сторонники большевиков, не вынес постановления вообще удалить все контрреволюционные силы из города.
И тогда Духонин, Станкевич, Дитерихс, Перекрестов и другие руководители ставки собрались на срочное совещание. Но, собственно говоря, решать особенно было нечего: борьба здесь была уже проиграна. Ставка и Духонин не сумели повести за собой русскую армию и тем более воспрепятствовать переговорам о перемирии. Теперь уже нужно было думать о будущей борьбе. И Станкевич поставил вопрос со всей прямотой:
—В настоящий момент чрезвычайно важно сохранить в неприкосновенности от большевиков идею высшего командования армией, олицетворением которого является Николай Николаевич. Поэтому необходимо, чтобы он немедленно выехал на Юго-Западный, а еще лучше — на Румынский фронт, менее подверженный большевистской агитации, и оттуда развернул борьбу против Советов...
Но тут выяснилось, что Духонин не решается покинуть Могилев.
— В городе меня знает каждый солдат, — почти жалобно говорил Духонин, — за мной шпионит даже мой денщик... Я уверен, что он уже предупредил большевиков и те поставили на мосту через Днепр стражу, чтобы поймать меня...
И тут внезапно вмешался Дитерихс:
— А знаете, господа, я сейчас вдруг понял, насколько позорно будет выглядеть тайное бегство верховного из ставки... Нет, это противоречит военной этике!
— Да поймите, генерал, ведь эти рассуждения смехотворны по сравнению с высшей целью, о которой мы говорим! — с жаром произнес Станкевич. — Речь идет о продолжении борьбы с большевизмом и сохранении верховного как символа высшего руководства русской армии, не признающего власти большевиков. Это же имеет громадное значение!..
— Но ведь Николай Николаевич не политический деятель, — возразил ему Дитерихс. — Вне своей ставки он никакой борьбы вести не может... Впрочем, предыдущий верховный, Александр Федорович Керенский, был политическим деятелем, имел за собой партию, но и он с той минуты, как, переодевшись в женскую одежду, бежал от войск, стал политическим трупом, за которым никто уже не пойдет и который, следовательно, никакой борьбы возглавить не может.
— Да, да, это совершенно правильно... — закивал Духонин. — Лучше я дождусь этого Крыленко и встречусь с ним лицом к лицу, чем совершу позорное бегство.
Для Станкевича и Перекрестова стало ясно: Духонин потерял веру в себя и пытается выйти из игры, поэтому стать вождем будущей антибольшевистской борьбы он не в силах. Но что думает Дитерихс, настаивая на том, чтобы Духонин остался в Могилеве? И тот не преминул открыть свои карты.
— Только вы, Николай Николаевич, должны напоследок сделать нечто важное, — сказал Дитерихс, наклоняясь и заглядывая в глаза Духонину, — официально уведомить главнокомандующего Румынским фронтом генерала Щербачева, что возлагаете на него обязанности верховного главнокомандующего...
— Я с удовольствием сделаю это, — поспешно кивнул Духонин, которому, вероятно, казалось, что с передачей верховного главнокомандования другому лицу мера его собственной ответственности перед Советской властью за уже содеянное становилась меньше. — А еще что?
— А еще вы должны распорядиться выпустить быховских узников. Вы не можете не понимать, что будет с Лавром Георгиевичем или Антоном Ивановичем, если они попадут в руки распаленной большевистской пропагандой матросни... Если честь русского офицера не позволяет вам бежать отсюда, то эта же самая честь не должна позволить отдать на расправу дикой толпе таких офицеров...
«Ну, здорово! — мысленно ахнул Станкевич. — Лучше, кажется, и не придумаешь... Ведь уйди отсюда Духонин — мы в дальнейшем должны будем считаться с ним как с верховным и все время подталкивать его на решительные действия, на борьбу... А теперь добровольной передачей своего поста Щербачеву и особенно освобождением из быховской тюрьмы Корнилова, Деникина, Маркова, Лукомского и других генералов Духонин сам ставит во главе будущей борьбы настоящих, решительных и смелых вождей...»
Теперь и Станкевич, и Перекрестов боялись даже посмотреть на Духонина, чтобы не выдать взглядами своих мыслей, своей заинтересованности в его согласии. Но они беспокоились совершенно напрасно. Духонин, как и в первом случае, торопливо кивнул головой:
— Конечно, конечно, господа, я дам такое распоряжение.
...Вскоре Дитерихс и другие уехали из Могилева, а Духонин вернулся в ставку, чтобы дать распоряжения, которые должны были иметь роковые последствия для России. А еще через несколько часов со стороны станции послышались гулкие звуки духового оркестра. Обыватели города, которым все эти дни казалось, что направленные из Петрограда матросы и солдаты ворвутся в город нестройной толпой, стреляя направо и налево, теперь с удивлением видели тяжело шагавших в строю матросов. Все они были как на подбор — рослые, широкоплечие, в дубленых полушубках, но с привычными бескозырками, с винтовками за плечами и в смазных сапогах вместо матросских ботинок. Вслед за матросами, держа равнение и печатая шаг, шла рота запасного лейб-гвардии Литовского полка.
Так вошли революционные части в Могилев и без всяких эксцессов заняли ставку; сдача мятежного генерала новым властям прошла без каких-либо инцидентов.
Но в это время среди матросов и солдат из прибывающих на станцию новых эшелонов пронесся слух, что Духонин отпустил на волю «быховских контрреволюционеров». Если имя Духонина само по себе было достаточно непопулярно среди революционных войск, то имя Корнилова возбуждало просто ненависть. И слух, что Духонин отпустил на свободу Корнилова, не мог не вызвать взрыва безудержного гнева солдат и матросов.
А через полчаса бушующая толпа матросов и солдат, окружившая салон-вагон главковерха, учинила самосуд над Духониным.
— А поворотись-ка, сын!.. — шутливо, но и не без досады говорил Щукин, заставляя членов делегации по одному поворачиваться перед ним /и демонстрировать свою экипировку.
Еще 17 ноября главкозап Каменщиков получил от командующего немецкой группой армии Эйхгорна согласие провести переговоры о перемирии. Немцы предложили встретиться в местечке Солы, близ города Сморгонь, прямо у линии фронта. Русская делегация, оказавшись 20 ноября на немецкой стороне, обнаружила здесь делегатов от 2-го Кавказского армейского корпуса Десятой армии и еще каких-то частей, которые раньше них прибыли к немцам для переговоров о перемирии на их участках. Поскольку отсылать их обратно было уже поздно, то Щукину пришлось присоединить их к фронтовой делегации, отчего состав ее достиг 18 человек.
А когда члены делегации наконец все собрались здесь, в специально отведенной комнате рядом с залом совещаний, Щукин был страшно огорчен при виде некоторых представителей из армий. Если не считать Липского и Крузенштерна, одетых в подобающие случаю чистенькие мундиры с аксельбантами, свидетельствующими об их принадлежности к офицерам генерального штаба, вполне приличный вид имели также переводчик Калаш, представители фронтового ВРК Фомин и Берсон и представители Второй армии врачи Тихменев и Петров. Остальные же делегаты были в помятых шинелях, стоптанных и грязных сапогах, да еще и небритые... И как ни старались сдерживаться аккредитованные здесь немецкие офицеры, на их лицах нет-нет да и появлялась презрительная усмешка.
Особенно живописно выглядел член ВРК Третьей армии Школьников, обросший, в засаленных ватных брюках и телогрейке, вдобавок еще покрытых каким-то пухом.
— Ну, брат, я понимаю, что ты солдат и к тому же презираешь буржуев... — ворчал Щукин, стараясь «ощипать» его. — Но зачем надо было прибыть к этим буржуям на переговоры, вывалявшись в пуху? Неужели ты думаешь, что этим сделаешь их сговорчивей?
— Да нет же, товарищ Щукин, я же там совсем закрутился, — оправдывался Школьников. — И не знал я, что буду делегатом...
— Не знал, не знал... Чистым надо быть всегда. А теперь уж сделай милость, когда войдем туда, сядь где-нибудь в сторонке и старайся не попадаться на глаза.
Затем он торопливо начал объяснять членам делегации, как они должны вести себя во время переговоров. Впрочем, времени было мало, и все его наставления сводились к тому, что надо последовательно отстаивать все пункты выработанного фронтовым военревкомом проекта договора.
Едва он успел втолковать это делегатам, как открылась дверь и один из немецких офицеров пригласил их войти в зал для переговоров.
Одновременно с противоположной стороны в зал вошли немцы — точно восемнадцать человек, все генералы и офицеры, с иголочки одетые и при всех регалиях.
Впереди шел руководитель делегации генерал-майор фон Зауберцзейг. Остановившись в двух шагах от Щукина, он молча поклонился ему и протянул свернутый лист, где подтверждались его полномочия вести переговоры от имени главнокомандующего германским Восточным фронтом, Щукин в свою очередь представил ему полномочия от имени военревкома Западного фронта. После этого генерал широким жестом пригласил русскую делегацию сесть за длинный стол, с обеих сторон которого было расставлено по восемнадцать стульев.
Заняв центральные места за столом, главы обеих делегаций минуту с любезной улыбкой изучали друг друга. Хотя генерал заранее был предупрежден, что со стороны русских его коллегой будет рядовой солдат, он все же не верил, что это не дурной и несуразный сон... Ну да, у этого солдата вполне интеллигентный вид — правильные черты лица, умные глаза, спокойно глядящие сквозь очки в железной оправе, точно очерченный рот... Но черт возьми, он же солдат, рядовой солдат!.. А там, с краю, на отшибе, сидят полковник и капитан! Сидят в мундирах с золотыми погонами, с аксельбантами генерального штаба... Если уж большевики сочли возможным включить этих офицеров в состав делегации, то могли бы поручить им и ведение переговоров, чтобы он, генерал фон Зауберцвейг, не чувствовал себя столь растерянным и униженным от того, что вынужден вести серьезнейшие переговоры с нижним чином.
Щукин же в свою очередь был несколько растерян. В течение войны он не раз встречал на страницах русских газет и журналов карикатуры на генералов-пруссаков и, конечно, считал, что они, как и полагается в карикатурах, утрированы, чтобы вызвать смех. А тут вдруг он увидел одну из этих карикатур во плоти: высокий, грудь колоколом, нафабренные усы с закрученными кверху кончиками, выпученные глаза, к тому же занавешенные густыми неровными бровями... Щукин испугался, что кто-нибудь из членов делегации может фыркнуть, поэтому быстро обвел всех своих строгим взглядом. К счастью, те держались чинно и серьезно.
— Итак, господин Щукин, — громким голосом, с какими-то рявкающими интонациями произнес генерал, — я думаю, нам пора приступить к делу...
И как только Калаш перевел Щукину эти слова, от него мигом отхлынули все посторонние мысли — и об этом карикатурном пруссаке генерале, и о внешнем виде некоторых членов своей делегации. Сейчас он должен был совершить, возможно, самое главное, самое ответственное в его жизни дело — добыть у этих напыщенных генералов и офицеров для полуторамиллионного фронта если не мир, то перемирие, причем на возможно выгодных для Родины, для измученного народа условиях. И, весь подобравшись, сохраняя внешнее спокойствие, он согласно кивнул:
— Вы правы, господин генерал, давайте приступим.
Генерал, поднявшись, произнес краткую вступительную речь. Командование русского Западного фронта, сказал он, исходя из сложившихся условий, а именно усталости и неспособности своих армий продолжать войну, выступило с инициативой данных переговоров. Немецкая сторона, исходя из гуманных соображений и не желая дальнейшего пролития крови, решила пойти навстречу пожеланию русских, и вот они собрались здесь. От имени немецкой делегации он, генерал Зауберцвейг, приветствует русскую делегацию и выражает уверенность, что данные переговоры будут плодотворными и завершатся подписанием соглашения о перемирии.
Щукин, в свою очередь, встав, поблагодарил генерала за приветствие и за совершенно правильные слова. Действительно, и русская, и немецкая армии, да и армии всех остальных воюющих держав, крайне устали от войны, которая принесла народам одни страдания. И хотя события, имевшие место две недели назад в районе Срубовских высот, показали, что обе стороны еще способны вести яростные сражения, но они еще убедительней показали всю бессмысленность продолжения вооруженной борьбы. Пожалуй, подлинные настроения и русских, и немецких солдат отражает не это сражение, а получившее массовый характер братание по всей линии русско-германского фронта. И, имея в виду эти настроения обеих армий, он, Щукин, согласен с господином генералом, что собравшиеся здесь делегации призваны совершить акт величайшей гуманности в интересах народов России и Германии.
Липский и Крузенштерн, которых речь Зауберцвейга оскорбила до глубины души и которые вначале считали, что вся их делегация должна немедленно встать и покинуть зал, теперь с нескрываемым изумлением смотрели на этого солдата, который так ловко и тактично осадил пруссака генерала, в сущности сказав ему: «Дурака не валяйте, генерал, это перемирие нужно вам не меньше, чем нам!»
А Зауберцвейг вначале только поморщился, с досадой думая: «Ну вот, что я говорил? Этот недотепа солдат, конечно, ничего не понял из моей речи и сейчас несет бог весть какую чушь». Но потом до него дошел смысл только что сказанного. Недаром этот хитрый русский упомянул о сражении на Срубовских высотах и о братании... Ведь это именно он, Зауберцвейг, потерпел непостижимое, но тем не менее реальное поражение на этих высотах... И именно после этого приняло страшные размеры то чудовищное, противоестественное явление, когда солдаты — всегда послушные, покорные, многолетней муштрой отученные совершать что-либо без приказа сверху немецкие солдаты — начали брататься с противником...
Генерал обвел взглядом присутствующих, на секунду задержал его на двух русских офицерах-генштабистах и еще более разозлился: «Ах вы, бездарные растяпы! Поглядите-ка, с каким умилением смотрят в рот своему солдату... А ведь теперь я понял, почему переговоры со мной ведете не вы, а этот солдат... Ведь вы же не сумели бы сказать то, что говорит он. Не имели бы права упоминать о Срубовских высотах, ибо это была не ваша победа... Вы не посмели бы ссылаться на братание, так как это не ваше оружие... И вообще вам бы надо сидеть не по ту сторону стола, а по эту, — так чему же вы радуетесь?»
Генералу оставалось делать вид, что ничего особенного не произошло, и поскорее покончить с этим делом. Да, поскорее подписать соглашение о перемирии и разойтись. И, с трудом натянув на лицо подобие улыбки, генерал Зауберцвейг промолвил:
— Что ж, господин Щукин, я, конечно, согласен не со всем тем, что вы тут говорили, но сейчас не это важно... Я хочу сообщить вам, что германская делегация в целях облегчения и ускорения данных переговоров уже подготовила проект соглашения и отпечатала на русском и немецком языках. — Он взял у сидящего рядом полковника лист бумаги с машинописным текстом и протянул Щукину. — Желает ли ваша делегация сейчас же начать обсуждение текста соглашения, или вы предпочитаете сначала познакомиться с ним в своем узком кругу?
Щукин двумя пальцами взял бумагу и, бросив на нее беглый взгляд, отложил в сторону.
— Благодарю вас, господин генерал, — спокойно сказал он. — Но только мы, конечно, не могли позволить себе взвалить всю тяжесть подготовки проекта соглашения на немецкую сторону, поэтому, прежде чем прибыть сюда, тоже подготовили свой проект... — Как недавно генерал, он повернулся к сидящему рядом Фомину, и тот достал из папки три листа бумаги с отпечатанным текстом. — Кстати, он тоже составлен на русском и немецком языках.
Зауберцвейг, словно не понимая, о чем идет речь, взял у него проект, взглянул и, убедившись, что он действительно отпечатан по-немецки, быстро пробежал глазами первую страницу, посмотрел на вторую, буркнул: «О, и сколько тут пунктов!..» Потом уперся глазами в слово «братание» и перевел почти гневный взор на Щукина,
— Ну как? — поинтересовался тот. — Желаете ли вы, чтобы мы тут же начали ознакомление с обоими проектами?
— Нет! — Зауберцвейг поднялся с места. — Немецкая сторона должна изучить это...
— Разумеется, так будет лучше, господин генерал, — поклонился Щукин. — Итак, устроим перерыв?
— Обязательно, — рявкнул Зауберцвейг. — Встретимся через час.
И, шумно отодвинув стул, направился к двери. За ним, так ни разу и не проронив ни слова, двинулись остальные немцы.
Утром этого же дня в минском городском театре открылся Второй съезд Западного фронта. Снова на сцене стоял длинный стол, покрытый красным сукном, за столом сидели члены президиума, а зал был полон людей, одетых в солдатские шинели. Много было собраний в этом зале за последние полгода, но как отличалось это от всех прочих!
Сидя в президиуме, Мясников вспомнил первый фронтовой съезд, открывшийся здесь в начале апреля. Вспомнил: их, большевиков, тогда было так мало, многие из солдат даже и не знали толком, кто они и чего хотят. Тогда непререкаемыми авторитетами здесь были Жданов и Нестеров, Николаев и Злобин. Где же теперь они?.. Некоторые позорно бежали из Минска, а другие сидят в зале, обреченно ожидая той минуты, когда съезд окончательно лишит их возможности участвовать в политической жизни армии. Он сделает это обязательно, ибо здесь из 767 делегатов 473 большевика.
Вот за столом президиума поднимается Карл Иванович Ландер и, звоня колокольчиком, призывает к тишине. Потом, окинув взглядом зал, он вносит предложение: избрать почетный президиум съезда в лице вождя социалистической революции Владимира Ильича Ленина и присутствующих здесь представителя ЦК партии большевиков товарища Орджоникидзе и представителя ВЦИК товарища Володарского.
И гром аплодисментов, которым зал встречает это предложение, говорит о многом: о том великом перевороте, который произошел не только во всей стране, но и в умах и сердцах каждого в отдельности — вот этих солдат, сидящих в зале, и миллионов рабочих, крестьян и солдат, находящихся вне зала.
Затем Ландер предлагает избрать деловым председателем съезда председателя Северо-Западного областного комитета большевистской партии Александра Мясникова.
И снова в зале гремят овации, снова доносятся крики одобрения и приветствий.
Поднявшись, Мясников долго дожидается тишины, иногда приподнимает обе руки, как бы уговаривая зал. И когда тишина наконец устанавливается, он произносит дрогнувшим от волнения голосом:
— Дорогие товарищи... Я благодарю вас за высокую честь... Я знаю, что эта честь оказана не мне, а той партии, к которой я принадлежу. Это партия большевиков, которая бесстрашно идет к миру, к хлебу и земле, к полному освобождению трудящихся!..
Затем с приветственными речами выступают Орджоникидзе и Володарский. Они рассказывают об Октябрьской революции — величайшем событии не только в истории России, но и всего мира. Они говорят о той роли, которую сыграли революционные массы Западного фронта и Белоруссии в этом всемирном событии. Высокий революционный дух этих масс, их решительные действия против всех и всяческих происков внутренних и внешних врагов парализовали волю контрреволюционеров не только здесь, но и в Могилеве и Петрограде. Враги не смогли получить никаких частей из полуторамиллионной армии Западного фронта в помощь себе для борьбы с революцией в Питере и Москве, более того, они все время в ужасе ждали, что фронт двинет крупные силы против них, что, кстати, и случилось на днях, когда Минск послал войска для подавления мятежа ставки... Тем самым Западный фронт и Минск стали одним из тех главных пунктов после Петрограда и Москвы, где была решена окончательная победа Великой Октябрьской революции...
Речи Орджоникидзе и Володарского неоднократно прерывались громкими аплодисментами. И когда они закончили свои выступления, съезд единодушно принял предложение послать новому, большевистскому правительству приветственную телеграмму:
«Второй съезд армий Западного фронта приветствует первую народную, истинную революционную власть — Совет Народных Комиссаров, избранную II Всероссийским съездом Советов, власть, ставшую на путь разрешения великих задач революции и ведущую страну к действительному миру, земле, хлебу и свободе.
Председатель съезда Мясников».
Затем Ландер дал слово Мясникову. Выйдя на трибуну, Мясников вспомнил те тревожные дни, когда после установления Советской власти в Минске ситуация вдруг резко изменилась. Когда в город были введены казаки, образовался «комитет спасения» и казалось, все вот-вот полетит вверх тормашками... Тогда-то он и его товарищи поставили перед собой твердую задачу: не спешить и не допускать непродуманных действий. Спокойно и методично отнять у балуевых и ждановых все полки, все дивизии, все корпуса и армии на фронте. Что ж, они сделали это.
Сделали его товарищи и соратники по областному комитету и военревкому, и он, Мясников. И сделали с помощью многих и многих героев из солдатской массы — таких, как Пролыгин, Марьин, Курятников, как члены комитетов в Гренадерском корпусе, рабочие-путейцы на железной дороге, телеграфисты на линиях связи... Тогда они и сказали, что отнимут у врагов в Белоруссии все рабочие и крестьянские Советы, все профсоюзные организации, все средства связи. И это тоже сейчас сделано: на днях состоялись III съезд Советов крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний и съезд Советов рабочих и солдатских депутатов Западной области, в результате которых из этих Советов изгнано эсеро-меньшевистское руководство. А теперь остается поставить последнюю точку: похоронить мертвое тело старого Фронтового комитета, провести демократизацию армии и завершить революционное переустройство края во всех областях экономической и политической жизни его.
Вот о чем он должен им сказать — делегатам съезда.
И, подняв голову, он твердым голосом начал:
— Товарищи делегаты!..
Когда русская делегация вернулась в свою комнату, Липский и Крузенштерн подошли к Щукину.
— Разрешите, Степан Ефимович? — обратился Липский и, после того как тот несколько удивленно кивнул ему, продолжал дрожащим голосом: — Как русские офицеры... нет, просто как русские люди мы хотим сказать вам... спасибо за то... за все то, что сейчас вы там сделали!..
Щукин озабоченно тронул очки и спросил:
— О чем вы это?
— Ну как же! Они ведь думали, что русские, слабые и раздавленные, пришли сюда молить у них перемирия на любых условиях. Но вы им показали, что думать так они не должны... не смеют!
Щукину стало даже не по себе от этого взволнованного тона и похвал. И он, махнув рукой, сказал:
— Да ладно, что там... Давайте знакомиться с их проектом.
Они расселись за столом, и Фомин громко прочитал немецкий проект. Как Щукин и ожидал, там, после преамбулы, составленной все по той же формуле: «русским приходится туго, они запросили перемирия, а мы, немцы, великодушно соглашаемся», шел всего-навсего один по-настоящему деловой пункт — о прекращении огня, пока будет заключен общий мир.
Послышались насмешливые реплики:
— Ну прямо кладезь мудрости!
— Да уж голову ломать над этим не придется...
— Все просто и ясно!..
— При таком подходе к проблеме они над нашим проектом посидят и час, и два...
И словно чтобы подтвердить это последнее предположение, в комнату вошли немецкий офицер и два солдата с подносами.
— Мы принесли господам делегатам легкий завтрак, — торжественно заявил офицер. — Подкрепляйтесь, пожалуйста, пока будет длиться перерыв.
Поставив подносы на оба конца стола, немцы удалились. Проголодавшиеся делегаты подошли к подносам, на каждом из которых было ровно по девять чашек морковного чая и по девять бутербродов с сыром.
— Так и есть, надо полагать, мы тут посидим порядком. — усмехнулся Щукин.
Но Фомин, взяв тонюсенький, сгибающийся от собственной тяжести ломтик хлеба, возразил:
— Ну нет, едва ли они рассчитывают этим надолго занять нас. Ведь тут еды на заглоточку.
Школьников, тоже взяв бутерброд, удивленно изучал его, потом посмотрел на остальных:
— Нет, вы посмотрите на сыр... Нарезан словно папиросная бумага... Для запаха, что ли, его положили?
Пока раздавались эти восклицания, Липский и Крузенштерн с чашками в руках снова подошли к Щукину.
— А знаете, Степан Ефимович, ведь это тоже показательно, — сказал Крузенштерн. — Ведь едва ли они угощают нас столь скромно из скупости. Просто у них продукты настолько жестко нормированы, что даже в таких чрезвычайных случаях они не могут позволить себе чуточку расщедриться. Понимаете? А вот в своих речах и в этой жалкой бумажке они все напирают на наши трудности. Вот я и думаю, что во время переговоров надо дать им понять, что и нам тоже известно об их трудностях...
— Дельная мысль, — одобрительно улыбнулся ему Щукин. — Вот вы об этом и скажете им.
— Я? — несколько растерянно переспросил Крузенштерн.
— Именно вы, капитан. И не только об их продовольственных затруднениях... Когда мы дойдем до обсуждения пункта о запрещении перебрасывать войска, будет очень полезно, если один из наших штабных офицеров выступит и покажет, что, несмотря на революцию, мы следим за противником и знаем о расположении его частей и соединений. Впрочем, такое выступление еще больше нужно по другой причине... — Щукин обернулся и посмотрел на Липского, давая понять, что это относится к нему тоже. — Вы, конечно, понимаете, что когда немцы говорят о наших затруднениях, то прежде всего имеют в виду разлад, вызванный революцией, между русскими солдатами и офицерами, что, по их мнению, и ослабило нашу армию. Так вот надо сказать им, что каковы бы ни были наши внутренние отношения, но, когда речь идет о защите Родины, мы выступаем вместе... Разве не так?
— Что?.. — Крузенштерн впился глазами в лицо Щукина, словно не веря своим ушам. — О господи... Да если это так, если вы действительно готовы защищать Родину, Россию, то я... да я плевать хотел на все остальные наши противоречия!..
Но теперь уже Щукин внимательно посмотрел на него, потом на Липского и вдруг разозлился.
— Да ну вас, на самом деле... Послушайте, ведь сколько месяцев мы, большевики, вышли из подполья и ходим рядом с вами! Речи говорим, статьи пишем, наконец, и на фронте воюем, — так неужели вы до сих пор не уразумели, что все это мы делаем ради Родины, ради России?! И не только русские — Фомин, Тихменев, Петров, я, — но и армянин Мясникян, и латыш Ландер, и еврей Могилевский... Только надо понимать, что наш патриотизм шире, умнее, лучше вашего, так как мы не говорим «пусть другим будет хуже», а хотим, чтобы всем было хорошо! — Он отвернулся, чтоб отойти, но потом вспомнил и снова повернулся к Крузенштерну: — Ну так будете выступать или нет?
— Да конечно же! — ответил тот. — И раз так, я прошу оказать нам еще одну честь — поставить наши подписи под договором, каким бы он ни был... — Крузенштерн посмотрел на Липского, и тот поспешно кивнул в знак согласия. — И если вы согласны с этим, то попрошу написать мою фамилию полностью — фон Крузенштерн.
— Разве ваша фамилия начинается на «фон»? — удивленно воззрился на него Щукин.
— Да. Наш род происходит из эстляндских баронов, но со времен Петра Великого верой и правдой служит России, поэтому я мог бы спокойно носить фамилию фон Крузенштерн. Однако, когда началась эта война, я решил отбросить частичку «фон», чтобы меня не ставили в ряд тех, кто так бесстыдно продает и предает Россию... Но если вы обратили внимание, сегодня за нашим столом стой стороны сидят одни лишь «фон» и «цу»
— Понял, — радостно кивнул Щукин. — Это будет здорово... Пусть знают, что с нами находятся не только честные офицеры, но среди них есть даже лица с приставкой «фон» перед фамилией... Пусть знают это!
...Заседание возобновилось не через час, а гораздо позже. Немцы, даже не упоминая о собственном проекте договора, теперь направили все усилия на то, чтобы оспорить или хотя бы смягчить формулировку тех или иных пунктов русского проекта. С упорством бульдога Зауберцвейг вцеплялся в каждый из них, пытаясь или выдернуть его из договора или изменить в пользу немцев. Но Щукин проявлял не меньшую цепкость, а если и соглашался менять формулировку, то находил такую, которая лишь смягчала внешнюю форму, оставляя суть неизменной. И тогда немцы просили дать им время подумать и сразу же один из них выходил из зала, а потом, вернувшись, шушукался с генералом Зауберцвейгом. Было ясно, что они бегают согласовывать каждую формулировку с кем-то наверху, быть может с самим Гофманом, и только после этого решаются принять ее. Во время одного из таких вынужденных перерывов Крузенштерн, будто не замечая, что его слушают немцы, довольно громко сказал Липскому:
— Еще Мольтке-старший говорил, что самым несчастным полководцем является тот, который имеет над собой контроль и должен каждый день, каждый час давать отчет о своих предположениях, планах и намерениях... При такой системе должна разбиться всякая самостоятельность, всякое быстрое решение, всякий смелый риск, без которых нельзя вести ни одного серьезного дела.
Переводчик немцев, конечно, сейчас же перевел эти слова своим, а те, поняв, на что намекает русский офицер, вновь со всей остротой почувствовали превосходство этого солдата, руководителя русской делегации, над своим генералом. Они, конечно, знали, что Щукин даже при желании не мог бы связаться со своими. Но понимали и то, что он и не нуждается в этом, так как облечен широкими полномочиями, ибо ему полностью доверяют, считают способным решать самые ответственные государственные задачи. Это, но немецким понятиям, было дико и противоестественно и вызывало мысль, что при такой системе где-то неминуемо должна быть допущена страшная ошибка и наступит катастрофа, крах власти большевиков и всей России. И конечно, немцы даже в мыслях не могли допустить, что именно благодаря такой «порочной системе» этот самый солдат Степан Щукин впоследствии станет профессором, специалистом по философии и литературоведению и, овладев в совершенстве немецким и французским, будет преподавать на этих языках в международной ленинской школе...
Ну а пока обсуждение договора продвигалось черепашьими темпами. Прошел день, наступил вечер, потом прошла и полночь, и наконец они добрались до пункта 9 проекта договора, где говорилось о запрещении перебрасывать немецкие войска с Восточного фронта на Западный, к англо-французам. Здесь Зауберцвейг уже просто взбеленился.
— Господин Щукин! — прямо прорычал он. — Я заявляю, что этот пункт для нас совершенно неприемлем! Я еще понимаю, когда речь идет о запрещении перебрасывать войска с одного на другой участок русского фронта, но против англо-французов?! Да какое вам дело до них? Вы хотите выйти из войны — ну и отлично. А их предоставьте своей судьбе!
— Ошибаетесь, генерал, — спокойно возразил ему Щукин. — Вы рекомендуете нам путь предательства, чего у нас и в мыслях нет. Вы должны знать, что в первом декрете Советского правительства, в Декрете о мире, предлагается заключить мир между всеми воюющими державами, мир без аннексий и контрибуций. И мы еще верим, что остальные державы согласятся заключить такой мир... А сейчас, подавая им пример, мы не можем все же допустить, чтобы наше перемирие было использовано Германией и обернулось величайшим несчастьем для французского, английского, бельгийского народов. Мы не хотим, чтобы правительства союзных нам стран имели хоть малейший повод обвинять нас в предательстве...
— Да ведь вы и не сможете контролировать выполнение этого пункта! Неужели вы воображаете, что мы позволим вам объезжать наш фронт и инспектировать, какие части где стояли вчера и где находятся сегодня?
— На этот вопрос вам ответит капитан генерального штаба фон Крузенштерн, — заявил Щукин.
Все немцы пораженно уставились на вставшего капитана. В представленном русскими предварительном списке участников он числился просто как капитан Крузенштерн. А тут выясняется, что он — «фон»... Значит, немец? Дворянин? И — с большевиками заодно?..
А капитан начал свою речь с извинения за то, что вынужден напомнить господину генералу некоторые истины. Господин генерал, вероятно, полагает, что русские, занятые революцией, совсем перестали заниматься, скажем, разведкой. А это, конечно, далеко не так. Русская разведка, как и разведки других воюющих стран, продолжает всеми доступными средствами собирать сведения о противнике. Более того, в настоящее время ее возможности даже увеличились, так как германская армия находится на оккупированной ею территории, где население терпит всяческие притеснения и, естественно, оказывает содействие русской разведке. Наконец, для немецкого командования едва ли должно быть секретом, что русская революция, в особенности Октябрьская, вызвала симпатии значительной часта немецких солдат и последние не желали бы стать душителями революции. Вот почему русскому командованию достоверно известно и расположение немецких воинских частей, и сколько в них живой силы и оружия, и кто ими командует...
Глаза Зауберцвейга от гнева все более округлялись, но Крузенштерну это, казалось, только доставляло удовольствие. Приведя для примера ряд сведений о немецких дивизиях и корпусах на передней линии фронта, он продолжал:
— Мы смеем уверить вас, господа, что если какие-либо пункты заключенного договора о перемирии будут нарушены, в частности если будет сделана попытка перебросить тайно войска с нашего фронта на Запад, то нам не нужно будет специально инспектировать ваш фронт, чтобы узнать об этом...
— Вот как?.. — почти взревел Зауберцвейг. — И что же из этого? Что вы сделаете тогда, капитан фон Крузенштерн?
Крузенштерн запнулся, так как понимал, что отвечать от имени Советского правительства или даже военно-революционного комитета он не может, поэтому повернулся к Щукину и вопросительно посмотрел на него. Тот сделал ему знак сесть и поднялся сам.
— Будет очень плохо, господин генерал, — тоном серьезного предупреждения сказал он. — Тогда мы будем иметь полное основание сказать нашим солдатам и народу, что искренне и честно хотели прекратить войну, но германская сторона не захотела этого, поэтому мы и вынуждены продолжать войну, но уже как справедливую, революционную войну. Кстати, тогда станет еще более ясно, насколько мы были правы, требуя включения в договор пункта, защищающего интересы наших союзников...
Даже для такого прямолинейного солдафона было ясно, какая угроза таится в этих словах. Тем не менее он не мог сразу пойти на попятный, поэтому еще раз, но уже деланно непоколебимым тоном, заявив, что требование русских неприемлемо, предложил устроить перерыв для обсуждения создавшейся ситуации.
Когда русские снова очутились в своей комнате, оказалось, что уже четыре часа ночи. Однако никто не чувствовал усталости, все были крайне возбуждены только что происшедшим спором.
Крузенштерн снова подошел к Щукину и с виноватым видом сказал:
— Похоже, я здорово разозлил этого пруссака своим заявлением о настроении немецких солдат, а? Может быть, не нужно было упоминать об этом, говоря о деятельности нашей разведки?
— Почему? Наоборот, это вы здорово ввернули. Что теперь их солдаты нам весьма сочувствуют — это они знают и без нас, но одно дело услышать такое от меня, большевика и солдата, другое — от вас, офицера генерального штаба... Это, знаете, страшновато!
— Ну а если говорить серьезно, как мы поступим в случае их отказа подписать договор с таким пунктом? — с тревогой спросил Липский.
И вновь Щукин с удивлением посмотрел на него:
— Неужели вы думаете, что я просто блефовал там? Да нет, поймите, мы не можем оставить их руки свободными в вопросе переброски войск на Западный фронт! Не можем, так как они, создав там перевес сил и разбив англо-французов, потом могут повернуться и накинуться на нас. Вот почему, если они начнут артачиться, мы уйдем отсюда, не подписав перемирия.
Липский многозначительно посмотрел на Крузенштерна и, кивнув куда-то в сторону, воскликнул:
— А ведь скажи об этом там — ни за что не поверят! Щукин, сделав вид, что не понимает, о ком идет речь, другим тоном продолжал:
— Но немцы согласятся, не беспокойтесь. Им перемирие, повторяю, нужно не меньше, чем нам, иначе они не стали бы садиться за стол переговоров.
И он оказался совершенно прав. Когда делегации вновь собрались вместе и Щукин твердо повторил, что русская сторона ни за что не подпишет договор без этого пункта, — Зауберцвейг предложил найти хотя бы другую формулировку. И после долгих споров было решено, что о запрещении перебрасывать войска с Восточного на Западный фронт будет сказано не в самом договоре, а в «техническом разъяснении к статье 9 договора», что, конечно, нисколько не меняло сути дела.
Следующие две статьи — 11-я и 12-я, — в которых говорилось о братании русских и немецких солдат, тоже вызвали яростное сопротивление. Зауберцвейг с возмущением говорил, что само понятие «братание» солдат различных армий является «чудовищным и аморальным», ибо ведь армии призваны защищать свои страны и уже по этой причине не могут, не должны испытывать никаких «братских» чувств к солдатам какой-либо другой армии. Отсюда понятно, что «братание», проводимое по инициативе русских, есть не что иное, как нечестная политика, попытка внести разложение в германскую армию, подбросить головешки от собственного горящего дома в чужой дом, распространить русскую революцию в Германию. И немецкое командование ни за что и ни в коем случае не может допустить включения такой статьи в договор...
Липский и Крузенштерн, которые совсем недавно относились столь же враждебно к братанию русских и немецких солдат, теперь не представляли, что же может ответить Щукин? И вновь были поражены, когда тот, как ни в чем не бывало, начал методично отметать эти, кажущиеся им столь логичными, доводы Зауберцвейга.
— Простите, господин генерал, — слегка усмехаясь, отвечал он, — но ваши представления об армиях, как бы это сказать... устарели, что ли... Сегодняшние многомиллионные армии, составленные в основном из представителей трудового Народа, уже не хотят быть слепым орудием в руках правительств, понимаете? Они все больше становятся выразителями интересов и настроений своих народов, понимаете? А поскольку народным массам всех стран — всех, а не только России! — война приносит кровь, слезы и страдания, то эти массы начинают понимать ненужность и вредность войны, у них появляется желание покончить с ней, воткнуть штык в землю и брататься с солдатами, к которым до этого им внушали ненависть. Вы вот, господин генерал, говорили, что братание на фронте проводится по инициативе русских, преследующих разные темные цели... Что же, по-вашему, у немецких солдат нет стремления к миру, нет желания поскорей кончить войну? Выходит, если мы здесь подпишем договор о перемирии, о прекращении огня и кровопролития, то немецкие солдаты будут вроде бы недовольны этим, возможно, начнут роптать против вас: зачем, мол, вы сделали это, мы хотим и дальше воевать?.. — Щукин обвел насмешливым взором присутствующих и продолжал: — Надеюсь, никто здесь не станет утверждать такую — я извиняюсь, что не могу найти другого слова, — чушь... Вы знаете, что будет как раз наоборот: если вы не подпишите договора о перемирии — вот тогда-то и поднимется ропот и недовольство. И тогда братание как выражение стремления немецких солдат к миру примет еще большие размеры, поверьте. А если вы, продолжая не понимать, что от чего происходит, попытаетесь насильственно мешать этому братанию, то как думаете: не захотят ли тогда немецкие солдаты поступить так же, как поступили русские, то есть сбросить тех, кто мешает им поскорей покончить с проклятой войной?.. А ведь это и будет то самое «подбрасывание горящих головешек», о котором говорили вы, господин генерал. Но только уж тогда не вздумайте валить вину на нас, русских большевиков, а пеняйте на себя...
С точки зрения дипломатии тон этой речи был ужасен. И дело было не только в том, что Щукин, пренебрегая старой истиной, гласящей, что «язык дан дипломатам, чтобы скрывать свои мысли», поступал совсем наоборот и «резал правду-матку». Еще необычнее было то, что он, не стесняясь, называл немцев, в сущности, политически малограмотными людьми и поэтому подробно разъяснял, как нужно понимать создавшуюся ситуацию, какие опасности они могут навлечь на себя из-за непонимания окружающей реальной действительности и допущенных ошибок...
Липский и Крузенштерн вспоминали, как бесила эта манера большевиков разговаривать со своими противниками, в частности с русскими офицерами. Вспоминали также разговоры последних между собой. Разговоры о том, что виноваты сами русские офицеры, ибо до этого слишком, мол, они были аполитичны, не интересовались ни тем, какие в России есть партии, ни тем, чего добивается каждая из них. Ведь они не владели даже элементарной политической терминологией, и вот, когда началась революция, выяснилось, что каждый полковой писаришка, каждый солдат из бывших фабричных способен переспорить любого офицера на политических дискуссиях. А вот у европейцев — у англичан, французов, немцев — совсем иное. Там военные, ежедневно читающие в газетах парламентские дебаты, знающие все о политических партиях, конечно, способны дать отпор любому краснобаю-агитатору. Потому-де там и нет революции, потому и офицерство крепко держит в своих руках армию.
И вот теперь, глядя на потерявшего самообладание Зауберцвейга, русские офицеры с острым любопытством следили за его логикой: ну-ка, ну-ка... Посмотрим, что вы скажете этому солдату, какими словами, какими доводами заставите его отступить, отказаться от своих требований...
И с невольным злорадством отмечали, что ни у этого немецкого генерала, ни у остальных офицеров нет таких слов и доводов, что они столь же беспомощны перед логикой большевиков, сколь были беспомощны русские офицеры, поэтому вынуждены лишь с тупым упрямством долдонить, что все равно не могут допустить пункта о братании солдат в договоре.
Между тем Щукин согласился на очередную уступку: предложил заменить в статье 12 столь пугающее немцев слово «братание» иносказательным выражением «существовавший до сих пор обмен сообщениями», отметив при этом, что «он (обмен) может состояться лишь в тех местах, которые... точно обозначены», но что «вход в нейтральную зону допускается с рассвета до наступления темноты». В той же статье 12 русские добились даже большего, внеся фразу о том, что против немецких солдат, перешедших за колючую проволоку, «не могут быть применены насильственные меры».
Вынужденные принять русские условия в столь решающих вопросах, как запрещение перебрасывать войска на другие участки и фронты и братание войск, немцы уже не стали упираться в остальных пунктах, и во второй половине дня 21 ноября начисто отпечатанные на немецком и русском языках тексты легли на стол для подписи.
Вероятно, для того, чтобы хоть здесь подчеркнуть свое превосходство над русскими, немцы требовали, чтобы перед каждой фамилией были указаны чин и звание. Поэтому со стороны немцев договор подписали уполномоченные главного командования германского Восточного фронта: генерал-майор фон Зауберцвейг, майор фон Альтен, ротмистр цу Эйленбург, капитан Меркер.
С русской же стороны подписи выглядели так: солдат Щукин, солдат Фомин, младший унтер-офицер Берсон, доктор Тихменев, доктор Петров, солдат Лукьянов, солдат Школьников, солдат Яркин, секретарь Хрусталев.
И лишь в конце стояло: военно-технические советники полковник Липский и капитан фон Крузенштерн.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
21 ноября, в то самое время, когда в Солах представители русской и немецкой армий подписывали договор о перемирии, в Минске развернулись иные события.
Едва открылось утреннее заседание фронтового съезда, едва члены президиума расселись по местам и председательствующий дал слово очередному оратору, как вдруг из-за кулис на сцену торопливо прошел Могилевский и, склонившись к Мясникову, что-то произнес. Тот быстро поднялся, прервал оратора и громко сообщил залу:
— Товарищи! Поступило чрезвычайное сообщение: кавалерийская часть Польского корпуса, находящаяся в Минске, подняла мятеж и совершила нападение на Минский Совет и военревком, а часть мятежников направляется сюда, по-видимому, с целью разогнать съезд... Спокойно, товарищи, спокойно... Предлагаю всем делегатам, имеющим оружие, занять круговую оборону вокруг здания театра для отражения атаки. А членам ВРК — немедленно собраться в комнате президиума на экстренное совещание.
Непосредственным поводом для выступления именно польской части явилось признание закрывшимся накануне Третьим съездом крестьянских депутатов Минской и Виленской губерний декрета о национализации земли. Поскольку значительная часть офицеров Польского корпуса вышла из среды помещиков этих губерний, они яростно ненавидели этот декрет.
Конечно, польские офицеры не решились бы пуститься в эту авантюру — силой разогнать фронтовой съезд, — если бы в канун открытия съезда из города в сторону Могилева не отправились полк имени Минского Совета и бронепоезд имени Ленина. Помня, что в недавних событиях обе эти части были основной силой, решившей победу большевиков в Минске, польские офицеры считали, что с их уходом оставшиеся в городе большевистские силы, захваченные врасплох, попросту разбегутся, если на них внезапно напасть.
Но их расчеты оказались ошибочными. Большевики держали в боевой готовности 37-й запасный и подтянутые в город 80-й Сибирский и 12-й Туркестанский полки, красногвардейские отряды, бронеавтомобили и другие подразделения. Вокруг военревкома и штаба была выставлена усиленная охрана.
Вот почему, как только показались первые польские уланы и раздались выстрелы по зданию Совета, охрана сразу встретила врага дружным и сильным огнем. Комендант города Кривошеин, находящийся в военревкоме, немедленно связался по телефону с полками и поднял их по тревоге. Туркестанский полк был направлен против казарм легионеров. Эти части начали методически прочесывать улицы, разоружая и арестовывая всех встречающихся польских легионеров, в особенности офицеров.
Арест самого Довбор-Мусницкого был поручен группе красногвардейцев во главе с... доктором Терентьевой. И она с поразительной лихостью справилась с этой задачей. Подойдя к особняку в тихом переулке, где жил генерал, ее группа сначала бесшумно сняла наружную охрану, затем, войдя в дом, разоружила охранника-легионера, после чего арестовала Довбор-Мусницкого и конвоировала в военно-революционный комитет, к Кривошеину.
К тому времени Мясников, Орджоникидзе и Володарский уже были в здании Совета. Возбужденные и разгневанные беспримерной наглостью офицеров Польского корпуса, они теперь обсуждали, как быть с ними дальше.
— Товарищи, пора покончить с этим корпусом, — не повышая голоса, но с потемневшими от гнева глазами говорил Каменщиков. — Вам известно, что корпус этот начал формироваться еще при Керенском — якобы для борьбы с немцами. Однако с самого начала во главе корпуса стали контрреволюционно настроенные генералы и офицеры. Со дня Октябрьской революции корпус неизменно выступал на стороне «комитета спасения революции», а сегодняшнее выступление их кавалерийской части доказывает, что корпус и дальше будет представлять собой только угрозу революции. Вот почему мы должны прекратить формирование корпуса, а уже созданные части разоружить и распустить.
С Каменщиковым были согласны почти все члены военревкома. Да и Мясников в душе был солидарен с ним. Ведь он еще в конце мая этого года, выступая на заседании Фронтового комитета, указывал, что организация национальных войск, начатая Временным правительством, ведет армию по дуги сепаратизма и национализма, что со временем национальные части могут сыграть контрреволюционную роль, поскольку их могут использовать против решения общегосударственных задач, во имя националистических вожделений буржуазии разных наций. Однако он сейчас понимал и то, что раз эти войска уже организованы, то роспуск их становится весьма деликатным делом и рубить с плеча здесь нельзя. И то же самое подтвердил Орджоникидзе, когда все высказались.
— Мне отлично понятны ваши чувства, — терпеливо объяснял он. — После опубликования «Декларации прав народов России» мы не можем запретить формирование национальных частей. Поймите, декларация принята нами не формально, не для отвода глаз. Если даже самоопределение наций и отделение от России произойдет под главенством национальной буржуазии, как это, по-видимому, будет иметь место в Финляндии, то принцип самоопределения настолько важен для нас, что мы не будем препятствовать этому. А раз так, то как же мы можем запретить формирование Польского корпуса? Ведь Польша захвачена немецкими империалистами и польский народ имеет право бороться за свободу своей родины!
— Да, — со вздохом согласился Мясников. — Но мы должны противопоставить революционную массу солдат контрреволюционным генералам и офицерам. Надо усилить нашу работу в этой массе, склонить ее на нашу сторону, создавать солдатские комитеты, издавать для них газету на польском языке...
И в это время в ВРК прибыли представители Комитета по формированию Польского корпуса. Это были в основном польские помещики, чьи политические симпатии ни у кого не вызывали сомнений. Но сейчас они вели себя смиренно, начали уверять, что выступление кавалеристов произошло не только без их ведома, но даже без ведома командования Польского корпуса, что это было чуть ли не «баловством» группы пьяных офицеров.
Мясников, прервав эти излияния, напомнил им, что именно командование корпуса в период после 25 октября занимало позицию явно враждебную Советской власти в Минске. Поэтому сейчас военно-революционный комитет больше не намерен мириться с пребыванием польских частей в городе и предлагает в течение 24 часов вывести их в район Слуцка и туда же передислоцировать штаб корпуса. В случае же отказа эти части будут разоружены и дальнейшее формирование корпуса запрещено.
Представители Польского комитета, чувствуя, что вопрос поставлен весьма серьезно, быстро согласились с этими условиями. Но вызванный из подвала генерал Довбор-Мусницкий начал резко протестовать, что вынудило Мясникова заявить ему:
— Послушайте, генерал! Мне ведь еще предстоит нелегкий разговор с нашими солдатами, требующими сурово наказать вас лично и всех участников сегодняшнего выступления. Для этого я должен быть сам убежден, что правильно поступаю, отпуская вас с миром. А вы сейчас заставляете меня сомневаться в этом!
Члены Польского комитета заволновались, зашумели, наступая со всех сторон на Довбор-Мусницкого и требуя, чтобы тот замолчал. И вновь, обернувшись к Мясникову, стали уверять, что Польский комитет полностью согласен вывести войска и штаб корпуса из Минска и просит считать инцидент исчерпанным.
Через несколько часов польские части начали покидать город, а съезд возобновил работу.
Самым важным вопросом, который обсуждал съезд, был, пожалуй, вопрос о демократизации армии. И хотя основные положения резолюции о демократизации армии были разработаны партией еще летом этого года, но события в стране и Минске после Октября, и в особенности путч польских легионеров 21 ноября, придали этим положениям особую актуальность и убедительность.
Да, после похода Краснова на Питер, бешеного сопротивления Духонина и ставки стараниям большевиков заключить мир, после того, как на Дону и Кубани начались первые контрреволюционные восстания под руководством Каледина и Караулова, после того, как Корнилов и Деникин, бежав из Быхова, направились на юг, чтобы стать во главе «белого движения», от генералов и офицеров ожидались самые опасные акции, поэтому были продуманы все меры, чтобы лишить старое офицерство возможности влиять на армию и повести ее за собой.
Вот почему в резолюции о демократизации армии предусматривалось, что вся полнота власти в пределах каждой войсковой части принадлежит соответствующему солдатскому комитету. Оперативно-боевая часть, снабжение и санитарная часть ставились под контроль комитетов и комиссаров. Отменялись офицерские и унтер-офицерские звания, упразднялись отличия и вводилась единообразная форма для всех солдат. Командный состав должен был избираться сверху донизу.
Пройдет совсем немного времени, в громе битв гражданской войны из среды солдат и верных народу офицеров вырастут замечательные командиры и полководцы, и тогда Красная Армия сочтет возможным отказаться от принципа выборности командиров, а затем и от многих других принципов этого первого периода создания новой армии.
Ну а пока съезд в Минске принял резолюцию о демократизации армии бурей оваций. Немедленно все сидящие в президиуме офицеры и солдаты начали срезать друг у друга погоны, снимать ордена и медали. И тогда то же самое начали делать присутствующие в зале делегаты и гости.
Потом к трибуне подошел Серго Орджоникидзе.
— Товарищи! — начал он. — Сейчас вы приняли важное постановление о выборности командиров всех степеней, чтобы во главе всех подразделений, частей и соединений стояли люди, пользующиеся доверием солдатской массы и способные вести дела в интересах народа и революции... В частности, фронтовой съезд должен выбрать самую главную фигуру Западного фронта, его главнокомандующего, поскольку ход предыдущих событий показал, насколько важную роль может сыграть человек, занимающий этот пост, как много вреда может причинить, если своими взглядами и симпатиями находится не с народными массами, а против них, и наоборот, как много может, если своим происхождением, своими взглядами является плотью от плоти народа, если понимает душу солдат и готов отдать все силы, всю свою жизнь делу торжества народной революции... К счастью, на Западном фронте уже есть такой человек, который все это время действовал у вас на глазах, проявил себя как подлинный народный вождь и которого наш Центральный Комитет партии во главе с товарищем Лениным горячо рекомендует избрать в качестве главнокомандующего Западным фронтом...
Орджоникидзе так и не успел назвать имя этого человека, потому что весь зал, поднявшись в едином порыве, с ликованием начал аплодировать и кричать: «Да здравствует главнокомандующий Мясников! Да здравствует наш Алеша!»
...Пройдут годы, Орджоникидзе скажет: «Помню его в ноябре 1917 года... в тот момент, когда громадный съезд стоя встречал выбранного им нового революционного командующего. И когда на сцене появился в серенькой шинели Алеша, весь съезд бушевал, приветствуя своего командующего. Алеша сменил тогда царских генералов-золотопогонников. Он был генерал, рожденный Октябрьской революцией...»
Виктор Иванович Евгеньев, попав после боя на Срубовских высотах в минский госпиталь, узнал там, что в авиаотряде Второй армии все летчики-офицеры после армейского съезда попросту разбежались. А вслед за ними разошлись и механики, оставшиеся без надзора, а главное без дела. И, по его глубокому убеждению, скоро так будет везде: летчики из дворян, как правило не принявшие большевистскую революцию, уйдут из армии, союзники перестанут снабжать Россию материальной частью, а то, что имеется, будет брошено без присмотра, разграблено и испорчено в течение этой зимы. И русская авиация будет парализована, по крайней мере на ближайшие несколько лет...
Но что же тогда делать ему, военному летчику? Пойти в пехоту?..
Евгеньев уразумел страшную для себя правду: его жена лучше знала и понимала солдат, чем он, потомственный военный и офицер. Когда она в тот памятный день их ссоры в Несвиже рассказывала ему, что познакомилась с двумя гренадерами, «изумительно цельными людьми, умными и морально здоровыми», он, Евгеньев, не придал значения этой характеристике. А вот после его ранения он познакомился с обоими гренадерами, Марьиным и Пролыгиным, после чего не мог не признать полную правоту жены. Она лучше понимала их не только в силу своего умения разбираться в людях, но и потому, что с первых дней войны встречалась в госпитале со множеством раненых солдат, видела их страдания, слышала их рассказы о положении на фронте и прежней жизни дома, читала им письма, полученные от родных, и писала письма и прошения (в том числе и министру Шингареву!). И потому-то она, как полковник Водарский и многие другие, ничего не понимая в теориях большевиков, чувствовала: правда на их стороне, надо идти с ними. А он, Евгеньев, не захотел прислушаться к ее искреннему, от сердца идущему голосу. Оскорбил там, в Несвиже, когда она приезжала к нему из Городеи, а потом еще раз оттолкнул от себя в санпоезде. Так надо ли удивляться, что в Минске, когда Евгеньева вместе с другими ранеными должны были отправить в госпиталь, к нему на перроне подошла Белла и холодно сказала: «Я не знаю, что происходит с тобой, Виктор, но я устала от твоих выходок». И ушла к санпоезду, который должен был тут же вернуться в Погорельцы за новой партией раненых...
Вот так. И с тех пор действительно ни разу не появлялась здесь, отчего Евгеньев и решил, что в ее сердце не осталось места для него. И теперь его долгом является только одно: уехать отсюда подальше. К счастью, в это время рядом с ним появился человек, который, как он полагал, мог помочь ему в этом. Уже на другой день в госпитале Евгеньев взял у кого-то газету «Звезда» и первое, что прочитал, было сообщение о прибытии в Минск бронепоезда, который «принял под свою охрану Минский Совет и весь город».
И каково было удивление Евгеньева, когда несколько дней спустя в палату пришел незнакомый ему кряжистый солдат и просто представился:
— Моя фамилия Пролыгин. Может, ваша жена говорила, что мы знакомы с ней?
— Пролыгин?.. — Евгеньев с удивлением рассматривал его усатое лицо с веселыми глазами. — Простите, не тот ли вы Пролыгин, который командовал бронепоездом?
— Тот самый, — улыбнулся гость. — И продолжаю командовать до сих пор. Ну, как вы чувствуете себя? Как рана, заживает?
И дальше сказал, что гренадеры, с которыми он шел в атаку, считают Евгеньева своим и поэтому поручили ему, Пролыгину, навещать его, и если нужно, то оказывать помощь и содействие, а главное, пожелать ему скорейшего выздоровления. Евгеньев был растроган. Естественно, он стал расспрашивать Пролыгина о подробностях похода бронепоезда на Минск. И когда тот просто, скорее в комических, чем в героических, тонах рассказал о походе бронепоезда на Минск, то Евгеньев невольно признал, что перед ним сидит человек незаурядный... И тогда его вдруг больно кольнула мысль, что Изабелла раньше, чем он сам, успела познакомиться и по достоинству оценить как Марьина, так и этого, теперь уже ставшего знаменитостью на весь фронт, солдата и что визит Пролыгина к нему продиктован отчасти и тем, что Евгеньев — муж сестры милосердия Евгеньевой, завоевавшей уважение этих солдат...
В разговоре Виктор Иванович поинтересовался тем, что же будет с арестованными Ждановым и Колотухиным. Пролыгин пожал плечами.
— Ну вы же знаете, их отправили в Петроград.
— А там что? Будут судить, расстреляют? Пролыгин, прежде чем ответить, немного помедлил:
— Не думаю... Скорей всего, отпустят на все четыре стороны.
— Как? — поразился Евгеньев. — После того, что они хотели развязать здесь гражданскую войну, после того, как они чуть не устроили крушение вашего и санитарного поездов, наконец, после того, как они явно действовали в сговоре с врагом против Гренадерского корпуса?!
Пролыгин, внимательно посмотрев на него, почему-то усмехнулся.
— Ну а скажите, разве Временное правительство не хотело сдать Питер немцам? И разве уже не начали гражданскую войну, не пошли походом против революционного Петрограда, не проливали кровь?.. А кто их судил, кто требовал от них ответа? Взяли честное слово, что не будут больше бороться против власти Советов, и отпустили с миром. — Он еще раз внимательно посмотрел на недоумевающее лицо Евгеньева и вновь усмехнулся: — Не одобряете?
— Просто не могу понять логику этого шага, — признался тот.
— Видите ли, я тоже не понимал, поэтому не дальше как вчера говорил об этом с товарищем Алешей... И вот как он мне растолковал это дело: мы надеемся, что многие из вас искренне ошиблись насчет желаний и настроений народных масс и только поэтому пошли против их воли, мы пока не хотим наказывать никого за прошлые грехи, не хотим проливать кровь и отпускаем под честное слово... Понимаете, Виктор Иванович? Мы не хотим первыми начинать междоусобицу, враждовать, мстить и расстреливать, что было — было...
Евгеньев вдруг вспомнил о своих сослуживцах по Гатчинской школе, вспомнил Веригина и других офицеров в штабе Второй армии и задумчиво покачал головой.
— Боюсь, это великодушие может обойтись очень дорого... Поверьте, они нисколько не оценят это. Что им стоит дать «честное слово» вам, — извините, «быдлу», «хамью», решившему отнять у них богатство и власть...
— Все? — спросил Пролыгин, заглядывая ему в глаза. — Ну вот вы, например, выходец из их класса, а как говорите о них... А разве вы сразу дошли до понимания этого? И разве мало среди ваших людей тех, кто еще не разобрался, не понял, где правда и где кривда? Надо же дать им подумать, посмотреть, понюхать, потрогать и потом на что-то решиться... А те, что уже решились пойти против нас, готовы пролить кровь, — тех мы раздавим. Но вина за это будет уже не наша, понимаете?
...Вот после нескольких таких встреч и разговоров с Пролыгиным Евгеньев, узнав, что тот направляется со своим бронепоездом против ставки в Могилев, попросился к нему на бронепоезд. Но Пролыгин, услышав эту просьбу, как-то криво усмехнулся, промолвил: «Эх, Виктор Иванович, Виктор Иванович, не о том вы говорите, не о том думаете...» И, попрощавшись, ушел, чтобы на следующий день отбыть из Минска.
А еще через неделю, 25 ноября, сидя в своей больничной палате, Евгеньев раскрыл газету «Звезда» и прочитал в разделе «Последние известия» следующее сообщение:
«Главнокомандующий армиями Западного фронта тов. А.Ф. Мясников.
Второй фронтовой съезд армий Западного фронта избрал главнокомандующим фронтом тов. Александра Федоровича Мясникова. Тов. А.Ф. Мясников — вождь революционного движения на Западном фронте, тов. Мясников создал здесь ту мощную организацию масс, которая ныне победила. Тов. Мясников, опираясь на эту мощную организацию, ныне становится во главе армии.
Да здравствует Первый выборный главнокомандующий Российской народной армии».
Прочитав это, Евгеньев минуту застывшими глазами смотрел в одну точку. Он, конечно, сразу вспомнил разговор, который состоялся во время их первой встречи... Вот так, поручик Евгеньев, понятно ли тебе, что произошло? А теперь давай вспомним, что тогда, во время того же разговора, этот прапорщик выразил уверенность, что и ты, при твоих знаниях и опыте, мог бы стать во главе авиашколы и значительно улучшить подготовку летчиков... Как же ты отнесся к этому заявлению? Ты тогда изволил возмутиться, ибо понял, что он считал возможным такое превращение только при условии твоего полного разрыва с господами «волобуевыми-пещерскими» (так, кажется, назвала «их» тогда Белла?) и перехода на сторону народа... Да, уже тогда, после того, что случилось с тобой в школе авиаторов, этот проницательный человек считал, что ты не только имеешь все основания, но и обязан совершить переход из одного лагеря в другой. Но сколько понадобилось тебе времени, чтобы совершить этот переход! Ведь ты же летчик, профессия которого требует мгновенной реакции, особенно в бурную погоду, когда малейшее промедление может привести к катастрофе... А ты медлил, колебался, не решался сделать этот поворот — и вот лежишь, распластанный на земле, среди обломков карьеры летчика и твоей, увы, столь короткой семейной жизни... И никого, никого ты не имеешь права винить, кроме самого себя.
Его раздумья были прерваны чьим-то возгласом:
— Вон он сидит там!
Он поднял голову и увидел в дверях главного врача госпиталя и какую-то широколицую женщину в накинутом на плечи белом халате. Они подошли к его койке, и главный врач представил ее:
— Познакомьтесь, Виктор Иванович: доктор Терентьева из военревкома... — Последнее слово он произнес с ударением.
Евгеньев вопросительно посмотрел на нее.
— Аркадий Ефимович утверждает, — сказала она, кивнув на главного врача, — что вы уже вполне выздоровели и можете хоть сейчас выписаться из госпиталя. Но я хотела бы от вас самого узнать: чувствуете ли вы себя столь хорошо, чтобы выписаться? Хотите вы этого?
— Разумеется, хочу, — сказал Евгеньев. — Но, прошу прощения....
— Очень хорошо, — прервала его Терентьева и обернулась к главному врачу: — Тогда прошу поскорей оформить выписку товарища Евгеньева. — Она снова повернулась к Виктору Ивановичу: — Мы с вами прямо отсюда отправимся в штаб фронта, вас вызывает к себе главком...
— Главком? — поразился Евгеньев. — А для чего?
— Этого он мне не говорил, — пожала плечами Терентьева. — Только поручил установить, можете ли вы действительно выписаться из госпиталя, и, если да, просил сразу привести вас к нему. Так что я буду ждать вас внизу.
И только когда она повернулась, чтоб уйти, Евгеньев вспомнил: «О, да это та самая доктор Терентьева из военревкома, которая на днях, как рассказывали, самолично арестовала генерала Довбор-Мусницкого!»
Когда минут через сорок он вошел в кабинет главкома, то был несколько растерян: только что закончившийся фронтовой съезд принял постановление о демократизации армии, согласно которому отменялись все чины, погоны и прочие атрибуты армейской иерархии. Поэтому теперь Евгеньев не знал, должен ли он рапортовать новому главкому о прибытии, и если да, то в какой форме. Замешательство его стало сильнее, когда он увидел, что кроме Мясникова в кабинете находятся еще двое, да к тому же штатские. Один из них явно кавказец — с копной черных курчавых волос, длинными усами и орлиным носом.
Выйдя из-за стола, Мясников (он уже был без погон, но все еще носил портупею) пошел навстречу Евгеньеву.
— Здравствуйте, Виктор Иванович, — сказал он с улыбкой, пожимая руку. — Рад снова видеть вас живым-здоровым... Впрочем, в самом ли деле вы уже здоровы? Вполне?
— О, конечно, конечно! — поспешил заверить его Евгеньев и снова с любопытством посмотрел на штатских, решительно не понимая, почему Мясников принимает его в их присутствии.
— Познакомьтесь, — поймав его взгляд, сказал Мясников. — Это товарищи Орджоникидзе и Володарский.
Он, видимо, не сомневался, что более подробно представлять этих лиц не нужно. И, пожимая им руки, Евгеньев невольно подумал: «Господи, да они же моего возраста!»
— Садитесь, Виктор Иванович, — пригласил его Мясников и, пройдя на свое место, спросил: — Вас, конечно, интересует, для чего мы вас вызвали? Видите ли, товарищи Орджоникидзе и Володарский сегодня ночью уезжают в Питер, и я вызвал вас, чтобы выяснить, можете и хотите ли вы ехать с ними туда...
— Выехать в Петроград? Простите, но с какой целью?
— Ну, цель, как вы, вероятно, догадываетесь, связана с авиацией. Я ведь помню наш разговор в поезде об этом. Помню, с какой болью вы рассказывали об отставании нашей отечественной авиации и о порядках в Гатчинской школе авиаторов и как вы, еще задолго до Февральской революции, попытались в одиночку бороться с этими явлениями и дорого поплатились... Я уже тогда почувствовал, что честность и искренний патриотизм заставят вас отказаться от позиции «бунтаря-одиночки» и прийти к нам... Я думаю, что мы имеем право считать вас тем человеком, который должен помочь нам в решении многих важных вопросов... Я ведь не ошибаюсь?
Евгеньев смотрел на него широко раскрытыми глазами и пораженно думал: «Вот оно как... Вот оно как...»
— И вот я рассказал обо всем этом товарищам Орджоникидзе и Володарскому, представителям высших органов нашей партии и государства, и предложил им использовать вас, ваши знания и опыт для развития отечественной авиации...
— Товарищ Мясников говорил нам, — впервые заговорил Орджоникидзе, — что вы можете быстро составить нечто вроде краткого наставления по обучению курсантов летному делу... Так ли это?
— Конечно... — быстро кивнул Евгеньев. — Но вы, вероятно, не совсем ясно... простите, что вынужден говорить об этом... не совсем ясно представляете положение, в котором находится наша авиация... Боюсь, что такое наставление ей сегодня уже не нужно...
— Почему же? — прервал его Орджоникидзе. — Обстановку в целом представляем. Россия имеет слаборазвитую отечественную авиационную промышленность, аэропланы мы получали в основном от союзников, что при нынешней ситуации, конечно, невозможно... С другой стороны, летчики наши вербовались в подавляющем большинстве из представителей тех классов, против которых направлена наша революция, рассчитывать на них мы не можем... Поэтому русская авиация, и без того слабая, отсталая, в ближайшее время обречена если не на смерть, то на самое жалкое существование... Вы это хотели сказать, товарищ Евгеньев?
Евгеньев, пораженный тем, что этот человек, казавшийся ему только партийным деятелем, далеким от технических проблем авиации, так точно представляет себе хотя бы общую картину в этой области, теперь только кивнул. И тут вмешался Володарский:
— Но ведь Россия, новая, социалистическая Россия, не может существовать без развитой авиации, правда? — мягким голосом спросил он. — Мы совершили эту революцию для того, чтобы как раз устранить все социальные причины, мешающие России стать высоко развитой во всех отношениях страной. Мы должны иметь передовую промышленность, и в том числе авиационную... Понимаете?
— Правда, мы не знаем, как скоро сможем приступить к выполнению этой задачи, — снова вставил Орджоникидзе. — Боюсь, что враги революции не дадут нам заниматься мирным устройством наших дел, а заставят некоторое время тратить все наши усилия на защиту завоеваний революции, на защиту Советской власти, при которой только и возможно такое развитие промышленности. Но рано или поздно мы начнем это делать, поверьте, товарищ Евгеньев. И поэтому нужно, чтобы уже сейчас, уже сегодня мы начали готовиться к этому, готовиться серьезно и по-деловому...
Мясников все это время с молчаливой улыбкой следил за Евгеньевым, примерно догадываясь, что тот чувствует и думает. И решил внести окончательную ясность:
— Вот и выходит, что мы должны разбить наши планы с авиацией на два этапа: ближайший и более отдаленный, долгосрочный. Ближайший план, конечно, будет скромным: собрать вокруг Советской власти всех честных летчиков — таких, как вы, — всех механиков и других специалистов, собрать имеющуюся материальную часть, привести ее в порядок, чинить, латать и пустить в дело. Это нужно, во-первых, для защиты революции, а главное, для подготовки красных летчиков на будущее, когда мы начнем производить свои, отечественные самолеты...
— Теперь вы понимаете, для чего нам нужно уже сейчас иметь наставления, о которых мы говорили? — спросил Орджоникидзе. — Едемте с нами, — продолжал он. — Отправитесь в Гатчину, посмотрите, что и кто там остался, что нужно сделать, чтобы школа начала снова функционировать и готовить летчиков. Потом вы доложите ваши соображения, и мы войдем в правительство с соответствующими предложениями. Согласны? Евгеньев встал и вытянулся:
— Когда прикажете быть готовым к выезду?
— Мы отправляемся в Питер сегодня ночью. Успеете приготовиться?
— Буду готов. Разрешите идти?
— Подождите, Виктор Иванович, — с мягкой улыбкой вмешался Мясников. — Вы ведь уезжаете из Минска навсегда. А у вас есть жена, которую оставлять здесь уже незачем. Стало быть, надо и ее спросить, готова ли она сегодня же выехать...
«Жена... Зачем он затронул здесь этот вопрос? И как я скажу, что я думаю об этом?»
А Мясников тем временем продолжал:
— Впрочем, не сомневаясь в том, что вы примете наше предложение, я послал за ней, и сейчас она ждет вас в приемной. Пойдите договоритесь с ней, и если она тоже готова выехать, тогда отправитесь сегодня же, а нет — вы ведь можете выехать и завтра, правда?
Оглушенный этими словами, словно лунатик, Евгеньев направился к двери. Сзади, откуда-то из дальней дали, донесся глухой голос Мясиикова: «Если решите уехать сегодня, ночью я буду провожать вас...» Но он даже не оглянулся и толкнул дверь.
И первая, кого увидел, была Изабелла. Она сидела на стуле у противоположной стены, устремив взор на дверь кабинета, словно боялась упустить момент, когда она откроется. И как только увидела Евгеньева, порывисто поднялась, всматриваясь в его лицо.
А Евгеньев той же походкой лунатика подошел к ней и сказал:
— Сегодня ночью я еду в Петроград... вернее, в Гатчину...
И тут же ее брови затрепетали, глаза засияли от радости и она с несказанным облегчением воскликнула:
— Витя! Значит, ты согласился?.. Как я рада, Витенька, что ты сделал это!.. Господи, как я ждала этого!..
«Рада?.. Ждала?..» И тогда, словно сбрасывая с себя какие-то путы, Виктор Иванович проговорил:
— А ты?..
Изабелла Богдановна с удивлением посмотрела на него и женским чутьем сразу уловила все, что таилось за этим вопросом:
— Ой, Виктор, и что за тихоня ты у меня, господи! — тихо, не то с укором, не то с восхищением произнесла она. — Ну конечно, поеду с тобой. Буду с тобой всюду, везде... — Она взяла его за руку, потянула: — Пошли отсюда. Я хочу поцеловать тебя, а здесь неудобно...
ЭПИЛОГ
Когда в ноябре 1917 года главнокомандующим одним из важнейших русских фронтов после «именитых» генералов Эверта, Гурко, Деникина и Балуева был избран бывший присяжный поверенный и прапорщик Александр Мясников, это было воспринято разного рода «радетелями» судеб России как дурной сон и еще одно доказательство того, что их родина стоит перед окончательной гибелью. И было бы напрасной тратой времени убеждать их в том, что этот «выскочка» стоит на несколько голов выше своих предшественников на посту главкома Западного фронта не только своей близостью к солдатским массам, пониманием их чаяний и дум, но и своими познаниями в области политической экономии и истории, международного права, наконец, теории военного искусства.
Но в этого бывшего прапорщика верила полуторамиллионная солдатская масса Западного фронта, верили рабочие и крестьяне Белоруссии, верили партия и Ленин. Они, Ленин и Мясников, еще не встречались лично, их сотрудничество должно было начаться чуть позже, но великий вождь, ознакомившись с отчетами о том, как проходили события в Белоруссии и на Западном фронте в первый период после Октября, уже ясно представлял, что корабль революции через многочисленные рифы и коварные течения там вел искусный капитан.
Вот почему, когда в начале декабря командующий Румынским фронтом генерал Щербачев и штаб Юго-Западного фронта согласно планам, разработанным еще в старой ставке, попытались стать во главе борьбы против Советской власти на Украине и Северном Кавказе, Совет Народных Комиссаров немедленно отрешил их от должности и назначил Александра Мясникова главнокомандующим также и Юго-Западным фронтом. А еще через несколько дней, когда Н.В. Крыленко был вызван из Могилева в Петроград для обсуждения важных вопросов, связанных с начавшейся гражданской войной, обязанности верховного главнокомандующего были возложены на Мясникова, продолжающего оставаться главкомом двух фронтов.
Мясникову ко времени моего с ним знакомства пошел тридцать второй год. Но за плечами его было уже свыше десяти лет революционного подполья. Прапорщик запаса, он в начале войны был призван в армию и, ни на минуту не прекращая своей подпольной работы, сделался вскоре видным военным работником большевистской партии...
Вступив в должность Главковерха, Крыленко сделал его своим заместителем, и с тех пор я всегда находил нужную поддержку у серьезного и спокойного Мясникова...»
Да, после того, как в Минске и на Западном фронте впервые раскрылись выдающиеся качества Мясникова — партийного и государственного деятеля, полководца и литератора-пропагандиста, он стал одним из тех сподвижников великого Ленина, которым вождь революции бесконечно доверял и которых неизменно направлял туда, где было наиболее трудно, где смертельная опасность или сложная политическая ситуация требовала немедленного, решительного и компетентного вмешательства партии.
Находясь на посту исполняющего обязанности верховного главнокомандующего и главкома Западного фронта, Мясников был одним из организаторов молодой Красной Армии. Весной 1918 года Ленин направил Мясникова на Восточный фронт для борьбы с мятежом чехословацкого корпуса. Затем в июне того же года Мясников был снова отозван на знакомый ему Западный фронт. В 1919 году Мясников был направлен партией в столицу в качестве Сначала военного организатора, а затем — секретаря Московского комитета РКП (б) и приложил всю свою неукротимую энергию и способность для мобилизации московского пролетариата на разгром Деникина. В 1920 году, во время похода белополяков, Мясников еще раз был направлен на Западный фронт в качестве начальника политуправления фронта.
Но не только в военной области проявил свои выдающиеся качества Мясников; он был замечательным организатором и в области государственного и партийного строительства нашей Родины. По заданию Ленина и партий он возглавлял поистине эпохальное для белорусского и армянского народов событие — создание их государственности. Мясников стал первым главой правительства Советской Армении. Позже он, первый секретарь Закавказского краевого комитета РКП (б), стал одним из главных создателей Закфедерации. И он же был в числе первых помощников Ленина в создании великого Союза Советских Социалистических Республик.
И везде, где бы он ни работал, — в Минске или Смоленске, в Ереване или Тбилиси — он был инициатором создания новых газет, университетов, театров, крупных библиотек и других учреждений культуры, которые продолжают действовать и поныне.
Мясников был истинным идейным соратником Ленина и глубоким его почитателем: «Я бесконечно счастлив и до конца жизни буду гордиться, что был современником В.И. Ленина, был знаком лично, разговаривал с ним, пожимал ему руку, ходил и ездил вместе с ним, был последователем и маленьким учеником этого гиганта, гения нашего времени...»
Когда Мясников писал эти строки, ему было всего тридцать восемь лет. Через год, 22 марта 1925 года, он погиб в авиационной катастрофе.
Трагическая гибель выдающегося представителя ленинской когорты потрясла партию и народ. Этому необычайно одаренному человеку — Алеше, Мартуни, Большевику, Александру Мясникову, — находящемуся в расцвете творческих сил, предстояло сделать еще очень много для блага Родины и победы социализма.
Но и того, что он уже успел сделать за свою недолгую жизнь, было достаточно, чтобы он продолжал оставаться живым современником последующих поколений. В годы Великой Отечественной войны он жил и участвовал во всех подвигах Советской Армии, одним из создателей которой он был. В наши дни он живет в той нерушимой дружбе, которая цементирует единство советских народов и укреплению которой Мясников отдал столь много сил и энергии. Он будет вечно жить в тех ленинских идеалах, которые как в его время, так и ныне, и в будущем останутся главной движущей силой прогресса человечества.