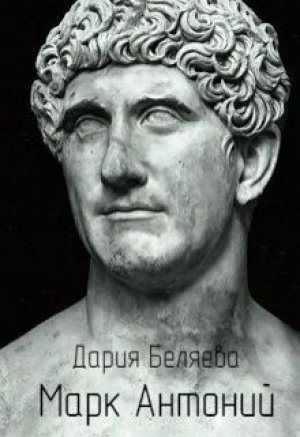
Послание первое: Песчинка
Таким образом, экзистенциальное одиночество связано с потерей не только биологической жизни, но и целого мира — богатого, продуманного до деталей. Этот мир не существует более нигде — лишь в нашем сознании. Мои собственные трогательные воспоминания: как я зарывался лицом в мамину каракулевую шубу и вдыхал чуть затхлый, едва уловимый запах камфоры; как я переглядывался с девчонками на День Святого Валентина (сколько манящих возможностей было в тех взглядах!); как я играл в шахматы с отцом и в карты с дядей и тетей — мы раскладывали их на столике с красной кожаной обивкой и с изогнутыми ножками слоновой кости; или как мы с моим кузеном пускали фейерверки, когда нам было по двадцать… Все эти воспоминания — а их больше, чем звезд на небе, — доступны лишь мне одному. Когда я умру, исчезнут и они — все и каждое, навеки.
(Ирвин Ялом)
Послание первое: Песчинка
Марк Антоний брату своему, Луцию, ныне отсутствующему среди живых по весьма уважительной на то причине.
Здравствуй, брат, сам не знаю, как решился писать тебе. Здесь и так страшные волнения по поводу моего душевного здоровья, и вот теперь это. Ты не спросишь у меня, почему я пишу тебе, жизнь вынуждает меня придумать вопрос самостоятельно и ответить на него так же. Послушай, объяснение неоднозначно, ты обрадуешься — такие штуки очень по твоему вкусу.
Ночами моя детка начитывает мне "Одиссею", исключительно гладко и все такое. Помнишь, как Тисиад заставлял меня учить отрывки? А я не хотел, никак не хотел, потому что кого интересуют все эти славные истории, произошедшие с кем-то другим? Не меня.
А тут вдруг оказалось, что это такая красота, которую не зря воспевают, слова сами ложатся на язык, и я вспоминаю всего понемножку.
Моя детка читает красиво, греческий ее, словно струящийся шелк, не объяснить иначе, и никто не поймет, не услышав.
Но почему я все-таки пишу тебе, Луций, зачем, если от тебя здесь кости и пепел, если не существует ныне глаз и рук, способных прочесть письмо и написать ответ.
Моя детка как раз дошла до того места, если ты еще помнишь хоть что-то, если душа твоя ныне способна к памяти, словом, где Одиссей спускается в царство мертвых, и там души стремятся к нему, а он обнажает меч, ранит себя и дает испить собственной крови прорицателю Тиресию. В детстве этот эпизод пускал в марш такой ровный строй мурашек по позвоночнику моему вниз. Ну, знаешь, все эти мертвые, желающие крови, ужасные страсти.
Но моя детка читала по-другому — с разрывающей сердце жалостью к ним, неразумным. Мать Одиссея просила его пустить к себе, пустить пить кровь — бедную свою кровинку, отсутствовавшую так долго, просила только об этом — как же надо было оскотиниться там, на глубине.
Когда моя детка закончила, я спросил ее, почему она читала так, как прежде мне не читали — не пустая страшилка, не жуткая история, но трагедия, каких больше нет на свете.
Она посмотрела на меня черными, как ночь (та вечная голодная ночь), глазами, и губы ее тронула кривая, холодная, некрасивая улыбка, редкая улыбка, которую не хочется сразу же сцеловать с ее губ.
— Они так пусты и неразумны, глупенький бычок. Одиссей видит тень своей матери, лишь ее образ, не то, что любило его сильнее, чем любило жизнь. Он видит тень — и только. Едва ли она помнит что-либо, кровь воспоминаний заменяет ей живая теплая кровь. Только она размыкает ее уста. Эту мать нельзя обнять.
— Уж больно мрачно, — сказал я. — Любовь моя, надо веселее смотреть на смерть. Как называется тут, в Египте, главная смертная книга, та еще древняя? "Изречение о выходе в день". Красиво, внушительно, оптимистично, опять же. Но нет, ты, бедный потомок Птолемея, принесла ваш греческий пессимизм в это древнее царство.
Ее глаза стали печальны и темны, совсем-совсем, клянусь тебе, и я стал целовать ее, зная, как не хочет она умирать, зная, какой ужас испытывает сейчас не за Одиссея с милой многострадальной маменькой, но за себя и меня.
— Глупенький бычок, — прошептала она, обхватив мою голову руками. — Разве не полагают римляне, что греки самый просвещенный народ из всех?
— Кто как, — сказал я. — Звучит оскорбительно кое-для кого.
Некоторое время мы провели в игривой борьбе друг с другом. Наконец, я поддался ей, и она вылезла из-под меня, оседлала, крепко обхватив золотыми, прелестными коленками в синяках и ссадинах от разнообразных утех.
Моя детка склонилась ко мне низко-низко, так что ее короткие, мягкие волосы защекотали мой лоб. Такая чудовищно беззащитная, пахнущая так вкусно, нежная и ласковая, она сказала мне:
— Что есть психе?
Я задумался, вполне все припоминая, но чувствуя подвох в ее словах.
— Душа по-гречески.
— Дыхание.
И моя детка подула мне на горячий лоб холодным и сладким дыханием своим.
— Всего лишь это отличает живого от мертвого, так говорят и у вас. Мертвый не дышит, вот почему он не живой. Это твоя хваленая душа. То, что уходит — лишь тень, легкий ветер. Вот почему тело матери ускользает от Одиссея — она лишь дыхание, лишь отпечаток, воздух.
Еще она сказала:
— Мертвые беспамятны и немы. Там ничего нет.
Уже давно моя детка следила за смертью людей и животных, исследовала быстродействие различных ядов, чтобы понять, чем доставить себе удовольствие больше не быть, и все это сводило ее с ума, потому как слабая, ковкая женская душа ее никак не желала принимать смерть, в кои-то веке она не могла заставить себя смириться с обстоятельствами.
Словом, Луций, брат мой, она заплакала так горько, что и я заплакал, и мы, как парочка детишек, сидели с ней долго и утирали друг другу горькие слезы.
Кое-как я успокоил ее, и она уснула, а я велел подать мне вина и нажрался вдруг один, даже запретив виночерпию прислуживать мне.
Долгое время, дорогой мой, не понимал я, какая боль разрывает мне сердце — я не хотел быть мертвым, совершенно точно, я люблю эту жизнь со всеми ее прекрасными удовольствиями и ужасными горестями. И, конечно, перспективы несколько угнетают меня.
Но грустил я вовсе не об этом и не потому. Луций, брат мой, я думал о вас, Солнце и Луна, о вас, бывших прежде и ныне с нами не пребывающих.
Когда голова стала тяжелой и трудной, а все цвета замылились, и огни свечей превратились в крошечные светила, я вдруг понял, какая ты утрата.
Понял, что ты и Гай, оба вы — не где-то далеко, а какие-то другие.
Может, ты не помнишь и не знаешь меня больше, может, ты — лишь твое дыхание, может, мертвые — это ветер, которые шевелит травы и гоняет листья в нашей родной стране, а пески — здесь, под жарким невыносимым солнцем Египта?
У меня нет инструмента, чтобы знать это. Я просто подумал, может, вы с Гаем немы и пресны, и ничего не помните, а ведь было хорошо. И если вы не помните, то чего стоили прожитые вами жизни?
Тогда мне пришла пьяная идея, из тех замечательных идей, за которые стыдно наутро — написать тебе. Воскурения возносятся богам, быть может, если сжечь это письмо, дым поднимется к ним, и из любви, которую они испытывают к тебе, дорогой братец, они обучат тебя языку памяти снова.
А если мертвые это дыхание, а дыхание это ветер — тем лучше и надежнее, ведь именно он унесет пепел.
Или мне просто захотелось вспомнить? Как ты считаешь, может такое быть? И я придумал твои страдания, а ты, милый друг, где-то далеко вкушаешь положенные тебе удовольствия или боли, кто знает, как боги расценят твои поступки.
Впрочем, если снова обратиться к греческому взгляду на вопрос, праведников, достойных блаженства, и грешников, достойных наказания, совсем немного.
Но мы-то: ты, я и Гай, славились тем, что ни в чем не знали полумер. Может, у нас будут удовольствия, и боли, и всякие другие досуговые мероприятия там, куда нет силы дойти моему разуму сейчас.
В пьяный рассветный час я потребовал себе письменные принадлежности. Люди, как видно, думают, что я пишу письмо Октавиану.
Но я не так умен и не так глуп, чтобы этим заниматься.
Сможешь ли ты простить меня за то, что я не был рядом, не услышал твоего последнего вздоха? За это, поверь, я бы отдал десять последующих лет своей жизни. А те годы, скажу тебе, стали прекрасны даже слишком.
Но ты был один, а ведь именно так ты никогда не хотел отойти. Я скучаю страшно, сердце мое разрывается теперь, когда я понимаю, что ты, может, не существуешь более.
Я не очень глубокий человек, к моему счастью, и не задумывался прежде о том, как дорога мне память. История? Не знаю, она не благоволит проигравшим, память — вот единственное мое прибежище, моя теплая постель.
И мне больновато думать, что память утеряна тобой, и ты бродишь где-то, может быть, желаешь крови или занимаешься еще чем-нибудь поганым без полного понимания того, что ты — Луций Антоний, мой младший брат.
То же самое касается и Гая, не к ночи будет он помянут.
В общем, не буду более лить слезы, ибо память побеждает беспамятство, как буква побеждает чистый лист.
Разумеется, не могу напомнить тебе, Луций, всего, но почему бы не начать с того, что хочу помнить сам?
Вспоминаешь ли аттический мед, стащенный с кухни, и твой поход за черепахами, и историю о том, как я не хотел быть песчинкой?
Не "Одиссея" ни разу, но постараюсь как-то поувлекательнее, обещаю. Тем более, как ты знаешь, я это немножко умею, хотя я и не самый разумный бычок из всех возможных.
Замечательное выдалось лето, во всяком случае, вплоть до середины — отличная погода, мама все время занята знакомствами с жутко важными матронами, женами магистратов, и мы, если не считать Миртии и Тисиада, были, в основном, предоставлены сами себе.
И если старушка Миртия не становилась проблемой почти никогда, то Тисиад доставлял некоторые неудобства — он желал вложить нечто в наши не самые светлые головы.
А для того, чтобы мы получали побольше свежего воздуха и прекрасной критской природы, мама рекомендовала нам заниматься на улице. Это сводило тебя с ума. Честно говоря, ты даже Тисиаду надоел, а этот человек отличался терпением, собственно, в связи с этим и был принят на почетную и опасную должность нашего домашнего учителя.
А если время безжалостно к мертвым, как говорит моя детка, и ты не помнишь даже его приметного лица, то вот: у него нос в красную крапинку, похожий на какую-то ядовитую ягоду, блестящая залысина, заставляющая его выглядеть старше, уголки его губ уныло загнуты книзу, большие зубы сильно выдаются вперед.
Гай называл его толстым конем, уж не знаю, почему. Мне он скорее напоминал грустного красномордого гуся. Ты же однажды сказал, что лицо его не сочетается с доброй и терпеливой натурой и похоже на плохую одежду. Только теперь я понимаю, каким мудрым ты был в детстве, а тогда я, помнится, тебя стукнул, чтобы впредь ты говорил понятнее.
Может, слушал бы я Тисиада, и не оказался в той ситуации, в которой пребываю сейчас. Как знать, как знать. Он был мудрейший из всех уродцев.
В общем, я считал крапинки на его носу, такие яркие, что уже почти малиновые, и он это видел, тем более, что губы у меня шевелились, и я шептал:
— Раз, два, три, — ну и так далее.
— Молодой Антоний!
Он постучал нескладной маленькой ручкой по столу.
— А? Я да, я думаю.
— Удивительно, — сказал Тисиад. Солнце играло с его лысиной, ничем не защищенная макушка уже начинала краснеть. День вообще стоял прекрасный, и сад у нас был — не хуже того дня. Всюду чудо: цветы, кусты, смешные насекомые, дорожки, даже симпатичный маленький фонтан, правда, неисправный, и достался нам таким, когда мы сюда переехали, пусть кое-кто и был убежден, что его сломал я.
— А что удивительного? — спросил я, тут же взвившись.
— Марк, разве недостаточно у тебя было времени?
— А у тебя голова краснеет.
Тисиад потрогал макушку, отдернул руку, будто обжегся, и я засмеялся.
— Тебе лишь бы хохотать. А кто будет думать над свазориями?
— Я слишком молодой Антоний для этого.
— Так уж. Нужно развивать разум с юности, и тогда он прослужит тебе до самой старости.
— Ну, я думаю.
И я стал качаться на стуле, естественно, не думая ни о чем и глядя в синющее, безжалостное к глазам небо.
— Ясно, — сказал Тисиад. — Кто-то опять упрямится.
Вокруг нас бегал ты, туда и сюда проносился, будто крошечный вихрь (которым ты, может быть, стал). Я дал тебе задание собрать всех черепах, две уже были у тебя подмышками, и в любой момент эта забава могла тебе надоесть.
— Черепаший поход! — крикнул я.
— Черепаший поход! — ответил ты, оживившись.
— Какой ты, Марк, замечательный, воспитатель. Может, станешь учителем?
— Чего? — я скривился. — Да ты знаешь, кто был мой дед?
— Я знаю, кто был дед! — крикнул ты.
— Да, естественно, ты знаешь, кто был дед! Черепаший поход!
— Черепаший поход!
— Сама мысль о труде оскорбляет тебя.
— Это из-за Гесиода, — сказал я. — Лучше б ты научил меня ругаться по-гречески.
— Столь благородному молодому человеку эти знания не пригодятся. А вот умение грамотно излагать свои мысли — пригодится.
— А я умею.
— Тогда удивительный мир свазорий ждет тебя!
Удивительный мир свазорий. Как я тебе завидовал. Ты со своими черепахами был как будто все быстрее и быстрее, уже едва различимая тень.
— А у Гая будут свазории?
— Гай читает Гесиода.
— Ты и ему хочешь внушить отвращение к труду?
— И к дням.
Тисиад засмеялся. Он был отличный человек, думаю, мы его на самом деле любили, но показывать эту любовь значило бы признаться в тайной страсти к учению. К такому позору я оказался не готов.
Я сказал:
— Какая погодка славная, замечательная, чудесная, удивительная, восхитительная, великолепная, потрясающая…
— Как твой словарный запас, — сказал Тисиад.
— Жаль, не все могут ею насладиться.
Мимо пятнистого, яркого носа Тисиада пролетел большой жук. Я засмеялся. Тисиад отшатнулся, прикрыл рукой нос.
— Принял за цветок, — сказал я. — А ты еще на нос свой что-то говоришь.
— Главное, чтобы ты меньше говорил о моем носе и больше — о Луции Юнии Бруте.
— Луций Юний Брут поднял восстание против царя Тарквиния Гордого…
— Не пересказ. Будь Луцием Юнием Брутом, Марк, мысли, как он.
— Ну я прямо не знаю. Такой это человек важный.
— Если хочешь стать важным человеком сам, привыкай думать как важный человек.
— А если я не этого хочу?
— А чего ты хочешь?
Я крикнул тебе:
— Луций, что мы будем делать, когда вырастем?
Ты тут же откликнулся:
— Бухать с дядькой!
Тисиад приложил руку к потному лбу, тяжело вздохнул.
— Чему ты, как старший брат, скажи на милость, учишь его? И кто тебя этому научил?
Я пожал плечами.
— Знание это само пришло ко мне, и, как Луций Юний Брут, я решил восстать против тирании, потому что…
Тут я цокнул языком:
— Потому что слово "честь" не было для него пустым, как и слово "свобода". Он знал этим словам цену, и знал, что цена эта больше, чем жизнь. И он не побоялся. Потому что только мечта о чести и мечта о свободе могут победить страх. А побеждая страх, мы не даем властвовать над нами. Побеждая страх, мы понимаем, что власть одного надо всеми — такая нелепица. Он первый увидел новый Рим, мечту о новом Риме, и он первый увидел старый Рим без полога страха. Он хотел, чтобы Рим был домом для храбрых мужчин и добродетельных женщин, но он видел, что царская власть порождает лишь трусов и трусих.
Я хотел сказать "шлюх", но вовремя прикусил язык.
Тисиад смотрел на меня во все свои маленькие, но очень внимательные глазки, на его мясистых губах играла легкая улыбка, делавшая его наружность чуточку приятнее.
— И вот он решил, что дело вовсе не в обесчещенной царским сыном Лукреции, а во всех них, и во всех нас до нынешних времен. Только разрушив царство можно произвести нечто большее, чем царство — место, где каждый гражданин обладает достоинством царя. Если так сильно было государство, где правил один единственный царь, то не будет равных государству, где каждый царствует над собой. Имя этому государству — свобода.
Тисиад два раза хлопнул в ладоши, и тоненькая улыбочка превратилась в здоровую, сильную и смешную улыбку.
— Прекрасно, Марк, не то, что я хотел, но очень занимательно. Ярко, я бы сказал. Признайся, ты не читал.
Я пожал плечами, довольный произведенным эффектом.
— Да эту историю вообще все римляне знают. Ты просто грек. Не в курсе.
Чтобы его не расстраивать, я добавил:
— Но я попробовал. Там, где было про то, как Секст пришел насиловать Лукрецию. Но было неподробно.
Тисиад погрозил мне маленьким пальчиком.
— Мои руки больше твоих, — сказал я.
— Не сомневаюсь. Никогда, Марк, не позорь такую прекрасную речь своими великомудрыми последующими комментариями.
— Папа говорит, мне достался дедовский талант, но не досталось его разума.
— Вполне возможно, что ж, но мы работаем с тем, что имеем.
Мы с Тисиадом засмеялись вместе, и он снова погрозил мне пальцем.
— Субординация.
Тут ты крикнул:
— Нашел! Третью нашел! Черепаший поход!
— Черепаший поход! — откликнулся я.
— Зря радуешься, Луций, — сказал Тисиад. — Твою голову мне тоже предстоит наполнять знанием.
— Тогда это учитель Тисиад зря радуется, — сказал ты, такой верткий, такой смешной, маленький и золотой. Ты грохнул своих черепах на стол.
— Больше их нет!
— Ну замечательно, — сказал Тисиад.
— А можно яблок и покормить их? — спросил ты. — Будет ли это уроком по природе?
Я протянул палец к одной из черепашек, и она угрожающе раскрыла рот.
— На Миртию похожа. Плоскоморденькая.
— Марк!
Ты сказал:
— Теперь у меня будет триумф?
— Да, — ответил я. — Теперь у тебя будет триумф. Но мы должны быть великодушными и все такое. Надо покормить наших пленников.
Ты унесся, а Тисиад сказал:
— Хорошие черепашки. Когда я был ребенком, мы с сестрой тоже таких ловили. Варили из них суп.
— Это наши пленные, — сказал я. — Мы же не пуны, чтобы варить из них суп.
— В этом случае, безусловно, не стоит.
Я снова протянул палец к одной из черепах, и она воинственно зашипела.
— А она сама не трусиха.
— Это самец.
— Как ты узнал?
— Он повернут ко мне хвостом.
— А ты действительно мудрый человек, учитель.
— Не язви, Марк.
Ты принесся, ведя за руку Гая, нашего тогда еще безмятежного Гая. Помнишь, каким бледным он был всегда, как по сравнению с нашей с тобой здоровой золотистостью смотрелся лунным призраком.
Вы несли яблоки, красные, сочные, блестящие. В зубах у тебя был нож.
— Только не упади! — крикнул я. — Это будет тупая смерть, великолепное Солнце!
А Гай, Луна, засмеялся тихонько.
Боги сделали так, что здоровее всех в нашей семье был я. Никогда не болел, даже если остальные подхватывали какую-нибудь приставучую хвору, если кашляли все, начиная с рабов и заканчивая нашим отцом, я оставался на ногах.
Ладно, давай начистоту, Луций, даже в царстве Плутона не забыть никому, какой невероятной красотой, физической выносливостью и здоровьем отличается твой прекрасный брат.
Имелась в нашей семье даже одна байка по этому поводу. Мама наша, добрейшей души женщина, как ты помнишь или не помнишь, никогда не позволяла себе сказать лишнего, кроме одного единственного раза. Как-то она похвасталась перед подружкой своим прекрасным первенцем. Ну, знаешь, чтобы зря себя не хвалить, скажу просто, что я был весьма очаровательным ребенком всем на зависть.
Подружка через два месяца выкинула своего первенца преждевременно и пребывала в глубоком горе. С мамой почему-то больше не общалась.
А потом родился Гай, принесший матери много страданий, болезненный ребенок.
Следом ты, сначала очень вялый, а потом очень нервный, и все детство сопровождали тебя странные, конвульсивные подергивания спины и рук, которые ты преодолевал трудом и злостью.
Но это все проявилось потом, а родился ты таким слабым, что никто и не давал себе труда подумать, будто ты выживешь, однако, слава Юноне, от тебя не отказались. Кроме того, ты лишил маму возможности иметь детей впредь.
Словом, как-то папа предположил, что маму прокляла ее подружка, поэтому все так вышло.
Мама тогда обиделась на него и не разговаривала с ним, по-моему, три месяца, если не больше. Она любила нас всех, у нее было большое прекрасное сердце, в котором находилось место и Гаю даже в худшие годы. И мне.
Хотел бы я иметь такое прекрасное сердце, как у нашей матери. Но мы разделили его на троих, и в каждом из нас билось сердце весьма поменьше. Будь мы только подобны матери в ее великодушии (известное свойство Юлиев), непременно стали бы иными людьми, куда лучше нашего, однако мы породистые Антонии, а это, как ты знаешь, дурное семя.
Так вот, все эти семейные безделушки уже не имеют никакого значения для тех, кто или перестал жить или перестанет в ближайшее время. Важно другое — вы несли эти красные, блестящие, драгоценные яблоки, и они повалились вниз и покатились, и было так красиво. Облака наплыли на жаркое солнце, все резко потускнело, кроме алых яблок, и они были похожи на капли крови великана.
— Кормление пленников! — закричал ты. Гай спросил:
— Можем ли мы, учитель?
— Сладу с вами все равно никакого нет, молодые Антонии, — Тисиад махнул маленькой ручкой. — Можете. Принесите еще стулья, Марк, подними яблоки.
Я зачем-то разложил их вокруг черепах. Бедняжки не знали, что с ними делать, они шипели, пучили глаза и, в конце концов, все спрятались.
Вы с Гаем принесли стулья и расселись у стола. Красные яблоки, быстро бегущие по небу облака, глаза черепашек, поблескивающие откуда-то из темноты под панцирями — я помню все, как будто только что оно и произошло. И я могу вспомнить все запахи — жимолость, море, сухая земля, нагретая солнцем, пот. Могу вспомнить всех звуки: еще хриплое дыхание выздоравливающего после очередной болезни Гая, испуганное черепашье шипение, шелест ветра в кронах деревьев, далекий плеск воды.
Я взял нож и подумал: если я сейчас всажу его в свое солнечное сплетение, я умру, и больше ничего не узнаю, как жаль меня, и мне стало грустно, я наклонился к тебе и поцеловал в макушку.
Как возмущает нас возможность умереть, когда нам хорошо.
Я стал резать яблоко на неаккуратные дольки.
— Интересно, — сказал Гай. — Сколько они смогут съесть, прежде чем лопнут?
— Они вообще не лопнут, — сказал я. — Они же черепахи. Очень упругие.
— Да, — сказал ты. — Лопаются лягушки.
Я посмотрел на Тисиада и подумал, что ему нравится проводить с нами время. А для учителя это, может быть, лучшая рекомендация.
Я протянул один длинный кусочек яблока тебе, и ты тут же сунул его в темноту под панцирем.
— Хочешь, черепашка? Черепашка! Черепашуля! Черепашенция!
— Действуй мягче, — сказал Тисиад. Вот кого хлебом не корми, а дай поучить других, как быть с их жизнью. Я протянул еще кусочек яблока Гаю, тот положил его на стол перед своей черепахой и принялся наблюдать.
А я хотел быть лучшим. Отрезал кусок яблока себе, да поизящнее, и, подумав, принялся водить им не так далеко от черепашки, но, впрочем и не совсем близко. Чтобы, так сказать, возбудить здоровый интерес.
Вдруг я заметил, что Тисиад очень внимательно за нами наблюдает. Так, будто мы выполняем какое-то важное задание. Это меня подстегнуло. Гай щелкал языком, и я закрыл ему рот.
— Тшшш! Пусть пленники успокоятся.
Рука моя двигалась туда и обратно, плавно, мягко, позволяя потоку воздуха подхватить сочный яблочный запах. Я даже приноровился к определенному ритму. Ты все пихал яблоко в панцирь, и Тисиад, глядя на тебя, качал головой. Гай смотрел на черепаху и яблоко неподвижно, как змея.
Мне показалось, прошла вечность прежде, чем моя черепашка высунула самый кончик тупого носа. Мне хотелось ей улыбнуться, но я не стал.
Я лишь выдаю яблоки, думал я, я только выдаю яблоки, я не представляю опасности для тебя, считай меня веткой дерева, только и всего, если знаешь, что такое дерево.
Носик стал носом, показалась длинная, морщинистая, как у Миртии, шея. Старушка-черепашка, подумал я, обещаю не делать тебе зла, только дай мне стать победителем.
И она, неожиданно быстрым для такого медлительного животного движением, ухватила яблоко.
— Ну и рот, — выдохнул Гай. — Уродливый такой.
Тисиад сказал:
— Все создания богов прекрасны.
— Все да не все, — сказал я. — Ты на нее просто посмотри. Без обид, родная, ты не красавица.
— Зато обжора.
— Как Марк!
Я цикнул на вас обоих. Ты первый подхватил кусок яблока и принялся размахивать им перед своей черепахой так резко, что столкнул со стула Гая.
Тисиад засмеялся, мы с тобой тоже, а Гай стал мрачный и больше ничего не говорил.
Мы еще долго кормили черепашек, и они оказались такими обжорами. Когда мне надоело потчевать черепах, и я решил съесть последнее яблоко, Тисиад сказал:
— Никаких яблок до яиц. Перебьете аппетит перед едой. Во всем нужно соблюдать порядок.
Но настроение у него явно было знаменательное, замечательное и на редкость не занудное.
Я сказал:
— А можно мы проведем триумфальное шествие для Луция? Ну, знаешь, это же его пленные. Да и все равно кучу времени потеряли. А после полудня опять заниматься. А если сейчас пойти к Миртии, она может закуску подать. Короче говоря, сплошные преимущества.
— Ладно, — сказал мне Тисиад. — Все равно мне сегодня с вами не сладить. Проводите свой триумф. Но потом ты должен будешь выполнить больше заданий. Все нужно делать вовремя.
— Потом будет потом, — сказал я. Довольно легкомысленно с моей стороны. Я пожалел.
Тисиад временно удалился из наших жизней, и я сказал:
— Что ж, храбрый воин, требуется снарядить тебя правильно. Расшитой тоги, извини, не будет.
Ты расстроился.
— Венок будет.
Ты обрадовался.
— Нужна повозка для твоих пленников и колесница для тебя. Уж какая колесница будет, такая будет. Ромул на своем триумфе вообще ногами шел и не фырчал, и ты не фырчи. Дай мне заняться всем этим, сам отдыхай вместе с почтенным братом.
— Это я почтенный брат? — спросил Гай.
— Как ни удивительно, но да, — ответил я, по-моему, ловко передразнив Тисиада.
Я хотел устроить все хорошо, так, чтобы даже слишком хорошо. Взял тележку для фруктов, ослика со двора, корзину, хорошую веревку (ту самую, которую Миртия никогда не велела тратить зазря) и принялся сооружать нашу процессию. Черепахи — в корзину, тебе дорога в тележку для фруктов, Гай погоняет осла, везущего эту колесничку. Остался только венок, я сплел его тебе из жимолости, дабы не гневить богов, и ты все время чихал.
— Ну, — сказал я, надев венок тебе на голову. — В добрый путь, император.
Из начала сада мы последовали в его конец. Черепахи в корзине радостно копошились, успокоившись насчет своей судьбы, твои ноги не помещались в тележке, Гай ругался на осла, а я смотрел на произведение рук и мыслей своих, крайне довольный результатом.
Ты был таким счастливым и сильно сиял. Я думал, что мы трое похожи, одинаково кудрявые, одинаково глазастые, но в то же время такие разные. Твои плечи подергивались, и иногда ты хватал сам себя, чтобы остановить движение, которого не желал.
И чихал снова, очень смешной.
Гай своими бледными длинными пальцами тянул за уши осла, и осел недовольно взрерывал, тогда Гай отпускал его и целовал в макушку.
Процессия была торжественная. Я срывал цветы и листья, швырял их в тебя, и ты смеялся.
А какой мальчик не мечтает о триумфе, хотя бы и не совсем настоящем?
Пленники, впрочем, вели себя плохо, и ты иногда опасно наклонялся назад, поправляя их, чтобы они не выпали из волочащейся за тележкой корзины.
Я заметил, что Миртия и Тисиад наблюдают за нами из окна. И мне пришла в голову прекраснейшая идея.
— Следуйте далее! — крикнул я. — А я подготовлю награду за смелость нашему императору.
Тогда-то это слово значило только, что ты военачальник, наделенный соответствующими полномочиями. Теперь все потихоньку меняется, мне так кажется, история движется.
Я побежал на кухню, там девушки месили хлеб к обеду.
Одна из них, симпатичная, но уже не помню, как ее звали, сказала мне:
— Ты что здесь делаешь, обжора? Станешь толстым, некрасивым, девушки не будут тебя любить.
— Мой дядька говорит, что чтобы быть красивым надо много есть и много двигаться.
Между прочим, одна из самых мудрых и прекрасных вещей, когда-либо им произнесенных.
Девушка засмеялась, потрепала меня по волосам. Признаюсь тебе, прошли годы, и у нас с ней все было, и то-се, и пятое-десятое, и даже такое, до чего приличные люди уже не досчитывают.
А тогда она просто казалась мне такой миленькой, и я подумал: хочу ее укусить.
А она развернула меня и сказала:
— Иди-иди, когда сготовим все, тогда придешь.
Но я всегда был хотя бы и дурак, зато страшный хитрюга.
— Да нет, — сказал я. — Миртия сказала принести мед Тисиаду.
— Мед?
— К лепешкам.
Угадал.
Так что, мисочкой меня снабдили. Мы тогда жили на широкую ногу, и это была миска прекрасного, золотого, жидкого меда. Отличного меда.
Тисиаду, конечно, он никогда не достался.
Я чинно вышел из кухни и со всех ног понесся к вам, а вы к тому времени ушли во главе с ослом весьма и весьма далеко, в заросли ежевики. Триумф не удался, осел взбрыкнул, черепахи расползлись, а ты угодил прямо в колючие кусты, и Гай доставал тебя оттуда, а я жалел, что не научил тебя еще ругаться по-гречески, потому что меня самого не научили.
А потом я жалел тебя. Оставил миску на земле и принялся отряхивать тебя, листьями стирать кровь с коленок и локтей. Гай слюнями оттирал тебе щеки.
— Ну как ты весь порезался? — спрашивал я. — Как ты умудрился? Гай, прекрати слюнями, ты дурак?
— Катастрофа произошла, — сказал ты. — Столкновение двух зол: осла и Гая.
Одно зло оказалось сильнее и щипало листья деревца, названия которому я не знал. А вы все были в ежевичном соке, черном, как венозная кровь.
— Время для награды, — сказал я. — Гай, принеси миску.
Я взял на пальцы немного меда и помазал тебе ссадину на лбу.
— А в пасть можно? — спросил ты.
— В нос могу ткнуть, умник.
Ссадина покрылась золотом, кровь и ежевичный сок смешались с медом, черное под светлым, будто раздавленное насекомое в янтаре.
— Вот и все, — сказал я. — Вот твое золото, теперь ты — герой.
И, закончив триумф, мы улеглись под солнцем и передавали друг другу миску с медом. Наши руки были грязные, я смотрел на золотой мед, и, когда раздвигал пальцы, между ними образовывались золотые перепонки, в которые гляделось солнце.
— Клянусь, — сказал ты. — Ты когда-нибудь будешь гордиться мной!
Я горжусь тобой, братик.
Сильно-сильно.
Так же сильно, как мне досталось за краденный мед. Но я, честно говоря, не жалею ни капли. Медом мои руки пахли еще долго-долго, а его вкус я так никогда и не забыл. И то, каким жидким золотом он был на моих руках.
Ты ведь тоже это помнишь? Помнил?
Миртия, черепашья шея, лишила меня перекуса, а Тисиад отправил заниматься свазориями. Вы, ягнята, остались ни при чем, потому как миску умыкнул волк собственной персоной.
Погода, как и мое настроение, под вечер резко испортилась, и это задержало маму в гостях, а нас с Тисиадом на крыльце. Я вытягивал ноги, и струи дождя приятно барабанили по моим пальцам.
— Разве тебе не стыдно? Украл мед, — сказал он. Я пожал плечами.
Я часто подслушивал разговоры отца с дядькой. Они тоже любили воровать, правда, деньги и у государства свободных людей.
Я сказал:
— Это мед моей семьи, правильно? Значит, он принадлежит мне.
— Никогда не слышал, чтобы сын наследовал от отца мед.
— Если наследует пасеки, наследует и мед.
Тисиад пожал плечами. В наступающей темноте пятна на его носу казались каплями крови.
— В любом случае, — сказал Тисиад. — Не надо было так делать. Тогда бы тебя не наказали.
— А я бы еще раз так сделал.
— Боги услышат, что ты бесстыдный, и еще сильнее накажут тебя.
Я пожал плечами, сделал вид, что никаких богов не боюсь. Тисиад сказал:
— Ты знаешь, почему вести себя надо хорошо?
— Потому что боги дают милость тем, кто…
Но он покачал головой. Эти пессимистичные греки. Тисиад посмотрел в дождливый сад, на склоняющиеся под струями воды веточки вишни, на молитвенно припадающие к земле от ветра кусты жимолости.
— Для богов мы, может быть, лишь песчинки, изредка самые чудесные из нас достойны их внимания, а, может, недостоин никто, — сказал мне Тисиад. — Но твое сердце будет пустым и легким, если ты будешь делать хорошее и не будешь делать плохого. Ты станешь хорошо спать, и тебе нечего будет стыдиться наедине с собой. Безмятежность и душевный покой, вот твоя милость за хорошие поступки.
Я сказал:
— Знаю тогда еще одну милость — бессовестность.
А потом до меня, малость туговато, но вовремя, дошло еще кое-что. Я вскочил:
— Что? Песчинки? Мы?
За двенадцать лет своего крайне эмоционального существования я не оскорблялся так никогда. Я отшатнулся, едва не упал со ступеньки, скользкой-скользкой от воды.
— Я — это я! Я особенный! Они не должны думать, что я — песчинка. Я веселый и замечательный! Я такой талантливый и красивый! Почему я всего лишь песчинка? И разве они меня забудут? Забудут, потому что я ничего не значу?
Я и сам не догадался, когда расплакался, просто вдруг холодные капли на лице сменились очень горячими. Ни одна мысль прежде не причиняла мне такой боли. Я вообще не знал, что бывает такая боль.
Справедливости ради, в двенадцать-то годков нормально чем-нибудь так смертельно убиться. Но я и разозлился, разозлился страшно и сильно. Захотелось пнуть бедного и несчастного Тисиада, раскровить ему его красный нос.
— Разве это справедливо, что я песчинка? Зачем тогда вообще надо жить, если я ничего такого! Ничего особенного! И никто не любит меня!
— Ну-ну! — сказал Тисиад. — Марк, тебя любят родители, братья!
— А это тебе зачем, раз ты считаешь себя песчинкой?!
Меня уже было не остановить. Я сорвал с него его мудреный греческий амулет, и бросил ему в лицо. Амулет попал Тисиаду по носу, и под тусклым, хмурым небом кончик этого носа стал еще темнее, налился кровью.
— Марк Антоний! — крикнул он, но я побежал в сад, под дождь, такой маленький и глупый, что мне до сих пор стыдно.
Как же так, думал я, не хочу быть чем-то маленьким и незаметным, разве моя жизнь не значит ничего? Мне стало так одиноко и страшно в мире, который единственным росчерком нарисовал Тисиад. Я ненавидел этот мир — он был очень холодным, лишенным всякого смысла и выхолощенным. Легким, конечно, да, таким же легким и ненужным, как скорлупка от ореха. Я сел под яблоней в грязь и вцепился в свою буллу. Если эта золотая цацка должна была защищать меня от злых духов, значит хотя бы злые духи мной интересовались. Тогда я решил сорвать буллу, чтобы достаться злым духам. Голова же я, а? Невероятный умница.
Короче говоря, я сорвал ее легко — силы мне уже тогда было не занимать, и бросил куда-то в дождь и в грязь.
— Не хочу быть песчинкой, — сказал я. — Каким-то там ничем! Пусть греки будут ничем, если захотят! Я хочу быть всем!
Тут во главе с Миртией подоспели слуги и принялись меня поднимать. Миртия говорила, что я плохой мальчик, даже хуже плохого, я ужасный, чудовищный и невыносимый. И это она еще не заметила отсутствие моей золотой буллы.
— Ты же простудишься!
Я мрачно позволил увести себя домой, продрогший, преисполненный вечной печали. Тисиад, взволнованный, ходил по комнате, покрикивая на рабыню, растапливавшую печь.
— Что ж, — сказал он мне, когда меня повели переодеваться, вдруг совершенно обычным тоном, вовсе не злым, хотя на носу у него уже налился весьма отчаянный синяк. — Твой разум не в силах переваривать философские концепции. Ему нужна более мягкая пища.
Я не удостоил его внимания.
Он же песчинка, думал я, как никак. И никто не смотрит на него в этом большом и пустом мире, похожем на скорлупку ореха. Как ты понимаешь, мое настроение было испорчено, и небо, неравнодушное небо, мне вторило, заливаясь дождем. Сам Юпитер выражал бурное негодование Тисиадовой греческой выдумке, это ли не доказательство того, что боги слушают нас и внимательно.
Много лет спустя моя детка скажет мне что-то вроде того, и я в отчаянии стану писать тебе свое печальное письмо про мед и яблоки и про черепах, в надежде, что они все окажутся не бессмысленными.
А красиво все встало в круг, сцепилось в кольцо. Сам горжусь, честное слово.
Так вот, когда я вышел к очагу, Тисиада уже не было, зато ты сидел у огня, совершая свое великое преступление, которое, вместе с моим, повлекло, должно быть, все горечи того дня.
А, может быть, и нет, но разве не хуже это, если не было никакого преступления, и все просто случилось именно так?
Ты опять открыл шкаф с пенатами подле нашего очага и передвигал фигурки, бормоча что-то себе под нос. Гай лежал на полу, запрокинув голову и глядя на огонь.
— Луций, сколько раз я тебе говорил не играть с пенатами! — сказал я, забыв о своей булле и о собственной неосторожности. — Ты опять за свое, играть с домашними богами? Ты бы еще пошел с Юпитером ругаться, умник!
— А я, — сказал Гай. — Притворяюсь мертвым. я ему так и сказал, будешь с ними играться, я умру. Я показываю!
Ты меня не слушал, и я крикнул:
— Луций!
От испуга ты выронил фигурку, и она полетела в очаг. Я ринулся к огню, забыв о том, с каким отвращением выкинул свою буллу, преисполненный праведного гнева и всего такого, страшно подходящего сложившейся ситуации.
Не помню, чтобы я боялся. Как-то промелькнуло в голове то, что отец (сам человек слабый душой и телом, в отличие от нашего ненаглядного дядьки) говорил при каждом удобном случае — род Антониев происходит от самого Геркулеса, и никак иначе.
А потомкам Геркулеса не стоит бояться совать руки в огонь, да и вообще чего-либо.
Гай отшатнулся, ты прижал руки ко рту, но вам обоим хватило мозгов быть тихими. И я вытащил, да я вытащил, фигурку из огня, так быстро, что сначала не почувствовал никакой боли. Даже стукнул тебя обожженной рукой, больнее, чем хотел, не рассчитав силу, так что голова твоя беззащитно дернулась, и я преисполнился жалостью вместо злости. На щеке у тебя осталась красноватая капелька — то, что выделилось из моей кожи под коротким, но сильным воздействием огня.
— Умник, мать тво…
Тут я заметил, что выронил фигурку на пол.
— Теперь и я согрешил из-за тебя, мы оба умрем!
Гай схватил фигурку с пола и принялся обтирать ее об тунику, стараясь удержать, несмотря на жар.
— Она не грязная, — сказал я, мрачно рассматривая свою руку.
— Если мы зажигаем пенатам свечи, значит они любят огонь. Если весталки не гасят огня, оберегающего Рим, значит огонь — это хорошо.
— О великий жрец Гай, — сказал я. — Спасибо, что почтил нас своими мудрыми мыслями. Он ее уронил!
Гай вскочил на ноги, такой маленький и бледный, похожий на лесного зверька, показал острые зубки.
— Но уронил в огонь! А огонь это хорошо!
Рука выглядела много лучше, чем я ожидал. Дядька однажды рассказывал нам, как люди пахнут, когда горят. Я так не пах, во всяком случае, если я правильно понял дядьку.
Я выхватил фигурку у Гая и поставил к остальным пенатам в шкаф.
Ты плакал, и я прижал тебя к себе, поцеловал в макушку.
— Ладно, — сказал я. — Все, ты не виноват.
— У тебя рука болит, — сказал ты.
Что правда, то правда. Ладонь покраснела и припухла, а в одном месте даже образовался крошечный кровяной развод. Кожа, подумал я, здесь была тоньше, должно быть.
— Если узнают, нам всем достанется, — сказал я. — В ваших же интересах хранить тайну.
— Не в моих, — сказал Гай. — Я не виноват.
— Виноват уж тем, что рядом был. И получишь у меня, если проболтаешься.
Потом я прижал к себе и Гая, обнял вас покрепче и сказал:
— Вам конец, если кто-то узнает.
Вполне доходчиво.
— А что делать с твоей рукой? — спросил ты.
— Само заживет, — сказал я. — Не волнуйся. Если не откроешь рот свой, назавтра все пройдет уже.
Тут Миртия позвала нас и велела встречать маму. Я старательно прятал свою обожженную руку и чувствовал себя, можно сказать, куда лучше прежнего. Теперь я был уверен, что, как защитник пенатов, обрадовал сердца наших родовых богов, и, во всяком случае, они, снова любят меня.
А, может, и Юпитер гневался дождем и грозой на Тисиада за то, что он выставил его таким безразличным к человеческим радостям и тяготам.
Если мы не нужны ему, так зачем Юпитеру наши быки? Получалось не слишком-то логично. Марк Антоний — молодец, хоть и срыватель амулетов, зато спаситель богов. Тисиад — так себе, не молодец, как все греки, которые думают слишком много.
Я даже перестал на него злиться, наоборот, проникся к нему любовью и жалостью, как к существу, за которым не положен ничей зоркий глаз. Так жалеют сирот, лишенных материнской ласки и отцовского наставления.
К ужину, словом, ко мне вернулись и аппетит, и вера в человечество и много чего еще, разве что рука болела.
— Марк, не хватай, пожалуйста, — сказала мама. Но наш стол ломился от вкусностей, поэтому исполнить ее пожелание было нелегко.
Ты помнишь маму? Красивее всего она становилась при свете свечей и ламп. Мы с тобой вовсе на нее не похожи, разве что Гай, да и тот — совсем немного, чем-то неуловимым.
У мамы нашей, как это водится у Юлиев, вытянутое лицо с острыми чертами и большими, печальными глазами. У мамы жидкие волосы, а брови и ресницы так тонки, что едва видны. Если описывать ее последовательно, получается, что красавицей она не была, но никто из видевших ее при золотых язычках свечного пламени, не мог отрицать благородства и нежности, которые вдруг проявлялись в этих не слишком гармоничных при всяком другом освещении чертах.
За ужином она всякий раз казалась невыразимо юной, сколько бы ей ни было лет, и исполненной степенного достоинства, а ее почти прозрачные глаза становились золотыми, податливые к свету, как ничьи другие.
Мама говорила тихо и ласково, ни разу она не кричала на нас, оставляя это неблагодарное занятие Миртии, да и тогда ее большое, нежное сердце обливалось кровью. Как мне жаль тебя, брат мой, если ты не помнишь нашу добрую, чудную маму. А, может, все не так, и ты встретился с ней, припал к ее холодным, но добрым рукам, и знаешь, что она знает — сколько бы горя ни принесли ей ее дети, мы любили ее так, как только способны наши сердца.
Мама заметила, что я прячу ладонь, когда подали обожаемое мною телячье сердце, и я потянулся к нему с неудобством — левой рукой.
— Что это у тебя там, Марк? — спросила она. — А ну-ка покажи.
— У меня? Что это у меня?
— Не дурачься, покажи мне руку, — она мягко улыбнулась мне, и я почувствовал себя виноватым.
— Ты ее видела, мама. Хочешь лучше покажу после ужина, как я черепаху кормил?
Ты знаешь, что случилось дальше, если только ты все еще ты. Но все-таки надо сказать.
Любила ли мама отца? Скорее да, чем нет, но я не уверен. Совершенно точно она уважала и ценила его, как своего мужа, и всегда была добродетельной женой.
Как я понимаю теперь (хотелось бы обсудить это с тобой за каким-нибудь восхитительным ужином, одним из тех, на которых мне так тебя не хватало), мама прекрасно знала, что отец — вор и пройдоха. И ее никогда не обманывала его мягкая нелепость, никогда не обманывало его нытье о том, какой он, в конце концов, неудачник.
Мама знала, что он лжец и мастак исключительно таскать государственное добро. И она знала, что это кончится плохо для нас, но была не в силах ни на что повлиять.
Так что, думаю, того, что случилось дальше мама ждала. Не ждала — с трепетом, с нежностью, с желанием и любовью, чтобы избавиться от надоевшего мужа, а ждала, как ждут дождя, когда видят, что небо стремительно темнеет.
Это сравнение пришло мне на ум из-за того, что тот проклятый дождь все не прекращался, будто бы настроен был изливать небесную влагу еще много последующих лет.
Среди мерного перестука капель по крыше, я услышал визг тормозов. Машина.
Мы вскочили на ноги — в столь поздний час это мог быть только отец, но откуда тогда этот тревожный всхлип колес?
Я первым выбежал из столовой и устремился в переднюю, к двери. Рука болела, потому что я сжимал ее сильно-сильно, а потом и ты вцепился в мою бедную ладонь, от волнения не разобрав, что делаешь мне больно, а Гай — он тоже устремился за нами.
Мама сидела за столом, я услышал, как она спросила у Миртии:
— Что это с ними?
А мы как будто все знали. Выбежали на порог, когда его уже несли по дорожке, почти в полной темноте, только свет, идущий из дома, озарял его неожиданно бледное лицо. Он стал похож на Гая так сильно, что Гай потом говорил: он обрадовался в первую секунду, увидев такого белого отца.
Но за этой секундой шла другая, ужасная, когда стало понятно, что отец без сознания, что голова его запрокинута так сильно, и кадык, кажется, прорвет сейчас кожу, что он в крови, и машина припаркована криво, и фара ее разбита об забор, и отцовские слуги кричат и кричат, то на своих мудреных языках, то на латыни.
— Пираты! — вопили они. — Пираты!
Я и сам знал, что пираты. А с кем еще отцу было положено бороться на том проклятом и прекрасном Крите? Но я-то думал, он не боролся, а только брал на это деньги.
Отца несли двое сирийских рабов, голова его болталась, и я испугался, что он ударится. Ты сжал мою руку, и боль стала невыносимой, из глаз брызнули слезы.
— Отец! — крикнул ты.
— Не уроните его, только не уроните!
Мама вдруг позвала нас, я и не думал, какой у нее может быть громкий голос:
— Отойдите, дети, дайте занести его!
И мы отскочили в стороны. Когда отца проносили мимо меня, я ощутил запах его крови, такой сильный и страшный, что руки похолодели. Хоть одно хорошее обстоятельство — ладони стали такими ледяными, что я больше не чувствовал ожога. Я вообще очень мало что чувствовал, онемело лицо, онемела шея.
Запах крови проник в голову, и там тоже стало холодно.
Я закрыл глаза тебе и Гаю и почувствовал, что вы плачете. А я не плакал с тех пор, как мне перестало быть больно, слезы отступили и спрятались — упрямые зверьки, как твои утренние черепахи в панцирях.
Мама повалилась назад, лишившись чувств, ее подхватили Миртия и другие служанки.
Огни нашего дома все еще озаряли бесконечную черноту, в которой уже никого не было. Не ручаюсь за то, что все выглядело именно так, но я видел то, что видел — на номере папиной машины темнела кровь, и ее не смывало дождем, словно высохшую давным-давно краску.
Это точно была кровь — черный блеск венозной крови, вот что я видел, клянусь тебе.
Словом, как ты помнишь, ужин не удался. А, может, ты как раз ничего и не помнишь, тебе ведь исполнилось недавно всего девять лет. Хрупкая туманная прелесть детской памяти с годами черствеет, уверен, я помню те события лучше и полнее, чем ты.
Маму и отца отнесли в разные комнаты. Кто-то побежал за доктором, а Миртия, наша строгая Миртия, вдруг наклонилась и ласково поцеловала меня в щеку. От нее пахло старостью, кислинкой и горечью надвигающейся смерти, обычно я не любил, когда она обдавала меня этим запахом, а сейчас воспринял ее, живую, теплую черепашку Миртию, с такой благодарностью.
— Пойдемте, дети, — сказала она. — Не будем мешать. Я велю Элени стелить вам постели. Все наладится. Обещаю.
Обычно, как ты помнишь или не помнишь, доброго слова от нее добиться было нельзя, а тут вдруг такая нежная, такая милая старушка — сразу стало понятно, что дело совсем плохо, можно и на отца не глядеть.
Но я все-таки глянул, метнулся к нему.
На нем как раз разрезали одежду, чтобы посмотреть рану. Запах крови стал явственнее, но, может, это всего лишь иллюзия. Зато рана была реальной — глубокая и длинная, при дыхании, створки ее раскрывались, и я почему-то подумал о диковинной рыбе, прилипшей ко вполне знакомому и обычному отцовскому животу.
Мне не верилось, что таким было его мясо — отчаянно красным, рассеченным и будто бы имеющим свою волю, собственное дыхание. Эта рана походила на ужасного паразита, зловещего ребенка, который питался жизнью отца. В просвете было черно, тогда я впервые узрел, что у человека так темно внутри, хотя чего тому удивляться, а я все равно удивился.
Я не расплакался, видя, что происходит с отцом, хотя не так давно рыдал от того, что боги не любят меня достаточно сильно.
Тогда меня это не поразило, а теперь поражает.
— Ма…
Миртия начала, но не закончила. Имя принадлежало нам обоим, отцу и мне, как его первенцу.
— Быстро! — сказала Миртия с той же своей суровостью, что и обычно. И эта привычная ее жесткость успокоила меня так же, как напугала прежде непривычная ласка.
Такой выдался у нас ужин, милый друг, и вы с Гаем были разлучены со мной, вас отправили в вашу комнату, а меня — в мою. Я слышал, как вы плачете. Сам я никак не мог начать, хоть и знал — у отца очень плохая рана, ее голодный раскрытый рот угрожал поглотить его.
Миртия не позволила мне долго готовиться ко сну и сразу же погасила лампы. Я остался в темной комнате и слушал ваши всхлипы, доносившиеся до меня будто бы очень издалека. Я думал о своей булле, мокнущей под жестоким дождем где-то в саду, о вас, бедные ягнята, о нашей бледной матери, о нашем отце, чья кровь осталась на пороге.
Дядька говорил как-то:
— Мужчины рода Антониев не умирают своей смертью.
А Гай тогда спросил:
— Разве можно умереть чужой смертью? Любая смерть — твоя.
Дядька назвал его маленьким крючкотвором и засмеялся.
— Далеко пойдет, Марк!
Отец тогда засмеялся тоже.
А теперь, растерянно подумал я, теперь ему не смешно. Дождь не прекращался, было холодно, и я дрожал. Впрочем, кто знает, может, не холод тому виной, а страх, в котором я не хотел себе признаться.
Моя булла не выходила у меня из головы. Я отдал себя злым духом, и через отца они наказали меня. Они добрались до отца, потому что я им позволил. Я открыл свое сердце злу, и оно вошло в мой дом.
Сердце колотилось все сильнее, будто и из меня толчками вырывалась кровь. Вы утомились и затихли, во всяком случае, я вас не слышал. Зато услышал, как стонет отец. Он пришел в себя и громко кричал, метался, очевидно, по постели и страдал от жара. Я предполагаю.
Всем нам предстоят рано или поздно муки агонии, ты, отец, мать, Гай, вы уже отмучились, остался лишь я, кто не вкусил их, и не знает последней тайны жизни и первой тайны смерти.
Тогда меня еще удивляло, как умирает человек. Как мучительно, с каким нежеланием. Я не мог верить в то, что Гипнос и Танатос — братья, потому что отец кричал, как человек, засыпая, никогда не кричит.
Все из-за меня и моей буллы, моей золотой защиты.
Зачем я выбросил ее? Зачем обрек на такие муки моего бедного отца?
Стоило мне закрыть глаза, как под веками раскрывалась рана, такая же, как у отца на животе, с черно-красными створками живого мяса.
Я метался по постели, будто бы повторяя его движения, ворочался, сжимал простыни. Как ты понимаешь, мой родной, я понятия не имею, насколько это все точно, но в душе моей — точнее не могло быть.
Наконец, стало тихо, зловеще, мучительно тихо. Плача матери не слышалось тоже, отец был еще жив. Терзания плоти оставили его хотя бы ненадолго.
Но терзания моей души не прекращались. И я, понимая, что не могу больше, что я виноват, что должен все исправить, вылез из окна и под дождем помчался к той самой яблоне, у которой выбросил буллу. Я и не заметил, что ты увидел меня, что ты тоже выскочил вслед за мной на улицу. Я рухнул на колени, и мой ожог остудила влажная холодная земля. Я ползал по ней, стараясь нащупать свою буллу, но возможно ли было это в темноте?
Вдруг ты упал прямо передо мной:
— Братец, — вскричал ты. — Я убил отца! Убил его! Это все потому, что я играл с пенатами, и они гневаются на меня! Ты был прав!
— Нет-нет, — выдохнул я. — Ты не виноват, я виноват. Я выкинул свою буллу и велел злым духам прийти сюда. Помоги мне найти буллу, Луций, моя радость, и все будет хорошо.
Точно рабы под плетью, мы ползали на коленях, ощупывая землю. Я говорил:
— Ты не виноват, братишка, совсем не виноват, точно тебе говорю, не виноват.
А из головы у меня не шел отец — его образ. Всегда едва заметная улыбка, склоненная голова, длинные золотистые пальцы, вертящие кольца. Отец только казался грустным и покорным судьбе, на самом деле он любил и умел добиваться того, чего хотел. Он вертелся, как уж, и никто не мог прищучить его, отец умудрялся выходить сухим из самой неспокойной воды.
Мне не верилось, что что-то может случиться с этим всегда спокойным и послушным человеком, с виду таким мягким, а внутри твердым, как камень.
Не верилось, что он не выпутается и из этой ситуации.
Но в то же время глаза мои видели, как жизнь покидала его.
Ты сказал:
— Марк, я могу отдать тебе свою буллу! Ты старше, может, меня злые духи не увидят.
— Наоборот, кто младше, того они видят яснее. Поэтому буллу снимают, когда становятся мужчинами.
— Мужчин злые духи не видят?
Я пожал плечами. На этот вопрос у меня ответа не было. Если мужчин не видят злые духи, то как мой непобедимый, мой хитрый отец оказался здесь и сейчас, как вышло, что он умирал в собственном доме на горящих от крови и пота простынях.
На твоей шее болталась золотая булла, такая же, как у меня, напоминая мне о моем грехе, и я сильнее вцеплялся пальцами в землю.
Вдруг ты вскрикнул:
— Нашел, Марк!
На твоей ладони, грязная, лежала она. Даже в этой почти полной темноте дождливой ночи она поблескивала, и капли дождя постепенно смывали с нее грязь.
Я сказал:
— О боги, теперь все будет хорошо.
И мы с тобой, промерзшие, продрогшие, бросились друг к другу в объятия и горько разрыдались.
Потому что мы знали — это неправда. Но мы с тобой любили эту ложь очень сильно, как ничто, может быть, после в этом сложном мире.
Отец жил еще три дня.
Рана его стала темнеть, а потом гноиться. Мне не разрешали смотреть, но я подглядывал.
Смерть его была неизбежной, как наступление ночи. Лишь один раз отец пришел в себя настолько, чтобы улыбнуться мне.
— Марк Антоний, — сказал он. — Марк Антоний, бедняжка.
Какого Марка Антония имел в виду он, меня, себя или, может быть, деда, тоже умершего рановато и страшновато?
Он смотрел на меня затуманенными глазами, и было понятно, что он может видеть кого угодно.
Я подумал: глаза, будто у ящерицы, покрываются пухлой молочной пленкой.
Я подумал: люблю ли я тебя, люблю ли я, люблю ли я, люблю ли я.
А потом рухнул на колени и заплакал: люблю. Кто-то из слуг увел меня, а вечером мы пришли уже к папиному смертному одру.
Я смотрел, как он умер, я видел все, до конца. Но самую тайну знала только мать, запечатлевшая на его губах последний поцелуй, поглотившая его последний вздох.
Грудь моя наполнилась звенящей болью, и я изведал печаль смерти.
Но отец, пожалуй, был бы каким-то совсем другим человеком, если бы после него осталось что-нибудь, кроме долгов.
Злился ли я на него за это? Не думаю, что мы с тобой или Гай тогда злились. Я всегда умел любить в людях их любовь ко мне. А отец меня обожал. И за это я готов был простить ему все: и позорное прозвище "Критский", навсегда прилипшее к нему, боровшемуся и умершему там, и долговую яму, и то, что он никогда и ничего не говорил маме о том, как плохи наши дела.
Наш славный отец запомнился только тем, как хорошо умудрился провороваться на войне с критскими пиратами, которую проиграл.
Но ты слабо его помнишь даже в случае, если дыхание твое и содержит какую-либо память о нас, о маме, обо мне и Гае.
Он был щедрым человеком и любил делать хорошие подарки. Он никогда ни с кем не ссорился, по этому поводу все, а особенно дядька, считали его сосунком и тряпкой. Только благодаря такой безобидной репутации человека, на которого легко надавить, он сумел набрать столько долгов.
Нам с тобой приходилось краснеть за него, это правда, но ты просто не помнишь, как он нас баловал.
Отец и мать приучили нас так желать и жаждать любви, тебя и меня, и Гая. Ты мало знал его, но то, что он успел тебе дать, прошло с тобой через всю жизнь.
Я никогда не говорил об отце ни с тобой, ни с Гаем, а теперь я думаю, что зря.
Почему не говорила мама? Думаю, она не хотела растравлять наши сердца. В бедственном положении мы оказались из-за него, но он, пойми его правильно, не ожидал умереть так скоро.
И планировал выкрутиться, как всегда делал.
Но, милый друг, все сложилось так, что он умер на Крите (лишь маленькая часть этого острова была пригодна для нормальной римской жизни, а тем более — для римской смерти). Траурной процессии у нас не вышло, погребальный костер запалили быстро и бестолково, без соответствующих церемоний. Даже тело его, хоть и чисто отмытое, не умаслили, как следовало бы, и я все время чувствовал в носу запах крови, которого не должно было быть.
Может быть, я чувствовал бы его даже если бы тело благоухало, как полагается. И сейчас, стоит мне задуматься об этом, запах отцовской крови стоит у меня в носу.
Мы не успели с ним толком попрощаться. Вот был отец, и почти безо всяких приготовлений, буквально через пару часов, на рассвете, осталась лишь урна с его пеплом и костями. Днем мы уже взошли на корабль.
Маму и Гая одолевала морская болезнь, а мы с тобой смотрели на море.
— А в Риме у меня будет комната расписана? — спросил ты.
— А ты не помнишь свою комнату в Риме? — спросил я. Ты покачал головой. Дети забывают все быстро.
— Будет расписана, — сказал я. — Павлинами и яблоками.
— Ты уверен?
— Да, потому что это была моя комната. А теперь ты стал старше, и я тебе ее отдам.
Ты обрадовался, и я обрадовался, что ты обрадовался, как говорится, все были довольны.
А отец плыл с нами домой, в красивой урне из серебра и слоновой кости, которой он на самом деле не мог себе позволить. Но мы-то, Луций, не знали о том, что мы уже не богатые люди. И все твои мысли были о комнате там, в Риме, а я думал о булле, болтавшейся у меня на шее.
Зря я сорвал ее тогда.
Прости, не знаю, что на меня нашло, дорогой мой, я хотел рассказать о таком хорошем и светлом дне, до того вечера и до всего вообще. Но ты знаешь, Луций, как беспощадно близко иногда стоят прекрасные и ужасные минуты нашей жизни. Надеюсь, что знаешь.
Я всю жизнь превыше всего ценил человеческую любовь, одна она укрывает надежно. Сейчас я так отчаянно благодарен тем, кто любит меня, кто жить без меня не может, потому что я бессмертен для них, я их бог.
Любовь — лучшее лекарство, милый брат, меня много любили, и благодаря этому я всегда отличался отвагой, здоровьем, красотой и отличным аппетитом.
И нельзя сказать, что это ничего не меняет, даже если все мы будем срезаны беспощадным серпом Сатурна.
Будь здоров, насколько это доступно мертвым.
После написанного: нет, добавлю все-таки. Как глупа была вся та моя боль до смерти отца.
Теперь точно — будь здоров.
Послание второе: Утренние пробежки
Марк Антоний, брату своему Луцию, да и кому бы еще в нынешней ситуации?
Здравствуй, милый друг, я так и не смог сжечь мое первое письмо, не знаю, почему. В нем столько дорогого моему сердцу, и это такая тоска, будто уничтожаешь часть себя.
Не знаю, как я это сделаю, но сделаю, обещаю. Нет ли у тебя другого способа подать мне знак, ну хоть какой-нибудь? Не могу поверить, что совсем нет.
И если я не смог сжечь свое первое письмо, то зачем сел за новое? Наверное, мне хочется вспоминать, а вспоминается лучше всего именно так. Видишь, я снова говорю "ты", а на самом деле это "я". Вечно я, я, я, как говорила мама, и никогда ничего другого.
Но когда я пишу тебе, я весь дрожу, так сильно грущу по тебе и скучаю. Сейчас состояние мое стало совсем невыносимым, так бывает, когда близка встреча с кем-нибудь родным, и ты уже не можешь ждать, и сердце разрывается сильнее всего при долгой разлуке, когда она заканчивается.
Такова, во всяком случае, теория. Что касается практики — кто знает, кто знает. Но невелика вероятность того, что я буду каким-то иным Антонием, чем все Антонии до меня.
Ладно, послушай меня еще немножко. Ты не внимаешь мне круглые сутки, потому и не утомишься от меня. Да и ты, кажется, один никогда от меня не утомлялся, Луций.
Я лежал без сна и думал вот что: я люблю людей, люблю их, как ты думаешь, должны ли они любить меня в ответ? Я хотел бы принудить весь мир любить меня, но это невозможно. Когда люди не любят меня, я злюсь, и я растерян. Это, пожалуй, мой единственный настоящий порок. В остальном я невинен, как дитя.
Но этим единственным пороком, страшнейшим, ужаснее, чем тупость и жестокость, которыми меня частенько попрекают, я, пожалуй, надоел всему миру.
Но я знаю, что с этим будет покончено лишь когда я, наконец, сам знаешь чего. Есть надежды, что я сам знаешь чего очень скоро и весьма мучительно.
Именно поэтому я хочу вспомнить какие-то вещи, хочу достать эти безделушки из полной коробки, которую я набрал за всю свою жизнь.
Но и для тебя, да, для тебя, для нас с тобой тоже. Пояснение и так слишком длинное, надо же, твой брат Марк снова оправдывается и снова думает только о себе, и даже снова хвастается. Кто бы мог подумать?
А кто бы мог подумать, что мама выйдет замуж снова так рано? Ни один, даже самый злой, язык не сумел бы сказать о ней ничего плохого — она не была ветреной, не была легкомысленной, не была вероломной. По всеобщему мнению, отец никогда не заслуживал такой прекрасной и честной жены, их брак был, как однажды весьма остроумно выразился по этому поводу дядька, моральным мезальянсом. Такая идеальная женщина произвела нас на свет, а мы ее подвели, братец, все трое, но больше всего, думаю, я.
О Гае она, во всяком случае, и половины всего не знала. Честь хорошо понимать, что на уме у Гая, выпала только нам с тобой.
Ну да ладно, до этого еще далеко, далеко, как от начала пьяной бурной ночи до мучительного рассвета.
А пока, как ты помнишь или не помнишь, мы вернулись в Рим, и тут же узнали, что положение наше чудовищно. Мы лишились практически всего, чем отец хвастался, будучи политиком, в том числе и хороших друзей, и даже самого Рима, нам пришлось продать дом и временно переселиться в Остию.
И, кстати, никаких тебе росписей на стенах, милый друг, ты очень меня в этом винил. Я обещал, что мы будем жить не хуже, чем раньше, но нам пришлось переехать в весьма унылую лачугу (во всяком случае, по сравнению с тем, к чему все мы уже привыкли), распродать лучших рабов, общипать имущество.
Все эти действия не принесли ожидаемого результата — долговая нагрузка оказалась слишком большой, и на некоторое время в доме повис тревожный вопрос: когда мы отправимся жить в инсулу вместе с грязными лавочниками и вонючими красильщиками?
Как ты понимаешь, мать думала наложить на себя руки. Да и иногда, когда она поглядывала на нас, я понимал, о чем она думает. Думаю, однажды мама была особенно близка к тому, чтобы забрать наши жизни, а потом распорядиться своей.
Мама в ту ночь все сидела и что-то считала, несмотря на ворчание Миртии о том, что масло для лампы ей тоже стоило бы использовать поэкономнее.
В арифметике мама, в отличие от нас троих, всегда была хороша, думаю, этот процесс ее даже успокаивал. Мы втроем играли в "щечку", и, честно говоря, Гай перебарщивал. Помнишь эту дурацкую игру? Нужно ударить товарища по щеке, а он с закрытыми глазами попытается угадать, сколько ты задействовал пальцев при нападении. Наверняка, ты помнишь.
Я ему говорил:
— Да очнись ты, придурок, правда же больно.
А он все спрашивал:
— Щечка, щечка, сколько нас?
— Да двадцать пять как будто, ты урод!
— Четыре, — сказал ты. — Гай, прекрати так стукать.
— Что я вообще с вами делаю? — спрашивал я. — Множество нормальных людей хочет со мной пообщаться.
— Да где же они? — спросил Гай.
— Где угодно, — сказал я. — Но я провожу время с вами, с мелкотой, потому что…
На этот вопрос я не мог ответить. Сыновья Скрибония, к примеру, звали меня гулять, а там и до их симпатичных сестер было недалеко, но я отказался. Что-то заставило меня торчать с вами и получать по роже от Гая.
— Щечка, щечка, сколько нас?
— Еще раз это сделаешь, и я тебя убью! Клянусь, Гай, я тебя убью.
— Ну сколько?
— Два!
— Три!
А мама все смотрела на свою восковую табличку, и вдруг я заметил, что она царапает себе руку стилусом. Мама делала это с совершенно отсутствующим видом, она казалась безмятежной, но в то же время на ее руке, между большим и указательным пальцем, уже выступила кровь.
— Мама! — крикнул я как можно более веселым голосом. Она встрепенулась и посмотрела на меня. Я вскочил, оттолкнув Гая, и ты над ним засмеялся. Вы ничего не заметили. Она быстро спрятала руку, поддерживая мою игру. Я обнял ее крепко, пытаясь завладеть стилусом.
— Я люблю тебя, — сказал я. — Могла бы ты унять Гая, он не умеет играть в "щечку", потому как он свирепый и беспощадный.
— Унять Гая, — повторила она, вид ее оставался таким же безмятежным, но я понял, что мама придает моим словам какой-то страшный смысл, которого я совсем не закладывал. Вы посмотрели на нас. Я все пытался вырвать у мамы стилус, но я не мог совершать резких движений — мне не хотелось напугать вас. А она смотрела на меня, я не передам тебе, каким взглядом, эта чудесная любящая женщина глядела на меня во все свои бесцветные глаза и думала, я поручусь за это: его нужно убить первым, потому что с ним сложнее всего справиться, смогу ли я вонзить стилус ему в сердце или в горло?
Я поцеловал ее в лоб и сильно сжал ее пальцы, я причинял ей боль, но так было нужно. Рука ее сначала оставалась неподатливой и твердой, а потом только безвольно подергивалась в моей руке, и меня посетила неожиданная и странная мысль: я задушил ее руку. Дурацкая мысль, как ты понимаешь, нелогичная, но страшная. У нее были очень хрупкие и легкие кости. Уже тогда я мог их сломать, мог случайно навредить ей, а вы играли в "щечку", не обращая внимания на эту жутенькую сцену, которая разворачивалась прямо перед вами.
А чем была для тебя та ночь, Луций? Я никогда не спрашивал, заметили ли вы что-нибудь, а теперь спросить не у кого. Неужели то была только наша с матерью тайна?
Наконец, стилус оказался у меня. Он был так заточен, что я порезал ладонь, выхватывая его. Мама взглянула на кровь, и ее глаза наполнились слезами. Так случилось, что она порезала именно ту руку, которую я обжег в день, когда привезли раненного отца. И поделом той руке, подумал я, она виновата. Ей я срывал буллу, вот что важно.
— Марк Антоний, — сказала мама. — Бедный мой мальчик, Марк Антоний! Это я виновата!
— Это я сам. Случайно.
Я погладил ее по голове, не сообразив, что делаю, и на ее светлых волосах остались капельки крови, похожие на зернышки граната. Она притянула меня к себе и стала целовать мою руку.
— Мам, мне уже не пять лет, — сказал я.
— Мой бедный мальчик, — повторяла она. От ее слез царапину жгло только сильнее. — Мои бедные дети.
— Это нам, — сказал я, взяв, кроме стилуса, и восковую табличку с ее мудреными расчетами, вовсе мне неинтересными. — Чтобы счет вести, мамуль.
Мама смотрела на меня молча, из глаз ее катились слезы, а губы дрожали.
Она поняла в этот момент, что не сможет убить нас, не сможет пролить нашей крови, и это привело ее в такое отчаяние.
Вот почему, милый брат, я всегда считал и говорил тебе, что бедность — порок. Только по этой самой причине.
Разумеется, все намного сложнее: мать не думала бы уничтожать свое потомство, если бы не боялась, что мы попадем в плохие руки. И теперь я понимаю, что она имела в виду дядьку. Его жестокая, хищническая натура пугала маму. Мы любили дядьку за веселый, разгильдяйский характер, но, надо признать, он был настоящим бандитом, разве что при должности. Безобидный обманщик, мой отец, ни в чем не мог сравниться с дядей, настоящим безжалостным грабителем, его бесчинства до сих пор были у всех на устах, и никто никак не мог решить, что же с ним делать. Его бесконечно обвиняли и оправдывали, дело о его "жестоком изнасиловании Греции", так высокопарно выразился как-то при мне Цицерон, никак не могло завершиться, хотя за него однажды взялся сам молодой Цезарь.
Дядька был нашим самым вероятным усыновителем, и от этой мысли сердце матери рвалось, как я полагаю, на части.
Я же искренне любил дядьку, и все, что о нем ни говорили, мне казалось кознями завистников. Милый друг, даже ты тогда любил дядьку, что говорить о Гае. Мы с нетерпением ждали его приездов, потому что он всегда привозил дорогие подарки, смешно шутил, много пил, а, выпив, становился еще веселее.
Я любил дядьку так сильно, потому что он был похож на меня. Чтобы быть последовательным, стоило, конечно, сказать, что это я был похож на него, потому как я явился миру позже, но думал-то я именно так: дядька на меня похож, вот ему повезло.
Наши волосы одинаково кудрявились, и у них был абсолютно одинаковый оттенок: рыже-каштановый, почти тот же, что и у тебя, но ощутимо светлее, чем у Гая, наши с дядькой глаза были одинаково карими, а сходство черт лица, крупных, гармоничных, героических увеличивалось из-за похожести нашей мимики, подвижной, по-балаганному грубой, сглаживающей нашу с ним слишком строгую красоту. Жена его часто говорила (не без тайной злости), что я сошел бы за его сына.
Это правда. Почти во всем мы были схожи: одинаково красивы, одинаково прожорливы, одинаково смешливы, одинаково жадны. Чем старше я становлюсь, тем больше нахожу в себе с ним похожего. Это меня и радует и пугает. Радует, потому что часть меня, детская часть, все еще любит его невероятно, а пугает, потому что я вынужден был прожить жизнь, похожую на его жизнь, и бессовестно упивался этой жизнью, но в то же время я никогда не был настолько зол, как он, и не хотел быть таковым.
Гай тоже предположил как-то, что я его сын. Но он не прав, и вот почему, слушай внимательно, этого я тебе тоже не рассказывал.
В том вечере, как ты понимаешь, было крайне мало веселого, хотя я и старался состроить хорошенькую мину, чтобы не выдать перед вами волнения. Мать сослалась на плохое самочувствие и ушла к себе, но я боялся оставлять ее, и не знал, что делать.
Я понимал, что она не тронет нас с вами, просто не способна на это. Но она вполне могла сделать что-нибудь с собой. Потому, что не видела выхода из сложившейся ситуации, а нынешний официальный глава нашей семьи, мой дядя, не спешил ей помогать, хотя в это время как раз жил в Остии (какие-то дела в порту, не помню уже), рядом с нами, и все об этом знали.
В этом, решил я, корень проблемы.
Ночью, когда вы, мои ягнята, легли спать, ни о чем не ведая, я поднял Эрота. Ну, ты же помнишь Эрота, внук нашей Миртии. Он остался в доме самым юным рабом, потому как Миртию мама любила невероятно, и она никогда бы не продала ни ее дочь, ни внука, даже в самой отчаянной ситуации. Был он тогда твоим ровесником, но его я воспринимал намного старше, может, благодаря высокому росту, или оттого, что он был так серьезен. Так повелось, что Эрот был моим личным помощником, и нам обоим нравилась эта игра. Я доверял ему свои важные детские дела, а он исполнял их в лучшем виде. В эту игру мы с ним продолжаем играть всю нашу жизнь, вплоть до сегодняшнего дня.
Так вот, я разбудил его, спросонья он то и дело зажмуривался.
— Подай мне письменные принадлежности, — сказал я. Просьба для меня, как ты понимаешь, очень необычная.
— У меня для тебя очень важное задание. За него я щедро награжу тебя.
Как ты понимаешь, в лучшем случае он мог рассчитывать на сухофрукты за обедом, но нам обоим нравилась атмосфера торжественности и официальности.
Мы шептались совсем тихонько, чтобы не разбудить Миртию или еще кого-нибудь из немногочисленных слуг, потом аккуратно вышли в нашу крохотную, тесную столовую.
Эрот ушел воровать письменные принадлежности, а я остался стоять, вдыхая затхлый запах подступающей бедности. Все было, помню, совсем черным, и стены, казалось, сжимались и разжимались, будто дом дышал, тяжело и старчески.
Затем я увидел далекий желтый огонек — Эрот нес лампу. Под ее колеблющимся светом я написал вот что:
"Гаю Антонию Гибриде, от племянника его, Марка Антония, только в руки и срочно.
Будь здоров, дядя!
Наше положение ныне ужасающее. Я вполне понимаю, что у тебя достаточно своих дел и проблем, однако сегодняшний вечер прошел так: мать порезала себе руку стилусом и ушла, сказавшись больной, я боюсь, как бы не случилось страшного. Ты необходим нам сейчас, пожалуйста, прибудь как можно скорее. Дело не терпит отлагательств, а если бы терпело, я написал бы тебе при свете солнца."
Эрот внимательно следил за тем, что я пишу. Он был очень рассудительный мальчик (и вырос очень рассудительным мужчиной), кроме того, весьма одаренный. Миртия учила его читать, считать и писать, а языки вообще давались Эроту лучше всего, даром, что он раб. В общем, Эрот указал мне на несколько ошибок, которые я, впрочем, не стал исправлять.
— Да дядька сам ничего не знает, — сказал я. Эрот кивнул:
— Как скажешь, господин.
Мы засмеялись, потом я всучил ему письмо.
— Дорогой друг, — сказал я. — Доставь его немедленно, невзирая на опасности. Дядя живет тут недалеко.
Эрот серьезно кивнул. Его смешное личико, оттопыренные уши и неестественно тонкая шея придавали ему комедийный вид, в то же время держался он всегда торжественно. Возраст заставил его очень сильно похорошеть, но и ныне именно серьезность возносит его надо многими другими. Иногда мне кажется, что его повадки куда более благородные, нежели мои.
Так вот, Эрот взял письмо и ушел с ним, а я снова остался в темноте.
Честно говоря, я не думал, что дядька отреагирует так быстро и ждал его на следующее утро. Но в этом был весь он — примчаться среди ночи, не подумав о приличиях. Уже через полчаса матери доложили о его прибытии. Она вовсе не выглядела сонной и вышла в дневной одежде.
Увидев меня, мама сказала:
— Марк, а тебе бы лучше отправиться спать.
Но она знала, что если приехал дядька, то сам Плутон не выгонит меня отсюда.
Дядька пришел пьяный, я тут же бросился обниматься, чувствуя его приметный запах — пота и вина, казавшийся мне необычайно приятным и безопасным.
— Маленький разбойник, — сказал дядька, широко улыбнувшись. — И ты тут!
Ни словом, ни делом не выдал он меня.
— Что не спишь?
— Как будто знал, что ты придешь, — сказала мама.
Дядька улыбнулся мне совершенно ничего не значащей улыбкой, так что я на секунду даже подумал, будто он явился по собственной инициативе.
— Ладно, — сказал он. — Посиди уж с нами немного. Ты теперь старший в семье, как никак.
Мать велела подать вино и закуску. Дядька лег на кушетку и сказал вина ему не разбавлять. Если уж нарушать приличия, то все сразу. Не знаю, чем из этого мама была недовольна более всего.
— Не то время суток, — сказал он. — Чтобы кичиться своей цивилизованностью.
— А мне можно? — спросил я. — Я же, вроде как, старший в семье теперь. Пора переставать кичиться цивилизованностью и быть вроде как Антонием.
— Нельзя, язва, — сказала мама.
— Можно-можно, — ответил дядька. — Давай-давай, мальчик, плесни Марку неразбавленного.
Эрот кивнул и сделал, что велено. Я знал, как он мне сейчас завидует и улыбнулся пошире.
— Благодарю за воспитание, милый дядюшка.
Мама нахмурила брови, но ничего не сказала. Я одним глотком осушил весь кубок, неразбавленное вино было горьким и сладким, и очень пряным, а еще оно едва не пошло у меня носом.
— Марк! — сказала мама. — Это что такое?
— Боялся, что отберут, — засмеялся дядя. — Молодец, Марк, урвал свое. Я недавно думал о нас с тобой. Такие мы люди, что нашу вечную жажду утолит лишь опимианское вино.
Тогда я его не понял, только годы спустя до меня дошло, что дядя имел в виду.
Опимианское вино — прекрасное вино одного единственного года, когда урожай был особенно славным, но этот год прошел, и такого вина не сыщешь. Дядька имел в виду, что утолить нашу с ним жажду может лишь то, что было, но чего уже нет, что-то недостижимо восхитительное, и восхитительное именно этой недостижимостью.
Если хочешь знать, проклятье сродни танталову. Тебе оно тоже знакомо, хоть и в несколько ином виде. И Гаю.
— Правда, Юлия? — спросил дядька, глядя на нее, глаза его стали темнее, страннее. Но я не понимал, что это плохо. Я думал, что дядька смотрит на нее с теплом и участием. Да, разумеется, с теплом и участием, но — определенного рода.
— Тебе ведь со стороны виднее. Таковы мы, Антонии?
— Сложно сказать, Гай, — ответила мама быстро. — Лучше ответь, что привело тебя в столь поздний час?
Дядька на меня даже не посмотрел, хотя, зная себя, и зная, что мы похожи, думаю: ох как сложно ему было удержаться.
— Я представил, сколько горестей ты переживаешь.
Мама посмотрела на него, чуть склонив голову набок, в глазах ее была колкость, которой она не сказала: как же оперативно ты реагируешь на горести своей семьи.
— Это не для детских ушей, — сказал дядька, жестом велел Эроту подлить мне еще вина. Я тут же выпил: во второй раз оказалось легче и приятнее. По телу разлилось ласковое тепло, но больше всего его стало в голове. Я почувствовал, что еще немного, и я проболтаюсь обо всем маме.
Поэтому я, несмотря на желание выпить еще, решил уйти.
— Раз это не для детских ушей, — пробормотал я. — Пойду устрою свои детские уши где-нибудь в другом месте.
Дядька протянул руку и погладил меня по голове.
— Марк, Марк, Марк, ты смешной мальчик, у тебя большое будущее. Но запомни, мало улыбаться смешно и кусаться больно. Необходимо другое.
— Что? — спросил я. Мама едва заметно скривила губы и велела рабыне разбавить вино в сосуде. Поймав мамин взгляд, я широко улыбнулся и сказал:
— Впрочем, время терпит, большое будущее еще впереди, а сейчас пойду я, пожалуй, спать.
— Мудрое решение, Марк, — сказала мама.
Но мудрых решений, как ты знаешь, милый брат, я никогда не принимал.
— Эрот, пойдем, приготовишь мне постель.
Эрот вопросительно взглянул на маму, и она кивнула.
— Давай, и иди тоже спать быстро!
Мы вышли из столовой, но спать не пошли, а выскользнули из дома и обошли его. На улице было уже весьма прохладно, и мы дрожали, но любопытство пересиливало любой физический дискомфорт. Я приложил палец к губам, и Эрот кивнул, мы встали по обе стороны от приоткрытого окна и осторожно выглядывали, наблюдая за тем, что происходит в столовой. В темноте и неподвижности мы стали, должно быть, едва заметны.
Мама сказала:
— Зачем ты приехал, Гай?
Теперь она выглядела действительно недовольной.
— Не понимаю причину столь позднего визита, — добавила мама.
— Я прекрасно осведомлен о твоих проблемах.
— Странно, но с нашего приезда ты не выказывал к ним интереса.
Мне приходится додумывать некоторые их слова, кое-что доносилось до меня невнятно, кроме того, голова была приятно тяжелой, я опьянел. Но общий смысл беседы был примерно таков.
— У меня, как ты знаешь, дела идут не слишком хорошо.
— Я знаю и ничего у тебя не прошу.
Они смотрели друг на друга, и дядька вдруг подался вперед, мама отшатнулась — он напугал ее.
— Ты меня боишься? — он громко засмеялся.
— Дети проснутся, — сказала мама. Она тронула свой локоть, будто у нее болела рука. Жест неуверенности и уязвимости. Я впервые подумал, что сделал нечто неправильное, пригласив сюда дядьку. Настолько же неправильное, как приглашение злым духам, сделанное уже словно бы давным-давно.
— Дети не помешают, если ты их хорошо воспитала. Юлия, поверь мне, я могу вам помочь. Разумеется, не так быстро, как вам бы хотелось. У меня большие проблемы политического толка.
— Но?
— Но они разрешатся.
Свеча стояла прямо между ними, мамино лицо она делала красивым, а в лице дядьки наоборот проявилось что-то до странности уродливое, не свойственное его открытой и яркой геркулесовой красоте. Что-то, скажем так, монструозное.
Может, свет и правда так падал, а, может, я почувствовал материнское волнение — не знаю.
— Я буду благодарна, Гай, если ты поможешь нам.
— Ты злишься?
— Не на тебя. На мужа. Но ты ведь обо всем знал?
Дядька некоторое время молчал, потом сказал, задумчиво склонив голову набок:
— Он посвящал меня кое во что. Я знал немного.
— Больше меня, не правда ли?
— Правда, Юлия.
Дядька нетерпеливо постукивал пальцами по столу, во всем нем чувствовалась какая-то беспокойная энергия. Он то улыбался, то хмурился. Много позже я и за собой замечал похожие повадки, злость и радость от сильного желания.
Дальше долгая пауза, они так смотрели друг на друга, что я точно-точно понял: между ними никогда ничего не было, но дядька всегда хотел, чтоб было. А мама его боялась.
И еще я понял, какого дурака свалял, потому что любил дядьку и верил ему.
Мама сказала:
— Гай, спасибо, что посетил нас, но лучше делать это днем. Нам нечего таить.
— Нечего, — повторил дядька, как завороженный. — Таить.
А потом он вдруг вскочил и взял ее, сидевшую, за плечи, заставил встать и поцеловал. Поцелуй его сначала был ласковым и нежным, но, когда мама не ответила, стал злым и жестоким.
Мама попыталась оттолкнуть его, но не смогла, он держал ее за плечо и за ворот столы, она дернулась в его руках, как подранок, и ткань затрещала. Я увидел на маминой ключице и шее розоватые полосы — еще не совсем сошли следы того, как горевала она по отцу, раздирая себе грудь перед наскоро сложенным погребальным костром. Дядька прикоснулся к царапинам, и она ударила его по руке.
Не знаю, ударил бы ее дядька или нет, но я поднял камень и кинул его в окно, он просвистел мимо дядьки и ударился в кубок, опрокинув его. Вино потекло, красное, как кровь.
— Марк! — крикнула мама и кинулась к окну.
— Я ему сейчас!
— Что ты мне сейчас? — крикнул дядька со смехом. Я оттолкнул маму и решил залезть в комнату через окно. Ух, надо же, какой злой малыш, да?
Потом я решил, что это все-таки недостаточно эффектный выход, а, вернее, вход и побежал к двери. Я был очень быстрый, поверь. И все же, когда я ее достиг, дядька уже стоял на пороге. Он поймал меня и потрепал по волосам.
— Никому ни слова, — сказал он, широко и хищно улыбнувшись. — Понял меня?
Я молчал. Просто не знал, что сказать. Милый друг, такой казус случился со мной едва ли не впервые.
— На случай, если ты больше не захочешь меня видеть, должен сказать тебе то, что и хотел, — рассмеялся дядька. Только теперь я понял, какой он пьяный. Просто мертвецки: едва стоял на ногах. Но, как и на меня, это состояние всегда нападало на дядьку внезапно и решительно, без предупреждения.
— Мало быть забавным, чтобы нравиться людям. Тебя должны любить. Господин лишь тот, кого любит весь мир. Женщины должны желать тебя, как любовника, а мужчины должны видеть в тебе отца или старшего брата, который защитит их ото всех невзгод. Мужчины должны становиться младше рядом с тобой, а женщины моложе. Вот и все.
Дядька сказал это с какой-то тайной горечью, мы были очень похожи во всем, кроме одного — он не умел нравиться.
Я сказал:
— Спасибо за совет, дядя.
И со всей силы наступил ему на ногу. Дядька ударил меня по лицу, и тогда я укусил его за руку, вспомнив, что Антониям полагается улыбаться смешно и кусаться больно. Я вцепился в него так сильно, что почувствовал вкус крови — не то своей (он разбил мне нос), не то его. Дядька взвыл, и мама кинулась к нам.
— Гай, пожалуйста!
Я вцепился ему в запястье, туда, где билась жилка. Конечно, Луций, я подумал, что он двинет мне еще разок, но дядька вдруг погладил меня по голове так нежно, что я его отпустил.
— Видишь? — спросил он, вытер о тогу руку в нашей крови и моей слюне и вышел. Мама бросилась ко мне и стала вытирать мне нос, как маленькому.
— Это я сделал, — сказал я гнусаво.
— Что?
— Я позвал его. Я думал, он поможет тебе. Я думал, ты хочешь убить меня.
Мама встала передо мной на колени и сказала:
— О Юнона, как я могла поступить так с моим ребенком? Ты так испугался, родной мой! Прости меня, если сможешь.
Я утер нос и посмотрел на кровь.
— А, — сказал я, в голове было мутно и от удара дядьки и от вина. — Да все нормально, мамуль!
— Прости меня, родной, — повторяла она. И, знаешь, Луций, думаю, я во всем ошибся, но в то же время я умудрился ее спасти. Стыд и боль той ночи вывели нашу маму из отупения и горечи. Она испугалась, за себя, и за нас, и поняла, что я боялся за нее. Не думаю, что она еще размышляла о самоубийстве. Вся эта история привела в тонус ее жизненные силы. Так что, я вроде и не молодец, а вроде и молодец, как оно чаще всего и бывает со мной.
А ты должен был это знать с самого начала. Ты спросишь, как же я потом общался с дядькой, как любил его?
Очень просто — он все-таки был великолепный мужик, наш дядька, паскуда, но такая прелестная.
И в этом его паскудстве была, может быть, самая дядькина прелесть даже.
Если б я рассказал тебе такую историю, ты, должно быть, возненавидел бы дядьку еще раньше. А я — так и не сумел. Наверное, слишком хорошо я узнавал в нем себя, а себя ненавидеть я никогда не умел, пусть это и хорошее, полезное свойство хотя бы иногда.
Ладно, что уж там, если я начал писать про этот период, смертельно хочется мне рассказать вообще все.
Вот, например, как я бегал. Боль по отцу (абсолютно физическая боль в груди) никак не утихала, и я знал лишь один способ ее прогнать.
Каждое утро я надевал белые кроссовки с тонкой красной полосой (очень дорогие, последний подарок отца) и отправлялся на пробежку. В дождь и в холод, и в страшную жару, я бегал. Причем выбирал я для этого не специально отведенные места. В гимнастических залах я тогда проводил очень много времени, но то был спортик с друзьями, а побег от боли — совсем другое. Я, честно говоря, вообще ничего не выбирал, бежал, куда глаза глядят, по дорогам и по тропинкам, по широким площадям и по узким улицам, расталкивая людей, сталкиваясь с угрозой быть сбитым повозкой или совсем один, там, куда ни одна живая душа не заглянет.
И, Луций, боль отступала на весь день, потому что я был быстрее всех, даже быстрее боли. Я бегал, пока меня не начинало тошнить.
Правду говорил дядька, такие как мы насыщаются только опимианским вином — нет ничего в нынешнем мире, что могло бы утолить мою жажду, мой голод и мое желание. И бегал я с той же страстью, будто хотел удрать от самой смерти. А, может, именно от смерти я и уматывал так невероятно быстро.
Потом, за завтраком, я съедал по пять вареных яиц, и Миртия ворчала, что если я и Геркулес, то из комедий Аристофана.
Я был тогда наверняка самым быстрым человеком во всей стране. А, может, и во всем мире.
В те времена просыпался я очень рано, как раз-таки от этой невыносимой, звенящей боли в груди. Странное дело, Луций, я вроде бы не очень много думал об отце. Меня занимали вполне обычные вещи: спорт и девочки, и, главное, как меньше учиться и больше развлекаться.
Мысли об отце превращались в странные сны от которых едва ли что-то оставалось к рассвету, и в этот мой тягучий, тоскливый узел где-то повыше солнечного сплетения — животную скорбь, недоступную словам и мыслям.
Иногда по утрам мне бывало так больно, что я не мог вдохнуть.
Вот тогда-то я надевал кроссовки и бегал до полного отупения, до новой боли, теперь вполне реальной, в легких, раскрытых до предела.
Голова просветлялась изрядно. Опишу тебе одно такое утро. Ты как раз провожал меня, то есть, бежал за мной, сколько мог, пока не отставал совершенно безнадежно. О, Луций, я понял не сразу, какими безнадежными были для тебя те утренние часы. Я убегал и оставлял тебя, а ты не хотел, чтобы я убегал, не хотел, чтобы я тебя оставлял, и бежал за мной, сколько мог, пока тебе не становилось очень плохо. У тебя ведь тогда сильно болела спина, а ты все равно следовал за мной столько, сколько мог. Теперь я жалею, что никогда не оборачивался. Мне стыдно за это, может быть, больше, чем за все последующее, чем (как ты не знаешь, о боги, вот что самое ужасное) я тоже не горжусь.
И почему я так мало просил у тебя прощения? Ты часто просил у меня прощения, Луций.
Так вот, в тот день я, как всегда, бежал, куда глаза глядят, чтобы избавиться от своей боли в груди и проветрить голову. Сначала я еще обращал внимания на узкие улочки, на то, что иногда я запинаюсь о камни, на то, что иногда я скольжу по лужам, на людей и животных, а потом все стало одними лишь красками, как рисунок на фреске исчезает, если рассматривать его слишком близко.
Остановился я недалеко от порта, и в нос мне ударил запах моря, фруктов и блевотины. Множество людей сновало вокруг, загружались и разгружались суда, и мне вдруг пришло в голову пробраться на один из этих кораблей и уехать куда-то далеко-далеко, просто посмотреть, что там, за горизонтом.
Море было неспокойным и отчаянно билось о пристань, обливало узкую дорожку, по которой рабы несли свои корзины и ящики. Меня толкали и теснили, я всем мешал, но лишним себя не чувствовал.
Я любовался на корабли, мне они в тот день показались похожими на жутковатую смесь водоплавающих птиц и насекомых. Птичьи станы и множество маленьких лапок-весел. Льняные паруса трепал яростный ветер.
Я стянул персик из одной из корзин, которые проносил мимо паренек примерно моего возраста. Он громко заругался на непонятном мне языке, а я только улыбнулся ему и дал деру, обратно, прочь от солнца, на запад.
Вдруг я подумал о дядьке, о том, почему он так холодно обошелся с нами, но, стоило мне написать ему, тут же примчался.
Знаешь, что я думаю об этом? Он посчитал, что птичка протушилась. Что мать, доведенная до отчаяния, пойдет на все ради денег и даст ему то, что он хочет. Теперь я думаю, он волновался, боялся, что назавтра она одумается, временное помешательство покинет ее, и тогда все уже будет невозможно.
Мне стало неприятно от этой мысли, оттого, что дядька использовал мой страх, чтобы подобраться к маме. Я прибежал обратно ужасно злой, так что ни на кого не смотрел и ни с кем не здоровался. Я подошел к чаше для умывания и плеснул теплую, пахнущую цветами воду себе в лицо.
— Марк! — сказала мама. — Куда ты пошел в грязных кроссовках? И поздоровайся, пожалуйста.
Я обернулся. У окна стоял еще один наш родич, уже по маминой стороне. Луций Цезарь был во всех аспектах типичным Юлием: долговязый, с длинным, мужественным лицом, степенный, а также лысеющий, как многие из них, будто в насмешку над своим когноменом.
Я глянул на кроссовки, с них действительно натекала грязь. Служанка уже стирала мои следы у двери.
Я сказал:
— Здравствуй, родич! Прошу прощения, я не хотел быть невежливым и все такое. После утренних упражнений я бываю немного рассеянным.
Вы, Солнце и Луна, сидели за столом и пристально наблюдали за этой сценой. Ты засмеялся надо мной, а Гай тебя стукнул.
Луций Цезарь, человек почти карикатурно благородный, махнул рукой и сказал:
— Все в порядке, юношеству свойственна рассеянность, как и старости. Я тебя понимаю.
Ух ты, пронеслось у меня в голове, а я думаю: не очень-то понимаешь. Но говорить этого не стал, наоборот, я был сама любезность весь тот завтрак.
Даже отдергивал вас с Гаем по поводу приличий, что было мне совсем не свойственно.
Я понимал, почему Луций Цезарь, родич матери, пришел к нам, с какой, так сказать, прекрасной и возвышенной целью. Мама попросила его о помощи. Она отказалась от идеи погибать и решила обратиться к своей семье.
О, я только надеялся, что Фортуна будет на нашей стороне. И я пытался показать, хоть это и не было чрезвычайно важно, что из всех существующих в этом мире ребят, я лучший пасынок на свете.
Луций Цезарь вел себя самодовольно, неприятность, которая часто происходит с людьми, решившими кому-то помочь. Но я только подогревал его ощущения: беззащитная вдовушка и трое бедных детей, дядюшка, однажды они отплатят вам добром.
Больше всего мне мешал Гай. Ему Луций Цезарь не понравился сразу, и Гай весь завтрак сверлил его взглядом.
Когда Луций Цезарь говорил, что погода портится, Гай говорил, что вот и нет, погода такая ему и нравится больше всего.
А я говорил:
— Потому что Гай у нас очень необычный мальчик с необычными предпочтениями. Но большинство людей любят солнечные и теплые дни, правда, Луций?
Ты тоже не очень мне помогал.
— Я люблю солнце, чтобы оно меня грело.
— Не чтобы оно тебя грело, — сказала мама. — А за то, что оно тебя греет.
Я сказал:
— И тем не менее, по милости солнца мы можем наслаждаться всеми дарами земли. Вот, попробуй яблоки в меду.
Он, паскуда, съел все мои любимые яблоки в меду, пополнение запаса которых, учитывая наше финансовое положение, в ближайшее время не предвиделось. Я его почти возненавидел, но продолжал мило улыбаться. Луций Цезарь спрашивал, каковы наши успехи в учебе, но так как успехов у нас не было никаких, вместо них я продемонстрировал, как ловко умею стоять на голове (меня чуть не стошнило, все ради моей семьи).
— Тот, — сказал я, ощущая, как кровь приливает в голове с отчаянным жаром. — Кто умеет так делать — настоящий оратор. Я имею в виду, из этого положения можно говорить все, что угодно, и будет интересно.
— Марк, прекрати, это неприлично.
Но Луция Цезаря я позабавил.
— А что еще умеешь? — спросил он, глядя на меня светлыми, умными глазами. Глаза этих Юлиев всегда — глаза умных животных. Внимательных кошек.
— Спроси лучше, — сказал я, рухнув на пол. — Чего я не умею. Маловато таких вещей, но если вы угадаете, дам фигурку коня, мы привезли оттуда, с Крита.
Слово "Крит" я произнес со зловещим придыханием: это подняло бы в цене и мою фигурку и его помощь маме.
Луций Цезарь хмыкнул, разглядывая нас троих, потом сказал:
— Хорошо, Марк, можешь ли ты процитировать мне вторую песнь "Илиады".
— О, — сказал я, пригорюнившись. — Это та, где много-много кораблей?
И хотя Тисиад хорошенько задрачивал нас с этим Гомером, и я мог бы назвать корабли без проблем, я смиренно опустил голову.
— Нет, не могу, прости. Сейчас принесу тебе конячку.
И Луций Цезарь проявил прекрасное благородство, сказав:
— Оставь себе, Марк. Игрушка будет напоминать тебе о том, что никогда не надо хвастаться.
Этих Юлиев хлебом не корми, дай кого-нибудь чему-нибудь научить. Я обрадовался, засмеялся и закивал.
— Тогда, пока ты не передумал, родич, я возьму братьев, и мы пойдем заниматься, если ты не против?
Судя по всему, я предсказал его желание, и Луций Цезарь довольно и степенно кивнул. Мама смотрела на меня большими глазами, ее светлые брови поднялись так высоко, как никогда прежде.
Но она удержалась от комментариев вроде: я тебя не узнаю, Марк.
Я забрал вас, и мы пошли в детскую. Как ты понимаешь, я был страшно доволен. Маме нужен был богатый мужчина, способный решить наши финансовые проблемы.
Гай тут же вывернулся из моих рук.
— Ты, придурок, ведешь себя, как ручная обезьянка.
— А ты, — сказал я. — Как дикая.
— Я не хочу, чтобы он был нашим отцом.
Я пожал плечами.
— И не будет, он родич. А чего ты хочешь, Гай?
Гай у нас отличался дурным, капризным, сложным нравом с самого детства. Лучшее, что можно было предпринять, когда на него находило — не мешать.
— Я, — сказал он. — Я хочу…
— Орла? — спросил ты.
— Какого орла?
— Ну, я бы хотел орла.
Я сел на кровать.
— Ребятки, — сказал я. — Маме и без того нелегко. Ей нужен мужик.
— Не нужен ей этот мужик, — сказал Гай. — Ни этот, ни какой-либо другой. Ей нужен папа.
— Но папа — все, — сказал я. — Несите следующего.
— Марк!
— Ты знаешь, что я прав. Это будет не он, а какой-нибудь его жирный друг.
— Жирный друг? — спросил ты.
Я пожал плечами.
— Да. У всех есть жирный друг, единственный шанс женить которого — подложить ему женщину в беде. Так все и поступают с жирными друзьями.
— Я не хочу жирного папу! — заорал Гай, и я зажал ему рот. Ты захохотал.
— Полно людей живут себе с отчимами и нормально! А вы что хотите, чтобы…
— Я хочу, — сказал ты. — Чтобы мама вышла замуж за дядьку.
Я помолчал, не зная, как тебе объяснить.
— Мама не любит дядьку, — сказал Гай невнятно, а потом укусил мою ладонь.
— Спасибо, придурок. Да, мама не любит дядьку.
— Но жирного друга она тоже не любит.
— Кто знает, ребята, может, у него прекрасная и возвышенная душа. Мы его еще не видели.
Ты сказал:
— Пойдем-ка послушаем их.
Но я схватил тебя за плечо, милый друг, и сказал:
— Нет, мы не будем совать свои любопытные носы, куда не просят. Пусть наша судьба решится так.
— Я не хочу, чтобы моя судьба была связана с новым отцом, — сказал Гай. — Пусть хоть он будет сам Геркулес, я убью его.
Сказал с тем, знаешь ли, пафосом, на который способны только совсем маленькие дети, у которых все всерьез.
— Какой ты злодей, — засмеялся я. — Ладно, давайте-ка во что-нибудь поиграем.
Честно говоря, я склонялся к тому, что у Луция Цезаря нет жирных друзей, слишком уж он добродетельный, и, наверное, друзья его предпочитают умеренность во всем. Кто же, кто же, кто же.
Мы с Эротом даже целый список предполагаемых женихов матери составили (вам я его не показал, вы и слышать ничего не хотели).
Через пару недель Луций Цезарь пришел с дядькой, держались они друг с другом натянуто, и мать, организовав обед, оставила их вдвоем. Они что-то там обсудили, а мама сидела с нами и читала вслух стихи греческих поэтов. Я делал вид, что слушаю, но меня куда больше занимало, что дядька явно разговаривает с Луцием Цезарем на повышенных тонах.
Наконец, я услышал:
— Но это невозможно!
Луций Цезарь ответил что-то, что не утешило дядьку. Собираясь уезжать, он по очереди прижал нас к себе, потом долго смотрел на маму, но никому ничего не сказал. Луций Цезарь едва заметно кивнул маме и спросил, нет у ли нее воды с медом, от долгой беседы у него заболело горло.
А на следующий день мамин жених приехал познакомиться.
Мама ничего нам не говорила, так что, сказать, что мы обалдели, значит, ничего не сказать. Я ожидал, что мама согласится выйти даже за достаточно богатого вольноотпущенника. Ожидал человека уродливого или злобного, из тех, что вынуждены покупать жену исключительно за деньги.
Но к нам приехал Публий Корнелий Лентул Сура, и само имя это внушало почтение и трепет, а кроме того, ты же помнишь, что в том году он был консулом. Конечно, безобразие быстро закончилось, и уже в следующем году его погнали из сената за "испорченность", не совместимую с деятельностью государственного служащего и патриота (иными словами за трату денег республики на чуждых нам политически сирийских и греческих проституток). Кто знает, если бы Публий выбрал отечественных дев, как двинулась бы история?
Впрочем, до очередного нашего позора еще далеко. В то время Публий был недосягаемым и невероятным человеком. Тем более, мир большой политики остался, как мы думали, далеко позади.
И вот он, консул, в окружении суровых ликторов, переступает порог нашего дома.
Рассказывали о Публии и такую историю: однажды он предстал перед судом, уже не помню, по какому поводу (что-то, связанное с коррупцией, наверняка). Что бы там ни было, в конечном счете его оправдали с перевесом в два голоса. На что он отреагировал так:
— Я, очевидно, переплатил. Не стоило подкупать столько народу, хватило бы и перевеса в единственный голос.
Он вызвал у меня восторг, но в то же время сразу не понравился, и куда больше, чем я ожидал. Сейчас постараюсь объяснить, почему. Я рассчитывал увидеть того самого жирного друга или ужасного мужика, от которого придется претерпевать несправедливости и защищать маму. Или даже просто какую-нибудь скучную паскуду, которой никак не устроят женитьбу. Да почти кого угодно.
Но Публий был великолепен, и я испугался, что мама его полюбит.
Я был вполне согласен на кого-то, кто, присутствуя номинально, никогда не заменит мне отца. Того, кто никогда не влезет в наш уютный мирок любящих друг друга людей. Мне не нужен был четвертый, четвертый умер уже будто бы давным-давно, и место, где он должен был быть, заросло, как рана, новой плотью забвения.
Но Публий оказался красив, обходителен, весел и спокоен. Он чем-то напоминал отца и поэтому злил меня еще больше. Не внешне, нет, ты же помнишь Публия, у него светлые, приятного глазу, пшеничного цвета волосы, с которыми всегда очень весело играло солнце, чуть усталые глаза доброго политика и очаровательнейшая улыбка наглеца и лжеца такого искусного, что верить ему хотелось всем сердцем. Помню его вздернутый нос, помню, как (странное совпадение, почти до боли) он вертел кольцо на пальце по-отцовски нервно, помню сколотый клык с левой стороны. Как похож и как непохож он на отца, братец.
У него был мягкий-мягкий голос, хорошо поставленный, но в то же время слушать его — все равно что опустить голову на любимую подушку.
Он вежливо поздоровался с нами, и я выдавил из себя широкую улыбку. Вы с Гаем не стали и стараться. Вас его должность удивляла и шокировала меньше, и, может, вы раньше стали забывать отца. Ваша неприязнь к Публию была проще и понятнее.
Я посмотрел на маму и увидел, что она полюбит его. Нет, конечно, сейчас об этом не могло быть и речи. Но что-то в глазах ее всплеснулось такое — облегчение, смирение.
Публий (везде, кроме судов) был человеком очень вежливым, как и отец, ни словом он не намекнул на отчаянное положение, в котором оказалась мама. Они вели непринужденную беседу о Праксителе и еще о каких-то скульпторах, чьих имен я не знал, а потому не запомнил. О плавности и нежности линий, о динамике и статике, о том, как может быть изображено не только само движение, но только побуждение к нему.
И хотя даже сейчас я не могу придраться к его словам, я по-прежнему думаю, что Публий маму соблазнял в этом неинтимном, интеллектуальном разговоре, который и нам разрешили послушать.
Гай, в конце концов, сказался больным, ты злобно зыркнул на Публия в финале обеда, а я только улыбался и болтал о том, что видел на Крите, о странных быках и странных письменах на глиняных табличках, которые мы во множестве находили в речке.
— Надеюсь, — говорил Публий. — Это были действительно старые вещи.
— О, очень, — сказал я. — Я всегда нырял за ними и относил их нашему домашнему учителю. Но он никогда не мог разобраться в том, что там написано.
Нам Публий давал лишь столько внимания, сколько нужно. А мама сидела, завороженная им, и, думаю, славила имя Луция Цезаря.
Они разошлись вполне пристойно, и я понял, что свадьба состоится в самое ближайшее время.
Так и случилось. Я помню тот день смутно, потому что тогда, чтобы всем досадить, я украл амфору с отличным цекубским вином, и мы, чтобы быстро скрыть следы преступления, распили его вместе: ты, я, Гай и Антония Гибрида, дядькина дочка, которую я ненавидел.
Свадьба была организована с размахом, подобающим высокой должности отчима. Но, думаю, ты помнишь о ней примерно столько же, сколько и я.
Вот что помню я: мамину рыже-красную, как огонь, фату, дядькины выходки, невозмутимого Публия, мертвую, серую от потери крови свинью с закатившимися глазами и гаруспиков, гадавших по ее внутренностям.
Ребятки сказали знаешь что? Что у Публия и мамы будет много детей и много счастья. Ну, как всегда. Интересно, подумал я, что они когда-то сказали маме с папой? Неужели, что он умрет молодым и оставит ее в долгах? Вряд ли.
Если бы гаруспики не врали насчет судьбы молодых — браков бы совершалось куда меньше.
Процессия к Капитолию была долгая, и ты устал, у тебя все болело, но на носилки ты не хотел, так что просто ставил меня в известность о своих страданиях через каждые десять минут.
Потом мы отправились в дом Публия, и он был прекрасен: светлый, просторный. Я уже думал, что нам придется переселиться в какую-то лачугу, на первом этаже которой кто-нибудь торгует мясом. Вместо этого мы оказались в Риме, снова, в доме с просторным садом и роскошным внутренним двором, украшенным прекрасными уютными портиками по бокам.
Это был настоящий дворец, расписанный изящными цветами, тварями и травами. В центре резервуара для сбора дождевой воды располагался и высоко, почти до самого отверстия в потолке, плевался фонтан. Мощная струя чистой воды соединяла имплювий и комплювий, создавая совершенную композицию.
Искусство художника, расписывавшего стены, казалось столь невероятным, что я подумал, будто очутился в какой-то дальней стране, и из зарослей настоящей травы на меня смотрят неведомые мне животные. Как можно привыкнуть к такой роскоши, думал я. Наверное, Публий каждый день удивляется.
Но я привык даже слишком быстро.
Ну да ладно, к хорошему мы привыкаем стремительно, потому как созданы для хорошего. Чтобы быть счастливыми.
Теперь о плохом. Антония за нами не то чтобы увязалась, ее мать велела ей пообщаться с нами (теперь мы неожиданно стали важными для нее людьми), и Антония, в придачу со своей старой воспитательницей, без радости принялась выполнять этот приказ.
Помнишь ли ты Антонию в том возрасте? Ей исполнилось тогда, кажется, одиннадцать лет. Антония в ту пору была некрасивым ребенком, отчасти она расцвела позднее, с возрастом. А тогда ее кривые зубы, тяжелые веки, тощее, угловатое тельце — все говорило о фатальном сходстве с ее некрасивой матерью.
Но Антонии было наплевать. Помнишь ли ты, Луций, как ей было плевать на все?
— Ну привет, — сказала она, подойдя к нам. Антония жевала жвачку и надувала пузыри, иногда она лопала эти пузыри пальцем, и частички розовой резинки оставались на ее узких губах. Тогда она старательно вытирала рот запястьем.
В этой ее полудикости (прозвище дядьки, Гибрида, в ее случае приобретало дополнительное значение) был бы шарм, если бы только Антония не вела себя так грубо.
— Что, не успел ваш папаша откинуться, как мама уже нашла себе постель получше? — спросила она.
— Тебе повезло, — сказал я. — Что твоя рабыня глуховата.
— Да, — согласилась Антония совершенно бесцветным тоном. — Мне повезло.
Она надула большой пузырь, ты попытался лопнуть его пальцем, но она врезала тебе по руке.
— Еще раз ударишь моего брата, — сказал я. — Руку тебе сверну.
— Ну попробуй, — ответила Антония, чуть вскинув брови. Это максимум эмоций, который она способна была из себя выдавить.
Я сказал:
— Если хочешь с нами пообщаться, давай найдем тему для разговора.
Жест доброй воли был воспринят с вопиющей неблагодарностью.
— С тобой? — спросила она.
— Или со мной, — сказал ты.
— Тем более, с тобой, — хмыкнула Антония. — А ты, заморыш, тоже хочешь что-то сказать?
— Нет, — ответил Гай. Он был бледнее обычного, мучительно нахмурил брови. Все происходящее не нравилось ему с самого утра и до позднего вечера.
— Антония, дорогая сестра, — сказал я. — И без тебя эта процессия была мучительной, но ты чудесным образом вывела нас на новый уровень страданий.
Антония пожала плечами.
— И?
— Что?
— Упражняешься в остроумии? Для остроумия нужен острый ум, Марк.
— Твоя жвачка еще не потеряла вкус?
— Ого, сейчас будет какая-то шуточка? — она посмотрела на меня бесцветным взглядом. Но я, не сумев придумать какую-нибудь остроту, просто попытался разжать ее челюсти и заставить выплюнуть жвачку, за что получил по голове от ее рабыни.
— О, — сказал я. — Глухая, но не слепая.
— Да, — сказала Антония. — К сожалению.
— Не думаю, что ты дядькина дочь, — сказал я. — Дядька — обаяшка, а ты — ебанашка.
— Непревзойденный, — сказала Антония. — Ты бы видел его сегодня. Он весь излучает обаяние. Будто маленькое солнце.
— Это не отменяет того, что ты ебанашка.
— Как раз в него, — сказала Антония и надула большущий пузырь, мне захотелось, чтобы она улетела на нем в такие дальние дали, о которых даже думать сложно и далеко.
На пиру улизнуть было проще простого, и мы пробрались в погреб. Правда, Антония как-то избавилась от воспитательницы и увязалась за нами. Когда я захотел отослать ее, она сказала, что все расскажет. Пришлось поделиться с ней вином.
— А твоя рабыня, — спросил я. — Не будет тебя искать?
Антония пожала плечами и выхватила у меня амфору.
— Будет, но она тупая. Почти как ты.
Мы спрятались в саду и разделили вино. Оно мне так понравилось, что я едва не совершил большую ошибку — мне нестерпимо захотелось предложить Антонии поцеловаться.
Вы с Гаем быстро стали сонные, а во мне наоборот прибавилось энергии. Я бегал, что-то вещал, а потом Антония столкнула меня в фонтан, но я утянул ее за собой. Было мокро, холодно, но почему-то хорошо. И мы уже почти поцеловались, когда я увидел дядьку. Антония отпрянула от меня и вылезла из воды, а я остался лежать в фонтане.
Дядька рявкнул Антонии:
— Тебя ищут!
— А, — сказала Антония, прикрывая рот ладонью. — Ладно.
— Дура, — сказал дядька. — Идиотка.
И хотя я частенько выступал защитником слабых, тут мне возразить было нечего. И дура и идиотка. И когда я собирался ее поцеловать, она выставила вперед свою мерзкую жвачку.
— Марк!
А где же тогда были вы? Пьяненькие ушли шататься? Или спрятались в кустах? Не знаю, я вдруг понял, что я один.
Дядька вытащил меня из фонтана.
— Простудитесь, — сказал он. — Что за идиотские игры?
Я старался не открывать рот, чтобы дядька не учуял запах вина.
— А, — сказал он. — Игрались?
Глаза его были странными, мне на секунду показалось, что один зрачок больше другого. Будто на некрасивом, неточном рисунке. Конечно, секундный морок, но само впечатление не пропало.
Скажи мне, неужели и я мог когда-то быть таким некрасивым?
Дядька кривил губы, и казалось, будто сейчас хлынут его пьяные слезы.
Он сказал:
— Я люблю твою мать.
И я на самом деле до сих пор не уверен, как это было сказано: я люблю твою мать или все-таки: я люблю, твою мать.
Отчаяние это исходило из его неразрешимой любви и злости, или все-таки простая констатация факта.
Дядька наклонился ко мне и прошептал:
— Я убью ее, а потом себя.
А я был пьяный, и у меня все перед глазами плыло, я сказал:
— Зачем?
Не знаю, я вообще ничего не имел в виду. У меня мозги онемели настолько, что я даже не испугался. А дядька вдруг заплакал, обхватив меня руками.
— Зачем, зачем, зачем! И правда, зачем! Я столько зла в жизни сделал! Зачем, зачем!
— Чего? — спросил я. Как одно из другого выходило, и куда эта повозка двигалась вообще, я не совсем понимал.
Он больно схватил меня за руку и упал на колени.
— И брат старший мой, умер, умер, и больше его нет. А эта сука, она меня не хочет.
— Да уж, — сказал я, стараясь подбирать как можно более краткие выражения.
Вдруг дядька вскинул голову и сказал:
— Но я же хочу, хочу, чтобы она была счастлива.
Вот это повторение слов, будто заклинание, оно меня заворожило. Повторение — усиление. Я до сих пор помню тот гипнотический эффект, будто заговор, слова он выплевывал мне в лицо, но смотрел так беззащитно.
Я погладил его по голове и сказал:
— Она тебя прощает.
— Правда? — спросил дядька.
Я вот понятия не имел, но кивнул. Он принялся утирать слезы, а я, наконец, почувствовал, что замерзаю, хотелось в теплый дом, а мы стояли в прохладном вечернем саду, и отовсюду будто лились на нас тени.
Дядька сказал:
— Я умру, умру, если она не будет моей.
И, знаешь, я много раз был именно таким.
Я говорил:
— Я умру, умру, если она не будет моей.
Я говорил:
— Я умру, умру, если не поем сейчас же.
Я говорил:
— Я умру, умру, если мне не нальют.
Я говорил:
— Я умру, умру, если проиграю.
Я говорил:
— Я умру, умру, если не получу своего.
Наверное, тот дядька, стоявший на коленях, отчаянный, печальный, бьющийся в некрасивой истерике стал для меня мерилом силы желания.
Я подумал, может, он и правда умрет и сказал:
— Ну, не надо так.
Пьяный и отмороженный, я не казался ему странным, потому что он был поглощен своими переживаниями. И я вдруг понял, что ему все равно, пьян я или мерзну. Он любит мою мать и хочет себя убить.
И я сказал:
— Ну ладно, пойду я, наверное, да?
Дядька остался плакать, он был похож на статую, когда я обернулся к нему. И никакой Пракситель не мог этого передать. Врут все, кто говорят, что они, поэты и художники, и скульпторы там всякие это могут. Не могут, ну не могут и все.
А я пошел себе потихоньку к Публию, шатаясь и чувствуя, как тепло накатывает на меня оттого только, что я приближаюсь к дому и вижу его яркий свет. Я держался за стены и гладил носы львам и леопардам, туда и сюда ходили какие-то непонятные люди, я почему-то никого не знал. Я ориентировался на мамину красно-рыжую фату.
И вот увидел ее и побежал, едва не упал.
Ближе к молодоженам я умерил свой пыл, подошел к Публию и дернул его за рукав.
— Прошу прощения, — сказал я как можно более официальным тоном (как это, должно быть, смотрелось смешно). — Не мог бы я с тобой поговорить?
Публий засмеялся, потрепал меня по волосам (делал он это несколько картинно, с таким, как бы это сказать, политическим подтекстом). Как говорил мне один мудрый человек много после — политик это всегда отец. Люди ищут отца.
И вот Публий — он всегда играл хорошего отца для нас (своих детей он не имел), играл так прекрасно и так талантливо, что верил в это сам.
— Дело в том, — прошептал я. — Что мой дядюшка напился и становится опасен для общества. В лице себя, мамы и, может быть, тебя. Хорошо бы проследить, чтобы он протрезвел и никого не тронул.
Я так старательно подбирал слова и говорил так официально, что Публий засмеялся. Он ни на секунду не занервничал или не показал этого.
— Спасибо, Марк.
Я широко улыбнулся и кивнул.
— Ваша безопасность сегодня — моя забота.
Публий снова не удержался от смеха.
— Безусловно. Можно я тебе тоже расскажу один секрет?
Разумеется, я кивнул, от природы я чрезвычайно любопытен.
Публий наклонился ко мне и тоже прошептал мне на ухо:
— Ты переборщил с вином.
И вправду, как ты догадался, гений?
А дядька, между тем, успел зарезать какого-то раба. Один был положительный момент — вся эта ситуация избавила меня от мерзкой Антонии.
Вот такая случилась свадьба. А ты мне ничего не рассказал о ней, что ты видел, и все такое, сказал только, что больше никогда не будешь пить, и очень по-взрослому возложил руку на лоб.
Что ж, а потом началась обычная жизнь. Сначала я все удивлялся богатому дому, шикарной еде, лучшим учителям, вниманию к моей нескромной персоне. А потом прекратил удивляться и стал просто жить.
Вы враждовали с Публием открыто, игнорировали его (тем более, что он позволял вам вести себя с ним сколь угодно нагло), даже грубили, ты писал какую-то злую эпиграмму про них с мамой, чем заставил маму плакать, Гай просто с присущей ему мрачностью смотрел на Публия. Но смотрел смачно. Можно было предположить, что на вопрос: кем ты хочешь стать когда вырастешь, Гай ответил бы: отцеубийцей. Отчимоубийцей, вернее.
Что касается меня, я был с ним всегда очень мил. Никогда не грубил, никогда не перечил, а это, как ты знаешь, не вполне в моей натуре. Но я считал, что нам нужна его помощь, и это факт, с которым нечего и спорить, а значит нечего спорить и с Публием.
И все-таки, думаю, я ненавидел его сильнее вас обоих вместе взятых. Не мог выносить. Тоскливая боль в груди сменилась отвращением к нему, отвращением тем более мерзким и сильным, чем менее логичным оно было.
Думаю, Публий все прекрасно понимал. Однажды, когда мы прогуливались по саду, он вдруг сказал мне:
— Если позволишь, я скажу тебе кое-что личное.
— Да, — сказал я, и хоть внутри меня корежило все сильнее, я улыбнулся ему.
— Если хочешь кому-то понравиться, никогда так не улыбайся. Показывая зубы, я имею в виду. Выглядишь диковато, как твой дядя.
Я вспомнил дядю, стоявшего на коленях в этом саду, и подумал: ничего ты не знаешь о дядьке, какой он человек глубокий и все прочее.
Публий улыбнулся мне, как всегда, зубов не показывая, оттого его улыбка казалась нежной и невероятно человечной.
— Сад замерзает, — сказал он. — Так вот, Марк, улыбайся, не показывая зубов, это истинная улыбка без примеси злости. Тогда ты будешь казаться совсем другим человеком, чем есть на самом деле.
И это, о боги, один из лучших советов за всю мою жизнь, которому я следую неукоснительно. Этой ласковой улыбке я научился у Публия, и я много куда попал с ее помощью.
Я улыбнулся ему тогда, как он сказал, не показывая зубы.
— Вот так, — сказал Публий. — Кажется, что я тебе нравлюсь.
— Ты мне нравишься, — сказал я.
Публий не стал протестовать.
— Вот и чудно, — ответил он.
Вас в нем не устраивало, что он шляется по бабам (в этом деле аппетит у него был поистине ненасытный, хотя в остальных делах, даже в выпивке, он всегда был человеком умеренным) и обманывает маму.
Меня же не устраивало, что он вообще существует.
Напряжение было едва выносимым, и я, как всегда, думал, что хуже не бывает, но зимой заболел Гай.
Он болел странно, как еще никогда прежде. Началось все с того, что Гай начал жаловаться на головную боль. Все подумали, что он увиливает от учебы (вполне в своем стиле), но через пару часов боль стала такой сильной, что он начал плакать, потом его тошнило. Губы и кончик носа стали у него синие-синие, как у утопленника, свет и громкие голоса заставляли его кричать. Никогда не видел ничего страшнее, а моя жизнь вообще наполнена самыми разными, прекрасными и ужасными, картинами.
Мы с тобой все время проводили у его постели. Его комната стала черной, будто могила, окна занавесили, и все ходили вокруг него на цыпочках, едва-едва шепча.
Он не мог есть, потому что его постоянно тошнило, и уже не мог плакать.
Приходили лучшие доктора, но они прописывали одно и то же — компрессы на голову и обильное питье, только один решился на кровопускание, но и оно не помогло.
Очередной греческий доктор, не помню его имени, увидев Гая, сказал, что остается лишь надеяться и приносить жертвы. Мама заплакала, а Публий прижал ее к себе и велел выпроводить доктора, назвал его шарлатаном. Все это — во тьме, но я видел, как блестят его глаза.
Он никогда не имел своих детей, и я понял, что он боится за Гая, и что он привязался к нему так, как мог бы привязаться к своему сыну. Ты тоже это понял и куда раньше меня. Как-то раз я увидел, что ты, прежде такой враждебный к отчиму, обнял его и спрашивал, умрет ли Гай.
Публий говорил, что с Гаем все будет нормально, а если нет, то он лично спустится в царство Плутона и достанет оттуда Гая живого и невредимого, потому что не может судьба так наказать нашу семью.
Понимаешь, Луций, он говорил: нашу семью, и ты вовсе не протестовал.
Смерть детей — есть данность. Но никогда не смерть твоих детей. Мама ходила по дому, будто призрак, Публий лично контролировал всех ухаживавших за Гаем слуг, а у мамы все из рук валилось.
Нет, правда, он переживал за Гая, как за своего сына. И ты это чувствовал острее и сильнее, и льнул к нему, и просил его побыть с тобой, тогда он был тебе нужен даже больше меня. Я ревновал и стыдился этого.
И я, честно говоря, подозревал Публия в неискренности. Ему было бы легче, если бы один из детей его жены покинул бы сей несправедливый мир.
Я все время пытался поймать его на этом, но Публий не ловился.
А потом, в последние дни болезни Гая, наступило у него резкое ухудшение. Он кричал, метался по постели, вопил:
— Уйди, не надо! Не надо! Не надо! Мне больно! Пусть он уйдет!
Впрочем, слова его были почти не ясны, его так колотило, зубы стучали страшно.
Мама вжалась в угол, не отнимала руку ото рта, и хотя рабыни пытались выпроводить ее, она не давалась.
Тебя заперли в комнате, и ты ругался и кричал, просил пустить тебя к Гаю.
А я — я помогал Публию держать Гая, когда его колотило. Когда на губах у него показалась пена (в темноте она переливалась почти жемчужным цветом), я зашептал:
— А если он умрет?
Публий, державший Гая так, чтобы он не ударился головой, прошептал в ответ:
— Не умрет, не умрет! Сейчас плохо, но станет лучше.
Он лгал, но лгал для моего блага, и с горем в сердце. Конечно, Публий не верил, что Гай будет жить.
Но неожиданно его священная ложь превратилась в правду. Мы пережили ту ночь, я и Публий, по большому счету, вместе.
А наутро Гай заснул.
Он долго спал, больше суток. Это был сон, похожий на смерть, и этот сон обманул смерть. Пустили тебя, и втроем мы просидели у его постели почти все это время.
И я понял, что теперь моя семья — это вы, мама и Публий. Так бывает. Мне стало стыдно и показалось, что я забыл отца.
А потом Гай пришел в себя. Врач сказал, что кризис миновал, и теперь бояться, вероятнее всего, нечего. Однако нам стоит опасаться, что болезнь изменит его.
Гай был слабый, вялый, смотрел в одну точку. Я спросил его, что ему снилось.
Он посмотрел на меня безо всякого выражения и ответил:
— Отец.
— Живой или мертвый? — спросил ты с твоим обычным любопытством, ты подался к Гаю и поцеловал его в лоб.
— Ни то ни другое, — сказал Гай. — Как-то между.
— Прекратите его расспрашивать, — вздохнула мама. — Это сейчас неважно. Гай, чего ты хочешь?
Он посмотрел на маму и долго молчал. Я думал, он ничего не скажет.
— Фиников, — ответил Гай, наконец.
— А что делал отец во сне? — не унимался ты.
— Мучил меня, — сказал Гай. — Заставлял ползать на коленях и есть железо. От железа у меня болела голова.
Все молчали, а потом мама сказала:
— Что ж, как ты думаешь, если мы впустим сюда хотя бы немного света, твои глаза не будут болеть?
Что касается Публия, то в следующий раз, когда я бегал по нашему огромному саду, он долго наблюдал за мной и, когда я остановился, сказал:
— Марк, я, знаешь ли, не хочу заменить тебе отца.
— Правда? — спросил я.
— Да, — ответил Публий. — Мне достаточно стать твоим отчимом.
— А амбиций у тебя не так много, и как ты консулом-то стал?
Я сел рядом с ним на ступеньки у портика, вытянул ноги. Публий сказал:
— Твой отец был другим человеком, естественно, и тебе тяжело…
Я резко оборвал его:
— Вы похожи. В том-то и дело. Иногда даже до смешного доходит. Как дурацкая шутка.
Публий тоже вытянул ноги и посмотрел на бледное небо.
— Да, — сказал он. — Честно говоря, я тоже об этом думал. Наверное, поэтому мне кажется, что вы могли бы быть и моими сыновьями.
Я молчал.
— Твоим отцом я не стану, — повторил Публий. — Даже если мы с ним похожи. Но семьей мы стать можем.
— Да, — сказал я. — Ты любишь моих братьев.
— И тебя.
— Меня все любят.
— Кстати, ты отлично бегаешь. Знаешь, когда-то я был луперком. Тебе бы тоже не помешало об этом подумать через пару лет.
— Спасибо, — сказал я.
Вот так просто. Никаких особенных слов. Мы сидели в саду, и я подумал, что Публий, в конце концов, отличный мужик.
На следующее утро бегать я пошел не потому, что мне было больно, а просто так. От жажды движения, можно сказать.
Не знаю, что написать в завершении. Я люблю тебя, маленький брат.
Послание третье: Волчки и овечки
Марк Антоний брату своему, и без того все понятно.
Я все время пьяный, поэтому сны мне снятся тревожные и премерзкие, и я совершенно не знаю, что с ними делать. Они не забываются с рассветом, пробуждаются к вечеру, и, будто ночные цветы, принимаются источать свой мерзкий запах.
Мне удается на короткое время отогнать их, трахая кого-нибудь, что-нибудь пожирая и как-нибудь бухая, но когда сил совершенно нет, и я измотан, они возвращаются.
Образы оттуда донимают меня довольно долго, и я зову рабов и прошу их, сердечно, братик, дать мне по роже. Они, уставшие несколько от моей пьяной морды, исполняют этот приказ. Боль помогает мне избавиться от картинок перед глазами и уснуть.
Египетские рабы смешные, все время хохочу над ними. Особенно мне нравятся уроды. Мне их жалко, и я люблю, когда они меня бьют. Создается, знаешь ли, иллюзия справедливости. После я все время даю им много денег. Зачем мне деньги? Деньги мне не нужны.
Но сон, сон, сон.
Да, мне снился сон про то, как я зарезал козла. Я с каким-то упоением отдирал его шкуру от мяса, и она отходила, растягивалась белая пленка подкожного жира и показывалась кровавая плоть. Самое сложное — это не повредить шкурку на голове, к морде она прилегает сильнее всего, с отчаянием.
А плоть без шкуры, ты помнишь, на что похожа? Красно-бело-розовая, она так возбуждает аппетит. Со шкурой — мерзкий труп, без шкуры — уже еда. И этот запах — крови и мяса, еще свежих, еще не лишенных последней искры жизни.
Словом, я свежевал козла на алтаре, держа его голову за красивые, изогнутые рога. Руки мои дрожали (я так привык пить, не просыхая, что пьяным бываю даже во сне), и голова козла полировала алтарь. Его желтые глаза с резкими полосами зрачков вдруг открылись, и он смотрел на меня с укоризной.
— Ну а чего ты хочешь от меня? — спросил я. — Я это я, ты это ты, что мы с тобой можем с этим сделать?
Остается только играть наши роли, мне моя нравится, тебе твоя — не очень.
— Да, — сказал козел. — Все это так, Марк Антоний. Но нравится ли тебе моя роль?
Я продолжал сдирать с него шкуру, под которой скрывалась еще теплая, но так стремительно теряющая тепло плоть. Все руки в сукровице и жире.
— Никогда об этом не задумывался, — сказал я. — Я развлекаю публику, а ты ее кормишь, мы просто слишком разные.
Козел сказал:
— Но все актеры одинаково покидают сцену.
— Да, — сказал я. — Но важен красивый финал.
— Мой финал, — сказал козел. — Очень красив. Я накормлю голодных и утешу тех, кто страдает от холода, дам детей бесплодным и излечу больных.
— Это хорошая идея, — сказал я. — Дай моему секретарю это записать.
Шкура отходила с треском, и я не услышал ответ козла. Потом я оделся в эту его шкурку и вышел из пещеры. Была ночь, но — египетская, с большими и низкими звездами, и утомительно огромной луной. Я не люблю луну, потому что я, как и ты, ближе к солнцу. Но она отлично помещается между моими рогами.
Вдруг я понял, что стал собакой, и потрусил быстрее. Мои глаза видели нечетко, как вокруг начали расцветать прекрасные сады. Один из них был похож на сад в нашем доме, со статуями прекрасных девушек и юношей, с густыми зарослями шиповника и большим фонтаном, из которого била в небо чистая вода.
Мои лапы болели от песка, но в то же время я ступал по мягкой зелени и чувствовал ее прохладные поцелуи.
Вдруг я увидел Гая. Он бежал ко мне навстречу и кричал:
— Пироженка!
И я, преисполненный любви и нежности, совершенно собачьей, побежал к нему и стал лизать его руки. Не знаю, сколько лет было Гаю в моем сне. Может быть, двенадцать, а, может быть, и все двадцать. Я не видел его с той четкостью, с какой мы видим живых. Скорее, сердце мое узнавало его.
Я скулил и лизал его руки, а он вытащил нож и вспорол мое брюхо. Я увидел, как выпадают из него кишки, похожие на неведомых мне морских тварей, уродливых моллюсков, лишенных раковины.
Гай все возил и возил ножом в моем брюхе, словно хотел добраться еще до чего-то, что есть внутри, и чего не видно. До самой сути всего происходящего.
Потом я проснулся (было очень жарко и хорошо за полдень), моя детка еще спала, и я поцеловал ее в лоб, пахнущий вчерашним благовонным маслом, а потом подошел к окну. Солнце ослепило меня, и я не смог увидеть войско Октавиана, но я знал, что оно было там. Потом меня стошнило, и чувство глубокого отчаяния покинуло меня.
Все еще образуется, подумал я.
Местный толкователь снов, разукрашенный, как девка, пытался мне что-то рассказать о моем видении. Я мало его слушал. По-моему, мои сны отныне не нуждаются в толкованиях.
Но рассказать я хотел не об этом. Наш великолепный "Союз смертников" устроил такой пир, что даже Октавиану, смею надеяться, была отлично слышна несмолкающая всю ночь музыка и, надеюсь тоже, она мешала ему спать. У сукиного ребенка очень строгий режим дня.
Вдруг, прямо посреди пира, когда один из моих любимых египетских льстецов произносил хвалу мне на ломанной латыни, я сразу понял, что это был за сон, и как он относится к моей жизни. Я не дослушал речь, сказал дать мужику денег на учителя латыни, раз ему нужно больше всех, и ушел к себе, вернее, к тебе.
Помнишь мои первые Луперкалии и то, что случилось после них?
Если ты не помнишь, то это точно одна из тех историй, которые следует рассказать. А если помнишь — тем лучше, мы подумаем о ней вместе.
Все случилось через год после того, как я принес свою буллу на алтарь домашних богов. Публий очень старался меня пропихнуть, хотя рекомендации, которые мне давали учителя, были, по большей части, не самые лестные, а род наш — недостаточно знатен.
Я ужасно хотел стать луперком, и ты представляешь, как сильно, потому что я все уши вам с Гаем прожужжал по этому поводу.
— Девочки, — говорил я. — Девчонки, девчули, девчата. Они обожают красивых полуголых парней с ремнями.
— Да, — говорил ты. — Когда я вырасту, тоже стану луперком!
Но ты, думаю, еще не в полной мере понимал важность этого предприятия. Девчонки, девчули и девочки только-только открылись тебе с новой стороны.
При Публии, впрочем, я говорил совсем другое.
— Традиции! — говорил я. — Я хочу быть частью наших традиций, это живое прикосновение к истории, к самым древним обрядам, к самому дыханию религиозной жизни Республики. Я хочу дышать одним воздухом с божеством, которое заботится о нашем процветании столько лет, и помогать ему в этом.
— Да, — говорил Публий задумчиво. — Традиции это, конечно, очень важно. Но главное — девушки любят луперков. Я и сам в свое время совершил парочку забегов. И, уж поверь, это были очень успешные забеги. Могу тебе честно сказать, я бы многое упустил, если бы мой отец тогда не обратился в коллегию.
Я пожимал плечами.
— Девушки это, конечно, замечательно, но я человек серьезный.
— Безусловно, — сказал Публий. — Похвальная добродетель для Антония. Правда, Луций?
— Да! — сказал ты. — Когда я вырасту, тоже стану серьезным человеком!
— Видишь, — сказал я. — Ты на нас хорошо влияешь.
— Ой ли? — улыбнулся Публий. К тому времени моральные качества Публия уже стали притчей во языцех. Его, как ты помнишь, на следующий год после их с мамой свадьбы выгнали из сената за безнравственное и порочащее честь римского народа поведение. Ух! Везет же нам, как говорится. Из всех мужчин, за которых мама могла выйти замуж, она умудрилась выбрать (хотя, наверное, это не то слово) человека, который, будучи Корнелием по факту, являлся Антонием по сути. Чрезвычайно приятно, когда жизнь имеет какие-то постоянные очертания.
Снова позор и обвинения, и лживые уверения маминых подруг в том, что они ей ужасно сочувствуют — такая женщина, и какие у нее мужчины. Стыд, стыд, конечно, и позор.
Но Публий при том, что не мог пропустить ни единой дамочки на своем трудном жизненном пути, оставался прекрасным отцом для нас и, знаешь ли, заботливым мужем для матери.
Лично у меня никаких проблем из-за Публия не было, потому что, когда друзья тех времен задумали надо мной смеяться, я был не против, мне и самому стало ужасно смешно, что наша жизнь складывается именно так. Кроме того, я наоборот стал популярнее, потому как пошли слухи, будто Публий делился со мной подробностями того, что он вытворял с сирийскими проститутками. Разумеется, Публий ими со мной не делился, но истории мои были прикольными и занимательными, и ими я быстро завоевал расположение нашей молодежи обратно.
Чего и вам советовал, но вы с Гаем наплели такой херни, что до сих пор мои уши краснеют при мысли о том, что кто-то из слышавших это, еще жив.
И, может быть, помнит.
Так что вот так. Публий временно переквалифицировался в человека аполитичного и предоставленного своему самому главному желанию ходить по сирийским проституткам. Благо, деньги у него на это были. С покрытием долгов нашей семьи все шло, с другой стороны, не так гладко, как хотелось бы. Как представитель семьи Антониев, я оставался банкротом. Впрочем, в эти дела я никогда не вдавался, а Публию всегда удавалось отсрочить платеж.
Вообще, сказать честно, к тому времени я любил его куда больше, чем родного отца. Я и до сих пор помню его лучше. И не могу быть уверенным, что все-таки не приписываю отцу черты Публия, такие привычные мне позднее. Мне не с кем сверить мои воспоминания о предыдущей итерации Марка Антония.
Даже сейчас я пишу "Публий", а в мыслях моих, в том, что предшествует движению руки пробивается иногда "папа". Публий видел куда больше, чем мой родной отец: мои первые любовные трагедии (и комедии), первые серьезные мысли и идеи, первые настоящие вещи, происходившие со мной, наконец, я шел к Капитолию вместе с ним, и вместе с ним я совершал жертвоприношение перед очагом, когда пришло время становиться взрослым.
Так что вот так.
Ладно, что уж там, уже и сирийские проститутки его умерли или стары, как Рим. Давно это дело поросло травой, и пока не будем его потрошить.
Наверное, я просто не хочу говорить о тогдашнем Гае. Но если я взялся писать о нас, то нельзя не сказать о том, что стало с Гаем.
После болезни он весьма изменился. И до того не отличался он солнечным и жизнерадостным характером, а теперь стал мрачнее и гневливее прежнего. Сначала мы думали (особенно мама), что это пройдет. Но приступы его ярости (а во время них он становился поистине чудовищем: зубы его клацали, на губах пузырилась, будто кипела, слюна) не прекращались, наоборот, они учащались.
Его могло вывести из себя все, что угодно: неосторожное слово, разбитое блюдце, пара минут опоздания. И если я над этими его приступами смеялся, а ты пытался успокоить Гая, то мама — она боялась. И, я видел, боится Публий. Сначала родители пытались его наказывать, но это не помогало — Гай себя не контролировал. И это ставило под вопрос его будущее. Ребенок, в приступе ярости кидающийся на прислугу, швыряющий вещи и все такое, это забавно. Во всяком случае, я думал так сначала, пока не увидел, какое страдание причиняют Гаю эти приступы.
Да, словом, ребенок, который делает странные вещи заслуживает порицания или жалости, но взрослый найдет свою смерть, если не сумеет контролировать себя. Разрушения, причиняемые Гаем, были неприятны, но куда страшнее — мысль о его будущей судьбе.
Даже я перестал смеяться над ним, потому что как-то, когда Гай накинулся на меня, кусаясь и царапаясь, будто фурия, я, взяв его за голову, увидел безумное страдание и отчаяние в его глазах. Только один раз я видел у человека такой же взгляд. У эсседария на играх, который не сумел справиться со своей колесницей, запряженной львами. Он не мог заставить больших кошек повиноваться ему и знал, что киски и пятнышка крови от него не оставят буквально сейчас.
Вот такой же взгляд. В остальном мире мне более не встречалось ужаса и отчаяния именно этого толка.
Но, признаюсь честно, больше всего меня пугали все-таки не приступы ярости Гая, а выхолощенность и безразличие, которые охватывали его между ними. Скажу тебе так, Солнце, я даже ждал, когда нашу Луну в очередной раз накроет красная пелена.
Потому что тогда Гай выглядел, да, чудовищным, да, испуганным, да, отчаянным, но живым.
А между этими ужасами он становился тенью самого себя, тем самым дыханием, образом, которых я так боюсь в связи с приближающейся смертью.
Орфей не захотел бы вытаскивать такую Эвридику, нет.
Орфей бы оставил ее там ради своей бессмертной любви.
Нет, пойми правильно, я никогда не думал, что Гаю стоило умереть. Но я безмерно скорбел о серьезном, мрачном, но живом мальчике, который оставил нас.
В основном, Гай проводил свободное время, сидя в своей комнате или в атрии. И в атрии он хотя бы рассматривал мозаику, иногда ковыряя ногтями смальту. В комнате же он смотрел в не разрисованный потолок, холодную пустоту белизны.
Ему ничего не было интересно. Глаза его стали еще больше и еще страннее, и, кажется, еще темнее. Когда мы с тобой звали его играть, или пойти куда-нибудь или, о боги, поделать хоть что-нибудь, он только качал головой и смотрел на нас долгим и непонятным мне взглядом.
Иногда он говорил:
— Я не хочу.
Иногда говорил:
— Спасибо.
Еще мог выразить согласие кивком или покачать головой, вот, собственно, и все. Маленький призрак.
Мы с тобой пытались его расшевелить, вместе и по отдельности, но у нас ничего не выходило. Даже разозлить его специально не выходило, он смотрел куда-то сквозь нас, словно мы были прозрачные.
Я думаю, может, в те времена мы и были для него прозрачными. Но что он тогда видел? Ты наверняка спрашивал его, а я — нет, и теперь, опять же, я сожалею.
Может, я что-то понял бы сегодня, если бы спросил Гая об этом тогда. Думаю, я боялся даже не ответа, а отсутствия ответа.
Бедный наш Гай, правда? В итоге все с ним более или менее наладилось, от этой мысли боль уходит, но стоит вспомнить того маленького отчаянного Гая, и она возвращается.
Пожалуй, я был счастлив почти всегда и даже тогда, и даже когда умер отец, потому что, как бы мне ни было больно, я просто это умел, быть счастливым. Однако в дни, когда Гай не чувствовал почти ничего, мне единственный раз было стыдно за все мои ежедневные радости и приятности, за то, что, в целом, жизнь моя удивительно хороша, и я люблю ее со страстью, даже если она приносит боль.
Насчет Гая, думаю, его сильные, жестокие чувства были так разрушительны, что он надеялся проглотить их, скрыть и спрятать.
Лишь иногда они прорывались той невероятной яростью, и Гай пугался этого не на шутку.
Ну да ладно, это все нехорошо и страшно. Лучше расскажу тебе прежде про Луперкалии, тем более, что тогда я уже привык к тому, что мой брат — сумасшедший, и больше всего на свете меня волновали ремни и девочки.
Разумеется, я страстно хотел получить свое назначение. Тем более, кто, как не я: красивый, юный, полный жизненный энергии, подходил для этой роли.
Так что, когда Публий пришел вечером домой, радостный и загадочный и после ужина сказал, что у него для меня хорошая новость, я совсем не удивился.
В глубине души я знал, что меня выберут. По-другому и быть не могло.
Так что, горячо поблагодарив Публия за содействие, я принялся славить себя в своей обычной манере.
— Ну кто как не я? — говорил, ха-ха, я. — Если они там хоть раз видели, как я выступаю в гимнастическом зале, какой я веселый, какой я смышленый.
— Марк, — сказала мама. — Не хвастайся.
— А кроме того, — добавил Публий. — Это пока еще не точно. Скорее всего, но не точно.
— Да точно-точно, — сказал ты. — У Марка всегда бывает так, если он чего-то хочет.
А Гай, помню, в тот момент ломал хлеб, и лицо у него было самое бессмысленное. Я протянул руку и погладил его по голове, а он зашипел на меня:
— Не трогай!
— Ух, какие мы злые, — сказал я.
— Не трогай брата, Марк, — сказала мама, и настроение у всех явно подпортилось.
У всех, но не у меня. После ужина я надел свои белые кроссовки и пошел бегать. Я хотел быть лучше всех. За мной увязалась Пироженка и долго бегала следом с высунутым языком, длинным-длинным, будто бы у чудовища, и не устала, пока я не устал.
Ты помнишь Пироженку?
В те Либералии, когда я получил тогу и все прилагающиеся к ней горести и радости, на обратном пути от Капитолия за нами увязался веселый щенок, рыжий, длинноногий и нелепый.
Народ горланил песни, выкрикивал поздравления юношам (в том числе и мне), всюду пахло праздничными медовыми пирожками. Щенок будто бы веселился вместе со всеми, махал хвостом, подпрыгивал, ловко обходил на поворотах народ.
Вокруг — яркий хаос, цветы и маски, крики, танцы, толкучка, любая собака бы испугалась, но не Пироженка. И увязалась она, веришь, не веришь, именно за нами.
Публий сказал:
— Смотри-ка, теперь ты мужчина, и вот пес признал в тебе хозяина.
Ты подхватил с земли ласкового щенка, заглянул ему (вернее, ей) под хвост.
— Психа! — засмеялся ты.
— Собака, — сказала мама. — Собаки — дурные животные. Положи ее.
— Да слушай, она милая.
Ты передал щенка мне, и мама сказала:
— Только не испачкай тогу. Она же такая белая.
И мама улыбнулась, что случалось с ней не так часто, и лицо ее просияло. Она гордилась мной. И как-то, на фоне хорошего настроения, праздника и дня моей невероятной значимости, я полюбил эту маленькую собачку сразу, взял ее на руки, купил (моя первая самостоятельная покупка!) медовых пирожков и принялся кормить Пироженку.
Она была чрезвычайно тощим щенком и с благодарностью принимала мои дары.
— Интересно? — спросил я у Публия. — Она вырастет большой?
— Вполне возможно, — сказал Публий. — Хотя пока она не очень-то суровая девочка.
— Вряд ли она сможет охранять дом, — сказала мама. — Без должной дрессуры. Да и вообще я не доверяю собакам. Гуси спасли Рим, пока собаки спали.
— Я думаю, — сказал ты. — Ее зовут Пироженка. Могли бы звать Пирожок, но она сука.
— Ну да, — сказал я. — Пироженка — отличное имя, да, Пироженка? Ты у меня будешь самая крутая девчонка.
Пироженка лизала мне руки и так активно вертела хвостом, что все время норовила свалиться.
Я держал ее втайне ото всех, тренировал и выхаживал, каждый день расчесывал и, в конце концов, представил, как мидийскую боевую собаку.
Существуют ли мидийские боевые собаки я, будучи единоличным хозяином Востока, не уверен до сих пор.
К сожалению, у Пироженки был мирный ласковый нрав, но, спортивная и хорошо натренированная, она все равно производила впечатление.
— Они очень любят людей, — говорил я. — Но абсолютно беспощадны к собакам и другим животным. Всего три таких малышки могут затравить льва.
Пироженка, по счастью, действительно могла вступить в успешный бой с представителями своего собачьего племени, но не так часто, как мне хотелось.
Так. Луперкалии. Видишь, я все время отвлекаюсь, так хочу о них написать, а все время отвлекаюсь, милый друг. Бывает, что счастливые воспоминания даются нам сложнее несчастных. Не знаю, почему. Ты знаешь?
Да, все было подтверждено официально, и мое участие в празднестве пятнадцатого февраля из прекрасного сна стало явью. Однако я представлял все в более ярких красках. Вкратце план мой был прост:
1. Сходить в крутую пещеру.
2. Совершить там таинство, о котором все на самом деле и без того знают, что там такое делается.
3. Круто бегать в козлиной шкуре и стегать дамочек ремнями из нее же.
4. Дамочки верещат!
5. Трахнуться в роще с какой-нибудь милой девушкой, в конце-то концов. И даже не с единственной.
Эротическая история во время Луперкалий это совсем другое дело, чем рабыни и вольноотпущенницы. Кстати, Эрот мою затею не одобрял. Он предостерегал меня: придется мне иметь дело с чьим-нибудь очень недовольным папочкой.
— Отвали от меня срочно, — говорил я. — Я — жрец бога плодородия!
Эрот, может быть, хотел сказать, что не жрец я бога плодородия, а идиот и придурок, но, с присущей ему осторожностью, молчал.
Ну, что я могу сказать? Рисовавшееся в моей голове было прекрасным, но неточным.
На самом деле подготовка к Луперкалиям оказалась настолько мучительной и серьезной, что за свою честь побегать полуголым перед девчонками я заплатил сполна.
Тренер наш, выражусь так, был человеком серьезным. Он говорил:
— Я прошел не одни Луперкалии и знаю, для чего вы здесь собрались, молодежь!
О, он не питал по этому поводу никаких иллюзий.
Среди луперков того года было множество моих друзей и, да, план у нас был один.
И тренер его не одобрял. Как же его звали? По-моему, он был из Эмилиев, но точно мне уже не вспомнить. Так или иначе, тренер был крепкий старик с вечно слезящимися от солнца синими глазами (будто провел в пещере Луперкал все эти годы) и зычным голосом.
Он орал на нас постоянно. Примерно в таком духе:
— Вы пришли сюда, чтобы охмурять девчонок?! Нет! Вы пришли сюда, чтобы бегать до изнеможения, свежевать козлов и есть их внутренности!
— О как, — сказал я. — Я люблю есть внутренности. И бегать.
Тренер Эмилий ткнул меня в грудь длинным, не по-стариковски ровным пальцем.
— Надо же, — сказал он. — Какое совпадение.
И с тех пор мне доставалось еще больше, чем моим товарищам по несчастью. Тренер не жалел никого.
У него был красный свисток, который и ныне иногда еще находит себе место в моих снах. Эмилий дудел в него с рассвета до заката, гоняя нас по, так сказать, пересеченной местности. Больше всего на свете я боялся, что сотрутся подошвы моих славных кроссовок, потому что, казалось мне, за все время подготовки к празднику, я не остановился ни на единую секунду. Я бегал даже во сне.
И оглушительный свист догонял меня всюду, нигде в Риме от него невозможно было спрятаться.
— Ну как? — спрашивал Публий, когда я приходил домой и падал на кушетку.
Что-то мне подсказывало, что и у Публия в его время был не менее жесткий тренер. Судя по возрасту Эмилия, может, и он самый. Может, Эмилий тренировал людей еще при царях.
— Хорошо! — говорил я. — Отлично! Лучше всех. Как всегда! Я же блистательный Марк Антоний, как по-другому-то?
К концу фразы у меня уже еле ворочался язык, и я засыпал прямо на кушетке.
Кроме бега (бега-бега-бега-бега) нам необходимо было не облажаться с козлами и собаками. Козлов и собак предстояло нам зарезать в пещере, а потом, что самое главное, освежевать, не повредив шкуры. Чтобы потом, братец, эти шкуры все равно разрезать на ремни и повязки.
Мой друг Валерий, бестолковый, но беззлобный повеса как-то по глупости пожаловался на нелогичность этих тренировок.
— Ты еще в коллегию пожалуйся, — рявкнул тренер Эмилий. — Как ты, по-твоему, сделаешь достаточный отрез, чтобы прикрыть свое хозяйство, если вы расхреначите эту долбаную шкуру?
— Исчерпывающе, — сказал Герминий, еще один мой друг, тот самый парень, Тит Герминий, о котором ты говорил, что он слишком серьезен, чтобы быть моим товарищем, и ты в него не веришь.
— Молчать, — рявкнул тренер. — И свежевать козла. Лучшие из вас будут удостоены великой чести на празднике.
— О боги, — говорил Герминий, когда мы, вымотанные, шли обратно домой (нам было по пути). — Луперкалии же веселый праздник.
— Как выяснилось, — сказал я. — Для всех, кроме нас. Очень обидно, кстати.
— Знал бы я, — сказал еще один мой товарищ, Корнелий, дальний родич отчима с очень похожими чертами. — Никогда бы на это не подписался.
— Но девочки, господа, — сказал я, приобняв их за плечи. — Девочки того стоят.
Впрочем, чем дальше, тем менее очевидными для многих из нас становились мои слова. Один парень (всего нас было двенадцать штук, ты знаешь) не выдержал темпа тренировок и покинул нас. Его место занял Атилий, но он все знал и участвовал в празднике не в первый раз, поэтому занятия тренера не посещал. По этой причине мы все ему жутко завидовали.
Тренер снова и снова гонял нас по всем этапам таинства, так что все действительно таинственное и завораживающее из него исчезло.
Пришли в пещеру.
Зарезали жертвенных животных.
Кровь собрали, ни капли не пролить, она еще будет нужна для орошения полей.
Потом освежевали жертвенных животных.
Кровью мазнули на лбу (и не перебарщивайте, это драгоценная кровь!), стерли ее кусками шкуры. Потом смейтесь, сукины дети, смейтесь громко! Даже если вам не смешно! А смешно вам не будет, уж я об этом позабочусь!
Потом режьте шкуры на ремни и повязки!
А потом ешьте внутренности!
И, наконец, бегайте по городу и хлещите встречных ремнями из шкур.
Это-то вы можете усвоить? Вроде бы звучит не сложно!
Видишь, до сих пор я помню его слова, как они есть, вернее, каковыми они были.
— Если кого-то стошнит, — сказал он. — Все будет испорчено. А если кто-то упадет — это очень, очень, очень плохой знак. Смотрите под ноги! И тренируйтесь есть козлиные внутренности! Эй, Антоний, а тебе и тренироваться не надо, да? Ты же у нас самый большой любитель внутренностей.
Я с готовностью отвечал, что, дескать, именно так, и тренер Эмилий переключался на болезненного, неизвестно как к нам попавшего Тиберия Нумиция. Бледный и чахлый, он, казалось, вовсе не годился на роль луперка.
— Если ты ударишь ремнем какую-нибудь матрону, Нумиций, она побелеет от ужаса. С твоей стороны и благословение будет выглядеть, как проклятие.
Все над ним смеялись, и я тоже, я был даже автором дерзкого плана подложить ему в ритуальную трапезу собачьи легкие или еще что-нибудь вроде того. Но потом как-то увидел, что Нумиций после тренировки лежит под пустой еще яблоней на холодной земле и тяжело вздыхает.
Я подошел к нему, принялся вырезать ножиком на дереве свое имя.
Великолепный Марк Антоний.
— Переживаешь? — спросил я. Вместе с другими мальчишками я был очень злым, но, увидев Нумиция в одиночестве, вдруг расстроился из-за него.
— Нет, — сказал он, приподнявшись. — Просто устал.
— Отец сюда отправил?
Он кивнул.
— А ты не хотел?
Он пожал плечами. Я собрался было завести свою песнь о девочках, но как-то понял, что Нумиция это не порадует.
— Ну, — сказал я. — Это не пожизненная обязанность. Когда ты станешь некрасивым и старым, никто тебя не будет заставлять бегать.
Он смотрел на меня настороженно, будто я собирался его ударить или уколоть. Я пожал плечами.
— Ты извини. Пацаны бывают злые. Да и я.
— И ты, — сказал он с едва заметной укоризной.
— И я.
Кора под деревом так легко поддавалась ножу, словно мясо.
— Но ты не облажаешься, — сказал я. — И никто не думает, что ты реально протупишь. Вот, этот парень, как его там, не помню, в общем, ушел который. Он знал, что он облажается. А ты на самом деле знаешь, что ты нам всем покажешь.
Нумиций молчал, пристально наблюдая за мной. Мы его никогда не били, но выглядело так, будто он все время этого ожидает. Думаю, отношения с ребятами у него по жизни не складывались. Или у него были крайне злобные старшие братья. Интересно, где Нумиций сейчас? Мы почти не общались, но он пытался мне помочь, когда я поднял в сенате вопрос об одновременном разоружении Помпея и Цезаря. Где же он, где же, где же? Я слышал, он отправился куда-то на Восток задолго до меня. Вернулся ли Нумиций оттуда, или ныне он в моих владениях тоже? А, может, умер?
Я сказал:
— Ну вот, теперь нам обоим неловко. Хотел тебя поддержать.
— Да, — ответил Нумиций. — Я понял.
Я улыбнулся, не показывая зубов, точно так, как учил меня Публий.
— Ты извини. Ну, мы все полны недостатков, в том числе и великолепный Марк Антоний. Он, к примеру, бывает очень тупым и нечутким.
От скуки я принялся выцарапывать под "великолепный Марк Антоний" слова "тупой" и "нечуткий".
Нумиций сказал:
— Да. Это точно.
Сказал осторожно, будто пробовал ступить на лед на реке.
— Ну, — сказал я. — Давай ты исправишь мои недостатки, а я твои. Как тебе такое?
Я протянул ему руку, желая помочь Нумицию встать.
И мы договорились. На следующий день я привел его к ребятам и сказал:
— Пацаны, тренировку этого парня беру отныне на себя.
Нумиций еще долго ожидал от меня подвоха, но я действительно искренне звал его бегать вместе со мной. Чтобы, так сказать, побегав, еще побегать.
И именно с ним, а не со своими вполне стандартными друзьями, я провел вечер перед Луперкалиями.
Ты вообще помнишь Нумиция? Ну хоть чуть-чуть? Пухлая родинка на шее, такая черная, она приметная у него. И очень-очень бледный, мучной червь еще похуже Гая. У солнца на Нумиция зуб был короток.
Помню, мы сидели в саду, и ты посматривал на нас из окна (занимался, вестимо, греческим). Пироженка валялась на пахнущей наступающей весной земле и ждала, чтобы ей почесали живот.
— Ну иди сюда, — говорил я. — Давай, иди сюда, Пироженка. Она — мидийская боевая собака.
— Таких не бывает, — сказал Нумиций и улыбнулся.
— Бывают, — пожал плечами я. — Восток полон чудес, неслыханных и не явленных взору.
— Спасибо, Антоний.
— А? — спросил я. — За что?
Я, честно говоря, уже и забыл, что мы с ним когда-то не ладили.
— Я не особенно переживаю по поводу этих Луперкалий, — задумчиво сказал Нумиций, потирая свою уродливую родинку. — Ты, должно быть, тоже. И, думаю, у тебя достаточно друзей, и еще один друг тебе ни к чему. Значит, ты помог мне ради меня.
Я пожал плечами.
— Да просто так, — сказал я. — Я даже не знал, что ты такой отличный парень, если честно. Знал бы — я бы сразу к тебе хорошо относился. Так часто бывает с людьми, очень удивительно…
— Знаменитая философия великолепного Марка Антония, — сказал Публий.
— О, мы тебя и не заметили, па! — ответил я, и сам себе удивился — впервые я назвал его так именно тогда.
— Здравствуй, Лентул, — сказал Нумиций растерянно. Дурная слава моего отца его явно смущала, и он не знал, куда деть взгляд.
— Все будет отлично, мальчики, — сказал Публий. — Все справлялись. В мое время была лишь одна легенда о парне, которого стошнило козьим желудком во время бега.
— Он был, случайно, не из моего рода? — спросил Нумиций, и я захохотал так громко, что с вишневого дерева слетели голуби и взвились в темнеющее небо.
Помню, я правда не очень волновался, и мне было хорошо. А когда Нумиций ушел, и мы его проводили, Публий кликнул раба, велел готовить все для бритья и прогреть лаватрину. Потом он повернулся ко мне и сказал:
— Ты очень хорошо поступил с этим молодым человеком, Марк.
— Правда? — спросил я. — Ну да, вроде как ему тяжело пришлось. Но я его адаптировал. Какой я молодец, да?
Публий посмотрел на меня задумчиво и сказал:
— Тебе нужно сохранить эту свою простоту. Люди покупаются на нее, даже самые недоверчивые. Помогая им, ты помогаешь себе. Когда-нибудь ты сможешь использовать это знакомство себе во благо, и Нумиций будет только рад этому. Быть добрым человеком важно — добрые люди имеют куда больше возможностей использовать других в своих целях.
Я сказал:
— Что-то как-то с такой этикой я незнаком. У меня даже есть подозрения, что…
Публий засмеялся.
— Что?
— Что это не она. И, кстати, тебя не за излишнюю ли доброту выгнали из сената?
Мы засмеялись, и вдруг мимо пронесся ты, радостный и свободный от греческого.
Вот такой был вечер перед Луперкалиями.
Когда я собрался спать, Публий сказал:
— И помни, вступительный взнос в коллегию луперков был весьма значителен. Куда дешевле было бы дать тебе денег на хороший лупанарий.
— Да, — сказал я. — Но в лупанарии у меня не будет шанса прикоснуться к истории. Ну если только деньги у меня будут исключительно на очень старую шлюху.
Публий засмеялся. Шутка ему так понравилась, что он потом долго ее повторял, разве что не при маме.
На рассвете мы уже стояли перед пещерой, к ней вели скользкие, выдолбленные в камне ступеньки, вокруг раскинулась симпатичная, уже тронутая наступающей весной рощица. Погода выдалась отличная, сухая и теплая.
— Хуже нет, — сказал тренер Эмилий. — Чем бегать полуголым по грязи.
— Это кому как, — улыбнулся я, и он сердито взглянул на меня, синие его глаза под нависшими кустистыми бровями еще не слезились, потому как солнце не обрело всю силу. Утренний холодок, обещавший вскоре сойти, изрядно взбадривал. Я спросил Нумиция:
— Ну, как настроение?
Он пожал плечами и неловко, будто неумеючи улыбнулся.
— Лучше, чем я ожидал.
Тренер тяжело вздохнул. Вдруг лицо его переменилось, стало торжественным и спокойным. Теперь у меня язык не поворачивался говорить о нем, как о каком-то там тренере, в моих глазах Эмилий, наконец-то, обрел какую-то правильную, жреческую недосягаемость.
— Юноши, — сказал он, и скрипучесть ушла из его голоса вовсе. — Вы готовились к этому дню, и вот он настал. Вы — лучшая молодежь Рима, от вас зависит, будет ли этот год удачным и плодородным, будем ли мы радоваться, собирая урожай и встречая новое поколение. И вам отдана великая честь подняться сейчас в эту пещеру и свершить то, что должно. Теперь будьте достойны это великой чести, оказанной вам.
Из ворчливого старикашки он превратился в степенного и серьезного старца.
Его речь, по-видимому, должна была воодушевить нас, но вместо этого — смутила еще больше. Не нужно таких резких перевоплощений. Я почувствовал, как все мы одинаково сильно и по-детски заволновались. На нас лежала большая ответственность, и действия, в общем-то, были просты, но именно в самом простом ошибиться больнее всего.
Мы с ребятами переглядывались, надеясь, что тренер Эмилий вернется в свое прежнее состояние и подбодрит нас хорошеньким пинком, но он только улыбнулся нам и велел рабам подвести к нам четырех белых козлов и двух собак. Вернее, двух коз и двух козлов, а затем и кобеля и суку.
Честь вести наверх кобеля выпала мне. Это была ласковая, домашняя собака, и я вспомнил о Пироженке.
— Ну извини, — сказал я. — Такие правила.
Пес радостно мне гавкнул. Они, суки (и кобели тоже) иногда будто бы совсем отчетливо понимают нашу речь, и все-все знают про нас. Ужасное чувство — предать существо, так безгранично тебе доверяющее.
Думаю, Брут чувствовал примерно то же самое, сам знаешь когда.
Воздух был прохладен и свеж, уже пробилась кое-где молоденькая травка, такая же хрупкая и очаровательная, как всякая юность. Деревца в роще оставались еще совершенно голыми, но роща была заселена ими так густо, что ветви, переплетаясь, надежно охраняли ее от посторонних взглядов. Мы поднимались все выше, внизу сновали люди, они уже начали готовить жаровни для жертвенной трапезы. Эти люди показались мне вдруг такими приятно маленькими.
Тренер Эмилий стоял внизу и смотрел на нас, не отрываясь, будто отец, провожающий сыновей на войну.
Валерий сказал:
— Пиздец, если честно, я так волнуюсь.
— А сквернословить можно? — спросил Ливий, с самого начала очень переживавший по поводу правил и всего такого.
— Ну да.
— Точно можно?
— Не знаю, я, как ты понимаешь, не спрашивал.
Нумиций сказал:
— Антоний, мне кажется, я не смогу засмеяться.
— Ну, — пожал плечами я. — Никто не требует от тебя искреннего смеха. Можешь делать вид.
— А можно так? — спросил Ливий, все еще ожидавший божественного наказания хоть за что-нибудь.
— Да ребята, — сказал я. — Не надо париться, это здоровский дикий праздник, на котором надо хорошенько веселиться! Чего все такие серьезные?
Самый старший из нас, Атилий, парень, который с нами не общался, и сейчас шел молча, неся перед собой зажженный факел. Все смотрели на него с уважением, он уже был там и все знает. Коза Нумиция вдруг стала упираться и бить копытами по камням.
— А она ловчее тебя, — сказал Валерий.
— Да просто дай ей пинка!
Вход в пещеру был все ближе, а роща и люди внизу казались все меньше, и все ярче становилось рассветное небо, залитое сначала розовым, а затем и красным. Сердце мое билось так сильно и вольно, радостное предвкушение сменялось волнением. Я подумал, что тоже никогда не смогу засмеяться, как надо. Слишком уж все серьезно.
Нет, великолепный Марк Антоний, вспомни собственные замечательные слова: здоровский праздник, дикий и веселый. Чего все такие серьезные? Надо веселиться.
Пещера дохнула на нас холодом и темнотой, но, главное, тем самым ощущением, о котором говорил тренер Эмилий — многие и многие поколения сменяли друг друга, а молодые люди входили сюда и совершали то, что совершим и мы. И божество нисходило на них, и они становились божественными, хотя бы на короткое время.
А вдруг я не стану божественным? Этого я очень боялся. У входа Атилий выставил факел вперед, обдав пещеру золотым светом. Такой серьезный, подумал я, как ты будешь смеяться?
Я прошептал кому-то, то ли Валерию, то ли Корнелию, не помню:
— А если факел всего один, какова вероятность, что мы будем натыкаться на стены, как слепые котята?
— Весьма большая, — ответил мне кто-то из них. — Но ты бы лучше подумал, как в этой темени мы будем разделывать животных.
Ох, разделывать животных. Нумиций сказал:
— Я не смогу.
Он прошептал это почти одними губами, но я ответил довольно громко.
— Сможешь, конечно, в чем вопрос? Ты мужчина, который может зарезать кого угодно.
— Конкретно он или вообще мужчина? — спросил Ливий. Я засмеялся, а потом у меня вдруг перехватило дыхание, потому что я услышал эхо своего голоса.
Атилий поставил факел на держатель в середине пещеры, и вот мы уже стоим в круге света, неверном, неровном, чем дальше, тем тусклее и таинственнее.
Пещера показалась мне тогда очень большой. На потолке я видел какие-то росписи, но не мог рассмотреть, что именно изображено. Геометрические орнаменты, какие-то животные, все такое древнее и странное.
В пещере было очень холодно. Кто-то из ребят начал кашлять. Я весь моментально продрог и не знал, куда себя деть, как размяться. А ведь предстояло стоять здесь в одной козлиной шкуре.
Мы все ждали, когда Атилий, наш старший, заговорит, но он молчал. В центре стоял каменный алтарь, на нем лежали ритуальные ножи, красиво загнутые, с резьбой. Я бы посмотрел все эти вещи, покрутил их в руках, но боялся и пошевелиться.
На меня напала такая скованность, будто я — Нумиций, и вовсе не подхожу для таких праздников. Пес тесно прижался ко мне. Это была красивая белая собака с единственным черным пятном на груди. Я погладил кобеля по голове, и сердце мое заболело. В нашей стране участь собаки — незавидна, еще с давних времен тянется вражда римлян и псов.
Если мы будем так по-дурацки мяться здесь, ничего чудесного не произойдет, подумал я. Я наклонился к Нумицию и сказал:
— Будет весело, я уверен. Расслабляйся давай.
— Легко сказать, — ответил Нумиций.
Ох, как я завидовал Атилию, стоявшему у факела. Его грел огонь.
А мы замерзали в этой темноте. Я все вертел головой, пытаясь хоть что-нибудь рассмотреть, но сам образ пещеры ускользал от меня. Я слышал, как где-то далеко падают капли — будто бьется чье-то слабое сердце. Атилий все не давал команду, а мы не решались выказывать свое недовольство и нетерпение.
Я замерзал все сильнее, мне хотелось двигаться, и я подпрыгивал на месте.
Какой золотой был свет — круг за которым ничего нет. Я боялся сделать шаг назад, мне казалось, что я провалюсь — не очень понятно, куда, но точно — провалюсь.
Не знаю, сколько мы там стояли. Была, конечно, далекая полоса неба у входа, откуда до нас почти не доходил свет, но она казалась скорее иллюзорной, тканевым полотном, натянутым на сцене.
Козы блеяли, собаки лаял, ребята кашляли от холода, а я чувствовал себя ужасающе неловко. И мне стало страшно жаль пса. Нумиций был прав с самого начала.
Да и Публий тоже — дешевле было бы сходить в лупанарий. Там еще и натоплено.
Наконец, когда я уже весь дрожал и не был уверен, что попаду ножом даже по слону, Атилий вдруг двинулся, взял нож и, подтянув к себе козу, воткнул лезвие в ее белое горло. Мы вздрогнули: так неожиданно все случилось. Ни мы, ни коза не успели ничего понять, а Атилий ловко, не пролив и капли крови, подставил под рану сосуд с широким горлышком. Голова козы безвольно повисла, а желтые глаза, казалось, сияли в темноте.
Мы никогда не резали козлов на тренировках, только свежевали. До сих пор я не догадывался, почему, а теперь понимаю. Убийство должно было быть непривычным.
Мы все очень замерзли, и нам так не терпелось хоть чем-нибудь заняться, что все сразу бросились к алтарю, хватая кто ножи, а кто сосуды и миски для крови. Я ломанулся вперед вместе со всеми, то и дело натыкаясь на холодные локти товарищей.
Я схватил нож и протянул Нумицию сосуд. На нем был неясный, почти стершийся рисунок, вроде бы, спаривающиеся волки и виноградные лозы.
На рукоятке ножа у меня в руке наверное тоже было что-то выгравировано, но я не помню этого совершенно — сам нож стерся у меня из памяти, остался лишь его блеск.
Я посмотрел на нож в своей руке, потом на Нумиция и одними губами, почти безо всякого звука, прошептал:
— Махнемся?
Нумиций замотал головой. Мне было так жаль песика. Вдруг я не смогу?
У меня всегда все получалось, не было причины думать, что не получится что-либо сейчас. И все-таки.
Я, не обращая внимания на то, что творится вокруг, сел на корточки перед псом и погладил его.
— Хорошо, — сказал я. — Хороший мальчик, хороший.
Мои холодные руки к его холодному носу. Отлично это помню — само ощущение. Никому, Луций, милый друг, не стоит умирать вот так, без любви и в полном одиночестве.
Я взял пса за ошейник и вогнал нож в красивое белое горло. Шерсть окрасилась красными крапинками, и я вдруг увидел вместо белого кобеля свою рыжую суку (нет, не Фульвию).
Удар был слишком сильный, думаю, из-за моего волнения и страха. Рукоятка ножа вошла очень глубоко, я чувствовал, как лезвие утыкается в собачье горло слева, готовое выйти наружу, как созревший плод.
— Ох, — сказал Нумиций. Но его не стошнило. Он подставил сосуд под рану, но кровь не текла.
— Твою мать, — прошептал я. — Сейчас, подожди. Вот лажа-то какая.
— Вперед, Геркулес, — прошептал Нумиций. Впрочем, худшим я не был. Чей-то козел сорвался с привязи, и в него вцепились теперь двое ребят, а третий все старался примериться для удара. На самом деле в этом не было ничего торжественного, мы замерзли и хотели домой, лично мне было безумно жаль песика, а один из козлов оказался большим упрямцем.
Я вырвал нож из собачьей глотки. Это было так сложно, будто нож успел стать ее частью. Кровь рванула вниз, в сосуд, и я почувствовал невероятное освобождение, будто то была моя кровь.
От крови исходил жар, достигавший моих рук. Я хотел подставить под нее ладони и отогреть их. Ошалевший от волнения и холода, я был готов даже умыться этой кровью.
Одежда оказалась испорчена, нас с Нумицием обоих сильно забрызгало.
— Мама меня убьет, — сказал кто-то, видимо, столкнувшийся с той же проблемой.
Вдруг я ощутил чье-то присутствие. Чувство было странным, сновидным: кто-то смотрел на нас из глубины пещеры, большой или вообще огромный. Кто-то очень сильный, сильнее даже меня.
Я вглядывался в темноту, пытаясь увидеть глаза существа (непременно светящиеся желтым или даже красным), но не видел никого, и от этого становилось только страшнее. Чье-то присутствие казалось мне очевидным: да, дыхание его было неслышимым, а облик невидимым, но оно наблюдало за нами. Вернее, он. Определенно, он.
Со временем он стал заполнять пространство, как бы растекаться. Вместо того, чтобы сделать пару шагов назад, как от лижущего ноги прибоя, я пошел вперед и ощутил тепло, едва понятное, едва существующее, можно было представить, что я его себе вообразил. Тепло колкое, как огонь.
Когда жертвоприношение было совершено, Нумиций спросил у меня:
— А если не хватит на повязки и ремни?
— Будешь бегать голым, — сказал я, и в тот момент почему-то все перестало быть важным, даже мой собственный голос. Я подхватил собаку и положил ее на алтарь.
Весь он, будто снегом, покрыт был теперь белыми тельцами. Я думал (и надеялся), что Атилий что-нибудь скажет, но он молча подошел к столу и сделал аккуратный надрез на теле козы, а потом принялся сдирать с нее шкуру, она отходила с глухим треском.
Атилий обернулся к нам и, склонив голову набок, указал рукой на жертвенных животных. И тут началось что-то очень странное. Мы, приученные очень аккуратно свежевать этих долбаных коз, милый мой, ринулись к алтарю и принялись, расталкивая друг друга, пытаться урвать себе куски шкуры. Мы буквально срывали ее с животных. Если честно, я не уверен, что мы использовали ножи. Скорее всего, но не точно. Могу тебе поклясться, я даже не помню, "раздевал" я пса или одного из белых козлов.
Плоть животных стремительно остывала, но была еще теплой, и я стремился урвать частицы этого тепла, пока они не исчезли из мира, прижимался руками и ртом к парному мясу, сдирал шкуру и рвал ее на куски и кусочки.
Кто-то, живущий в пещере (сам Луперк, как ты понимаешь, но я не смел назвать его по имени) был очень доволен нами, я это чувствовал, он наполнял наши руки и зубы силой.
Помню все, как во вспышках белесого света (это странно, ведь свет огня — золотой): Нумиция, вцепившегося губами в кусок шкуры, симпатичное и доброе лицо Корнелия в розовой сукровице, Атилий руками срывает с козы шкуру, еще помню боль в пальцах и зубах, запах крови и жира.
Наконец, шкуры были разорваны и валялись у нас под ногами. Тогда Атилий подошел ко мне и ножом, смоченными в крови коснулся моего лба. Он ничего не сказал и даже не улыбнулся.
Смеяться, думал я, смеяться. Надо будет смеяться, но мне не смешно. Теперь холодно не было — стало жарко. Старший отметил нас всех кровью, а затем каждый умылся холодным молоком, заранее для нас подготовленным. Все было очень правильно, по крайней мере для того, кто жил в пещере.
Едва придя в себя, мы скинули одежду, подрезали, где надо, куски шкуры побольше и повязали себе на бедра. Раньше я думал, что все выглядят так по-дурацки и потому смеются. Но теперь мне не было смешно вовсе, а смеяться необходимо, такова часть таинства.
Я смотрел на своих товарищей в кусках козлиных и собачьих шкур и не мог найти в этом ничего смешного. Мы все были в крови, разве что лица, умытые молоком, чистые.
Вдруг Нумиций захохотал, так громко, а эхо еще многократно усилило звук. Он согнулся пополам и хохотал, как сумасшедший. А он, как я тебе уже рассказывал, был крайне сдержанный молодой человек, смеялся мало и всегда по делу.
И вдруг у него такая истерика, он хлопал себя по ногам и продолжал смеяться, потом сел на камень и запрокинул голову.
Тогда мне тоже стало очень смешно. Я тебе скажу, я был в этой пещере много раз, но после никогда — таким пьяным, не от вина, а от чего-то, вернее, от кого-то, еще.
И смешно мне стало не потому, что Нумиций был смешным (в другое время, несомненно, мне бы так показалось), а потому что сам воздух переполнился запахом крови и духом того, что жило здесь, и оно пролезло мне в легкие и щекотало что-то там. Хохот раздирал меня, я задыхался, упал на колени, и из глаз моих потекли слезы. Я царапал каменный пол пещеры, под ногтями скрипело. Смеялись и все остальные, мы катались по полу, кричали, били себя по груди и по рукам. Этот хохот был одновременно самым приятным и самым мучительным, что я когда-либо испытывал. Он разрывал мне грудь, но в то же время в голове и в члене разливалось такое блаженство. Я стонал и корчился от смеха, пока у меня хватало сил издавать какие-то звуки.
Затем Атилий поднялся на ноги, его шатало и колотило. И как мы будем бегать, подумал я, но это было уже неважно.
Атилий взвалил себе на плечо освежеванную козу, и я последовал его примеру. Когда мы вышли из пещеры на свет, солнце уже светило ярко, теперь я вовсе не чувствовал холода ни внутри пещеры ни снаружи, по моему телу бродил жар. Сырое козье мясо пахло очень вкусно и, если честно, жаровни были не очень-то нам нужны.
Я думаю тот, кто жил в пещере (по кусочку его вынес оттуда каждый из нас) не любил огонь. И ему не была интересна жаренная плоть. Он бы охотнее съел сырую.
Люди, тренер Эмилий, прислуга, члены коллегии, стояли внизу и ожидали нас.
— Ну как? — спросил я у Эмилия. — Неплохо вышло у нас, да?
Но он ничего мне не сказал. Вовсе не потому, что я сморозил очередную глупость. Эмилий молчал и смотрел на меня так, будто не понимает мой язык.
Жаровнями нам тоже пришлось воспользоваться самостоятельно. Все вокруг смотрели на нас, как на существ не совсем разумных.
Как на животных, вдруг подумал я, вот что здесь главное.
Помню, я все игрался с ремнем из козьей шкуры, окровавленным ремнем, и вертел его перед носом, и наполовину случайно, наполовину специально заехал Нумицию по лицу. И вдруг он на меня зарычал. И я, неожиданно для самого себя, зарычал в ответ, совсем не ожидая, что именно этот звук вырвется у меня из груди. Еще секунда, и я вцепился бы зубами ему в ухо, но Атилий дал мне подзатыльник, и это моментально меня успокоило.
Ножами, уже не ритуальными, а обычными, мы выпотрошили туши коз и собак, неважно, они не так уж сильно отличались друг от друга теперь. Я подумал, что там, внутри, в пещере, под зорким взглядом того, кто в ней живет, мы могли бы сделать это ногтями и зубами.
Мы ели их внутренности. Ты меня знаешь, родной мой, самые мои любимые блюда — из них. Люблю мозги, сердца, легкие, почки, что угодно, если бы я мог есть только одну категорию продуктов, то выбрал бы их.
Так что мне наш обед не показался бы отвратительным в любом случае, но, знаешь ли, и это показатель, та простая еда, приготовленная безо всяких специй и ухищрений, показалась мне вкуснее всего, что я когда-либо ел.
Мы пили цельное молоко, будто деревенщина, и это не показалось мне отвратительным. Наоборот, я чувствовал, как сладко оно насыщает меня.
Потихоньку мы разговорились. И, брат мой, то были почти мы, разве что развязнее.
Помню, речь зашла о нашей двоюродной сестре Антонии. И я сказал, не помню уже, на что отвечая:
— Да если мне захочется увидеть восторг на ее личике, я просто покажу ей свое хозяйство!
Знаешь ли, обычно даже люди вроде меня не говорят в таком тоне о своих кузинах.
Мы хохотали над чем-то, я все хлопал по плечу Нумиция и говорил ему, что сегодня он найдет женщину, которая сделает его мужчиной, а он отвечал, что помолвлен с одной прекрасной девушкой, и будет верен в ней.
— Верен? — сказал Атилий. — Не уверен!
Едва ли не впервые мы услышали его голос, сильный, веселый. Все мы были так веселы, смеялись и развязно шутили. Обоняние мое будто бы стало лучше в тысячу раз, я улавливал мельчайшие оттенки запахов: крови, пота, молока, земли, даже слюны.
Никто не мешал нам есть и отдыхать, никто нас никуда не гнал. Я знал, что могу пробыть здесь хоть тысячу лет, ел и пил много, и все пьянел, не от вина, но от молока.
Наконец, Атилий встал. Он сказал:
— Все, пора размяться, ребята.
И он имел в виду что-то такое томительно прекрасное про девушек, что я едва не заурчал от одной этой мысли.
Я уже не думал, что объелся и не смогу бегать, или что не знаю, куда бежать. Я вообще, если честно, не очень-то и думал. У меня был ремень из шкуры, который занимал все мои мысли, как игрушка занимает всего ребенка.
Наверное, будь я трезвее, мысль о том, что до заката придется бегать по Палатину, показалась бы мне тяжелее.
Но тогда весь мир стал легким.
Наворачивать круги по Палатину? До самого заката? Я тебя умоляю, время было для меня совершенно ничем. Я чувствовал в себе столько силы и столько любви — любви в том первородном и плодородном смысле, естественно.
Мы смочили ремни в крови, и я побежал, кажется, первый, я чувствовал себя таким быстрым и таким первобытным. И я чувствовал себя кем-то еще. Кем-то помимо великолепного Марка Антония. Кем-то, кто живет в пещере и видит свет лишь раз в году, и осязает землю, и вдыхает ее прекрасные запахи.
И этот кто-то был радостным и безумным.
Как же тебе все описать, милый брат, если ты никогда не был луперком? Это ощущение, когда ты бежишь, и быстрее тебя нет в мире зверя — оно прекрасно. Краем глаза я видел моих товарищей, иногда они показывались рядом, но, в основном, да, они были позади меня.
Больше всего я поразился образу Нумиция — вдруг исчезла из него вся та неловкость и угловатость, он бежал красиво и быстро, безо всяких усилий, вовсе не так, как на тренировках.
Когда рощица осталась позади, мы почти сразу попали в самую толпу, но бежать в ней было куда легче, чем раньше, когда я, надевая свои белые кроссовки, устремлялся подальше от своей боли. Никто не толкался и не ругался, все уступали мне со священным трепетом и приветствовали меня радостными криками.
Я смеялся, и дыхание мое не сбивалось. Сначала я думал, что мне даже не придется отдыхать, ни единого раза, пока не зайдет солнце. Но, разумеется, останавливаться, чтобы прийти в себя приходилось, как бы сильна ни была моя природа, это все-таки природа с присущими ей ограничениями.
На бегу я хлестал женщин ремнем из шкуры, и они смеялись, подставлялись мне и так вкусно пахли.
Люди встречали меня с той первобытной радостью, с которой встречают любовь, рождение детей и урожай. Я нес им восторг и счастье, верховные, может быть, во всей человеческой жизни.
Удары мои должны были награждать женщин плодовитостью и дарить им легкие роды, и женщины охотно искали моего благословения. Я стал силой природы, ее орудием. Во рту у меня был вкус молока и крови, они причудливо смешивались и не исчезали, а лишь усиливались.
Я хотел, чтобы женщины смотрели на меня с вожделением. Я же такой красивый, молодой Геркулес и все такое, но, справедливости ради, думаю, невзрачному Нумицию доставалось не меньше внимания — перед природой равны все.
Мои удары были шутливыми, ровно настолько сильными, чтобы быть приятными, и я впервые не боялся, что не рассчитаю силу — моей силы было отмерено кем-то, кто живет в пещере, очень ровно.
Кто-то кричал:
— Дай мне ребенка!
Кто-то кричал:
— Дорогу луперку!
Кто-то желал мне радости и славы.
Женщины плакали от счастья, когда я касался их.
И я, знаешь ли, милый друг, чувствовал себя на своем месте. Такая любовь, такое почитание, такая экстатическая радость — по мне. Я был создан для такой любви и питался ей.
Когда я останавливался, чтобы перевести дух, женщины облепляли меня, трогали, они просили удара священным ремнем, просили здоровых детей и побольше, некоторых из них (необязательно самых красивых и молодых, кстати говоря, только тех, кого избирало что-то внутри меня) я целовал в щеку или в лоб, и ни их воспитательницы, ни даже их мужья не имели ничего против этих быстрых, коротких, но страстных поцелуев.
Из-за нешуточной физической нагрузки я потерял счет времени, но вовсе не устал, сознание спуталось, но сердце было ясным. Никогда прежде я не испытывал такой полной и отчаянной свободы, которая открылась мне тогда в этой смеси тайны и непристойности.
Нет, я не хотел, чтобы этот чудный день подходил к концу, я предпочел бы остановить солнце в зените.
Но оно все-таки зашло, оставив лишь куцую красную полосу над горизонтом. Тогда я остановился и, запрокинув голову, принялся вдыхать жаркий воздух, (на самом-то деле, как ты понимаешь, он был холодным). Я весь был в поту, он смыл с меня кровь, которая еще оставалась после освежевания жертвенных животных.
Я забылся: у меня пару минут не имелось ровно никаких мыслей. Затем я, награждая женщин и девушек ударами ремня напоследок, двинулся к роще, чтобы вернуть себе свою одежду и, что самое главное, человеческий облик.
Мне вовсе не было стыдно (но я и не отличаюсь особой стыдливостью), более того, я уверен, что даже Нумицию не было стыдно.
Что я могу сказать? Я жалел того паренька, который не выдержал нашего напряженного графика.
В роще было пусто, и я некоторое время недоумевал, где мои товарищи. Вдруг я услышал девичий смех, с плотоядной, вероятно, улыбкой, я обернулся на звук. Она стояла у дерева и терлась об него бедрами.
— Привет, — сказал я хрипло. Она посмотрела на меня так, будто тоже совсем не понимает моих слов. Никого-никого не было, клянусь тебе, ни слуг, ни ребят, ни даже тренера Эмилия, который, без сомнения, хотел бы узнать, как все прошло.
Мы с ней — совершенно одни, будто бы в целом мире.
У нее были каштановые волосы, распущенные и длинные, до самых бедер, она все время отдергивала свою простую тунику, и это движение было нервным, чуть придававшим ей человечности. Как она прекрасна в моей памяти — высокие скулы, большие, светлые глаза, яркие от природы губы и такая чудесная свежесть, будто смотришь на нее, и она утоляет жажду, словно родниковая вода.
Над губой у нее была крошечная родинка, длинные пальцы перебирали каштановые локоны.
Я принюхивался к ней, она пахла водой и возбужденной женщиной.
— Иди сюда, — говорила она. — Иди сюда, ну же.
Будто с животным, которое хотела приручить лаской, да? Я облизнулся. Во рту так пересохло, я хотел пить ее, я хотел есть ее, я хотел любить ее.
— Такой красивый, — прошептала она. И снова я подумал, что эта девушка говорит обо мне, будто о звере. Так можно сказать, увидев красивого волка, оленя или быка, с таким придыханием, восхищением перед природой.
— Иди сюда, давай, — повторила она еще мягче. — Не бойся. Ты такой красивый.
Голос ее, будто прочная нить, тянул меня к ней. Когда я подходил ближе, она отходила, отбегала со смесью страха и радости, но я, наконец, настиг ее.
И, о, она была прекрасной на вкус, настолько же, насколько на запах.
После всего она поцеловала меня в щеку и попросила ударить ее. Я, одурев от любви, сделал это и закрыл глаза, будто бы на секунду. Когда я их открыл, девушки уже не было.
А я ведь даже не узнал, как ее зовут. И была ли она человеком, тоже ведь небезынтересный вопрос.
Моя одежда лежала рядом, как и кусок шкуры. Земля оставалась холодной, теперь я это чувствовал. Ноги стали будто бы сплошным синяком. Такой крепатуры у меня еще никогда не было.
Я оделся, снова натянул мои белые кроссовки (подошва их стала черной) и побрел домой, вздрагивая от невыносимой боли в мышцах.
Доплелся я, должно быть, часа за два. Мама встретила меня поцелуями.
Я сказал:
— Ну как? Вы видели?
— Как ты устал, мой маленький, — мама гладила меня по голове. — Конечно, видели. Ты меня ударил, ты не помнишь?
— Не сильно, все же нормально, да?
Ты подбежал обнять меня, и я заорал от боли.
— Ай! Все-все, не надо!
Публий поцокал языком и сказал:
— Ты себя совершенно измотал, вот что значит хорошо выполненная работа.
— Да, — сказал я. — Это точно. Я сейчас умру.
— Горжусь тобой, — сказал Публий. — Люди делятся на два типа. Волчки и овечки.
— Это ты к чему?
— Да так, рассуждаю. Мама сказала подготовить тебе ванну. Иди, пока она не остыла.
Волчки и овечки, повторял я про себя.
— Ты, наверное, голодный? — спрашивала мама.
— Ничуть, — ответил я, может, впервые в жизни. Я почти не помню, правда, милый друг, моментов, когда я не был голоден, я родился с этим чувством под ложечкой. А вот тогда оно отступило. Думаю, у меня все органы внутри слиплись от долгого бега.
После ванной две рабыни долго растирали мне мышцы, а я орал.
— Может, — кричал мне Публий из-за двери. — Все-таки призвать лекаря?
— Нет! — крикнул я. — Все нормально! Нежные женские руки и все такое!
— Чего-чего, а прикосновений нежных женских рук ты сегодня получил достаточно!
— Не бывает достаточно!
Только улегшись в чистую постель, когда над окном уже высоко-высоко взошла луна, я понял, как невероятно устал.
Думал, просплю несколько суток, но вскоре (во всяком случае, так мне показалось) меня разбудил какой-то звук. Неясный, странный. Я не сразу понял, что это собачий скулеж. Сначала он показался мне каким-то мягким перезвоном из сна.
Едва совладав с ногами, я зачем-то (причуды ночи) пошел вниз. Звук донесся еще раз, когда я был в атрии, и я точно понял, что он раздается в саду.
Идти было невероятно тяжело, ноги казались свинцовыми. Ночной сад полнился запахами земли и воды. Сейчас он был таким некрасивым и бесприютным. Цветные пятна статуй под луной казались вспышками неведомых огней на фоне строгой черноты ветвей. Я посмотрел на свои ноги. Зачем я вышел босым? Они все были в кровавых мозолях, невозможно смотреть.
Было тихо. Никто не скулил.
— Пироженка, — позвал я. — Ты заболела?
Она, обычно такая чуткая, не откликнулась. Луна была еще крупной и яркой, как-никак, третий день после ид. В ее свете черные ветви деревьев выглядели еще более зловещими.
Милый друг, ты знаешь, что случилось потом, и знаешь это прекрасно, но я расскажу тебе все равно. Сонный, я принялся искать Пироженку, опасаясь за ее здоровье и, к сожалению, нашел. По другому приметному звуку. Звуку методичной работы. Потом я понял, что это удар ножа о кости.
В лунном свете ее кровь была черной.
Гай сидел на земле и ковырялся ножом в моей бедной Пироженке.
Лицо Гая в своей бледности схоже было с луной. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Зубы — белые-белые.
Сначала я оторопел, а потом кинулся к нему и вздернул его на ноги.
— Ты что, блядь, убил мою собаку? — прорычал я.
— Да, — сказал Гай. — Ты же сегодня тоже убил собаку. Тебе можно, а мне нельзя? Тебе не стыдно, а мне стыдно?
— Маленький урод! — я плюнул ему в лицо и ударил его так сильно, что он повалился на землю, и тогда я стал его пинать. Пироженка лежала тихо и неподвижно.
Слава Юпитеру, я пинал его совсем не сильно — у меня очень болели ноги. Гай не плакал и не кричал, он пытался меня укусить. На крики из дома выбежала прислуга, а потом и мама с папой (вот, все-таки написал именно так).
Нас с Гаем обоих очень сильно наказали, и я с тех пор называл его не иначе как тощей мразью.
В ту ночь, когда я, закусив себе запястье, старался не расплакаться от обиды, у меня все время билось в голове: волчки и овечки, овечки и волчки.
А ведь мудрый у нас был отчим, правда?
Ну, словом, будь здоров.
Послание четвертое: Отжили
Марк Антоний брату своему, Луцию Антонию, человеку злой судьбы, но доброго нрава.
Или наоборот?
Здравствуй, Луций. Как сложно иногда рассудить, кто прав и кто виноват. Я никогда не умел, хотя, думаю, Публий исподтишка пытался меня этому научить: видеть в политике что-то помимо желаний и чувств. Политика была для меня еще одного рода жаждой: есть жажда вина, есть жажда власти, а потому я никогда не руководствовался в ней ни моралью, ни разумом.
И если человек — это политическое животное, то я, смею теперь сказать, неполитическое животное, а значит — просто животное.
И знаешь, что еще я думаю? Публий не хотел, чтобы я занимался политикой, хотя порядочному человеку из влиятельной семьи это полагается. Теперь я думаю, что он был очень прав.
Есть дороги к смерти короче и длиннее, и уж точно — приятнее. Но мало дорог желаннее.
Ладно, милый друг, о чем бишь я? Моя детка, она политик. Хороший или плохой (теперь всем кажется, что скорее второе), но у нее политический ум. Недавно, прямо в постели, она сказала мне:
— Мой красивенький бычок, я очень долго не понимала, как тебя можно любить.
— Да? — спросил я. — А я думал, ты влюбилась в меня сразу.
— Я не удивлена, — сказала она. — Тому, что ты так думал. Нет, это была политика. Сперва. Но женщины, к моему большому сожалению, часто привязываются к тому, с кем делят постель.
— Только к очень хорошим любовникам, — сказал я. Она засмеялась, нежно и мелодично, вовсе не подумаешь, что эта женщина крепче камня, и сердце ее из стали. Она бывает такой мягкой, но это всегда политика.
Теперь она со мной настоящая. И я знаю, что она жалеет о том, что любит этого великолепного Марка Антония. До меня она никого не любила, даже Цезаря, и, хотя моя детка никогда мне этого не говорила, она напугана любовью. То, что для меня равняется пище, для нее — яд. Потому как в ее любви ко мне, как змея в корзине среди спелых плодов, хранится смерть. Она хочет жить без любви, потому что может жить без любви счастливо, а я не могу, и лучше мне не жить вовсе, если я не сумею любить, и никто не будет любить меня.
Думаю, по-настоящему моя детка любила лишь меня и Беренику, свою сестру. Береника была смешная, красивая глупышка, улавливаешь связь?
Невинность глупости, вот что нравится моей детке. Она, будучи среди умнейших людей своего времени, способна любить глупость так сильно, чтобы умереть из-за нее.
Никогда она не смогла бы полюбить Цезаря, как бы ни обманывала себя: он слишком тонок, слишком умен для моей детки.
Ну да ладно, о чем бишь я, скажи мне? Надо думать, о политике. Я никогда не интересовался ею специально до смерти Публия, разговоры о политике заставляли меня зевать, несмотря на то, что тогдашняя римская политика, без сомнения, полна остросюжетных поворотов и интриг. Она меня просто не занимала. Мама политику тоже не любила, относилась к ней очень осторожно и всегда боялась гражданской войны. Молодость ее пришлась на самый-самый пожар террора. Страх, которого она тогда натерпелась, заставлял ее бледнеть от одной только мысли о войне до конца жизни. Но, знаешь ли, если я что-то и понимаю в человеческой природе, то вот что: страх всегда неоднозначен, он скрывает и тайное желание.
Теперь я много думаю об этом. Я не знал страха, потому что у меня не было тайных желаний.
Так вот, мамины страшилки о том, как они с отцом пробирались по лесам, в надежде покинуть Рим, и ветки царапали их лица, а над головами зловеще кружились птицы — они всегда очень впечатляли тебя. Ты просил маму рассказывать эту историю снова и снова, потому что она была о каких-то больших временах и эмоциях.
Сегодняшняя история тебе бы тоже понравилась, если бы ты ее не пережил. Но я хочу рассказать тебе кое-что о маме. Это важно, жаль я не рассказал всего раньше. Я хотел бы услышать, что ты ответишь мне.
Эта история с Катилиной, да. Но для начала: как же мы жили? Если ты помнишь, мне тогда было двадцать лет, и я бездельничал. У тебя в голове бродили удивительные идеи, и я очень рад, что ты так ничего и не узнал, а то, без сомнения, мой милый брат, ты перешел бы в долгий ряд мертвых намного раньше. Что касается Гая, он чуточку выправился, по крайней мере, мы так думали. Знаешь, я так и не смог простить ему убийство моей собаки. И в то же время меня все это занимает: я зарезал белого кобеля, и день мой был полон радости, тогда как ночь наполнилась страданиями, когда я узнал о смерти рыжей суки. В чем между ними разница?
Тебе кажется, что я отвлекаюсь, но на самом деле эта ремарка имеет ценность. Политика то же самое противостояние белого кобеля и рыжей суки. Они равны, вес и ценность им придает лишь их положение по отношению к интересам других.
В общем, я понятия не имел, что делать со своей жизнью, но мне все нравилось. Теперь я понимаю, что Публий не противостоял мне в моем стремлении развлекаться с ночи до утра, потому что видел, что мне не стоит заниматься серьезными вещами, я просто не подхожу для них. Ты же был слишком идеалистичен. Что касается Гая, думаю, именно в нем, достаточно безжалостном и холодном, Публий видел политическую искру. Но Гай был безнадежно испорчен жестокой природой своей болезни.
Так или иначе, мы оказались предоставлены сами себе в выборе своего будущего. А ты прекрасно знаешь, что случается с молодыми людьми, которые предоставлены сами себе. Я, например, дико бухал.
Публий тогда был магистратом, и, что удивительно, держал себя в руках, умудрившись не скомпрометировать себя в плане сирийских проституток до самого конца, в прямом, что называется, смысле. Его возвращение в политику было медленным и неказистым, но Публий в себя верил.
Он не раз говорил мне, что является прирожденным политиком, и это не метафора: трое Корнелиев будут править Римом, и он, естественно, третий. О существовании других Корнелиев Публий в этот момент забывал. Так как предсказание, сделанное непонятно когда и непонятно кем, доставляло ему истинное удовольствие, мы не мешали.
Политическая жизнь Рима на тот момент представляла из себя весьма опасный ландшафт. Для примера мы: многие мамины родственники в гражданскую войну выступали за Гая Мария, тогда как папины — поддерживали Суллу. Наш великий дед был убит Гаем Марием, родственником Цезаря. И при этом мы с Цезарем тоже являлись друг другу родственниками. Ну и так далее, и тому подобное. Понимаешь ли ты, братец, почему мне было это все ужасно скучно?
Всякий раз, заговаривая о политике, необходимо было вспомнить всю родословную собеседника до седьмого колена. Несколько трудоемко для такого импульсивного молодого человека, как великолепный Марк Антоний. И это относится лишь к событиям, разворачивавшимся незадолго до моего рождения и чуть после. От политики в самом ее актуальном виде я отстранялся вовсе.
И, хотя Катилина был у всех на устах уже довольно давно, благодаря его одиозному поведению и сочным скандалам с его участием, и даже несмотря на то, что Публий с Катилиной общался близко, я никогда не интересовался этой персоной и не понимал, чего этот малый со злым, остроносым лицом вообще хочет. Мне нравилась его горячность, болезненная его худоба и бледность усиливали это впечатление жара, не вмещающегося в такое тесное тело. У него были огромные глаза и маленький, все время злобно поджатый рот. Интригующая, но не слишком многообещающая внешность для политика, честно тебе скажу. Можно еще написать прямо на лбу: "я — злодей".
Да, таковы мои воспоминания о Катилине. Но что он говорил? Убей, не помню. По-моему, он все время просил вина, и они с Публием обсуждали, угадай кого? Каких шлюх? Да, сирийских.
Скажу тебе так: если это был шифр, то поистине гениальный.
Как раз тогда Публий снова начал общаться с дядькой. А дядька, кстати говоря, пошел вверх по карьерной лестнице, он, несмотря на его ужасающую репутацию, умудрился стать консулом. Вот, кстати говоря, доказательство того, что внешность имеет значение. Оба, и Катилина и дядька, славились отвратительным поведением, однако дядька умудрился выиграть выборы, благодаря своей красоте и обаянию, и бурлящей энергии, тогда как Катилинина рожа просила кирпича.
Так что, Публий, несмотря на тяжкую обиду, нанесенную ему на свадьбе, решил, что с дядькой лучше дружить. И он снова стал желанным гостем в нашем доме.
Разреши мне напомнить тебе, Луций, про один из его визитов.
Они с Публием возлежали в триклинии и обсуждали что-то чрезвычайное важное, по-моему даже политику. Меня Публий попросил выпить с ними вина, видимо, ожидая, что я послужу ему защитой на случай, если дядька, пьяный, вдруг сделает что-нибудь в своем дядькином стиле. У меня намечалось в тот вечер знатное свидание, и я не мог думать ни о чем, кроме него, так что бездумно лил в себя вино и иногда вставлял какую-нибудь пошлую шуточку из тех, что мы все любили.
Дядька, помню, размахивал руками и говорил о том, что, будь все дело в его власти, он отменил бы все долговые обязательства.
— Мы все, — повторял он с пылом жреца на празднике. — Начнем жизнь с чистого листа! Разве это не то, что прекратило бы кровопролитие? Разве это не то, что спасло бы нас от повторения истории? Никому больше не нужно было бы спасаться чужим добром! Никто не совершал бы преступления во славу золота!
— С этими речами, — сказал Публий, покачивая в руке кубок с вином. — Тебе бы в храм Конкордии.
— Нет! — рявкал дядька, и глаза его сверкали и сияли, весь он был полон энергии. — Как ты не понимаешь?! Все беды из-за непомерных обязательств, возложенных на нас всех. Ты ведь так и не выплатил долг моего брата, а? Молодой Марк и его братья тоже с этим не спешат.
— Всему свое время, — отвечал Публий со своей извечной улыбкой.
— Но это время никогда не наступит. Мы так и будем царапаться, как коты в мешке, пока, наконец, не задохнемся!
— Очень артистично.
— Марк! — дядька обратился ко мне, и меня обдало волной его алкоголической харизмы. — А ты что думаешь?
Я думал о том, как буду разматывать сегодня пояс одной очень красивой девицы, о многообещающих изгибах ее грудей и зада, в конце концов, о том, что винище кисловато, и это нехорошо. И, кстати, а где разговоры о сирийских проститутках?
— А? — спросил я. — Я? Прежде всего я думаю, что…
Еще не зная окончания этой фразы, я рассчитывал внести в нее побольше вводных конструкций. От этого надругательства латинский язык спас ты. Ты ворвался в триклиний в сопровождении двоих наших рабов, отчаявшихся тебя остановить, и грязного старика. Его босые ноги скользили по нашему мраморному полу и оставляли грязные пятна. Он дышал с присвистом, глаза его гноились, а волосы были длинны и спутаны, как шерсть давно не стриженной овцы. Дед был тощ, как осинка, его руки и подбородок тряслись одинаково сильно, и с уголка губ пыталась стечь вязкая струйка слюны, которую он то и дело подтягивал. Ух и красавца ты привел к нам в дом. Я так и замер, потянувшись за оливкой.
Ты, великолепное Солнце, сказал:
— Этот человек просит милостыни! Когда я спросил его, есть ли у него кров, он сказал, что у него вообще ничего нет!
Сколько тебе было, дружок? Семнадцать лет? Да ведь. Ты обрел практически полный контроль над своим телом, больше никаких подергиваний плечами и почти никакой напряженности — здоровый молодой человек, а сколько сил ты потратил на это здоровье. В тебе лучилась и сверкала та же энергия, что и в дядьке, разве что не злая, но такая же беспокойная и болезненная. Я подкинул оливку и поймал ее ртом. Намечалось хорошенькое представление, и я уже едва сдерживал смех. Дядька же сдерживаться не стал, он принялся хохотать и бить себя по коленке, совершенно вульгарно.
— Ой, насмешил, — сказал он. — Насмешил ты меня, Луций! Дай ему милостыню, зачем ты его сюда привел?
Рабы за твоей спиной переглядывались в волнении. Ты сказал:
— Я хочу, чтобы он заночевал у нас. Уже поздно, он замерзнет на улице.
Ты стал вертким, стремительным юношей, везде успевал и отличался несносным характером. А помнишь, какие у тебя к семнадцати годам вылезли веснушки? Мама велела тебе их травить лимонным соком, но они становились лишь ярче.
— Да ладно? — сказал дядька. — Замерзнет на улице? Правда, что ли? Это он тебе так сказал? Гони его в шею! Они все мошенники!
Дед вроде бы не особенно понимал, о чем мы говорим. Я подумал, что он слабоумный.
Публий смотрел на него очень внимательно, потом с улыбкой обернулся к дядьке.
— Ты же сам, дорогой Гибрида, говорил, что прощение долгов — необходимое условие процветания. Разве безденежье для этого человека не такая же тяжкая доля, как для любого из проигравшихся всадников?
— Вероятно, такая же, — сказал я со смехом, найдя шутку Публия действительно отличной. Дядька же ее не понял, он махнул рукой.
— От старика воняет.
— Это все отсутствие средств, оно сделало его таким, — сказал Публий. — Эй, Гемон, подвинь кушетку. Отдохни, отец.
Ты широко заулыбался и бросился помогать Гемону. Ты, братец, наш несдержанный социальный реформатор. Старик, не привыкший возлежать, сел на кушетку, и Публий велел налить ему вина.
— Скажи, отец, — сказал Публий. — Что ты думаешь о долгах? Стоит ли нам всем простить их друг другу? Ты ведь свободен, отец?
Я думал, старик совсем ничего не понимает, но он вдруг сказал:
— Свобода — мое единственное имущество.
Публий покачал вино в кубке. Аппетит у него явно пропал, а вот у меня — нет, я поедал оливки одну за одной, играясь с ними, вечер стал куда интереснее.
Голос у старика был такой скрипучий. Ты, помню, сел рядом с ним и дал ему в руки хлеб из белой муки, которого он, должно быть, не ел никогда в жизни. Старик утер рот и, отламывая от хлеба маленькие кусочки, принялся спешно жевать.
Публий, хоть и потерял аппетит, смотрел на старика, не отводя взгляд. А дядька злился.
— Да посмотри на него! — говорил он тебе. — Это же урод!
— Сам ты урод! — огрызнулся ты.
— Что ты ляпнул только что?
— Тихо, тихо, — сказал я со смехом. — Вы производите плохое впечатление на дедушку.
А ты его, боги всемогущие, обнял, как субститут нашего деда, пепел которого в это время, наверное, бился о стенки урны.
Публий чуть вскинул бровь. Твоя радикальность (противоестественная любовь к нищенствующим, как говорила мама) его пугала и интересовала. Почти так же, как жестокие выходки Гая в детстве.
— Так что, отец? — спросил Публий снова. — Что ты думаешь о долгах? Что бы ты сказал, если бы их простили всем и сразу?
Дед пошамкал губами, пожевал хлеб и сказал, обнажив четыре оставшихся зуба:
— Я бы сказал, что люди справедливее богов.
— Слышали?! Вы слышали, что он лепит вообще?
— Дядька, — сказал я. — Ты так говоришь, как будто ревнуешь.
Тут ты захохотал, что разозлило дядьку еще больше.
— Ты, щенок, — прорычал он тебе сквозь зубы. — Если будешь якшаться со всякой швалью, швалью и станешь!
Оскорбляло это, видите ли, великую честь Антониев, потомственных коррупционеров, развратников и пьяниц.
Публий же свое отвращение, думаю, не меньшее, а, может, и большее сдерживал.
— Спасибо, отец. Луций, вели слугам дать ему денег на ночлег и завтрак.
— Нет, — сказал ты. — Папа, ты не понимаешь, я хочу, чтобы он остался у нас. Ему нужна забота. Он не выживет, если его бросить.
— Так заплати деньги, — сказал я. — Кому-нибудь, кто позаботится о нем. Жалко дедка, действительно.
— Сначала заработай эти деньги, Марк Антоний, — сказал мне вдруг Публий. Я, помню, тогда сильно на него обиделся, знаешь, как это бывает, когда родитель не вовремя бросит тебе замечание, и ты оскорблен навсегда, хотя на самом деле часа на два.
А Публий повернулся к тебе и сказал:
— Если ты считаешь нужным, Луций, то делай так. Но я хочу, чтобы ты не поручал прислуге заботиться о нем, а делал это сам. И ты поселишь его в своей комнате.
У дядьки аж челюсть отвисла. Интересные методы воспитания, видишь ли.
Ты радостно вскрикнул:
— Да!
— А теперь проводи его на кухню. Ухаживать за ним — твоя обязанность, но ты не должен мешать другим членам семьи.
— Каково, а? — сказал я дядьке.
— Кого ты из него вырастишь, Публий? Клодия Пульхра?! Эй, Луций! Если ты будешь потворствовать тупым, ленивым и слабым, ты погибнешь вместе с ними!
Но ты уже не слушал, ты сказал, совершенно беззлобно:
— Бухай, дядька.
— Не выражайся, Луций, — сказал Публий. Когда я тоже встал, он сказал мне:
— А ты куда собрался?
— А, помогу Луцию, — ответил я. — Прошу меня извинить.
На самом деле я пошел собираться на свидание.
Ты же знаешь, никто так и не объявил Гая Антония Гибриду причастным к заговору Катилины, хотя слухи об этом ходили. Да и отношения его с самим Катилиной были крайне неоднозначные. И все-таки я думаю, хотя это и не очевидно, что дядька продолжал ненавидеть Публия и сыграл некоторую роль в том, что случилось позднее.
И, может быть, он избежал суда потому, что рассказал кому-нибудь что-нибудь чрезвычайное важное.
Я не думаю, что желание погубить Публия хоть когда-нибудь, хоть на одну единственную минуту оставило его. Такой уж был человек наш дядька.
Что касается Публия, то он посмеялся над дядькой и сделал какие-то свои, одному мне известные выводы. Знаю лишь, что Публий согласился участвовать в этом деле не сразу. Катилина после того дядькиного визита стал приходить к нам чаще обычного, и хотя я в его обществе почти всегда скучал, когда Публий начал меня отсылать, я снова разозлился. Как так, надоел тебе твой легкомысленный сын?
Но, да, их разговоры просто стали чрезвычайно серьезными.
И все-таки Публий согласился не сразу. Я сам тому свидетель.
Да, дорогой друг, в тот день я возвращался после очередного тайного свидания. Правда, девушка была уже другая. Я прокрадывался мимо спальни родителей на втором этаже, когда услышал мамин плач. Естественно, я тут же прильнул ухом к двери, стараясь не дышать лишний раз и моля Фортуну о том, чтобы не быть замеченным.
Я слышал их разговор частично, мама говорила тихо, так что воспроизведу его так, как помню, несколько додумав, но не переврав (надеюсь).
— Публий, — говорила мама. — Он и вправду обещает, что аннулирует все долги? Если это так, то разве наши проблемы это не решит?
Уж получше, подумал я, чем трое сыновей-бездельников.
Мама тихонько плакала, а Публий молчал.
— Разве это не справедливо? — спрашивала она. — Мой муж нажил столько долгов, что даже мои внуки будут испытывать стыд. Да и ты сам, разве ты не понимаешь, с каким огнем ты играешь, мы ведь практически банкроты?
Об этом я слышал впервые.
— Это наш шанс, Публий, — говорила мама. — Наш шанс.
Если честно, тогда я думал, что говорят они о злобном мужике Гибриде, а не о злобном мужике Катилине. Может, мне вспомнился тот разговор в триклинии.
— Очиститься, — говорила мама. — Наконец, очиститься.
Ты ведь понимаешь, наша мама никогда не была властолюбивой сукой. Она не была жадной. И в тот момент, я думаю, она подстрекала Публия участвовать в заговоре не со зла, а потому, что просто не видела другого выхода в своей по всем статьям испорченной жизни. Она не могла представить себе, как по-другому выбраться из порочного круга долговых обязательств, это было для нее позором и, как и все Юлии, она тяжело переживала постыдные вещи.
Мама чувствовала, что жизнь изваляла ее в грязи, и ей хотелось отмыться, как хочется нам, когда мы грязны физически. Многим никогда этого не понять, но у нее не было никаких амбиций, кроме одной — желания быть чистой.
Думаю, все это произвело на Публия большое впечатление оттого, что мама прежде никогда не лезла к нему с советами и ни о чем не просила.
Она не была из тех жен, что руководят своими мужчинами тайно, на супружеском ложе нашептывая им верное решение. Впервые в жизни она попросила его о чем-то, что казалось ей важным.
Я никогда не сказал ни тебе, ни Гаю, потому что думал, что вы решите, будто она виновата. А теперь мне кажется, что это я так подумал, а вы, особенно ты, Солнце, но, может быть, и Луна, могли бы ее понять. Я хотел сохранить маму от вашего гнева, потому что гневался на нее сам.
Публий ответил:
— Мне нужно хорошенько подумать об этом. Совершенно нельзя решать все это вот так, быстро и эмоционально.
Но почему-то я, еще не вполне осознавая, к чему это приведет, решил, что Публий поддастся ей. Он ее любил, братик, и очень сильно. Думаю, отчасти дальнейшее ее поведение было вызвано именно тем, что она просила его примкнуть к заговору. Ты никогда не знал о том разговоре и тебя, должно быть, мама очень удивила. А меня — нет.
Удовлетворив свое любопытство, я пошел к себе, и об этом разговоре долгое время не думал. А теперь, милый друг, еще одно мое памятное свидание с девушкой по имени Статилия, произошедшее куда позже. Эта девушка была знатной, в отличие ото всех моих предыдущих подружек, и с ней я должен был соблюдать особую секретность. Да-да, она была дочерью Луция Статилия, того самого, который разделил с отцом его смерть. Но я, честно говоря, не знал, что они друзья.
Доченька его была той еще штучкой, яркая, зеленоглазая, с губами такой совершенной формы, что я мог процеловать их вечность и не устать. Помню, как, едва увидев ее, влюбился, и Эрот долго передавал ее рабыне мои записки.
Озорная во всем, она и нашу интрижку воспринимала с непосредственностью и энтузиазмом. Думаю, мы могли бы пожениться, во всяком случае, я когда-то этого хотел. Но после всего случившегося мы не могли друг на друга смотреть. Только раз с тех пор горячо потрахались, но после этого расплакались и расстались. Она тоже очень любила своего бедного отца.
Да ты же знаешь Статилию! Такая красивая, гибкая, смешливая. Я просил Эрота рисовать ее портрет, но он был совершенно лишен дара живописца, и получилось ужасно. Ты хотя бы помнишь ужасный портрет? Ты над ним смеялся.
Так вот, в тот день у нас с ней случился первый раз, как всегда оглушительный — о это священное чувство, когда берешь женщину, которая прежде тебе не принадлежала. Я попал к ней, забравшись на второй этаж по веревке, которую Статилия мне спустила, и почти сразу же накинулся на нее. Статилия едва сумела уговорить меня отпустить ее хоть на минутку и перейти в комнату. Я так изголодался по ней, помню прекрасно, как спазматически она сжимала бедра при каждом толчке, еще слишком тесная для меня, она кусалась и царапалась, а я вертел ее так и сяк, и гладил, и целовал и облизывал, чтобы запомнить ее солоноватый, пленительный вкус надолго. Мы не наигрались, но дух ночи уже исходил, и пришлось расстаться. Помню, когда мы еще развлеклись на прощание, она уже не стонала, а только высунув розовый смелый язык быстро-быстро дышала и улыбалась.
— А если бы ты был плохим в постели, — сказала она невнятно. — Я бы выдала тебя папочке.
— Правда? — спросил я, задыхаясь от любви, и, когда она все-таки застонала, зажал ей рот. — Нет уж, ты расскажи папе! Скажи, что было здорово!
Я смеялся и двигался в ней, и тянул ее густые, волнистые, мягкие волосы.
Потом мы все равно долго лежали прямо на полу, раскинув руки, мы были не в силах еще расстаться. Она все смеялась, зажимая себе рот.
— Ну ты чего? — спрашивал я. — Чего?
Она махала рукой, мол, прекрати меня смешить.
— Да что такое?
— Не знаю, — сказала она. — Просто не могу перестать!
Как же красиво смеялась Статилия.
— Я в такой странной ситуации, — говорила она. — Просто кошмар!
И тут же она поцеловала меня в щеку.
— Ты придешь еще?
— А то? Если не будешь смеяться.
— А если буду? — спросила она, вскинув тонкие брови.
— То я буду кусаться, — сказал я. Она заверещала, и я зажал ей рот снова, и это ужасно меня возбудило, но она принялась меня толкать.
— Нет, нет, нет, Марк! Нет! Иди, иди, скоро утро, ты должен идти! Уходи, Марк, я тебя прошу!
Я не хотел, и все-таки она сумела меня выгнать. Мы снова привязали веревку к колонне, и я спустился вниз, в их сад. Он был такой запутанный и большой, что я, пытаясь выбраться, потерялся, не сумел разобраться в хитросплетении дорожек. Услышав голоса за очередным поворотом, я замер. И, думаю, я немедленно продолжил бы красться в сторону свободы, если бы не услышал голос Публия.
Он говорил:
— Галлам, может быть, и нельзя доверять, но их можно использовать. Главное пообещать им больше, чем они получат, если предадут нас. У них есть одно неоспоримое преимущество: они плевать хотели на политику. Их заботит только вино.
— Как и твоего старшего сынка, — сказал кто-то. Я возмутился, разумеется. Публий продолжал, не обращая внимания на своего язвительного товарища, которому я с радостью начистил бы рыло, но за меня это сделала сама судьба.
Публий сказал:
— Необходимо в первую очередь дестабилизировать положение. Кто как не галлы годятся для этого лучше всего?
Его слушатели согласились. Я стоял, едва дыша. Теперь их разговор с матерью обрел для меня смысл, и я понял его истинное значение. Еще я понял, что Публий говорит о Катилине, который сбежал из города, и которого объявили не так давно врагом народа.
Услышанное меня поразило. Я уже и думать забыл о том разговоре матери и отца, тем более что для меня он был сугубо семейным: отчим, мать и дядька. Враг народа Катилина совсем сюда не вписывался.
А теперь, в закутке сада Луция Статилия, обсуждался переворот.
Я стоял, не дыша, будто превратился в статую, руки и ноги окаменели, мысли не желали повиноваться. Мой отчим говорил и много чего еще: о поджоге Рима, к примеру, и об убийстве консула Цицерона — тоже.
О Юпитер, думал я, куда ты ввязался, Публий, что вообще происходит?
Публий же, с присущим ему дружелюбным спокойствием, говорил все о том же — как устроить в Риме необходимый хаос. Он говорил о гражданской войне.
Теперь ты понимаешь, мама все время боялась гражданской войны, но едва, в числе прочих, конечно, не устроила ее.
Я был удивлен и напуган. Публий всегда казался мне очень разумным человеком. Когда я понял, что ничего нового не услышу, я принялся осторожненько отступать. Зная, какая будет цена у хрустнувшей ветки, я двигался очень осмотрительно.
Дома я не спал, ходил по атрию, и то и дело звал рабов, чтобы они проверили, не идет ли Публий.
Когда он явился, я устремился к нему так яростно, что едва не свалился в имплювий, полный дождевой воды.
— Марк? — спросил Публий так же невозмутимо, как и всегда, улыбнулся мне, не показывая зубов. — Ты еще не спишь или уже не спишь? Думаю, что еще, я прав?
— А ты где шляешься? Не надо мне врать, что ты вышел прогуляться!
Я был уже намного выше и сильнее его, Публий, не очень-то крупный сам по себе, казался почти подростком по сравнению со мной. Когда я схватил его за плечи, он уставился на мой подбородок.
— Какой теплый прием, надо же.
Я наклонился к нему и заглянул Публию в глаза.
— Я считаю, ты совершаешь большую глупость. Но я все обдумал. Мой долг, как твоего сына, помочь тебе во всем. И я с радостью исполню его.
Я поцеловал Публия в щеку и сказал:
— Можешь рассчитывать на мою верность, отец.
Публий вскинул бровь. Надо признать, на его лице ни единая мышца не дрогнула. Иногда я думаю, с таким ли выражением, чуть насмешливым, спокойным и доброжелательным, принял он известие о том, что скоро умрет?
Вероятно, я не узнаю (если только мы не встретимся там, за смертной чертой), однако полагаю, что дело обстояло именно так.
Так вот, в тяжелой предрассветной темени, мы смотрели друг на друга, и Публий оставался человеком, который знает что делает. Вернее, казался таковым.
Я сказал:
— Буду делать то, что ты прикажешь. Ты был ко мне очень добр. Даже, в определенные моменты, неоправданно добр.
Публий засмеялся.
— И избаловал тебя.
— И избаловал меня. Но я не хочу, чтобы ты…
Я не мог этого произнести, язык будто отнялся. Все-таки материнские страхи сидят в нас глубоко. Мне потребовалась смерть Публия, чтобы вытравить из меня этот священный ужас перед гражданской войной.
— Я хочу, — сказал я, решив заменить свое утверждение на позитивное. — Быть тебе сыном, а, значит, быть рядом с тобой и делать то, что тебе необходимо. Я молод и ничего не умею, но я сильный и могу заболтать кого угодно, это два единственных моих достойных качества, прими их в дар.
— Марк, Марк, Марк, — смеялся Публий. — Меньше пафоса. Значит, у тебя роман со Статилией?
— Как ты узнал?
— Точно так же, как и ты узнал то, что узнал. Ты достаточно прямодушен, вряд ли ты стал бы держать такие удивительные сведения, получив их ранее сегодняшней ночи.
— Ну да. Но послушай, ты ведь не думаешь, что я просто позволю тебе заниматься этим в одиночку? Я уже взрослый.
— Ты ребенок, Марк Антоний, — сказал Публий. — И, вероятно, останешься им на всю жизнь. Я люблю тебя именно за это.
— Но не питаешь иллюзий? — спросил я. Публий покачал головой.
— Я думаю, — сказал мне Публий. — Что тебе стоит предоставить паукам плести паутину. Я делаю то, что делаю, ради тебя и твоего будущего. Ради Луция и Гая. И ради Юлии.
— Но я тоже хочу сделать что-то ради тебя, — сказал я с отчаянием. На нас смотрели с разрисованных стен цветные звери, их глаза, казалось, светились. Я чувствовал себя загнанным в угол.
— Тогда молчи об этом, — спокойно сказал Публий. — Молчи, что бы ни случилось. Ни слова никому, ни Луцию, ни Гаю.
О маме он, знаешь ли, не упомянул.
— А я обещаю тебе, что я буду в порядке. И у нас все пойдет на лад. Особенно у меня.
Он ласково улыбнулся мне и добавил:
— Тебе не следует об этом волноваться. У нас есть очень влиятельный покровитель.
Теперь я думаю, что он имел в виду Красса.
— В любом случае, — сказал Публий. — Я почти уверен, что все пройдет хорошо. И тебе тоже не стоит переживать. Просто держи язык за зубами.
И я держал его за зубами, причем очень долго, еще много лет после смерти Публия. Я даже тебе говорю (пишу) об этом только мертвому.
— Поклянись честным именем Антониев, что ты никому не скажешь о том, что сегодня услышал, — сказал мне Публий.
— Было бы чем клясться!
— Я серьезно, Марк.
И я поклялся, самым торжественным образом поклялся, склонив голову и призвав Юпитера в свидетели.
Но, знаешь, что гложет меня до сих пор, уже на пороге собственной смерти. Как ты думаешь, великолепное Солнце, благословленное незнанием, могло ли случиться так, что перед смертью Публий подумал, хотя бы на секунду, что я проболтался хоть кому-нибудь?
Мог ли он подумать, что мой язык без костей привел его к гибели?
У него не было поводов так считать, но все-таки, вдруг.
Легко судить историю из будущего, но и сейчас, зная, насколько ошибочным и нелепым было все предприятие, я думаю, что, может, мне стоило настоять на своем и помочь хоть в чем-то.
В конце концов, таково было последнее дело, которое затеял наш отчим.
Таким образом, только я и, может быть, мама знали обо всем. Публий спешно отправил нас в загородное имение. Как это ни иронично, не так далеко от нас, почти что по соседству, жила Теренция, жена Цицерона, второго консула, которого собирались убить заговорщики. Другим консулом, кстати, был дядька, и о нем, во всяком случае в ту ночь, речи не шло. Понимаешь?
В любом случае, горе уже летало над теми местами и думало, в какой дом ему опуститься.
После шумной и пылающей, всегда насыщенной римской жизни провинция, с ее целомудренными девами, грязным домашним скотом и умирающими полями, показалась мне ужасно скучной. Умиротворяющей, но усыпляющей, так сказать.
Крестьянки не всегда были такими сговорчивыми, как мне хотелось, коровы мычали по утрам и будили меня, в незанесенной стерне полей ничего плохого не было, она просто угнетала меня безмерно, как и все причуды умирающей природы.
Помню еще аллеи (осиротевшие после потери листьев деревья производили такое же гнетущее впечатление), по которым любили разгуливать местные матроны в сопровождении старых рабынь и маленьких детей. Местный воздух по каким-то причинам считался очень полезным.
Мама говорила, что Гаю не помешает им подышать.
— Добрее тощая мразь от этого не станет, — сказал я.
— Не называй брата так, Марк.
— Маленький монстр.
Я Гая не простил, но Гай, знаешь ли, тоже ходил с таким видом, будто ему есть за что на меня злиться. Ты помнишь, какое у него было гордое лицо? Сразу видно: человек себе цены не может сложить. И как он вскидывал брови, когда его звали, будто удивлялся, что к его знатной персоне решились обратиться.
Теперь я люблю все эти воспоминания. Тогда он казался мне раздражающим, а теперь я думаю, что Гай, несмотря на небольшую разницу в возрасте между нами, был тогда очень маленький. Вот и все. Болезнь несколько задержала его взросление.
Я его давно за все детские глупости простил, правда.
Ну да ладно. Я думаю, все вы ожидали от меня худшего поведения. Когда я скучал, я становился невыносим.
Но я держал себя в руках, потому что, в отличие от вас, я знал, что должно было случиться.
В то время я относился к вам с огромной бережностью и нежностью, потому что вы, сами того не осознавая, находились в опасности, и меч, нависший над вами, был вам неведом. А я все знал, и я переживал. Но это были детские волнения и страхи, я не предчувствовал скорую разлуку с Публием, и все ужасы, рисовавшиеся в моем воображении, оказались далеки от реальности. Я, конечно, представлял, что его убьют, и не только его, а и нас в придачу. Но представлял я все как-то по-дурацки, так что сам верил не до конца. Хотя, конечно, по ночам мне не давали покоя навязчивые фантазии о том, как к нам врываются солдаты, и я сражаюсь с ними до последней капли крови с помощью молитв Марсу, ножа и тарелки, может быть, сначала даже побеждаю, но солдат слишком много, и, в конце концов, меч входит мне в солнечное сплетение, и мир начинает меркнуть, а вы кричите и плачете, как дети, хотя что ты, что Гай вполне могли за себя постоять. Но только не в моих снах и фантазиях! Там героем был только я.
Еще одна дурацкая фантазия, представь себе, я больше, чем полжизни не мог ей с тобою поделиться, а теперь делюсь и волнуюсь, как тогда: до чего глупо и весело. Значит, ко мне применяют пытки, словно к какому-нибудь вшивому рабу, ломают мне пальцы, хлещут плетью по спине и говорят мне свидетельствовать против Публия. Но великолепный Марк Антоний несгибаем и, в конце концов, сила его воли ставит на колени даже его мучителей, они отказывают продолжать свое гиблое дело.
Да-да, все серьезно.
И именно цветистая мрачность этих фантазий, их нарочитая кровавость не давала мне поверить в них. Я совершенно не представлял, как все может случиться в жизни, не представлял этот тоскливый ужас: не знать ничего и не знать, когда узнаешь хоть что-нибудь.
А еще, в глубине души я был уверен, что все с нами будет в порядке. Какая-то огромная, счастливая часть меня никогда не верила в то, что может случиться что-то плохое. Даже смерть отца не убила эту часть. Я и тогда думал, что нам повезет. Что Публий справится, потому что он — мой отчим.
Ну да ладно, вернемся к жизни в провинции: она была такой безмятежной, что удар показался всем нам, даже мне, еще более ошеломляющим. Кстати говоря, я помню, что ты взял своего деда. Выбритый, постриженный, он выглядел более или менее прилично, хотя глаз его косил, а подбородок дрожал, и все же твоя работа была заметна. Стало ясно, что никакое это не уродливое создание, а просто стареющий и больной человек. Точно так же, причесанный и хорошо одетый, выглядел бы любой пожилой патриций, чье здоровье пошатнулось. А ведь когда я увидел этого деда в первый раз, меня оторопь взяла.
Разговаривал дед мало, но как изумительно он кидал кости. Я проигрался ему в пух и прах! Помнишь, как мама велела тебе отобрать у деда кости? Так это из-за меня!
Скажу тебе честно, Луций, с такими способностями, не очень-то он в тебе нуждался.
Я к нему привязался, я вообще легко привязываюсь к людям, а вот Гай строил брезгливую гримасу всякий раз, когда его видел. Деда ведь звали Тит, да? По-моему, я так и называл его — старый Тит.
Что касается Гая, ему за городом вообще не очень нравилось, он все время проводил перед телевизором, смотрел мультики про Ромула и Рема и царапал себе костяшки пальцев. Мама говорила ему этого не делать, но он все равно делал, в конце концов, царапины загноились, и греческий доктор велел перевязывать ему руку тканью, смоченной в отваре осиновой коры.
И вот он уже сидит с забинтованными руками и смотрит свои бесконечные мультики, яркие, как цветы в середине лета.
Помню, рабыня как раз меняла ему повязки, а ты уговаривал меня пойти с тобой в лес и поискать какие-то сокровища, о которых тебе рассказала самая старая местная женщина.
— Старуха, — сказал я рассеянно. — Это называется старуха.
Я в то утро чувствовал себя неважно — подрался с какими-то деревенскими молодчиками, да и от крестьянского вина раскалывалась голова. Наша повариха готовила патину с грушами, и пахло на весь дом, очень сладко и приятно.
— Гай, — крикнула мама. — Иди есть. Все почти готово!
Но он сказал:
— Еще минутку.
Я вдруг тоже обратил взгляд на экран, не знаю, почему. На экране Ромул и Рем (авторы мультика нарисовали их антропоморфными волками) с шутками и прибаутками строили укрепления вокруг Палатина.
— Сколько можно смотреть телевизор? — спросила мама. — Ты испортишь зрение, Гай.
— Тощая мразь все, что угодно может испортить, — сказал я.
— Марк!
— Что, Марк?
Как причудливо играет иногда с нами судьба, правда? Гай, недовольный, встал, запах патины с грушами усилился невероятно, и я облизывался, предвкушая отличный завтрак, ты дернул меня за ворот туники, я обернулся к тебе и сказал:
— Ладно, ладно, сходим, к бабке старой, к кому угодно!
— Да не к бабке! В лес! За сокровищами! И Гая возьмем!
— Тощую мразь?
Я обернулся к нему, в этот момент Гай наступил на пульт, валявшийся на полу, и случайно переключил канал. Показывали новости, и мы увидели кадры задержания заговорщиков. Публий шел первым в сопровождении самого Цицерона. Он улыбался прямо в камеру и, насколько я могу судить, оставался абсолютно спокойным.
— Магистрата Публия Корнелия Лентула Суру, — говорил диктор. — Препроводил на экстренное заседание сената консул Марк Туллий Цицерон.
— О боги, — сказала мама. Мы с ней переглянулись, будто мгновенно признались друг другу в том, что все знали.
— Проворовался, что ли? — спросил Гай, склонив голову набок. Он чуть отошел, чтобы нам было видно экран.
— Пропал, — сказала мама. — О Юнона Регина, сохрани его!
Я ясно видел лицо Публия, четко слышал слова диктора о заговорщиках, связанных с Катилиной, которые готовили государственный переворот. Но я все равно не верил, и не мог заставить себя поверить. Ведь, в конце концов, все произошло так просто и внезапно. Безо всякого шума.
Как я узнал потом, Публий и его доблестные союзники сами создали компромат, который их и погубил — письма галлам, которых уговаривали поучаствовать в их маленькой политической трагедии.
Очень глупо. Но глупости глупы всегда только из будущего. Иначе бы их никто не совершал в настоящем, правда?
— И что теперь будет? — спросил ты, так и не выпустив ворот моей туники, очень редко, во время страшных волнений, тебя еще дергало, мышцы ужасно и болезненно сводило, и теперь я чувствовал напряжение твоих рук, потому что ты меня не отпускал.
Я сказал:
— Ну, суд будет. Может быть, его изгонят.
— Мне должны разрешить отправиться с ним! — сказала мама.
— Вряд ли, — ответил Гай. — Но мы сможем его навещать, так?
И на секунду я вдруг увидел прежнего Гая, нашу Луну еще не в кровавом тумане. Он был взволнован и опечален совершенно искренне.
Я сказал:
— Конфискуют имущество. Наверное.
Да, в тот момент меня это волновало.
— Но ведь его не…
Я засмеялся.
— Мама, ну ты что? Он римский гражданин, а сейчас не времена Мария или Суллы!
Я и сам, несмотря на свои кровавые фантазии, в это верил. Эти волшебные слова "римский гражданин" значили очень многое. Нет, разумеется, изгнание на какой-нибудь маленький остров грозило Публию смертью не менее неизбежной, а, может, и более мучительной, но отложенной во времени, может быть, очень надолго. Сама мысль о казни казалась мне диковатой, хотя именно об этом я все время и размышлял.
Я вспоминал лицо Публия — доброжелательное, спокойное лицо, и утешал себя этим образом. Никак не может человек, знающий, что он идет на смерть, выглядеть именно так.
Нам подали завтрак, но есть никто, кроме меня, не стал. Мама роняла в тарелку слезы, Гай с отсутствующим видом глядел в экран, а ты весь дрожал. Ты вспоминал отца, так? Ты вспоминал, как его привезли. Я мог прочитать это по твоим глазам.
Я сказал:
— Давайте успокоимся. Прежде всего к этому нужно подойти с ясной головой.
— Я поеду туда, я поеду и буду просить за него! — мама вскочила из-за стола. Столь решительные, резкие жесты были ей вовсе не свойственны. Даже раздумывая о нашем убийстве, она вела себя очень спокойно. А тут вдруг с ней случилась истерика, и она вцепилась себе в волосы. Я вспомнил ее на похоронах отца: та же картина. Разве что на похоронах вести себя так — принято, женщина, вцепляющаяся себе в волосы и в лицо ногтями, вызывает только сочувствие. Тогда как сейчас ничего еще не случилось на самом деле, и я испугался за мамино душевное здоровье. Я усадил ее на стул.
— Успокойся, родная, — сказал я, поцеловав ее в макушку. — Кто будет тебя слушать? Нам не нужно сейчас там быть. Публий бы этого не хотел. Иначе бы он нас сюда не отправил. Правильно?
— Теперь-то, — говорила мама. — Теперь-то все кончено!
— Нет, — сказал я. — В определенном смысле — нет. Сейчас будет суд. Послушай, он выкрутится! На него постоянно подавали в суд, а ему хоть бы что! Он умеет себя защищать, и сделает это получше нас с тобой!
Я прекрасно понимал, что могу приехать туда и постараться достать Публия. И понимал, что я его не достану. Что я сделаю то, чего он бы не хотел — попаду в беду, ничего не добившись. Реальность вдруг оказалась крайне отличной от страха или мечты, от всего вообще, что происходило в моей голове.
Помню, тогда реальность показалась мне мучительно серой — просто специальный репортаж, нудный голос диктора зачитывает имена заговорщиков. Нет тех надежд и ужасов, которые слышались мне в их голосах, когда я застал заговорщиков в саду. Нет моих безумных страхов, и нет места для пустого геройства.
Ты считал меня трусом? Ты ведь кричал, что хочешь туда, поедешь туда, любой ценой, и неважно, что будет. Ты кричал, а я тебя держал, и я даже дал тебе по морде, а мама плакала, а Гай качался на стуле.
Я рявкнул:
— Никто никуда не поедет!
Ты считал меня трусом, скажи мне честно, милый друг? Я правда готов был умереть в любую секунду.
Но я знал, что во всем этом просто нет смысла. Сделанное, сделано. И точка.
Дорогой мой, звучит как великолепная отмазка, правда? Но я клянусь тебе, мое сердце было исполнено злобы и желания мести, которое я, когда час пришел, осуществил безо всякой жалости.
Но в тот момент я повел себя не как я, не со свойственной мне горячностью. Я, дорогой мой, повел себя как Публий. Не знаю, как это вышло.
Я повел себя так, как он бы хотел и, более того, на моем месте Публий поступил бы именно так — вот что важно. Единственный способ не подвести его был такой: стать им.
Ты мне, наверное, не поверишь, но тогда мне на секунду показалось, что я одержим им, словно неким духом. Между нами была длинная и невидимая нить, дернув за которую, я мог почувствовать, чего он хочет от меня.
И в этот момент я подумал: да, он отец мне.
Я повел себя по-взрослому, и, хотя мы долго ругались, мне удалось всех вас успокоить.
Теперь мы все сидели у телевизора и ждали новостей.
О боги, в тот день разразился страшный зимний дождь со снегом, и незанесенная стерня полей, которая не давала мне покоя, наконец, нашла оказалась укрыта.
— Как холодно, — говорила мама. — Хотя затопили так жарко.
И правда, я тоже чувствовал этот холод.
Самые тяжелые минуты были те, в которые никаких новостей не было. Слава Геркулесу, что таких минут было немного. То и дело что-то сообщали: то нашли склад оружия заговорщиков, то выяснили их планы по поводу убийства Цицерона, где, как и когда оно должно было совершиться, то нашли какие-то новые неоспоримые доказательства, очередных свидетелей.
— Один из заговорщиков, — вещал диктор, и камера брала крупным планом храм Конкордии. — Согласился выдать планы своих сообщников в обмен на личную неприкосновенность.
Почему-то я был уверен, что это не Публий. Странно, почему это? Поступок весьма в его стиле. Думаю, все дело в той невидимой связи, которая наладилась между нами. Совершенно мистическая вещь, учитывая, что нас не связывает кровь.
Сначала шел снег, потом его сменил дождь, да такой сильный, что новым Девкалиону и Пирре пора было подыскать себе гору повыше. Потом ливень угас, и снова повалил снег. Хлопья его таяли в глубоких лужах. Когда не показывали новости, я не мог усидеть на месте и выходил на порог, подышать воздухом. Все было черным и белым, таким контрастным.
Я возвращался, и все становилось еще чернее и еще белее — черные-черные заговорщики и белый-белый Цицерон в красивом плаще спасает Рим.
Так прошли сначала одни сутки, а потом вторые. Заговорщиков схватили утром третьего декабря, а пятого началось заседание, на котором собирались определить меру пресечения.
Сколько мы спали? Я, может, час два. Ты и мама и того меньше. А Гай не спал вовсе — под глазами его залегли такие темные тени, что казалось, будто по черноте они могут сравниться с грязью за порогом. Лицо же его стало белым, как снег.
Гай, наша Луна, в какой-то мере всегда оставался для меня загадкой. Не удивлюсь, если он переживал все происходившее еще тяжелее нас.
Журналист ловил входящих в здание храма Конкордии (колонны его были такими белыми, что резало глаза, вернее, они вдруг показались мне таковыми) сенаторов и задавал им один и тот же вопрос:
— Какое наказание, по вашему, необходимо назначить заговорщикам?
Мы вздрагивали каждый раз, когда он это произносил. Наказание, да.
Катон, чьи и без того грубые черты лица были искажены злобой, говорил:
— Мы будем требовать высшей меры наказания для преступников. Измена Родине может караться лишь одним способом.
Надо же, подумал я рассеянно, я теперь сын изменника. А что до благих намерений и хороших мотивов? Никто о них не упоминал, все костерили Кателину и обещали добраться до него в ближайшее время.
Мурена сказал:
— Не сомневайтесь, приговор будет самым жестким, в рамках закона, конечно же, но жестким.
Все они смотрели в камеру угрожающе, будто бы посылали молнии самому Катилине, собиравшему войска за пределами Рима. Или нам, например.
Только молодой претор будущего года, Гай Юлий Цезарь, сказал вот что, в том числе, как мне показалось, и нам лично:
— Мы будем требовать высшей меры наказания, возможной для гражданина. Вне зависимости от тяжести преступления заговорщиков, решение о казни может принять лишь народное собрание. То, что отличает нас от заговорщиков — желание действовать в рамках закона. Мы должны обеспечить их права, в том числе и право обратиться к народному собранию. Сознательность и приверженность традиционным римским представлениям о свободе требует от нас последовательности.
Сколько ему в то время было? Тридцать шесть или тридцать семь? Не помню и не могу сосчитать. Помню длинное, красивое и благородное лицо, прозрачные глаза. Цезарь показался мне очень похожим на маму, я даже обернулся, чтобы посмотреть на нее и сравнить — да, тот же оттенок глаз, те же тонкие брови, тот же длинный абрис лица. Она могла бы сойти за его родную сестру.
Он мне сразу очень понравился, вызвал искреннюю симпатию своей холодной рассудительностью, отсутствием всякой злости и… сочувствием? Во всяком случае, мне так показалось.
— Нет, — сказала мама, когда последний сенатор вошел в храм. — Нет, не могу смотреть.
Я обнял ее, а Гай выключил телевизор и уставился в черный экран.
Ты сказал:
— Но ведь есть же закон Семпрония!
Помолчав, ты добавил:
— И Катилина.
— Да, — сказала мама. — И Катилина.
Она, всегда такой ужас испытывавшая при мысли о войне, вдруг страстно ее захотела. Она представляла, как солдаты Катилины ворвутся в город и вызволят Публия. Но это были фантазии, в сущности, не так сильно отличавшиеся от моих.
— Все, — сказал я. — Давайте-ка отвлечемся, проведем как-то время.
Мне хотелось кричать и плакать, но я должен был быть Публием до конца. И я должен был улыбаться.
Как мы провели этот день, почти не помню. Помню разве что: я сохранял спокойствие, которому позавидую сам много позже, например, сейчас. Но, в целом, разве не считаешь ты, что в горе я, неожиданно, нахожу успокоение и достоинство? Такой разнузданный обычно, норов мой вдруг смиряется. Это от Публия, я верю, невидимая нить в этот момент снова связывает нас.
Что же мы делали? По-моему, играли в кости на желания, и даже было смешно. Мне невероятно везло, сложно представить, но раз за разом выходила "Венера", тебе же доставались одни "собаки". И я развлекал всех, задавая тебе задачки вроде проехаться верхом на свинье или поцеловать корову в нос, или пройтись по забору вокруг всего поместья (невероятно сложная задача, учитывая, что камень стал скользким).
К вечеру мама снова рванулась к телевизору, но я мягко ее перехватил, остановил.
— Подожди, — сказал я. — Мы узнаем все завтра. Мы будем меньше мучиться, если все плохо и больше радоваться, если все хорошо. Дай нам время.
Ты сбегал в пристройку, где жил наш греческий доктор, и принес маме какой-то отвар или настойку, выпив эту гадость, она крепко заснула.
А мы сидели втроем и смотрели на мертвый и пустой черный экран телевизора.
— Как думаете? — спросил ты. — Мы заснем?
— Я — нет, — сказал Гая. Я зевнул, и вы неодобрительно посмотрели на меня.
— Что? — спросил я. — Тело есть тело, что поделать. Спать хочу — не могу. Сейчас умру!
И мы втроем захохотали так громко, что перебудили, должно быть, весь дом. Кроме мамы, спасибо настойке.
— Я сейчас умру, — хохотал Гай. — Не могу! Умрет он!
Да уж, мы встретили горе, как и полагается Антониям — дурацким смехом.
Наконец, мы разошлись, у выключенного телевизора остался лишь Гай и торжественно пообещал его не включать.
Я все равно думал, я не засну, все буду думать, как сложится судьба Публия, но прикосновение Гипноса отправило меня в мир без Танатоса.
Разбудил меня стук в дверь, очень-очень громкий. Ты наверняка помнишь этот звук. Уверен, даже если не помнишь больше ничего — его помнишь.
Сначала я подумал, что этот стук — остаток липкого сна, но он повторился, уже совершенно реальный и — еще громче. Не стук — удар в дверь. Будто кто-то всем телом кидался на нее. Сердце мое забилось горячо и жарко, я вскочил с кровати и побежал вниз по лестнице, в передней уже собралась прислуга, вы с Гаем стояли у двери, и я ринулся к вам, испуганный неизвестно чем, с криком:
— Вы чего обалдели?!
Не открывайте.
— Но там…, — начал ты, и тебя передернуло так, что я подумал, будто у тебя начинается припадок.
— Публий, — закончил Гай. — Я видел его силуэт.
— Что?
Снова удар, дверь вздрогнула, а огни в лампах рабынь задрожали.
— Юнона Охранительница, — зашептала Миртия. — Обереги нас от зла и мерзости!
— Тихо, — сказал я, и, оттолкнув вас, подошел к двери. Первое, что я почувствовал — запах. Сладкий-сладкий, как очень концентрированная ваниль, и в то же время внутри — непередаваемо мерзкий, это был запах гнилой крови, запах, который я узнал по-настоящему много позже. Благовония маскировали (лишь слегка, от чего на самом деле пахло еще ужаснее) гниение.
Знаешь, с тех пор мне часто казалось, что это мой запах. Что эта гниль под сладостью настолько моя суть, что становится еще страшнее при мысли о том, кто тогда приходил.
Этот мерзостно-сладкий запах забрался ко мне в ноздри, и по ним вниз — в легкие, а затем в сердце, наполнив его отвращением и тошнотой. Запах разложения, замаскированный чем-то аппетитным все усиливался.
— Пиздец какой, — сказал я. Думаю, даже Миртия, которая сквернословия не любила, была со мной согласна. Снова удар, кто-то всем телом навалился на дверь, да еще и со всей силы. Ему должно было быть очень-очень больно. Или как?
Я глянул, как подпрыгнул засов, и прижался к двери.
Пойми меня правильно, я бы никогда не стал глядеть в смотровое окошко, я себе не враг. Но щель в дереве, длинная и тонкая, пропускала немного света. И, прижавшись к двери, чтобы удержать ее, я увидел его глаз. Живой карий отблеск. Я уверен, это был его глаз.
Рабыни плакали, ты вцепился в подоконник.
А Гай сказал:
— Может, откроем?
— Откроем, мать твою, — сказал я.
— Но это Публий.
— Это не Публий.
Или уже не Публий. Объяснение могло быть лишь одно — ларва. А у этого в свою очередь тоже могло быть лишь одно объяснение. Я снова посмотрел в щель. Я ожидал увидеть мерзкую плоть призрака, съедаемого личинками, но увидел только тот же карий отблеск родных глаз.
Я застонал, и следом за этим раздался еще один удар, я навалился на дверь, вцепился в засов, не давая ему соскочить.
— Закройте все окна! — рявкнул я. — Везде!
Запах все усиливался и усиливался, мне показалось, что сознание уплывает.
— Публий, — говорил я. — Публий!
Потому что это были его глаза, я верю.
Разве тебя удивляет, что дух его стал ларвой после столь позорной казни?
Вдруг я услышал звук, похожий на мычание, но растянутый бесконечно надолго, так что у коровы воздуха бы в легких не хватило столько мычать. Монотонный звук сливался с запахом, ты зажал уши, Гай зажал нос, а я щекой прижался к двери, в отвращении и страхе, но и с надеждой увидеть еще раз живые или мертвые глаза моего отчима.
Случился еще один удар, сильнее прошлых, засов, и без того расшатанный, слетел с отчаянным звоном, и между домом и ларвой остался только я.
— Марк Антоний, — сказали мне. Это не был голос Публия, хотя его обладатель и старался воспроизвести нечто похожее. — Открой дверь, Марк Антоний.
Голос смаковал мое имя, мне подумалось (бредовая идея, правда?), что он его жевал. Голос позвал меня еще раз и затих. Стало так тихо, но запах не уходил. Вы с Гаем смотрели на упавший засов так, словно он был живым существом, или мог в любой момент обернуться змеей, или что-нибудь в этом роде.
— Марк, — сказал Гай, но я покачал головой. Запах был так силен, что меня едва не вырвало. Я еще раз заглянул в щель и увидел этот глаз близко-близко, так, рассказывал я тебе потом, мне даже показалось, что я вижу попавшие в щель ресницы. Еще я увидел очень розовый язык.
А вот это неправда. Язык его должен был быть синим. В тот момент, когда я это все увидел, раздался последний и самый сильный удар, мне стало больно, по всему телу будто прошел звон, в голове посинело. Серьезно, весь мир стал синим, будто в дымке рассвета.
Я едва не упал, но все-таки нет. А кто знает что было бы, если бы я упал?
Вдруг запах исчез, а вместе с ним исчезло вообще все происходившее, так, словно бы оно приснилось всем нам.
Я медленно сполз по двери вниз и сказал, будто ничего не было.
— Тощая мразь! Включи телик.
И Гай побежал за пультом. Ночные новости, одни и те же по всем каналам. Самодовольное, но бледное лицо Цицерона, который говорит одно и то же:
— Отжили.
Без пояснений.
Это уже завтра пустили ролик, в котором сообщалось, что заговорщиков удавили в Мамертинской тюрьме. А тогда — одно единственное слово.
Ах ты бедная мразь, Цицерон, думал я рассеянно, я же съем тебя заживо. Хорошая могла получиться шутка, учитывая мой зверский аппетит, но я никому ничего не сказал.
А самое сложное было не смотреть на его труп (синий язык, выпученные глаза, лицо почти фиолетовое) и думать, что ты когда-то это любил, и не смотреть на погребальный костер и знать, что не увидишь больше даже такого страшного лица, и не хоронить урну, навсегда погребая эту историю.
Самое сложное было сказать маме утром.
Она будто с ума сошла, принялась кричать и царапаться, кинулась на пол, стала биться головой. Я поднял ее и удерживал, а она колотила меня по лицу, по шее, по макушке, совершенно не жалея.
Вы с Гаем тоже пытались ее удержать, но мать стала такой сильной. Вырвавшись, она выбежала на улицу, и тогда мы с вами увидели трех мертвых коров. Кто-то выпустил их из теплого хлева, и теперь они лежали во дворе. На них не было ран или чего-то подобного. Они просто были мертвы, словно их всех хватил удар. Рыжие коровы среди снега и грязи казались яркими, почти красными.
Мы смотрели на них, как громом пораженные. Мама на трупы коров не обратила внимания. Она и вчера не проснулась от того страшного стука. Пока мы смотрели на коров, пребывая в священном страхе, мама убежала.
И хрена бы мы, милый друг, нашли ее, если бы она не голосила так громко. Мы побежали за ней и нагнали ее, когда она уже была практически у дома Теренции, жены Цицерона.
Помнишь ли ты это ужасное зрелище? Мама плакала, и падала в мокрую грязь, и месила ее руками, будто тесто, пытаясь подняться. С кончиков ее распущенных волос стекала вода. Она причитала, и мы не понимали ее слов. Светлая шерстяная стола на ней стала почти черной.
Она вцепилась в калитку поместья Цицерона и завыла:
— Теренция, во имя Юноны, помоги мне!
Мы побежали за ней. Я почему-то рассуждал очень спокойно. Ну вот, подумал я, еще один позор на наши головы. Не страшно, в конце концов. Страшно другое, но о страшном лучше не думать.
В голове у меня все всплывала эта картинка: рыжие коровы на белом снегу среди черной грязи.
— Теренция! — кричала мама. — Это я, Юлия! Ты меня знаешь, Теренция! Ты знаешь меня, и ты выйдешь!
Наконец, мы с тобой подхватили ее, а Гай замахал привратнику Теренции, мол, все нормально.
Вдруг Теренция вышла на порог, в длинной нарядной столе темно-синего цвета, с платком на голове, она выглядела такой царственной, но лицо у нее было бледное и напуганное.
Мама кричала и билась в наших руках.
— Пойдем, мама, — сказал я. — Пойдем.
Я взял ее на руки, и она завопила.
— Теренция, твой муж должен отдать мне тело моего мужа! Почему он не отдает мне тело моего мужа?!
Теренция прижала руку к полной груди.
— Ради Минервы, Юлия, мой муж не станет препятствовать родственникам в погребении! Я знаю это!
Мама у меня на руках вопила так, будто тело Публия уже сгнило в подвалах Мамертинской тюрьмы. А прошло ведь меньше суток. С чего она вообще взяла, что Цицерон не отдаст тела?
— Собирайся, — сказала Теренция дрожащим голосом. — И езжай в Рим. Там тебе отдадут тело твоего мужа!
Она ужасалась, но в то же время я видел тайный восторг. Не злорадный, нет, просто восторг человека, который видит нечто невероятное: благочестивую и славную Юлию, извалявшуюся в грязи, вопящую нечто сумасшедшее и вырывающуюся у сына из рук.
О, думаю ей было что обсудить с другими именитыми матронами. Мне хотелось плюнуть ей в лицо: политически подкованная сучка, она наверняка все знала, и, может, на что-то повлияла.
Но вместо этого я просто перехватил нашу бедную маму поудобнее и понес домой.
Теперь, думаю, ты лучше понимаешь, почему мама тогда так сошла с ума. Груз вины непомерен, он тяжелее груза горя, а вместе они придавливают человека к земле как ничто другое.
А я люблю тебя, и я скучаю. Я не отказался бы от того, чтобы увидеть тебя и злым духом. Даже мертвый, ты очень желанный гость в моем доме.
Твой брат, великолепный Марк Антоний.
Послание пятое: Всех веселее
Марк Антоний брату своему, Луцию, туда, откуда нет возврата.
Вчера столько написал, а все равно, милый друг, не написал всего. И как так всякий раз выходит? Я читал письмо моей детке (надеюсь, ты меня простишь), и она сказала, что не верит в то, что в ночь смерти Публия к нам пытался проникнуть его злой дух. Она большая упрямица — не верит на слово практически ни во что.
Она говорит, что то был только ветер, и Гаю привиделось, потому что он не спал третьи сутки, а он уже накрутил нас с тобой. Отчасти ведь правда то, что мы, милый друг, очень легковерны.
И, может быть, от общего напряжения в доме мы так легко прониклись страшной историей.
— Или, — сказала она задумчиво. — Ваших коров одолела неизвестная болезнь, и они в приступе паники и страха сбежали из стойла, пробив загородку. И одна из коров, слабея, ломилась к вам, потому что от дома шло тепло, а ей было одиноко и страшно. Как тебе такой вариант?
И вправду, коровы сбежали из стойла и умерли во дворе, но все сразу? Не знаю. Я промолчал, а моя детка продолжала.
— Может, ты видел глаз животного. У коров карие глаза. Только-то и всего. А сознание твое дорисовало этот глаз, придало ему любимый облик.
— А то, что я слышал? Голос, мое имя?
— Тебе послышалось, вот и все. Это от горя
Звучит крайне логично, правда? Я — единственный оставшийся в живых свидетель того происшествия (если не считать рабынь), и мне не с кем посоветоваться. Интересно, что бы сказал по этому поводу ты? Как ненадежна моя память, когда ее не с кем сверить.
Кто знает, может быть, все было так, как говорит моя детка, но ведь ее там не было, и она не видела того, что видели мы.
Для нее мир совершенно пуст, а я смею надеяться, что ты однажды, хоть злым духом, навестишь меня, мой брат, и тебе я открыл бы ворота, даже если бы за тобой вошла вся армия Октавиана, и принял бы любую смерть, которую ты из мести предложил бы мне.
Покамест мои надежды не оправдываются, и правда остается за мой деткой. Может, и тогда не случилось ничего сверхъестественного, просто напуганная корова колотилась в дверь и снесла засов. То, что я видел, в любом случае остается таким зыбким. А что запомнил Гай?
Не знаю. Но ведь Гай не самый надежный свидетель, ему могло привидеться все, что угодно, и его слова подготовили мое сознание к желанной и страшной встрече с отчимом.
Но все не так важно, если я помню события той ночи именно так, как помню. Для меня произошедшее реально. А если и нет, то страдающее от болезни животное, ломившиеся в наш дом в миг смерти Публия — не менее страшное совпадение.
Мы сразу же вернулись в Рим. С лица у меня еще долго не сходили царапины, оставленные мамой, и я носил их, как клеймо нашего позора.
Цицерон без разговоров отдал нам тело Публия, хотя и рекомендовал, чтобы похороны прошли тихо и незаметно.
Помню, ты долго его разглядывал, куда дольше меня (я не хотел запоминать отчима таким). Ты спрашивал, как это возможно, чтобы он был на себя так непохож.
— Практически другой человек, — говорил ты. Я не знал, что тебе ответить. А Гай с радостью вызвался пояснить, он любил говорить о смерти.
— Его голова наполнилась кровью. Это синее — гнилая кровь. Кроме того, у мертвых нет мимики. Совсем. Мы знаем человека по мимике, по характерным выражениям лица, даже спящие могут казаться нам странно непохожими на себя.
Сколько ни видел я мертвых за свою жизнь, в общем и целом, теория Гая подтверждалась. Все они казались мне совершенно чужими, как бы близки мы ни были. Я никогда никого не знал настоящим, без маски. И можно ли так близко кого-то знать?
Узнаю ли я свою детку, когда убью ее?
Для меня в этом наиболее трагичная часть смерти — разлука наступает не в пламени погребального костра, а сразу, в ту минуту, когда исчезает лицо, которое ты знал. Я не видел твоего тела, мой хороший, и я не жалею об этом. Для меня ты вечно живой, не снимавший маску.
Так или иначе, мы похоронили Публия тихо и скромно. На какие-либо другие варианты у нас, в любом случае, не было денег. Скажу тебе так: Публий, во всяком случае, не оставил нам долгов.
Впрочем, у нас все еще оставались свои. Мне досталась часть состояния Публия, но ее было слишком мало, чтобы погасить хотя бы половину долгов. Я решил и не начинать.
Я разобиделся на весь мир. Мама как-то сказала мне:
— Ты решил жить в стране, где все долги списаны?
Да, я так и решил. Потому что в этой стране с Публием все было бы в порядке. Неожиданно я стал главой семьи, все по-настоящему: я оказался опекуном моей матери, и теперь я обязан был ставить свою печать на все платежные документы, в которых мама разбиралась куда лучше, чем я, и, подмахивая их не глядя, я никогда не давал себе труда вникнуть.
Как-то раз я попытался разобраться во всем этом, но только голова разболелась, ничего кроме. Впрочем, вряд ли вы с Гаем справились бы лучше. Судьба нашей матери: три сына, и ни одного толкового. Впрочем, разобраться со всем, что на нас навалилось, мне было так трудно еще и потому, что тогда я постоянно чувствовал себя очень плохо.
Было гораздо сложнее потерять отчима, чем отца. Может, это возраст. В двадцать лет смерть становится реальнее, чем в двенадцать. Теперь к пустоте в груди, звенящей боли, которую наверняка способно испытывать и животное (у меня, во всяком случае, ощущение, что этот ужас, эта тяжесть — всеобщая, живое реагирует так на мертвое, и только-то) добавилось осознание, что этого человека нет и не будет больше в моей жизни. Я никогда не услышу его шуток, никто не назовет меня Марком тем же насмешливым и добрым тоном. Некому больше дать мне совет. И вообще ничего не повторится.
От этой боли я уже не мог просто убежать, она не желала проходить, и невидимая нить между мной и Публием на самом деле не хотела рваться, но так как она привязывала меня к трупу, то и я гнил.
Причем, мне кажется, кроме тебя и нашей Луны, Гая, никто не мог заподозрить, как мне на самом деле больно, даже (и в особенности) мама. Тогда она окончательно во мне разочаровалась. Да и причин у нее на то нашлось более, чем достаточно.
Выглядело все так, словно мне плевать на Публия, и меня заботит лишь, где бы сегодня выпить и в чьей постели выспаться. Я казался всем очень веселым. Отрастил бороду, вместо тоги носил плащ на греческий манер и играл в Геркулеса. Плащ, яркий и дорогой, достался мне от отца, думаю, долги за него до сих пор не были выплачены. Геркулес или нет, а пил я так, словно во мне текла кровь бога. Я все время ходил полупьяный, веселился без отдыху, шутил, хохотал, заводил романы, уезжал без предупреждения и возвращался без медяка в кармане, проигравшись под ноль. Никто не мог со мной сладить, особенно мама. Для нее я был в постоянно приподнятом настроении, такой необычайно смешливый, словно мы переживали лучшие мгновения нашей жизни.
Мама совала мне под руку документы и просила поставить печать, а я был слишком пьян, чтобы ее найти. Жалкое зрелище.
Как-то раз Гай сказал мне:
— Мама не поймет.
— Чего? — спросил я, зевая. Проснулся я около часу дня, и солнце причиняло мне невыносимую боль.
— Тебя, — сказал Гай. — Она считает, что тебе не больно, что ты просто идиот.
— А я кто? — крикнул я Гаю вдогонку. — Кто еще я по-твоему?
Кажется, я даже что-то в него бросил. Тогда я бы ни за что не признал, что мне больно. Наоборот, всеми силами я стремился показать всему миру, что мне не бывает больно. Я кутил и веселился, что еще требовалось мне, чтобы быть непобедимым? Изо всех сил мне необходимо было оставаться великолепным Марком Антонием.
Это оказалось сложно. Нас в то время никто не любил, мы были бедны, наш отец был неудачником, наш отчим был изменником, наш дядька был полным мудаком, которого ненавидели даже те, кому были безразличны политические дрязги.
Кстати говоря, ты помнишь, что ответил дядька на мое письмо о смерти Публия?
"Туда ему и дорога.
Гай Антоний Гибрида".
Я написал ему:
"Отсоси."
И плюнул в лицо гонцу. Это тоже было больно, потому что я до самого конца, дольше всех на свете (уж точно дольше тебя), восхищался дядькой, его прямотой, энергией и наплевательским отношением к обществу.
Впрочем, до знакомства с Клодием Пульхром я понятия не имел, что значит выражение "плевать на общество".
Мама долго плакала: как я мог написать такое ему, действующему (еще чуть меньше месяца) консулу. Но дядька, оценив, видимо, мою наглость, столь похожую на его (дядька мог ценить в людях только собственные качества), меня проигнорировал.
Был и еще один родственник, которого я люто ненавидел после истории с Публием. Тот самый Луций Цезарь, который и свел маму с отчимом. Этот урод написал маме длинное письмо, в котором извинялся, что познакомил ее с Публием, и признавался, что он очень разочарован в Публии и никак не ожидал от него такого.
Луций Цезарь был одним из тех, кто голосовал за казнь заговорщиков, как ты знаешь.
Я возненавидел его в ту же секунду, когда узнал об этом, почти так же страшно, как Цицерона. Мама ответила Луцию Цезарю вежливым письмом, в котором благодарила его за заботу и сообщала, что лучшие свои годы она провела с Публием. Думаю, после этого пыл его несколько поугас, во всяком случае, ответ мы получили совсем краткий.
Социальная жизнь для мамы взяла и закончилась. Нам, молодежи, было легче, а вот маму смерть Публия загнала в угол. Теперь к нам никто не ходил, и маму никуда не звали, ее будто не замечали.
Был лишь один человек, который решился прийти к нам в гости и поддержать нас. Гай Юлий Цезарь.
Маме он приходился очень дальним родственником, они практически не общались, и его визит стал неожиданностью. Он прислал вежливое письмо, в котором просил принять его, если нам будет удобно, и самим назначить время. Мама очень волновалась. Помню, как она расхаживала по холодному атрию в шерстяной накидке, и белый-белый зимний свет лился на нее из комплювия.
Она сказала:
— Но чего он хочет? Я не знала, я ничего не знала. И мои мальчики ничего не знали тоже.
Мы все присутствовали при этой сцене, но мама словно не замечала нас, она едва не свалилась в пустой имплювий.
— Мама, — сказал я. — Этот мужик говорил, что он хочет действовать в рамках закона. Он был против казни, помнишь?
Она посмотрела на меня, остановившись. Белый свет превратил ее в статую.
— Да? — спросила она, едва шевельнув бледными губами. Мне кажется, я не услышал самого звука, это в голове у меня он обрел силу, а так это "да" прочел я по движению ее рта.
— Да, — сказал ты. — Мамуля, послушай, он, наверное, хочет выразить свои соболезнования.
— Не верю, — сказала она. Наша нежная мама стала железным цветком.
Это мы с тобой уговорили ее принять Цезаря. И, когда он пришел, поначалу мама держалась холодно и скучно, но потом оттаяла.
Цезарь, при всей своей хваленой невозмутимости, был удивительно ярким человеком, он занимал глаз и ум, у него была, если ты помнишь, такая потрясающе живая мимика: он любил вздернуть бровь, только это, и мне уже было до икоты смешно. Он мог закончить почти любую шутку этим простым движением брови, и шутка становилась искусством.
Тогда он пришел к нам в дом очень свободно, как к старым друзьям. Цезарь был человек удивительно приятной внешности: светлые глаза, совсем как у матери, тонкие, артистичные черты лица, высокий лоб. Тогда он уже начинал понемножку лысеть, но с таким красивым лбом, я говорил ему об этом после много раз, Цезарь мог себе это позволить.
Помню, он сказал первым делом, что соболезнует нашей утрате. Дом наш тогда пришел в запустение, мама отослала почти всех рабов Публия за город, потому что не могла их видеть, и все вокруг Цезаря представляло собой жалкое зрелище, но он не обратил на это никакого внимания.
Вот еще одно удивительное свойство Цезаря: на что он не обращал внимания, того и не существовало вовсе, и собеседник тоже весьма скоро терял это из виду.
Так и мы впервые после смерти Публия почувствовали себя не среди пустоты и скорби, а хозяевами красивого дома, полного гостей. И хотя Цезарь был всего один и, кроме того, не слишком разговорчивый, он создал вокруг себя праздничную атмосферу с удивительной легкостью.
Через пару часов мама уже смеялась.
Но и о тяжелых, грустных вещах умел говорить он с непередаваемым тактом.
— Публий был очень разумным человеком, — сказал Цезарь, вот что я помню. — Он понимал, что эта история не закончится его смертью. Он оказался разумнее, чем сам Рим.
Цезаря возмущала неправомерность казни Публия, но он не оправдывал его преступлений. Ходили слухи, что Цезарь сам имел некое отношение к подполью, но, разговаривая с ним, я так и не понял, ложь это или правда, хотя мне казалось, будто разговор у нас идет очень доверительный.
Он сразу что-то разглядел во мне, чего многие другие разглядеть не могли. Есть у меня теория и по этому поводу. Цезарь был способен увидеть человека не своими, а его глазами. Увидеть ту самую правду, которую человек знает о себе сам. Или ту самую ложь (ложь и правда, вот к чему я возвращаюсь все время, думая о Цезаре). Он увидел меня таким, каким только я себя видел. И поверил в меня такого. Думаю, Цезарь поставил на меня с самого начала, хотя после этого мы не общались долгое-долгое время, и я успел разочаровать почти всех, кто меня знал.
Удивительный он, правда? До сих пор не верится, что Цезарь мертв. Мне все время кажется, что это одна из его хитроумных уловок, шутка или игра, которую он исполнил с той же изощренностью, что и всегда.
А сколько прошло лет! Вот это человек — смеющий оставить о себе такую память.
Так вот, перед уходом он прогулялся со мной по нашему изуродованному зимой саду, по нему и гулять-то было нечего, но Цезарь настоял, что хочет его посмотреть.
— Знаменитый скульптурный сад Публия, — сказал Цезарь. Я растерялся. У Публия в саду было много скульптур, невнятные юноши и женщины, похожие на сирийских проституток, ха-ха. Но я никогда не считал, что наш сад какой-то особенный.
Мы шли, и я думал над тем, что Цезарь называет Публия по личному имени, словно они близкие друзья, и это приятно. Даже если при жизни Цезарь никогда не обращался к нему так.
— Антоний, — сказал он. — Я рад, что познакомился с тобой.
— Еще бы, — сказал я, улыбнувшись широко, но не показывая зубов, чтобы не показаться животным. Я продолжал следовать совету Публия, данному много лет назад, как следую ему и сейчас. Все, что я в жизни скрывал — это мои зубы. Всю жизнь я пытался спрятать именно это: я — животное. Но Цезарь все видел. И не считал пороком или недостатком.
Он вообще видел меня насквозь. Это у него были прозрачно-серые глаза, но прозрачен по-настоящему был я.
— Публий всегда очень хорошо о тебе отзывался, — сказал мне Цезарь. — Ты обаятельный, говорил он, и у тебя есть талант к слову. Не в том смысле, в каком он есть у Цицерона. Но то, что ты говоришь, способно достигать человеческой души.
— Правда? — сказал я. Мне тут же захотелось продемонстрировать ему свои умения, но ничего не приходило на ум. Так всегда и бывает, да, Луций?
— Правда, — сказал Цезарь легко, не обратив внимания на мою неловкость. — И это, если хочешь знать, куда более ценный дар. Люди действуют сердцем, через страсть, а не через разум. Во всяком случае, большинство людей. Я совершенно не умею говорить эмоционально, у меня получается фальшиво. Мои доводы — доводы разума, но без сердца для многих они — ничто.
Он так легко и обаятельно признавал свои недостатки, даже в этом умудряясь быть великолепным.
— Я не помню за собой такого, — сказал я. Это было не совсем правдой. Я всегда умел убедить родных и друзей практически в чем угодно. Может быть, не так хорошо все это работало с Гаем, но даже с ним я мог сладить при должном старании. Впрочем, Публий, наверное, имел в виду не это. Кто теперь знает, что имел в виду Публий?
Цезарь сказал:
— Помнит Публий.
А я никогда не думал о себе, как о человеке, подающем какие-нибудь надежды, кроме надежды, что он уйдет. Это причудливо сочеталось с тем, насколько великолепным Марком Антонием я был тогда и являюсь сейчас. Но "подающий надежды" — нет, не то. И в тот момент услышанное было мне очень приятно, как еще одно подтверждение любви отчима, и только ценнее оно становилось оттого, что получил я его после смерти Публия, страдая от тяжкой разлуки.
— Он, конечно, подмечал и некоторые твои недостатки, — продолжал Цезарь. — Но они по его мнению были не существенны по сравнению с присущей харизмой.
— Я думал, он не хотел, чтобы я как-то в чем-то участвовал, — пробормотал я. Язык будто отнялся, и мне стало стыдно, что я не могу оправдать слова Публия перед Цезарем. Но он ничего от меня и не ждал.
— И сейчас ты скажешь, — добавил я. — Что мне стоит куда-то пойти и что-то сделать, чтобы не пропал даром мой удивительный талант? Умно. Лестью меня можно подмазать на что угодно.
Цезарь тихонько засмеялся.
— Нет, Антоний. Не думаю, что ты потеряешь этот талант даже, если не будешь ходить никуда и не будешь делать ничего. Но мне приятно узнать, что это за пасынок Публия, которого он так любил.
— Больше всех? — спросил я по-детски.
Цезарь ответил, что не знает.
— Но говорил он о тебе много.
Мы молчали. Мои кроссовки промокли и хлюпали, я смотрел себе под ноги на жидкую серую грязь и подгнившую траву.
Вдруг я спросил, необычайно доверившись этому человеку.
— Тогда когда же мне перестанет быть больно от его смерти?
Спросил я так, будто бы этот вопрос оканчивал длинный монолог, которого я не произнес. Но он висел в пустоте. Я думал, Цезарь меня не поймет. Но он, по-видимому, понял.
— Мой отец умер у меня на глазах, когда мне было пятнадцать. Сердечный удар. Мы с ним разговаривали и, — Цезарь посмотрел на свои ноги. — Он наклонился застегнуть сандалии. Вдруг лицо его стало бледным, и он прижал руку к груди, попытался подняться и не смог. Я не сразу сумел сообразить, что происходит. А когда сообразил, он уже не дышал. Тебе нужно представить, что это был за день. Лето, солнце, открытая дверь на улицу, за которой все зелено, и самый простой разговор. Он, думаю, и сам не понял, что умирает.
— Умирать летом тяжело, — сказал я. Цезарь покачал головой.
— Легко, — сказал он. — Но я и до сих пор не могу в это поверить. Мне кажется, он здесь, со мной, за моей спиной. Иногда, когда я чувствую себя одиноко, начинает казаться, что он наоборот очень далеко. Но в царстве Плутона, среди моих мертвых, его как будто нет. Где-то далеко это, скорее, значит в другой стране.
Я слушал его очень внимательно. Пойми правильно, Луций, если бы такое рассказал я, выглядело бы так, словно я снял с себя кожу перед незнакомым человеком. Но Цезарь всегда был отдельно от чувств Цезаря, и вышло так, словно я прочитал кусок чьей-то истории много после того, как исчез последний ее участник. Я не испытал никакой неловкости.
— Да, — сказал я. — Тут не знаешь, что лучше. Верить или нет.
— Не знаешь, — согласился Цезарь. — Смерть вообще такая область, в которой очень сложно знать что-то определенно. Я не могу тебе ничем помочь и не знаю, когда будет легче.
Он сказал это так честно и просто, что я возблагодарил его за отсутствие помощи. Я сказал:
— Мне важно знать, что у кого-то тоже умирали отцы. Это очевидно, но — не очевидно. В общем, ты понимаешь.
— Понимаю, — сказал мне Цезарь, и на этом, в общем, мы расстались. Нет, по-моему, каждый из нас говорил еще что-то, но это уже было не существенно.
С той самой минуты, задолго до того, как все для меня завертелось в политическом смысле, я уже был человеком Цезаря.
Он ушел, а я остался стоять в саду и думать о том, как мне невыносимо больно. Пошел снег, и я ловил снежинки ртом, чувствуя эту неутихающую, но очищающую тоску.
А в конце декабря были Сатурналии, первые Сатурналии без Публия. Погода снова наладилась, стало хорошо. Наступил первый праздник без Публия за долгое-долгое время. Мы обменялись подарками и сели за стол вместе с нашими рабами (оставались только самые близкие). Миртия, ее дочь и Эрот тоже тяжело переживали нашу потерю. Разговор не клеился, и, обычно такой веселый, праздник казался тягостным.
Миртия вздохнула:
— Ох, моя девочка, как тяжело тебе пришлось.
Мама кивнула. Под этим знаком, можно сказать, прошел весь вечер. За окном было так шумно, гулянья, крики радости, запахи праздника. А у нас дома — тоска и уныние. Помню, я не выдержал долгого молчания, вскочил и сказал, что пойду пройдусь.
— Не могу здесь быть, — рявкнул я. — Мне все надоело!
Ты сказал:
— Молодец, Марк. Вот это семья у нас, правда? Вот это глава семьи!
И, кажется, это был первый раз, когда ты злился на меня по-настоящему.
Я и сам, по прошествии времени, не горжусь тем поступком. Я оскорбил всю семью и ушел непонятно куда. Непонятно, и я не преувеличиваю. Я совершенно не помню той ночи, ни единого ее кусочка. Даже не знаю, где я умудрился так нажраться. Ума не приложу, до сих пор одна из величайших загадок жизни великолепного Марка Антония.
Мы с тобой вроде и не поссорились, но мне стало так обидно от твоих правильных слов, что я постарался утопить их побыстрее. Но, какая ирония, слова эти остались, а ночь, без сомнения приятная, пропала.
Сознание вернулось ко мне только на рассвете. Сначала пришли звуки: я горланил какую-то песню непонятно с кем. Потом пришел синий цвет — небо на исходе ночи, и все вокруг им облито. Потом пришла тошнота, и меня вырвало прямо на прекрасные и вечные камни нашего великого города.
Кто-то продолжал горланить песню, но слов я почти не разбирал. Потом я утер рот и посмотрел на своего спутника. Это был очень высокий и очень тощий молодой человек примерно моего возраста. Он весь казался смешным, нескладным и нелепым, впечатление это лишь усиливалось от того, каким он был пьяным.
— Ты кто, мать твою? — спросил я, стараясь сфокусировать на нем взгляд. Волосы у него были чуть более длинные, чем это положено по этикету, кудрявые-кудрявые, а нос — очень длинный, с горбинкой, такой нос, который и надо помещать не в свои дела. По всему лицу у парня были рассыпаны задорные веснушки, куда больше чем у тебя, и были они темнее. Живые черные глаза косили от выпитого, и он шатался, даже стоя на месте.
Наконец, парнишка начал заваливаться назад, и я удержал его одной рукой.
— Кто? — спросил он. — Я? Да меня стыдно не знать.
Язык у него так заплетался, что то и дело вываливался изо рта. Тогда я легонько дал ему по морде, для немедленного просветления ума, так сказать.
— Премного благодарен, — сказал он. — Теперь вернемся к главному вопросу.
— К какому? — спросил я.
Вокруг нас никого не было, и я не знал, где мы вообще находились. Я потер глаза, снова оглядел местность, пытаясь понять, что происходит. Тихая рассветная улочка.
— Мы в Риме вообще? — спросил я.
— Я не знаю, — ответил он, нахмурив густые брови. — Без понятия.
Я толкнул его в плечо.
— Продолжаю свой вопрос.
— Повторяю свой вопрос, — поправил он меня машинально.
— Не умничай, — сказал я, жмурясь от совсем нежного утреннего синего света. Где мы, сказать нельзя никак, решил я, превозмогая леность мозга. Просто тихая сонная улочка, на которой и праздник давно улегся. И время — тонкая перепонка между ночью и утром. Где-то бесконечно далеко разносились пьяные, радостные голоса, но не здесь.
Тихо, подумал я, будет еще долго. Сатурналии — никому не надо на работу, люди только улеглись спать, и мы можем стоять одни еще долго, и никто не прояснит для нас ситуацию.
Парень сказал:
— Я — Гай.
— Отлично, — ответил я. — Теперь понятно, это все упрощает.
Он снова нахмурился, пошевелил бровями, напрягая разум.
— Гай Скрибоний Курион, — сказал он. — С очевидностью. А ты кто?
— Марк Антоний, — ответил я. — Великолепный, если что.
— Это твой когномен? Как Помпей Великий?
— Да, — сказал я машинально.
— Тогда почему я не знаю Антониев с таким прозвищем?
— Потому что ты идиот. Ты вообще хоть кого-нибудь знаешь?
— Да, — сказал Курион. — Маму твою.
И я ему вмазал.
— Моя мама — честная женщина, — сказал я, стоя над ним. Он легко повалился и утирал кровоточащий нос.
— Я такой пьяный, — сказал он. — Что мне даже не больно. А что мы с тобой пели? Я не могу не допеть песню, если начал ее петь. Меня прямо дрожь берет от этой мысли.
Я помог ему подняться и сказал.
— А я откуда знаю? Я вообще ничего не помню.
— Да, — сказал Курион. — Знакомая проблема. Откуда я тебя знаю?
— А ты меня и не знаешь.
— Гай Скрибоний Курион. Очень приятно.
— Марк Антоний, — сказал я, не совсем понимая, сколько раз мы уже представились друг другу. Если учитывать наше первое, трезвое или относительно трезвое, знакомство, то как минимум трижды.
Курион сказал:
— Ну теперь, когда мы знакомы, разреши мне спросить: где я?
— Хрен ли я знаю, — ответил я весело. — Пошли, со временем разберемся.
Я отряхнул его, он в процессе едва не упал снова, как очень плохо сделанная, неустойчивая статуя. Курион сказал:
— Крайне приятно видеть тебя в добром здравии.
Я сказал:
— Да ты гонишь.
Он сказал:
— Марк Антоний, пасынок Корнелия Лентула, который Сура, да?
— Ага, — сказал я, едва удержавшись от пьяных слез.
— Все говорят, что ты — долбоеб.
Тут я засмеялся.
— А про тебя я вообще не слышал.
— Ужасно, — сказал Курион, действительно раздосадованный.
— Но я, по-моему, трахал твою сестру.
Курион задумался, потом весьма решительно покачал головой.
— У меня нет сестры. Это точно.
— О, тогда забудь. Она просто тоже Скрибония.
Не знаю, что веселило меня больше, милый друг, какими мы были пьяными, или что мы притворялись еще более пьяными.
— Да уж, — сказал Курион. — Тебе нужно побриться, похож на грека.
— Это потому, что я происхожу от Геркулеса, — сказал я важно.
— Правда, что ли?
— А то.
Мы брели, куда глаза глядят, надеясь, что ноги вынесут нас в знакомые места. Курион сказал:
— Даже не знаю, что тебе посоветовать.
Для стойкости мы снова обнялись, теперь, когда Курион заваливался на сторону, я удерживал его. Когда же на сторону заваливался я, Курион клонился вместе со мной, и мы едва не падали.
Мы снова горланили какую-то пошлую песенку, да так громко, что кто-то пригрозил вылить на нас содержимое ночного горшка.
— Суки, — сказал Курион. — Суки паршивые.
— Да, — сказал я. — Какие же суки они все.
И если Курион, вероятно, имел в виду сварливого мужика, то я говорил о убийцах своего отчима.
Курион спросил:
— И почему мы раньше не общались?
— Не понимаю, — сказал я. — Реально, как будто всю жизнь тебя знаю, дорогой ты мой друг.
— Это точно, — ответил Курион, и мы снова затянули песенку о похищенных сабинянках.
Потихоньку мы с Курионом вышли к его дому. Он сказал:
— О. По ходу, здесь я и живу.
— Нормально так, — сказал я.
— А ты где живешь?
— Далеко, — ответил я.
— Хочешь, у меня оставайся, — пожал плечами Курион. — Папка нормально к этому отнесется, я так думаю.
Он потер лицо, словно пытаясь стереть веснушки. Курион был старше меня на год, но выглядел младше из-за своей хрупкости и подростковой долговязости.
— О, мать твою, становится хреново. Пойдем, я уже не могу.
Меня два раза звать не надо.
И мы зашли в дом Куриона, отличный, к слову сказать, хотя и обставленный очень скромно. Просторный и светлый дом достойного человека, не очень увлекающегося роскошью — его отца. Курион пытался устроить мне экскурсию, но в итоге упал в атрии и велел рабам нести его в комнату.
— Этот — со мной, — сказал он, когда его подняли. — В гостевую его.
— О, здорово, — сказал я. — Сразу видно мудрого хозяина дома. А меня будут так же нести?
— Нет, — крикнул Курион, когда его вынесли за дверь. Я на некоторое время остался в их темном атрии один. Сел на корточки перед имплювием, смочил лицо водой и, заглядевшись на свое отражение, свалился в бассейн.
Вероятно, я бы там и утонул. Как знать, может, история сложилась бы так, что это ты, сидя в осажденной Александрии, писал бы мне письма, полные любви и боли.
К счастью или к сожалению, вовремя подоспели рабы Куриона, они вытащили меня из воды и потащили за собой. Это были очень надежные рабы. Столпы, на которых держится Рим.
В простенькой, но уютной и пахнущей чистотой гостевой комнате, рабыня стелила мне постель. Не помню, симпатичная она была или нет, полная или худая, но от нее невероятно чудно пахло — апельсинами, и это — посреди зимы. Я некоторое время стоял, как меня поставили, у двери, и наблюдал за ней, вкушая ее чудный запах, а потом, шатаясь подошел к ней, перехватил ее за талию и потянул к себе.
— Ты так вкусно пахнешь, — говорил я. — Я люблю тебя, люблю.
Я целовал ее и кусал, и терся щекой о ее шею и грудь, а потом я трахнул ее на свежих простынях, которые она постелила, не знаю уж, насколько успешно.
Уснул я крепко, безо всяких снов, без всего вообще — как будто умер.
А проснулся все равно пьяным. Сквозь мучительную полупохмельную дрему я слушал радостные вопли народа, возобновившего гулянья. Ах, золотой век Сатурна, век равенства и любви между всеми людьми без разбору. Я хотел бы трахнуть весь мир, с любовью и без ненависти в сердце, но голова моя начинала раскалываться.
Я, пошатываясь, встал и вышел в коридор. Хозяйские комнаты, подумал пьяный я, они на втором этаже.
Я решил, что мне повезет, раз уж я сумел забраться по лестнице, поэтому, распахнув первую же дверь, я сказал:
— Курион, нам решительно надо побухать, собирайся!
Но на кровати лежал не Курион. Вернее, Курион, Гай Скрибоний, но не тот. А человек — очень на него похожий, такой же субтильный, черноокий и кудрявый, правда весьма постарше.
— Ты кто такой?! — рявкнул он.
— Я друг твоего сына, — сказал я. — Марк Антоний.
Я не добавил "великолепный", наверное, поэтому Курион-старший приказал слугам немедленно меня выкинуть, да еще и с черного хода.
Я предпринял некоторые попытки бороться, но охрана явилась соответственная моим спортивным габаритам и достижениям. Шлепнувшись на землю среди мешков для мусора, я крикнул:
— Извини, я перепутал немного!
Мусорные мешки были очень мягкие, и я подумал: а ведь хорошая идея вздремнуть на них чуть-чуть. Но ей так и не суждено было сбыться. Через пять минут вслед за мной, почти так же, но намного легче, вышвырнули Куриона.
Курион попытался встать, но не смог, поэтому, продолжая лежать, крикнул отцу:
— Я тебя ненавижу!
— Зря ты так с папкой, — сказал я. — Пойдем бухнем.
И мы пошли бухнули, а потом отправились смотреть игры. Курион очень ценил меня с самого начала за то, что со мной было просто. С самого начала мы с ним, подстегиваемые вином, стали ужасно откровенны.
Игры в честь Сатурналий всегда выходили отличными, и Курион оплатил нам лучшие места (деньги водились у него всегда, даже когда он ссорился с отцом). Помню, я смотрел на бой двух опытных гладиаторов, на столпы пыли, на удары щитов и мечей, слушал крики и лязг оружия, и хотел учуять кровь. Я очень любил льющуюся кровь — у нее такой праздничный цвет.
Я вопил:
— Гаси его! Гаси нахуй!
А Курион похлопал меня по плечу.
— Ты такой непосредственный, — сказал он.
Я посмотрел на Куриона.
— Да ладно? — спросил я. Тут я услышал крик, обернулся и увидел, что один из бойцов держится за пораненный бок. Я скривился.
— Уловка. Люблю, когда они дерутся с преступниками. Чтобы было много крови! Там следующий бой, по-моему, как раз с одним мужиком, который…
Тут Курион снова похлопал меня по плечу, я обернулся, и он сказал мне:
— Я так ненавижу своего отца.
— Что? — спросил я, из-за рева толпы, я сначала его не услышал.
— Я ненавижу своего отца, — крикнул Курион.
— А! — крикнул я. — Понятно! А меня сейчас стошнит!
Но, по счастью, обошлось, а то бы нас вывели, и это было бы большой досадой, ведь бои становились только интереснее. Как пахнет покрытый кровью песок! Я любил этот запах в юности, затем хорошенько нанюхался его на Востоке, и вот теперь он преследует меня, стоит в ноздрях, дополняя всякий аромат, который я могу ощутить.
Но в юности то был запах праздника, кровавого приключения, возбуждающего аппетит.
Ну да ладно, Курион, Курион, мой добрый друг. Он часто говорил мне:
— Ты хороший актер, но ты совершенно бесхитростен, за это я тебя ценю.
Это была не совсем правда, именно потому, что я хороший актер. Сейчас я думаю, что понимал его лучше, чем он понимал меня. Хотя это Курион мнил себе экспертом по поводу человеческих душ.
После игр мы были так утомлены, словно сами сражались на сцене. Так всегда бывает, когда представление хорошее, ты знаешь это и сам. Кстати, был ли ты там тогда, со своими друзьями? Тебя я не видел.
Гай игры не любил.
— Слишком много людей, — говорил он. — Мне это тяжело.
— Конечно, — говорил я, смеясь. — Тяжело испытывать столько ненависти, тощая мразь.
Теперь мне так стыдно за то, что я над ним посмеивался, над его болью и бедой. И вот, опять я отвлекся, память, в отличие от истории, все время распадается на цветные кусочки, как мозаика, и полную картину можно увидеть лишь отойдя на некоторое расстояние.
Мы с Курионом долго смеялись, обсуждая особенно великолепные и особенно убогие моменты.
— И тут он такой повалился, — говорил я. — И выставил меч, и я подумал типа это хер!
Курион захохотал, а потом вдруг спросил меня:
— А ты не боишься, что будешь так же на арене выделываться, а кто-нибудь будет такой: и я подумал типа это хер!
Я пожал плечами.
— Не. Мне не жалко. Я люблю, когда людям весело.
У меня, кстати, в те времена, как ты помнишь, была значительная перспектива именно на арене и оказаться, если я не избавлюсь от наших долгов. Очень популярный способ среди молодых нобилей сменить яму с кредиторами на яму с животными, и те и те — дикие и злобные, но вторые хотя бы радуют взгляд своей экзотичностью.
Перспектива эта меня не очень пугала. Отчасти потому, что я был уверен в себе, в своем теле и молодой силе, отчасти потому, что девочки тяжко и томительно вздыхали при мысли о знаменитых бойцах, а отчасти потому, что смерть меня не пугала. В то время я думал, что смерть интересна мне, как и любому молодому мужчине, на самом же деле, уверен, я страдал от боли и искал облегчения в состояниях, когда сознания нет, или оно крайне и крайне сужено.
Я любил спать, бухать и трахаться, и я хотел умереть. Чуть-чуть, но мысль была назойливой.
— Ну? — спросил я. — Куда махнем?
Курион почесал длинный нос и предложил нам махнуть в Субуру. Он сказал, что знает всех проституток, от которых не зеленеет член, а это дорогого стоит.
— О, — ответил я. — Это пропуск в мир наслаждений. Никогда еще не встречал столь мудрого человека.
— Нет смысла благодарить меня за эту мудрость, — сдержанно ответил Курион. — Пока она не украсила твою жизнь добродетелями скромности и смирения.
И мы оба захохотали. Нам вообще было друг от друга очень смешно.
— Только умоляю тебя, — сказал Курион. — Сбрей эту бороду. Выглядит так, будто ты убил за нее грека. А как борода Геркулеса — не выглядит.
— Ты завистник, — сказал я. — Вот что мне стоило увидеть сразу.
— И правда, — ответил Курион смиренно. — У меня борода растет мерзкими отвратительными клочками, поэтому я не могу позволить кому-либо упрекать меня в этом одним своим видом.
И опять мы смеялись до упаду. Сейчас уже, честно говоря, не очень понятно, над чем. Шутка — это прежде всего тон и мимика, поэтому даже лучшие анекдоты умирают, если они скучно рассказаны. Еще мы были пьяны и молоды, и впереди лежала целая огромная жизнь, а это подспудное ощущение, сопровождающее тебя в двадцать лет, дарит животную радость всему, что ты ни делаешь.
Курион никогда не торговался с таксистами, он запрыгивал в машину и называл место назначения.
— Слушай, — сказал я. — Ты так соришь деньгами, как тебя еще не убили за монетку?
— Добро пожаловать в мир сорящих деньгами, — пожал плечами Курион. Машина нам попалась с откидным верхом, мы попросили водителя открыть крышу и смотрели в небо.
— Ты знаешь, — сказал я. — Что придется платить за класс тачки?
— Зато комфорт, — ответил мне Курион. — Смотри, первая звезда!
Помню, небо было очень красивым, а, может, оно казалось мне таковым, потому что я был пьяным. Совсем сиреневое, и будто бы оно светилось, и мягкий этот свет падал прямо на меня. Словно за покрывалом наступающей ночи пряталось какое-то по-особенному сильное сияние. Я немного задремал, и мне приснилось, что я кидаю в небо камни, и они сбивают звезды, и звезды падают, падают, падают к моим ногам, а я их ем.
— Эй! — Курион ткнул меня в плечо. — Просыпайся, приехали!
Я открыл глаза и удивился, как можно здесь жить. Нет, разумеется, я бывал в Субуре, но не подробно, проездом и будучи совсем уж пьяным. А теперь, отвратный и праздничный, этот улей предстал передо мной во всей красе.
Курион расплатился, и мы вышли из тачки.
— Мне, — сказал Курион. — Импонируют грубые, первобытные натуры. В них больше искренности.
— Да ни хрена подобного, — сказал я, зная себя, как грубую и первобытную натуру вдоль и поперек.
Как и все районы, располагавшиеся в низине, Субура была густонаселенной, грязной и пахла нечистотами. Вокруг сновали вонявшие потом мрачные пареньки при оружии и женщины, не стесненные ничем, включая излишнюю одежду, улицы были такие узкие, так сдавливались рядами одинаковых инсул, что даже тощему Куриону иногда приходилось протискиваться боком. Все здесь жило и пылало, многолюдность была мне чрезвычайно приятна, я то и дело касался людей, волей, не волей мы терлись друг о друга, и наши запахи мешались, и я чувствовал себя сопричастным к чему-то теплому и огромному — совершенно первобытное ощущение, его я больше всего полюбил на Востоке, уже потом.
Курион чувствовал себя здесь, как рыба в воде. Хотя, признаться, с Субурой он ассоциировался намного меньше, чем такой вульгарный паренек, как я. В Курионе, даже когда он старался упасть как можно ниже, всегда сохранялось (хотя его род не был патрицианским) аристократическое достоинство. Он мог лежать в собственной блевотине и безошибочно цитировать Аристотеля, сталкивая его с таким же совершенным Платоном. Субура нравилась ему, как извращение, как нечто бесконечно от него далекое и чуждое, и знал он ее, как историк может знать такой же бесконечно далекий от него Карфаген. Для меня Субура в тот вечер мгновенно стала чем-то родным и понятным мне.
Мы с Курионом потолкались у прилавка термополия, и было так жарко от обилия людей, липко от их пота, громко от их смеха. Давно я не чувствовал себя счастливее, в этом прекрасном единении с продолжающей праздновать вульгарной толпой, я ощутил себя на удивление цельным. Мы выпили кислого вина, которое не в силах были спасти даже пахучие травы, и отправились на поиски приключений.
В тот день оба мы проигрались в пух и прах, и я вынужден был отдать свой красивый отцовский плащ. Геркулес, мать мою.
— Ты купишь мне новый, — сказал я Куриону.
— Ага, — ответил он, пьяный вдрабадан. — Куплю. Слово чести и все такое.
Курион за игорным столом почти засыпал, а я продолжал ставить его деньги, пользуясь репутацией моего нового друга. Он, впрочем, был не против. Курион любил, когда просаживают его деньги — так он мог досадить отцу.
Потом я нагрубил парню, с которым мы играли, когда у меня в очередной раз вылезла "собака", и мы подрались. Помню, мы катались по полу, и народ делал ставки, а голова Куриона лежала на грязном столе, и его кудри разметались по дереву, как змеи.
Его не разбудила даже всеобщая свалка, последовавшая за этим. А мне ведь тогда чуть не выбили глаз — мог прославиться этим и получить прозвище "Одноглазый". Весьма брутально звучит, правда?
Народ катался в пролитом вине и самозабвенно месился: вот это спортик.
Потом мы пошли в какой-то душный, окуренный дешманской дрянью бордель. Помню, трахая одну чернокожую девицу (а я тогда еще не трахал черненьких, она странно пахла, и внутри у нее все было такое приятно розовое), я снес стоявшие на подоконнике свечи, вцепившись в него рукой, и чуть не поджег все это дело на хер. Помню, я тушил подгоравший подоконник своей одеждой, а черненькая девушка смеялась, хохотала так мило, прижав руку ко рту. Ее ладошка была очаровательного, рассветно-нежного цвета.
Потом мы с ней пили, и я говорил:
— Ну ты видала, а, ты видала?
А в соседней комнате Курион хлестал плетью галльскую рыжулю, и она вопила на плохом латинском:
— Еще, мой жеребец!
Я принялся показывать моей чернокожей шлюшке, почему это смешно, жестами, потому что слов она не понимала. Не думаю, что она постигла ситуацию, но я сам показался ей смешным. У меня уже ничего не оставалось, вообще никаких денег, и я решил сходить к Куриону. Там, в соседней комнате, рыжуля уже взяла реванш и теперь душила его плетью.
— О, — сказал я. — Ну, главное что вам весело, ребята.
Рыжуля обернулась и облизнула губы. Не так, знаешь, как это делают женщины, которые хотят себя соблазнить. У нее просто пересохли губы, и она облизывала их, как животное. Я нашарил кошелек Куриона и достал из него монеты, оставленные им на обратную дорогу. Их я отдал моей чернокожей шлюшке, сверх тарифа, так сказать.
— Спрячь их, — говорила я. — Их не должны найти. Спрячь.
Но она, скажу тебе честно, не понимала ни единого слова. Думаю, она даже не особенно понимала, сколько я дал денег, так что в монетках порадовал ее скорее уж блеск.
Когда мы вышли из борделя, было уже светло. В носу у меня щипало от бухла и благовоний, и то и другое было дурным. Курион сказал:
— А где деньги?
Я пожал плечами.
— Я отдал проститутке.
— Надеюсь, за извращения, — сказал Курион. — Тогда эти деньги пошли впрок.
— Хорошее вложение, — сказал я. Еще какое-то время мы сидели на ступеньках борделя, вытянув ноги, и шлюхи ходили мимо нас, демонстрируя самое интересное. Потом старшая из местных волчиц, годившаяся только на то, чтобы рычать на молодняк, выгнала нас. И мы пошли бродить по рассветной Субуре, отпахшей вином и потом, уже не такой многолюдной, но все такой же тесной.
Я сказал:
— А клево было. И мы даже что-то помним.
— Говори за себя, — ответил Курион, прижимая руку ко лбу. — Как же болит голова, Антоний. И ты спиздил наши деньги на дорогу. Теперь нам придется идти пешком.
К рассвету стало холодно, и я, весь взмокший, дрожал, не то от этого холода, не то от покидавшего меня опьянения.
— А ты правда ненавидишь своего отца? — спросил я. — Ну, как ты сказал мне.
— А что? — спросил Курион.
— Да просто любопытно. Или ты просто так сказал?
Он вроде как даже обиделся. К рассвету характер Куриона вообще изрядно дурнел.
— Конечно, не просто так.
— А почему? — спросил я.
Курион пожал плечами.
— Не знаю. Он хочет, чтобы я был тем, кем я не являюсь.
— То есть, чтобы ты не бухал?
Как по мне, у него были глупые причины ненавидеть Куриона-старшего. Я их не понимал. Так я ему и сказал:
— Не понимаю тебя. Я любил отца и отчима. Теперь мне так тяжело, что они оба умерли. Я бы хотел, чтобы у меня был отец снова.
— Да, — сказал Курион. — Но не такой зануда, как мой. Я думаю, он меня тоже ненавидит. Я всегда не тот, кто ему нужен.
Все это мы говорили очень сдержанно, с заторможенностью, умственной и эмоциональной, свойственной трезвеющим людям. Я начинал чувствовать боль в скуле, из разбитой губы снова засочилась моя великолепная кровь.
Вдруг Курион воскликнул:
— Я знаю, где еще нагреться!
— У нас же денег нет, — сказал я.
— Да там мой хороший знакомый!
И мы заскочили к какому-то лавочнику, не то только открывшему свое заведение, не то собиравшемуся закрываться, он дал Куриону в долг поламфоры крепкого вина, которое больше напомнило мне уксус.
Но все-таки лучше, чем ничего вообще, правда? Я и не заметил, как мы распили это вино, а потом (по уже истощенному выпивкой сознанию вино ударило еще сильнее) выяснилось, что мы, обнявшись, сидели прямо на камнях и плакали.
Я говорил:
— Мне так жаль тебя, друг Курион, ты не знал отцовской любви и принятия! Твой отец должен простить тебе то, что ты есть ты, и полюбить тебя, ведь ты его кровь и его продолжение!
А Курион говорил:
— Мой бедный Марк Антоний! Тебя окружает смерть!
Вокруг нас ходили люди, открывались лавочки, и утро набирало силу, а мы все плакали и плакали, горько сетуя на злодейку-судьбу.
Потом мы поднялись и отряхнулись от грязи (моя одежда была испачкана вином, прожжена, я лишился плаща и, честно говоря, отряхиваться от грязи я мог и не стараться).
— А, может, пойдем ко мне? — спросил я. — Мой отец нас точно не выгонит, раз у меня его нет. Я — глава семьи.
— Хорошо быть главой семьи, — сказал Курион, утирая слезы.
У нас Куриона действительно приняли радушнее, чем меня у него. Гай только сказал:
— Вот и все, Луций, Марк нашел себе друга получше.
И ты его, помню, стукнул.
А потом понеслась череда таких разных и таких одинаковых пьяных ночей и похмельных рассветов. Вместо того, чтобы вытянуть семью из долгой ямы, я еще больше загонял нас туда. В основном, конечно, я развлекался за счет Куриона, но когда у нас кончались деньги, я не глядя, как и он, подмахивал долговые расписки. Только мне нечем было по ним платить.
Потом мне, конечно, становилось стыдно, но очень ненадолго, до нового похода в Субуру с ее разноцветьем развлечений. Я шикарно одевался, покупал лучшие места в театре, обливался дорогим вином, в общем, жил не по средствам, наши деньги таяли стремительно, но я этого не замечал.
Я вообще мало что тогда замечал. Иногда я, пьяный, заваливался домой и начинал интересоваться вашей жизнью. Гай стремился заработать, ты стремился помогать нуждающимся, а мама стремилась снять с меня голову и поставить вместо нее какую-нибудь другую. И иногда я приходил к ней и просил прощения, обещал больше никогда не пить, не играть и впредь заняться чем-нибудь полезным, ну хотя бы чему-нибудь научиться.
И она, наша бедная мама, всякий раз мне верила, целовала меня и заверяла, что теперь все будет хорошо.
Проходила неделя или даже две (все эти две недели я был жутко злой), и я даже пытался привести в порядок дела отчима, но потом являлся Курион, и мы уходили кутить.
Затем его отец уехал из города на целый месяц, и я фактически переселился к Куриону, из нашего затхлого, пахнущего страшной скорбью неухоженного дома, туда, где всегда светло и радостно. Но грязь и разруху я нес с собой, поэтому вскоре дом Куриона превратился примерно в то же самое.
Мы развели страшный бардак, а рабы так обленились (благодаря нам), что никто и ничего с этим не делал. По пьяни мы писали на чистых и прекрасных стенах этого векового дома неприличные надписи, оскорбляя друг друга.
Бывало, я, выходя утром отлить, выцарапывал на стене что-нибудь: Курион-младший, как Курион-старший, но старший девочкам хоть немножко нравится.
На что один раз получил ответ, очень жестокий по сути, но для меня в те времена ужасно смешной: Антоний-младший, как Антоний-старший, но умер от похмелья.
Однажды я даже выцарапал на стене в спальне отца Куриона здоровенный хер, не помню, почему я так на него залупился, но был, кажется, очень зол.
Впрочем, самая, пожалуй, важная надпись появилась в моей гостевой комнате, когда, страдая от похмелья и стыда, я захотел помучить себя еще сильнее, и ножом долго выцарапывал над головой почти вслепую, разрывая себе голову и сердце звуком, слова "я плохой, я очень плохой".
Проститутки и сомнительные дружки, которых мы водили в дом, устраивая дикие вечера, кое-что, по мелочи, в основном, воровали. Но как-то стащили ужасно древнюю и дорогую вазу Куриона-старшего, и мы переживали об этом, по-моему, аж два дня. А потом забыли.
Думаю, если бы Курион-старший вернулся тогда, когда запланировал, мы бы заставили рабов все убрать и даже счистили бы нашу переписку. Но весь этот месяц превратился в неясный, тяжелый, полутревожный, полуупоительный сон, от которого никто из нас не мог проснуться. А Курион-старший вдобавок ко всему явился за четыре дня до назначенного срока, без объявления войны.
Я как раз спал в его комнате. Она мне вообще очень нравилась — в ней было много воздуха.
Курион-старший меня ненавидел, и ты понимаешь, почему. Как часто мы ненавидим друзей своих близких, чтобы не ненавидеть их самих. И хотя Курион был гнилым фруктом задолго до моего появления в его жизни, его отец во всем винил меня.
Отчасти справедливо, ведь мы с Курионом активно подталкивали друг друга к краю, и доля вины в падении одного из нас лежит на другом, но она такая небольшая в сравнении с тем, что мы сделали сами и для себя до всякой встречи.
— Марк Антоний! — закричал он на меня. Курион-старший выгонял меня много-много раз, но этот был самым легендарным.
Я подумал, что ко мне пришел Курион, у них были очень похожие голоса.
— Чего приперся? — спросил я. — Давай вали отсюда, я сплю!
Такой наглости Курион-старший стерпеть не мог. Он подскочил ко мне и схватил меня за ухо. Это был маленький, тощий человек с начинающими седеть висками и пергаментно-сухой кожей, я мог бы щелчком отправить его в долгий полет, но я опешил и заорал:
— Больно!
Растерянный, я подался за его рукой, как бык за кольцом в носу.
— Ай! Не надо!
— Марк Антоний! — кричал он, таща меня по коридору. — Твоя наглость не знает границ! Я засужу тебя! Я тебя уничтожу!
Он все верещал мне на ухо, и в моей тяжелой голове эти звуки были похожи на пронзительные вопли чаек. Совершенно комедийная сцена: ему приходилось тянуться ко мне и идти на цыпочках, а мне — наклоняться вслед за его рукой. Наконец, Курион-старший вывел меня на улицу, где пахло весной, хорошо и приятно.
— Ты, — закричал он. — Жалкое подобие человека!
— Отпусти ухо, пожалуйста, — попросил я. Несмотря на то, что в трудном положении оказался великолепный Марк Антоний, которому не помогла вся эта великолепность, мне вдруг стало жалко Куриона-старшего.
Он отпустил мое ухо и дал мне пощечину.
— Бессовестный ты мальчишка, — сказал он горестно. Думаю, эта пощечина и эти слова предназначались Куриону. Я пошатнулся, чуть не упал, голова очень кружилась.
— Да? — спросил я.
— Да! — сказал он и издал какой-то звук вроде фырчанья бешеной лисицы, он, наверное, что-то сказал, может, выругался, но я не понял.
— Это на каком языке? — спросил я простодушно. И он вдруг оторопело сказал:
— Да что с тобой не так, Марк Антоний? Скажи мне, ради Минервы, пролей уж свет на мое незнание. Что с тобой не так?
И я пожал плечами.
— Не знаю.
— Какой бы болезнью ты ни страдал, оставь моего бедного мальчика, — сказал Курион-старший уже спокойнее. — И разве тебе не стыдно, посмотри, во что ты превратил наш дом, я тебе еще все это вменю в вину, все!
— Стыдно, — сказал я. — На самом деле мне так стыдно, что, когда я просыпаюсь, мне очень хочется сразу же разбить себе голову. Но я начинаю пить, и это постепенно проходит.
Курион-старший замолчал, потом сказал:
— Спасибо за откровенность. И все же, я прошу тебя по-человечески, оставь его в покое.
Здесь следует сказать, что я уверен более, чем во всем, что я здесь пишу, во всем, что касается моей собственной жизни, что Курион любил отца, а тот любил его в ответ. У них были сложные отношения, и свою злость, свое желание быть принятым Курион часто принимал за ненависть, тогда как его подростковый бунт отец воспринимал, как собственное унижение. Между ними было очень много непонимания, очень много неумения видеть и слышать друг друга, но никогда не было нелюбви.
И в тот момент я понял это со всей ясностью.
Я сказал:
— Ты совсем не знаешь своего сына.
— Да как ты смеешь…
Но я продолжил:
— И не знаешь, что он любит тебя, и ему хочется, чтобы ты его заметил. Если ты его заметишь, я растворюсь с рассветом, как ведьмин морок, не переживай.
Он помолчал, рассматривая меня, словно и вправду засомневался в моей реальности, а потом сказал:
— Уйди отсюда.
И я ушел, с новым осознанием: Курион-старший был добрым человеком, пусть и всегда старательно это скрывал за своей вспыльчивостью и ворчливостью.
Я возвращался домой с чувством, что у меня нет отца, который мог бы меня заметить. И еще с одним чувством, которое преследовало меня после много лет — чувством безнадежной испорченности.
И я не думал о вас, думал о том, чего у меня нет, а не о том, что у меня есть.
Знаешь, что самое забавное? Я не забывал бегать по утрам, но умудрился забыть о том, что я глава своей семьи. Когда я вернулся, мама сказала просто:
— У тебя есть тридцать дней, или ты потеряешь свободу. И твои братья, возможно, тоже.
Она сказала, что документы ждут меня в кабинете отчима.
— Я не нашла твою печать, найди и поставь, где нужно, пожалуйста.
Мама меня не упрекала и не ругала. Было еще очень рано, и она наблюдала за Миртией на кухне. Мама очень любила смотреть, как Миртия готовит, это ее успокаивало. Наверное, потому, что так мама делала, когда была совсем маленькой.
Я сказал:
— Только я посплю.
— Хорошо, — ответила мама. — Иди, спи. Скажи Энии постелить тебе постель.
Она была такой спокойной, такой ледяной, и я понял, что она разочарована. В коридоре я встретил тебя, ты был сонный и зевал, и я обнял тебя, и сказал, как скучал, а ты сказал, что тоже по мне скучал, и любишь меня, и почему я так надолго пропал, и что ты читал мои пьяные письма, и они дурацкие.
А потом ты сказал:
— Но ты все-таки не дома, да, и не тебя донимают кредиторы. Потому что ты у нас не бываешь. Но ты у нас в семье главный, не так ли? Публия больше нет, он с ними не договорится. Никто с ними не договорится, кроме тебя.
Ты так мне доверял, милый друг, Гай, к примеру, грубо ругался часа полтора, называл меня швалью и предателем семьи.
Я склонен был согласиться с ним, но именно твои слова оказали на меня нужное воздействие. Твои слова и вид нашего холодного запустелого дома с большими, темными тенями по углам, похожими на копоть, и пустым имплювием, и запахом сырости.
Я, в своей дорогой одежде, купленной Курионом, смотрелся здесь дико и неестественно, и становилось очевидно, насколько мы нищие, и насколько чужой жизнью я живу.
Кроме того, изрядно отрезвляли документы на продажу практически всего нашего имущества, рабов и недвижимости, всего, что осталось от Публия.
Весьма печально. Но я был бы не я, если бы решал проблему упорным трудом.
Некоторое время я метался по дому, не зная, что делать. Я не хотел подписывать эти документы, они означали, что мы превращаемся в нищих и забываем все о нашей предыдущей жизни. Позор на весь наш род на долгие-долгие годы, и спустя поколения все будут помнить, как облажался великолепный Марк Антоний.
Помнят ведь до сих пор моего отца под когноменом Критский.
Милый друг, ты весь день пытался меня успокоить, а Гай говорил:
— Правильно, правильно, пусть у него хоть немного голова поболит.
Я судорожно думал, как выкрутиться, и выходило, что все мои друзья детства недостаточно богаты, да и не общаемся мы больше, а нынешний мой круг общения состоит из Куриона и всякого сброда, которым мы верховодили.
Курион никак не мог дать мне требуемую сумму, она была слишком крупной, к таким деньгам у него не было доступа.
Выходило, что мы в ловушке. Нам предстояло продать все или потерять свободу.
Но нет, Курион не выходил у меня из головы. Можно ведь что-то подделать, думал я, как-то можно ведь все устроить, Курион поймет и поможет, он ведь мой лучший друг.
Но тогда отец точно выгонит его с позором, отречется от него!
Вдруг, Луций, вспышка осенила мой разум, и я почувствовал теплую, радостную энергию, идущую от макушки к кончикам пальцев, тот огонь, о котором бесконечно говорят стоики, я почувствовал, как он горит и путешествует внутри. Вдохновение было таким сильным, что походило не то на сексуальную разрядку, не то на удар по голове.
Я вспомнил глаза Куриона-старшего в тот момент, когда он показался мне добрым.
Идея была безумная, но по-настоящему сильно нас вдохновляет именно то, что превосходит нормальное, очевидное течение дней.
Курион-старший ненавидел меня, но эти его глаза — они не могли обмануть.
Да и мне было, что ему предложить.
Перво-наперво я встретился с Курионом и сказал, что надо хорошенечко покутить. Так, чтобы аж звенело внутри на утро! В процессе я посвятил его в свой план.
— Да ладно, — сказал Курион. — Да он никогда не согласится.
— Ты не знаешь своего отца так, как знаю его я.
— Прекрати смеяться, Антоний, лучше скажи: мы и вправду больше не встретимся? Тогда ты с ума сошел!
Я махнул рукой.
— А, не! Сделаем небольшой перерыв. Ну и будем осторожнее, это не помешает. Ты хочешь помочь своему дорогому другу Антонию или нет?
Курион помолчал, рассматривая меня недоверчиво, потом кивнул.
Уверенность меня не покидала до самого рассвета. А на рассвете мы с Курионом заявились к нему домой, горланя песни. Спустился по лестнице его отец и, хватаясь за сердце, стал восклицать:
— Ты сведешь меня в могилу, мальчик!
Курион только смеялся.
— Я спать, папа, спать!
Я держался нагло, и, когда Курион пошел к себе, развернулся, чтобы уйти. Как я и ожидал, Курион-старший окликнул меня:
— Марк Антоний!
Я остановился.
— Ну что же ты с ним делаешь? — спросил меня Курион-старший. — Как тебе совести-то хватает? Он такой талантливый, умный мальчик!
— А он об этом знает? — спросил я, не оборачиваясь.
— У него большое будущее, — сказал Курион-старший. Я, наконец, посмотрел на него.
— Он — мой единственный сын, — продолжал Курион-старший. — Ты, бессовестный, забираешь моего единственного сына. Да как у тебя хватает совести ломать его жизнь?
О, эти сетования несчастного родителя, не способного понять, что происходит с его ребенком — словно крики обезумевшей птицы. Я смотрел на него холодно, надменно, вовсе не своим взглядом, но таким, какого он от меня ожидал.
Луций, братец, я затеял в ту ночь очень опасную игру. Разозли я Куриона-старшего слишком сильно, и проблем не избежать. Но я должен был сыграть перед ним Куриона, с его злостью и холодностью к отцу, а потом — показать свою слабость и уязвимость.
И я не отрицал ни одно обвинение, выдуманное им. Да, конечно, это я испортил славный характер его замечательного сына.
Строгий, добродетельный и набожный, Курион-старший сетовал на времена и на нравы (эта фраза Цицерона быстро и решительно ушла в народ после его злобной Катилинарии).
— Он не был таким, — вдруг сказал Курион-старший. — Он был чудесным, умным не по годам. Он мне цитировал Анакреонта на греческом уже в четыре года. Выдающийся, светлый ум!
Я сказал:
— Правда? Он, пьяный, иногда любит о чем-нибудь таком завести разговор.
— Глупое животное, — сказал Курион-старший и опустил голову. Он был в отчаянии. — Я думал, ты послушаешь меня.
— А почему ты думал, что я тебя послушаю? А? — рявкнул я. — С чего мне думать о чьем-то сыне? Почему мне должно быть не все равно?! Моя жизнь разрушена, я — разрушен! Мой отец убит, и некому сказать мне, что у меня когда-то была светлая голова! Почему мне не плевать, скажи мне на милость? Почему мне интересно, что ты думаешь о своем сыне, если у меня нет ни отца, ни заступника, и я не знаю, что мне делать!
Вдруг мои колени подкосились, и я упал к его ногам. Речь моя была вполне искренней, я говорил правду.
— Я не способен ничего исправить, я просто не знаю, как! Твой сын богатый, и умный, и у него такое светлое и сияющее будущее! Почему я должен переживать из-за того, кто будет жить! Почему?
Курион-старший сначала растерялся, потом разозлился, а я расплакался. И сердце этого строгого человека, на самом деле мягкое и нежное, сердце, которое я сегодня разглядел, оттаяло. Потому что он представил, как его мальчик, по уши в долгах и без единого заступника, пьяный плачет в чужом доме. И как он одинок, бедный его мальчик, и даже сам Курион-старший, ныне покойный, не слышит его, а только кто-то чужой брезгливо глядит, как он скорчился на полу.
— Ну-ну, — сказал он. — Марк Антоний, встань, пожалуйста.
Но я плакал и плакал, и слезы те были настоящими слезами по отцу и отчиму, по собственной беспризорности, которые я все никак не мог пролить до конца. Я лжец, мой маленький брат, но лжец искренний до дрожи, сам страдающий от собственной лжи.
Я, если подумать, не сказал Куриону-старшему и слова неправды.
Я говорил:
— Прошу тебя, не злись на меня. Курион — хороший парень, правда, и я не хочу делать ему плохо. Я просто ничего не понимаю, я совсем запутался!
Все, что он хотел услышать: это я виноват в том, что сын его ступил на погибельную дорожку, я, а не он.
Курион-старший, думаю, и сам не понял, какое облегчение ему это принесло.
— Запутался, запутался, — говорил я, пьяно раскачиваясь. — Но я не хочу быть плохим. Прости меня, я умоляю тебя, я не хочу быть плохим для твоего ребенка и ни для кого вообще!
— Ну-ну, Марк Антоний, — повторил Курион-старший. — Я знаю твою непростую ситуацию. Но ты ведь только усугубляешь ее своим поведением. Ты не можешь решить свои проблемы, пьянствуя.
— Не могу, — сказал я. — Я вообще не могу их решить. Все кончено!
— Прекрати эти глупости, — пробормотал Курион-старший. Доброта и мягкость были для него столь естественными, но этот осторожный и способный политик, строгий и скромный человек смущался их, как, может быть, ничего в своей правильной жизни.
Я замолчал, уставился на него. Курион-старший покусал губу, став очень похожим на своего сына, когда он вспоминал какую-нибудь мудреную цитату.
— Послушай, Марк Антоний, — сказал он вдруг. — Я понимаю, как тебе тяжело, но не стоит ломаться под тяжким грузом судьбы. Давай-ка я предложу тебе кое-что. Я погашу часть твоих долгов…
— Нет! — крикнул я. — Никаких больше долгов!
— Никаких больше долгов, — согласился Курион-старший, прижимая палец к губам. — Так вот, я погашу часть твоих долгов безвозмездно и поручусь за тебя по поводу остальной суммы.
— Но зачем тебе это? — спросил я, делая вид, будто ничего не понимаю.
— Я просто думаю, что ты, каким бы скверным молодым человеком ты ни был, не заслужил такого скверного наследства, а уж тем более не заслужила твоя бедная мать, которая и без того, должно быть, намучилась с тобой. Но ты должен пообещать мне кое-что взамен.
— Что? — спросил я блекло, будто не верил в то, что говорит мне Курион-старший.
— Никогда более не видеться с Курионом и, тем более, не являться на порог моего дома. Думаю, это небольшая плата за мою помощь твоей семье.
— Но мы друзья! — вскричал я.
— Да, но разве по-дружески тонущему тащить за собой кого-либо еще?
Я еще поспорил с ним для приличия и согласился. На прощание Курион-старший даже обнял меня.
— Все будет в порядке, Марк Антоний, — сказал он. — Если мое доброе дело поможет тебе вернуться на дорогу добродетели, значит мы встретились не зря.
Ах, какой благодушный папа, правда, братик?
Но я в тот момент и вправду плакал.
Вот так я решил, по крайней мере временно и отчасти, наши проблемы с деньгами. Курион-старший и моя женитьба на Фадии обеспечили нам еще несколько лет спокойной жизни.
Как ты наверняка помнишь, я был чрезвычайно горд собой, все налаживалось. Кроме того, теперь вы могли получить хорошее образование, мама всегда этого хотела.
Я чувствовал себя героем, хотя разве не был мой поступок весьма примитивной манипуляцией?
Однако, Курион действительно несколько выправился. Думаю, не из-за отсутствия моего дурного влияния (тем более, отсутствие отсутствовало), а, скорее, потому что его отец что-то понял, беседуя со мной. Например, как далеко в своем падении может зайти одинокий человек. Мне кажется, Курион даже что-то такое упоминал. Мы и вправду стали встречаться реже, и я даже затосковал.
А потом вдруг за ужином мама завела разговор о моей женитьбе.
— Тебе уже двадцать один год, Марк, — сказала она. — Пора тебе подумать о твоем будущем.
— И убить себя? — спросил Гай.
— Не смей так шутить, Гай, — сказала мама так же спокойно. — А тебе, Марк, пора жениться. И, мне кажется, я подыскала для тебя очень хорошую девушку, которая поможет тебе остепениться. Ее зовут Фадия.
— Так, — сказал я. — А почему я ее еще не…
— Марк, — сказала мама. — Она дочь весьма богатого человека. Вольноотпущенника.
— Ух ты, — сказал я. — Прямо даже так?
Какой позор, правда? Стать мужем дочери раба, пусть даже и бывшего, пусть даже и очень богатого, но все-таки раба. Но я был в настроении делать жертвы ради своей семьи.
— И сколько же ей лет? — спросил я.
— Она твоя ровесница.
— Вдова? В разводе?
— Она еще девушка.
Я ткнул тебя в бок и сказал:
— Кажется, мама нашла мне достойную партию, дочь раба и старая дева. Я так остепенюсь, что даже умру слегка.
Больше всего меня смущало в Фадии даже не ее происхождение, а ее возраст. Что же у бедной девушки с лицом, если так долго не брали замуж даже с хорошим приданным?
Но, как сказал мне старый ее отец, вертлявый, сверкающий глазами, похожий на еврея человек:
— Скоро созрело, скоро и сгнило.
А у него, стало быть, первосортный товар.
Ну да ты помнишь Фадию, и всю эту историю, что мне рассказывать о ней?
Спокойной ночи, если у тебя бывают ночи, твой брат Марк.
Послание шестое: Тени от ресниц
Здравствуй, родной мой, и, как я писал тебе много раньше, пусть ты будешь здоров и счастлив. Все это ведь еще может быть актуальным? Вопрос о нашей участи после смерти не решен для меня окончательно.
Сегодня утром Октавиан снова отказал мне в капитуляции, и знаешь, что я думаю теперь? Он едва ли не единственный человек, который никогда меня не любил. Бывали люди, ненавидевшие меня сильно — после любви. Бывали люди, которые посреди бурлящей ненависти вдруг проникались ко мне любовью и нежностью. Тогда как Октавиан, единственный из тех, с кем я общался достаточно близко, не любил меня никогда. Пусть он говорит, что наша дружба была крепка, даже если это так, она никогда-никогда не смыкалась любовью.
Грустно ли это? Наверное, да. Он не любит меня, а значит не способен ненавидеть меня достаточно сильно. Не хочу думать о смерти от руки этого единственного в своем роде человека. Легче принять смерть от безымянного солдата, от слуги, от самого себя, в конце-то концов. Слуга любит меня, я люблю себя, а безымянный солдат просто не имел возможности быть со мной знакомым в достаточной степени, и там есть хотя бы этот потенциал любви — бесценная вещь для того, чтобы было не одиноко и не страшно.
Моя детка не понимает, почему это так ранит меня, любовь людей не имеет для нее никакой ценности, кроме чисто практической. Она говорит, что ей все равно, от чьей руки умирать, от этого страх и боль не станут меньше — всякий остается один в самом конце и, теряя в последний раз огни этого мира, он ничего не берет с собой.
Я это знаю. В конце концов, когда меня ранили, и я лежал на поле битвы среди умирающих и умерших, и думал, что я один из них, я тоже смотрел в гаснущее небо, не зная, приду ли в себя, и надо мной кружились жирные мухи, пахло моей смертью.
И мне было одиноко умирать в толпе умирающих, потому что в этот момент остаешься только ты сам.
Но я думал о маме, или о тебе, Луций, или о Гае, о любимых мною женщинах, и все проходило, вместо одиночества оставалось чувство, которое не передать словами, и умирая с ним, я не пожалел бы ни о чем.
И все же мне хотелось бы, чтобы оставался кто-то, чтобы кто-то смотрел. Не могу выдержать одиночество — моя извечная проблема. Когда на меня не смотрят, я едва ли существую.
Моя детка сказала:
— А мне все равно, убьешь ли меня именно ты.
Просто пожала плечами и отвернулась. Я разозлился на нее не на шутку, а потом стал смеяться, потому что разве не забавны наши поводы для ссор?
Ночью же мы легли неприлично рано, и я не мог спать в темноте. Я зарекся писать о Фадии, тем более никакой тайны в этой истории нет. Но я уже запутался, зачем я пишу тебе, чтобы рассказать то, что недосказано или, может, чтобы о чем-то тебе напомнить.
О Фадии я хочу напомнить себе, и, хотя я долго сопротивлялся этому, бессонная ночь меня довела, не могу начать день, пока не вспомню о ней. Теперь я чувствую себя виноватым из-за того, что так этого не хотел.
Послушай меня еще немножко, если можешь слушать, милый друг, хотя здесь для тебя не будет никаких тайн.
Так вот, Фадия меня очень заинтриговала, тем более, что до помолвки я ее в глаза не видел, только ушлого папочку, всячески рекламировавшего свой товар. Но ухищрения были излишни — достаточно приданного, что давали за ней.
Я выспрашивал о Фадии у друзей и знакомых, но никто ее никогда не видел, хотя Фадий был дельцом довольно известным. Мне удалось узнать только, что живет она в Остии, там, где я жил раньше.
У меня тут же возникло романтичное представление о том, что, далеко бегая от своей боли по Остии в своих первых белых кроссовках, давно уже порвавшихся, я натыкался на эту Фадию. Разумеется, в моих представлениях она была аппетитной красавицей. Зная, как один ее вид сводит с ума мужчин, ушлый отец ее спрятал, дабы красотку Фадию не испортили раньше времени. Сам понимаешь, юношеские мои фантазии не соответствовали действительности, да от них этого и не требовалось.
Сама мысль о браке мне нравилась. У меня к тому времени имелось некое множество женщин, продажных и вполне честных, знатных и рабынь, но все они принадлежали мне лишь в постели, и любовь их была, безусловна, горяча, но неподвластна мне.
А здесь я получал женщину для себя, она будет спать в моей постели, любить меня, и станет частью меня, я смогу заботиться о ней и играть с ней, она станет радоваться, когда я буду приходить домой. В общем, как ты понимаешь, для меня это было все равно, что снова завести собаку. Тем более, мама любила Публия со всеми его недостатками, и я представлял, что моя жена будет любить меня так же, и мы будем счастливы, и у нас будут счастливые дети, и все такое.
При этом я, в отличие от Публия, например, перво-наперво даже собирался утруждать себя супружеской верностью, если только моя женщина не окажется страшна, как Катон-старший.
Я даже спросил у мамы, как сделать женщину счастливой. Мама не нашлась, что ответить. Она сказала:
— У разных женщин разное счастье.
Зато нашелся Гай, он сказал:
— Рожу свою волосатую побрей, чтобы она не испугалась.
Поразмыслив, я так и сделал. Самовыражение, конечно, прекрасно, но рациональное зерно в словах Гая было.
Впервые я увидел Фадию на помолвке. В ночь перед ней я совсем не спал, но и не пил. Мы ненадолго встретились с Курионом и кидали камни в Тибр. Курион тоже был исключительно трезв, но по своим причинам. Они с отцом в последнее время нашли общее увлечение, им стала политика, и Курион, судя по его настрою, собирался завоевать весь мир. Но, думаю, больше всего ему нравилось быть заодно с отцом.
Он сказал:
— И ты не боишься?
— Чего? — спросил я. — Гляди, как я далеко зашвырнул! И он еще скачет!
— Ну, — сказал Курион. — Что она крокодилица, к примеру?
— Я могу трахнуть что угодно, — пожал плечами я. — Это не проблема.
— Хорошо, но если она сварлива?
— А я пьяница и транжира. Нам придется смириться с недостатками друг друга.
— А не пугает тебя сама идея еще одного существа, которое поселится рядом?
Само предположение показалось мне диким.
— В том смысле, что она будет занимать место? Нет, мы с ней переедем в небольшом дом, вдвоем. Как настоящая семья. Ее отец богат, он купил нам дом, представляешь? Возьму с собой Эрота, и Варду, и…
— Нет, — резко оборвал меня Курион. — Ты не понял. Она станет жить с тобой, и будет частью всего, что ты делаешь, и ты не сможешь уединиться.
— Да почему? У меня трое братьев, я же нахожу время на себя.
— Это другое.
— У тебя какие-то с этим проблемы, — сказал я.
— А как же наше с тобой пьянство?
— Оно все равно теперь тайное. Какая разница, сколько человек будет о нем не знать?
— Настолько тайное, что мы сидим на берегу Тибра.
— А мы трезвые, — сказал я. — Вроде как. Я просто не помню.
Мы засмеялись, и Курион стукнул меня по плечу.
— В любом случае, сочувствую тебе. Брак хорош, когда хотя бы примерно знаешь невесту. А в твоем случае он так же хорош, как стрела, пущенная в тебя из засады.
— Как ты ужасно ко всему настроен, — сказал я. — Тебе просто деньги не нужны.
— Ну теперь все понятно.
Мы с ним еще посмеялись и разошлись в неожиданно приличном для нас обоих виде. По приходу домой, я сказал тебе:
— Представляешь, никогда не общался с трезвым Курионом.
— И как он? — спросил ты.
— Вечно всем недоволен.
Мне кажется, ты злился и ревновал, что я ухожу. У тебя в то время было вечно плохое настроение, и после помолвки оно только ухудшилось. Гай же сразу сказал, что займет мою комнату и, чем ближе становилась моя свадьба, тем в более радостном расположении духа он пребывал.
Гай нас удивил, он тогда активно учился риторике, и его отмечал сам Цицерон, который тогда еще был ого! Даже огого! Ты же прогуливал занятия и приближался к простому народу, его бедам и чаяниям. Эта стратегия у некоторых работает, взять, к примеру, Клодия Пульхра, но ты всегда был слишком наивным и чистым для политика.
Что касается меня, я считал свою миссию выполненной и самоуверенно думал, что смогу провернуть еще один подобный маневр, когда придет время.
Но к Фадии, к ее появлению в моей жизни. Я хочу, чтобы эта история была больше о ней, чем обо мне, но разве могу я рассказать такую историю?
Ты уже понял, что я ужасно волновался. Мне хотелось порадовать ее и удивить. Я купил ей самое прекрасное железное кольцо на свете. Позже, когда я женился на Октавии, я подарил ей золотое кольцо, но тогда это было еще не принято.
Праздник мы устроили крайне симпатичный, мама вдруг преодолела свою обычную после смерти Публия апатию и весьма яростно всем распоряжалась, наш дом снова стал красивым, впечатляющим, каковым был когда-то при отчиме, и мама задалась целью устроить прекрасный пир, который бы привел всех в восторг. Я доставал для моей милой подарки, не жалея денег, потому как знал, что за нее дают богатое приданое. Думаю, эти деньги пошли бы впрок, если бы я тогда столько не промотал на помолвку и свадьбу.
Как и полагалось, праздник начинался рано утром, в полшестого все были уже в сборе. Я не привык вставать в такую рань, чаще я ложился как раз в это время, поэтому, несмотря на все волнение, не мог перестать зевать. Голова чесалась из-за венка, мои роскошные одежды вдруг показались мне смешными, и я сам себе — ужасно нелепым. А самое невероятное было то, что девушка, которая войдет сейчас сюда, будет моя жена.
Когда ее привели, я сразу понял, почему Фадию в первый раз выдают замуж столь поздно. Нет, она не была крокодилицей, напротив, пусть она и не блистала красотой Елены, в ней было нежное, холодное очарование хрупкого цветка перед заморозками.
Мать и отец, грузные, вульгарные, шумные люди, любили эту крошечную, тихую девушку и носились с ней, словно с драгоценным сосудом. Фадия была столь бледна, а под глазами у нее залегли такие насыщенные, такие жутковатые тени, что я не сомневался ни секунды в том, что она больна с самого детства. Думаю, родители боялись выдавать ее замуж по причине этой хрупкости, они ждали, когда Фадия окрепнет. И, возможно, по сравнению с тем, что было, она до некоторой степени окрепла. Когда она увидела меня, то первым делом испуганно вздрогнула. Фадия была такой крошечной, еще меньше моей детки, меньше вообще всех женщин, которые у меня были. Я даже испугался взять ее за руку, я подумал, что сломаю эти тонкие пальчики. У нее были длинные, черные волосы — единственная здоровая часть, густая копна, блестящая и такая мягкая на ощупь. И глаза, ее глаза казались просто огромными из-за того, какой крошкой она была, темные, с длиннющими ресницами, это были глаза Коры, ошеломленной ужасами подземного мира и желающей более всего на свете вернуться домой. Я подумал, она лишится чувств. Когда ее подвели ко мне, она опустила взгляд, и тогда я подумал, что она почти плачет.
О боги, какая же она крошечная, до сих пор удивляюсь. Кажется, носом она упиралась мне в солнечное сплетение. На ней было очень красивое и очень дорогое платье, которое ей совершенно не шло. Фадии вообще очень не шла одежда. Она была по-настоящему прекрасна только обнаженной, тогда было видно, с каким трудом дались ее телу эти двадцать лет, но как отлично оно справилось: безумно синие венки под бледной кожей, но такие мягкие, женственные изгибы тела, выступающие позвонки, узкие плечи, тоненькая талия, но неожиданно красивая, полная грудь. Только сочетание изначальной слабости и какой-то цветочной нежности давало полное представление о ней. В одежде Фадия казалась нелепой коротышкой. У нее было крайне миловидное лицо: огромные глаза, крошечный носик, пухлые губы, но в бледности ее был синеватый тон, оттого это лицо казалось даже жутковатым.
Я наклонился к ней и сказал:
— Привет.
Она только уставилась в пол еще упрямее и стала часто-часто моргать. Я испытал невиданную прежде нежность, ни одна женщина еще не вызывала у меня ничего подобного. Фадия была полной моей противоположностью: хрупкая, говорившая мало, всегда печальная. Мы с ней подходили друг другу, как комическая и трагическая маски, мы не пересекались ни в единой точке, и плыли по жизни параллельно, видя перед собой каждый свою картину, невероятно отличную от картины другого.
Я сразу понял, что не пойму ее, прости за такую формулировку.
Я взял ее маленькую ручку, и собственная рука показалась мне огромной. Ее тонкие бледные пальцы дрожали, а кожа под ногтями казалась синеватой. Я посмотрел на ее родителей. Они ободряюще улыбались, и я подумал, что, наверное, она все-таки не против выйти за меня замуж, просто страшно разволновалась.
Я раскрыл ладонь, показал ей кольцо, как птице показываешь зернышко, бесхитростно и открыто, смотри, крошка, я такой безоружный.
После всех сопутствующих церемоний, она приняла мое кольцо, вдруг подставив не пальцы, а ладошку, и мы с ней, не обращая ни на кого внимания, еще некоторое время передавали друг другу кольцо из ладони в ладонь, играя в не понятную ни мне ни ей причудливую игру. Мы будто бы перекатывали в руках крохотную рыбку, мне даже на секунду так показалось. Наконец, я поймал ее маленькую ручку и погладил. И хотя все это было вполне невинно, но ужасно интимно, и мне до сих пор стыдно, что эту сцену видело так много людей, а я не стыдлив и обычно не стесняюсь любви. Я надел кольцо Фадии на палец, и она взглянула на меня со страхом и с надеждой, с такой искренней любовью к жизни, что мне захотелось обнять ее прямо здесь.
Гай как-то сказал, невероятно верно, о сложных чувствах, которые вызывает Фадия. Он сказал:
— Хочется свернуть ее маленькую шейку.
Гай есть Гай, не правда ли? Но в чем-то он был прав. Эта хрупкость возбуждала странное, противоестественное желание сжать ее посильнее, такое чувство вызывает, даже против воли, зажатая в кулаке птичка.
Когда пришло время поцеловать Фадию, я осторожно взял ее за подбородок и прижался губами к ее холодным губам. От нее пахло чем-то таким свежим и сладким, не знаю, как объяснить. Как если бы море было не соленым, а сахарным. В любом случае, на самом деле я оценил ту ее сладость только здесь, на Востоке, впервые попробовав парфянский сахар.
Она ткнулась носом в мой нос, отшатнулась, сжала плечи, и я осторожно погладил ее по руке. Все случилось очень быстро, и вот мы уже разлучены.
Праздник удался на славу, и я даже не напился, все следил за Фадией, чтобы улучить момент и побыть с ней наедине.
Наконец, она в компании одной только старой воспитательницы вышла в сад, подышать. Я выскользнул за ней и увидел, что она плачет у воспитательницы на плече.
Мне стало неловко, но я подумал, что она скоро уйдет, может быть, уйдет навсегда и отвергнет мое предложение. И я спросил:
— Устала? Очень нервно, мне тоже. И все ужасно чешется, венок дурацкий. А тебе что не нравится?
Она резко обернулась, как олененок, заметивший стрелка, и я сделал пару шагов назад.
— Прости, я тебя напугал?
Я говорил тихо и нежно, мой голос мне самому казался не очень знакомым.
— Может, мы поговорим? — спросил я, обращаясь не то к ней, не то к воспитательнице. — Нам с тобой все-таки предстоит провести некоторое время вместе, правда? Надо бы познакомиться.
Фадия посмотрела на воспитательницу, и та сказала:
— Это было бы полезно.
Мы сели на каменную скамейку, и она тут же замерзла, хотя было уже довольно тепло. Она обхватила свои локти, пальцы ее стали гладить их, нервно и нежно.
Я сказал:
— Тебе не следует меня бояться. Я тебя не обижу. Это из-за моей своеобразной славы, да?
Тогда она впервые сказала мне что-то, почти прошептала:
— Я тебя не знаю.
— Совсем-совсем? — спросил я. — Ничего-ничего? Так это даже лучше, начнем с чистого листа.
Она молчала. У нее на бедрах поблескивала серебряная цепочка, луна делала ее белой.
— Ты похожа на цветок, — сказал я. — Когда я тебя увидел, мне сразу сделалось за тебя очень страшно. Со мной прежде такого никогда не бывало.
Она посмотрела на меня, черные глаза ее блеснули влажно и лунно. Я захотел поцеловать эти сладкие, холодные губы снова, но воспитательница наблюдала за нами довольно пристально, хоть и отошла на комфортное расстояние.
— Ты переживаешь, что я не буду любить тебя так, как родители? — спросил я.
— Немножко, — сказала она и быстро добавила. — Но ты можешь меня совсем не любить.
Я засмеялся.
— Как же я могу тебя не любить, если ты такая?
— А как же ты можешь любить меня, если я такая? — спросила вдруг она неожиданно серьезно. Ее пухлые, бледные губы болезненно скривились.
— У меня было много женщин, — сказал я. — Но не таких, как ты. Мне хочется тебя погладить. Можно?
Она украдкой протянула мне руку, и я осторожно коснулся ее. Красные костяшки пальцев, будто она, о боги, дралась, полумесяцы ноготков, синее небо кожи под ними.
— Ты так ласково смотришь, — вдруг сказала она. — Даже когда злишься. Я видела, сегодня ты кричал на раба, и ты смотрел на него с лаской.
— А, — сказал я. — Тебе повезло, что я всегда знаю, что ответить, не то наступило бы неловкое молчание. Здорово я выкрутился, а?
— Но в тебе, — продолжала она задумчиво. — Есть и нечто, что меня пугает.
— Правда, что?
— Не знаю, — сказала она. — Руки, наверное. Да, твои руки.
Я посмотрел на них. Руки как руки, если честно. Только много лет спустя я понял, о чем она говорила. Взгляд — об одном, руки — о другом.
Фадия сказала:
— Прости меня, что я так себя вела. Для меня все ново. Ваш дом, ты, то, что мы делаем.
Я проглотил комментарий по поводу того, что у меня для нее есть еще новинки поинтереснее.
— Я понимаю, — сказал я. — Все в порядке, никто не родился с умением терпеть скучные праздники.
Она тихонько засмеялась, журчащий ручеек, не более того.
— Ты терпеливый, — сказала она. — Но на самом деле — нет. Пытаешься быть мягче, чем ты есть.
— А ты проницательная девчонка, — сказал я. — Но разве мы не пытаемся быть нежными с теми, кто нам нравится?
— Я не знаю, — сказала она.
— Я тебе нравлюсь.
Она едва заметно улыбнулась, но не ответила.
— Ты не спросил, — сказала Фадия вместо ответа. — Я чувствую себя нехорошо, мне пора.
Я схватил ее за руку, и вдруг мне показалось, что у нее на крошечном запястье останутся синяки, я разжал ее руку, и она тут же исчезла: Фадия спрятала руку за спину.
— Но мы поженимся? — спросил я.
Она смотрела на меня с отчаянием и надеждой, со страхом перед тем, что будет, и с желанием все в этой жизни испытать.
— Да, — сказала она, а потом поспешила к своей воспитательнице. По-моему, это был один из наших самых долгих разговоров.
Конечно, ко дню нашей свадьбы я был уже невероятно влюблен и думал только о ней, все иные женщины перестали существовать для меня, даже имена их забылись.
Свадьба наша была назначена на благоприятный для матримониальных дел месяц Юноны — июнь, и я не мог ее дождаться, я почти сошел с ума от любви и желания. Фадию я больше не видел, она вернулась в Остию. Я было собирался поехать за ней, но мама остановила меня.
— Она очень нежная девочка, — сказала мама. — Ты ее испугаешь.
И я испугался ее испугать. Точно так же, как прежде понял, что мне ее не понять. Этот навязчивый повтор, я вдруг понимаю сейчас, заключает самую суть наших отношений, она всегда была будто вода, в которой я отражался.
Сахарное море.
Нет, Фадию я больше не видел. Зато частенько приезжал ее отец, и я ни разу не пропустил его визит. Мама была очень довольна: я уже немного остепенился, не успели еще и свадьбу сыграть.
Старик Фадий, который не понравился мне сначала, теперь казался самым желанным гостем в моем доме. Я искал в нем черты, которые он передал Фадии, жадно слушал все, что он мог мне рассказать.
Фадий был простоватый, но по-рабски хитрый человечек, совершенно не похожий на свою нежную, неземную дочь внутри, однако у нее были его темные, восточные глаза, его пухлые губы, его высокие скулы. И я жадно вспоминал ее, глядя на Фадия.
— Она наше сокровище, — говорил Фадий. — Такая нежная, любящая дочь. Как скорбно отдавать ее в другую семью.
Было в его словах всегда хвастовство и желание прорекламировать свой товар, словно мы на рынке, но в то же время оно причудливо мешалось с такой искренней любовью и даже болью.
Разве люди не поразительно сложны, Луций? Ты всегда утверждал именно это, тогда как Гай считал, что людьми движут весьма примитивные желания. Я, пожалуй, верю в истинность и того и другого. Иногда бывает, что есть одно утверждение и другое, и сходства между ними на первый взгляд никакого, они даже противоречат друг другу, но только вместе содержат ответ.
Старик Фадий очень любил свою дочь, это правда. Он говорил:
— Она столь хрупка, будь с ней осторожнее.
И всякий раз внимательно осматривал меня и маму, и наш дом (хотя я и не планировал жить там с Фадией), будто хотел найти какой-то фатальный изъян и уберечь от него свою бедную девочку.
— Она больна, — говорил старик Фадий. — С самого детства. Поздний ребенок, наш последыш.
— А чем она больна? — спрашивал я. Старик Фадий отвечал, что она очень малокровна, и ей ничего не помогает.
— Сейчас, — сказал он. — Все несколько лучше, чем прежде. Конечно, она не образец здоровья, но она вполне может родить здоровых детей.
Мы оба знали, что изначально вопрос был не в этом, а в деньгах, и я взял бы из его руки руку любой женщины ради приданного.
Но теперь я действительно хотел получить Фадию. Помню, однажды было очень жарко, и мы возлежали в атрии, и даже вода в имплювии нагрелась, и я опускал иногда руку в эту теплую воду и ловил плававшие там сухие листья, которые принес ветер.
— Отличное винцо, — сказал Фадий.
— Я тебе скажу так, слово "винцо" лучше говорить не при моей маме. При мне можно. Слушай, Фадий, у меня есть вопрос.
Он приподнял густые, черные брови, показывая, что слушает меня.
— Ты любишь свою дочь?
— Безусловно! — с жаром подтвердил Фадий.
— Тогда зачем ты выдаешь ее замуж? Она боится, что в новой семье ее будут любить меньше.
Фадий некоторое время молчал. Он вдруг стал непривычно серьезным, а потом наклонился ко мне, пьяненький, чуть не свалившись с ложа.
— Антоний, — сказал он. — Мы не хотели выдавать ее замуж. Очень не хотели. Она — хрупкий зверек. Но теперь мы задумались, вдруг она уйдет от нас, ничего после себя не оставив. Кто знает, надолго ли ей стало лучше?
Фадий поцокал языком и со вздохом сказал:
— А ее дети, они смогут жить лучше, чем мы, и чем она. Наши деньги, твое происхождение, было бы только здоровье.
— Ты думаешь, она скоро увянет? — спросил я, умирая от страха.
Фадий склонил голову.
— Как знать, как знать. Это известно лишь богам. Бывает, здоровый человек оставляет нас рано, а больной живет до ста лет. Ничего нельзя предсказать наверняка. Я лишь знаю, что она — мой ребенок, и я хочу, чтобы она жила хорошо.
— Тогда почему ты выбрал меня?
Я поддел ножом кусок телячьей печени, но есть не решался, слишком важным был вопрос. Фадий вздохнул.
— Хочешь честности, будущий зять?
— Немножко. Но не надо быть сильно честным, — засмеялся я. — Это никому не понравится.
— Хорошо, — сказал Фадий со смехом и мазнул хлебом по тарелке. — Немного честности никому не повредит. Даже старому торговцу вроде меня. Скажу тебе так, Антоний, о тебе ходит весьма определенная слава, будь я проклят, если я не узнал все о женихе моей дочери еще до того, как он им стал. Ты порочен, да, но не зол. Добродетельного мужчину сложно найти, тем более, если нужен человек, стоящий выше. Хорошие мальчишки женятся на девушках сообразно своему происхождению. А оставшиеся в любом случае те еще яблочки. Одни порочны, другие злы, третьи злы и порочны разом. А ты, я уверен, можешь быть добр с моей девочкой.
— При всех моих недостатках?
Фадий тут же, с восточной, раболепной покорностью, сказал:
— У Антония нет недостатков. Лишь особенности, с которыми моя девочка научится жить.
Великолепный Марк Антоний — лучший выбор из тех, что ты делаешь не по своей воле.
Наконец, священный день настал. Я, истомившийся по невесте, будто зверь, не мог найти себе места, пока не увидел ее в алом платье с поясом, который буду сегодня так сладко рвать, и в огненно-рыжей фате. Она посмотрела на меня коротко и ярко, и снова опустила взгляд. Не от излишней скромности она это делала, скорее от болезненной усталости, которая случалась с ней даже от чересчур пристального взгляда. Еще она страшно устала во время нашей процессии, и я взял ее на руки, чем вызвал негодование одних старушек и восхищение других. Фадия уткнулась носом мне в шею и закрыла глаза. Тени от ее ресниц были так длинны.
Посмотрев, что внутри у нашей свиньи, гаруспик сказал нам то же самое, что говорил всем, если не был подкуплен, чтобы сказать обратное:
— Союз одобрен небом и будет благоприятен и плодороден.
Свинья как свинья, брак как брак.
Вот если бы гаруспик был честен, сказал бы другое: бедный Марк Антоний, но твоя Фадия еще несчастней тебя.
Потом было муторно: клятвы, поздравления, песни, хождения туда и обратно, орехом мне попали в глаз, и вообще эта свадьба запомнилась мне волнением и суматошностью, юношеской поспешностью.
Я все время привлекал к себе Фадию, брал ее на руки и шептал:
— Я так соскучился, я так люблю тебя, ты такая хорошая, так люблю длинные тени от твоих ресниц, так люблю тебя.
Она краснела и клала голову мне на плечо, ласковая, но еще не моя. У нее была такая холодная кожа, как у мертвой. И я с нетерпением ждал, как согрею ее этой ночью.
Фадия жила в Остии, так что терновый факел мы зажигали от очага каких-то ее родственников, которых и сама Фадия не знала.
— Кто это? — спросил я шепотом.
— Понятия не имею, — прошептала она и тихонько засмеялась. Один раз тайком она поцеловала мочку моего уха, но тут же отпрянула, испуганная и смущенная, будто это я поцеловал ее.
Мы только ненадолго расстались, и вот пришло время забирать ее у матери, притворно молившей оставить в покое ее бедную дочурку. Но что-то в этом традиционном похищении было от похищения настоящего, и материнская грусть, и Фадия, колотившая меня по плечам, выглядела неподдельно несчастной.
Затем мы ненадолго разлучились, я вручил Фадию троим мальчишкам, дальним родичам Публия, а сам поспешил домой, ожидая, когда они приведут ее ко мне.
Когда мы с ней замерли у порога нашего нового дома (я и сам его еще толком не знал), Фадия закусила губу и снова уткнулась носом мне в плечо, такая маленькая у меня на руках.
— Ты такая легкая, — прошептал я ей. — Могу носить тебя одной рукой и заниматься своими делами.
— Так стыдно, — сказала она. — Все знают, что мы сегодня будем делать.
Я засмеялся.
Какая же она была удивительно легкая, даже сейчас, столько лет и женщин спустя, я так хорошо помню это ощущение.
Потом была вся эта традиционная муть с волчьим жиром, монетами, огнем и водой, и вот в этой части я все спутал, что ей давать и в каком порядке, что брать, куда класть. Мы с ней вдруг стали очень над этим смеяться.
— Ничего не понимаю, — сказала она.
— Ну мы с тобой и неудачники!
— Тшшш, — сказала одна из ее родственниц. — Нельзя так говорить.
Но мы смеялись и смеялись, и не могли остановиться. Я к тому времени уже успел порядком набраться, а после долгого перерыва вино ударило мне в голову совершенно безжалостно. Когда мы, наконец, остались одни, я притянул ее к себе и разорвал на ней пояс, завязанный геркулесовым узлом. Вообще-то его обычно развязывают, но мне захотелось выпендриться, показать ей, какой я сильный.
Фадию это скорее испугало, она отпрянула, а я, слишком пьяный, чтобы обратить на это внимание, дернул Фадию к себе и полез ей под платье. Я мечтал о ней долго, и теперь она стала реальностью.
Клянусь тебе, моя Фадия была горячей только внутри.
Я целовал ее в шею и не замечал, что кусаюсь. Я даже не удосужился уложить Фадию в постель, раздвинул ей ноги прямо у стены и залез в нее пальцами, она запищала и уперлась в меня руками, стараясь отстранить, а мне даже не приходилось ее удерживать, достаточно было навалиться на нее, и она уже ничего не могла сделать. Я поглаживал ее грудь и проталкивал в нее пальцы, а потом она заплакала. И я, осознав, что пугаю ее (хоть я и старался не причинять ей боли), отстранился.
— Прости, Фадия, — сказал я. — Я не хотел тебя напугать.
Она утерла слезы и сказала:
— Не делай мне больно. Пожалуйста.
— Я не сделаю тебе больно, — сказал я. — Правда. И не буду больше грубым.
Она стояла, вжавшись в угол и смотрела на меня настороженно. Я встал перед ней на колени и поцеловал кончики ее пальцев. Даже стоя перед ней на коленях я был не намного ниже Фадии. С тех пор я никогда не был так нежен с женщиной в нашу первую ночь. Даже моя детка не знала, куда от меня деться, когда мы с ней узнавали друг друга впервые.
Потом Фадия долго лежала на мне и рассматривала мое лицо, гладила мои ресницы, волосы.
— У меня такой красивый муж, — сказала она. — Даже страшно.
— Страшно? — переспросил я, еще не вполне насытившийся ею и зачарованный. Я боялся тревожить ее снова.
— Да, — сказала Фадия. — Очень страшно.
И больше ничего не объяснила. Я стал целовать ее и облизывать, а она то смеялась, потому что ей становилось щекотно, то всхлипывала тихо, уже не печально, а чувственно.
Такая хорошая, и мне так не хотелось даже на секунду выпускать ее из рук. И действительно, она согрелась, хотя ладошки все равно, всю ночь, оставались холодными.
К утру я, утомленный, заснул, слушая как бьется ее маленькое сердце, а она прижала к моей груди свои холодные ладони, будто старалась и вырваться от меня и сблизиться со мной же.
Она стала моей, замерла у меня в руках, и я был так счастлив и будто бы, наконец, удовлетворен. То был недолгий морок, столь редкое в моей жизни состояние спокойной, сытой безмятежности.
Утром Фадия сказала мне:
— Теперь я ближе к смерти.
— Почему, птенчик? — спросил я. — Почему ты ближе к смерти?
— Потому что я теперь жена. Младенец, девочка, девушка, а потом жена, а потом мать, а потом старуха, а потом все.
Я засмеялся.
— Ну, до этого у нас с тобой еще очень много времени. Тебе еще надоест быть женой и матерью, прежде чем ты станешь старухой. Мы будем жить долго и счастливо, и растить счастливых детей, которые тоже будут жить очень долго. Все к тому идет. Тебе же вчера сказала так печень свиньи.
Фадия едва заметно улыбнулась, и я сцеловал эту улыбку с ее холодных и бледных губ, вполне понимая, что я говорю ей не совсем правду.
Смерть была для Фадии вполне обозримой реальностью.
Великолепное Солнце, ты всегда ее очень жалел, она тебе нравилась, как, может быть, и все мои женщины. Скажу тебе вот что: ты был бы ей куда лучшим мужем, чем я. А знаешь, что забавнее всего теперь? Когда я женился на Октавии, я не мог не полюбить ее, потому что в ней обнаружилась та же бессловесная хрупкость Фадии, но и любить Октавию долго я не мог по этой же причине. Чем все начинается, тем все и заканчивается, моя первая римская жена и моя последняя римская жена — обе они тихие женщины, которые простят мне все.
Что касается детки, она стала моей женой, но римский брак, законный брак, для нас невозможен. Она может стать кем угодно, даже полководцем, хоть и очень скверным, но римской женой ей не стать.
Но к Фадии, к моей Фадии, и к делам дней минувших, потому как без них нельзя добиться понимания дней нынешних.
Мы с ней стали жить вместе и узнавать друг друга, как и полагается мужу и жене. Я любил болтать, она любила молчать. Я вообще много чего любил: спорт, благовония, вино, играть в кости, гладиаторские бои, драться, золото, красивые одежды. Фадия же любила только одну вещь на земле: свой красный плеер.
Всякую свободную минуту она садилась на кровати, доставала свой маленький красный плеер, вставляла наушники и нажимала на кнопку.
Она никогда не давала мне послушать с ней музыку, или что она там слушала, а плеер всегда был при ней. Когда я в шутку попытался отобрать его и узнать, из-за чего же столько шума, Фадия расплакалась всерьез, и я, несмотря на свое любопытство, прекратил ее донимать.
Она садилась на кровать, подтянув колени к груди, клала красный (прекрасный!) плеер на простыни и покачивалась, изредка облизывая губы. У Фадии мало на что хватало сил, и если бы я не тормошил ее, не трахал и не развлекал, наверное, она бы так и сидела, уставившись на блестящие алые бока маленькой штучки, подаренной ей давным-давно.
Больше ей ничего не нравилось, разве что я. Иногда она любовалась на меня, и ее нежные, синюшные губы трогала такая же ласковая улыбка, с какой она смотрела на свой блестящий красный плеер.
Еще она спала со светом, но даже так ей было слишком темно. Она ненавидела ночь, потому что такой она представляла себе смерть.
Я зажигал как можно больше свечей и ламп, но она все равно не могла уснуть, и я не спал вместе с ней, разглядывая длинные и трагические тени ее ресниц, полосовавшие скулы.
— Какой ты красивый, — говорила она мне. — Я смотрю на тебя и думаю, что умру. Это так страшно.
— Почему? — спросил я тогда.
— Не хочу тебя оставлять.
— Нет, — говорил я. — Я имею в виду, почему ты обязательно умрешь?
И Фадия смотрела на меня, как на ребенка, и говорила:
— Все обязательно умрут. А я умру первая.
— Ну, не первая.
— Я имею в виду, я умру первее тебя.
— Это мы еще посмотрим. Кто-нибудь пырнет меня ножом в Субуре, вот увидишь.
Фадия была не слишком умна и даже не слишком грамотна. Она читала по слогам и писала с ошибками. Но какая-то мудрость в ней была, мудрость, недоступная людям ученым, которые прячутся от смерти в вечных книгах, в сохранении своих мыслей, на которое они питают надежду.
Фадия же знала, что она исчезнет целиком и полностью, чтобы больше никогда не повториться, и тогда не будет ничего, по крайней мере, я никогда не слышал, чтобы она упоминала о богах, их любви или гневе. Разве что, говорила "о, боги, Марк Антоний, как ты невыносим". Но так все говорят, правда?
— Слушай, — сказал я ей как-то. — Если твоим единственным занятием будет слушать плеер, ты станешь скучать.
Я был с ней очень мягким и терпеливым, таким только я могу быть, и это плохо. Если бы я не любил ее тогда, она не грустила бы потом, когда я стал вспыльчивым и жестоким, каким тоже могу быть только я.
— Да? — сказала Фадия. — Почему? Я никогда не скучаю.
— Никогда-никогда? — спросил я. — Да я всю жизнь только и делаю, что развлекаю себя и других. Скука — худший враг человека.
Она смотрела на меня непонимающе, задумчивая складка между бровями выражала сомнение в моих словах.
— Не укладывается в голове, — сказала она. — Когда люди говорят, что скучают — мне странно.
— А мне странно, что ты не скучаешь, — сказал я. — Я бы сошел с ума.
— Я думаю, — ответила она. — И мечтаю.
— Но разве ты не пропустишь так что-нибудь интересное?
Она помолчала и покачала головой.
— Все самое интересное, — сказала она. — Живет внутри меня.
Думаю, Фадии, в сущности, никто не был нужен. Она могла остаться наедине с собой без страха, и во многом маленькая незаметная Фадия, с ее тихим голосом и вечно дрожащими ресницами, любила себя куда больше, чем сможет когда-либо полюбить себя великолепный Марк Антоний, да и кто-либо другой.
В ней не было темных пятен, от которых надо отводить глаза. Она могла смотреть на себя и видеть то, что ей нравится, и больше ничего.
Фадия была невинна в самом прекрасном смысле этого слова, как невиновны ни в чем ромашки и лилии. Прекрасная женщина, каких больше я не встречал на свете. Поэтому, когда я понял, что они с Октавией похожи, меня с тех пор всегда ранило то, в чем — недостаточно.
Я любил ей любоваться, этой хрупкой гармонией. Знаешь ощущение, когда строишь пирамидку из игральных костей, и она в самой основе своей не совсем правильна, но последний кубик, пусть все шатается, ложится на вершину, и пирамидка некоторое время стоит. Вот это ощущение, которое я испытывал, глядя на Фадию. Маленькая башенка, построенная неправильно, но она еще не падает, и хотя малейший ветерок может ее разрушить, и ясно, что она простоит недолго, вдруг может показаться, что она идеальна. Ведь если что-то настолько шаткое сохраняет равновесие, то разве не прекрасно это само по себе?
Поначалу я с нее почти не слезал, мне хотелось ее всегда, я забыл о вас, о Курионе, обо всех своих предыдущих женщинах, обо всем, что было со мной, и хотел только любить ее. Фадия быстро уставала, а мне эти передышки были в тягость, я хотел снова и снова, я бы съел ее, выпил ее, такая милая и сладкая она была. И, когда я кусался, она, кажется, даже что-то такое понимала и гладила меня испугано.
Я был ей одержим, и, когда Фадия не могла заснуть оттого, что ей было слишком темно, я качал ее на руках, как ребенка, а утром не позволял ей подняться в постели, и она завтракала прямо на простынях, и я смотрел, как она ест, и облизывался, и будто бы сам насыщался. Я велел покупать ей самый дорогой мед, потому что она его любила. Она бы ела только мед и сладкий белый хлеб с ним, если бы я ей позволил.
Может, она от меня очень устала, от того, что я не мог с нее слезть? Мне теперь печально от всего, что я сделал тогда не так. Наверное, надо было завести себе любовницу и оставить бедную маленькую Фадию в покое. Еще я очень любил подкрадываться к ней и хватать в охапку, мне кажется, ее это пугало.
Потом случилось неизбежное и ожидаемое в семейной жизни событие — она понесла от меня, и с того момента, как Фадия об этом узнала, все пошло не так.
Я не понимал, почему она так расстраивается.
— В конце концов, — говорил я. — У нас с тобой будут прекрасные дети. Ты их полюбишь!
Но Фадия только плакала и говорила, что теперь она умрет.
Больше она не могла заснуть ночью, даже при самом ярком свете. А потом ей стало темно и днем. Когда я рассказывал эту историю моей детке, давным-давно, она сказала:
— Фадия возненавидела тебя за то, что ты сделал ее беременной. Она знала, что ее слабое здоровье не позволит ей родить ребенка.
Отчасти моя детка сказала это из ревности, ей было свойственно колоть меня там, где больнее всего, когда разговор заходил о женщинах, которых я любил. Но, наверное, в чем-то моя детка права.
Нет, не во всем. Не думаю, что это бедное маленькое существо было способно на ненависть. Скорее, она испытывала тяжкую обиду. Но, в силу своей природной незлобивости, Фадия не могла выразить ее иначе, чем страдая от бессонницы и приступов страха.
Пару месяцев я не спал вместе с ней, нежно заботился о Фадии, выводил на прогулки, даже свозил ее к морю, где она, сидя на песке, слушала красный плеер, глядя на набегающие волны. Я старался приободрить ее, и у меня даже получалось, пусть и ненадолго. Она обхватывала мою шею и смеялась тихонько, уткнувшись мне в грудь, и говорила:
— Ты такой хороший.
Знаешь, Луций, когда я рассказываю тебе о наших разговорах, я, почти не преувеличивая, рассказываю обо всех случаях, когда они были более или менее продолжительны. В остальном я шутил, я она смеялась или смотрела на меня, как на дурака, с полным недоумением.
После того, как мы вернулись с моря, она несколько окрепла, и я уже думал, что мы заживем по-старому, но через пару недель римский воздух снова подействовал на нее угнетающе. Кроме того, ее беременность было уже не скрыть, и всякий взгляд на себя наполнял ее страхом перед смертью.
Как-то она не спала пять дней подряд, и я не спал вместе с ней. Нас обоих так колотило, и я вдруг почувствовал злость. Чтобы не накричать на нее, я ушел, встретился с Курионом, и мы хорошенько покутили. Тогда я встретил женщину по имени Албия, и хорошенько ее оттрахал. Она была ушлая, веселая торговка в мясной лавке своего глухого отца. Полная противоположность моей тихой Фадии, веселая дочь, как она говорила, самого мрачного мясника.
Мы с ней провели прекрасную пьяную ночь, и она кричала, как никогда не кричала Фадия.
Когда я вернулся домой, к Фадии, она сказала:
— От тебя пахнет мясом.
— Да, — сказал я. — Немножко.
— Ну хорошо, — сказала Фадия и снова вставила в уши наушники.
Я разозлился на нее за то, что она мучает меня, но еще больше за то, что она простила мне то, о чем, без сомнения, догадалась.
И все пошло по старой колее, я стал много пить, гулял от нее без продыху, проиграл некоторую часть ее приданного, и так далее и тому подобное. Я был с ней резок, все время раздражен. Когда она выходила к столу, я спрашивал, как ей спалось.
Фадия отвечала:
— Я не спала.
— Правда? — спрашивал я. — Почему же?
— Мне было слишком темно.
И я отвечал ей, что ей обязательно нужен раб, который будет держать лампу прямо перед ней, и тогда она станет выглядеть как маленькое солнце.
Фадия никогда не спрашивала, где я был. А если я говорил, что спал с другой женщиной, она отвечала:
— Я понимаю.
Только и всего. Мне казалось, я абсолютно безразличен ей, как и все, что я делаю. Она только слушала свой красный плеер, и однажды я едва не разбил его о стенку.
Но даже тогда она сказала только:
— Это очень важная для меня вещь, ты же знаешь.
Я ответил ей, если я не ошибаюсь, диким злобным ревом, которого она весьма испугалась. Потом я сказал:
— Ты — сука!
А она сказала:
— Прости меня.
И тогда я рявкнул, просто со зла, на самом деле ничего такого в виду не имея:
— Я сейчас сам тебя убью, поняла меня?!
И Фадия встала, она, носившая моего ребенка, уже совсем пузатая, сказала мне не спешить, потому как долго ждать не придется.
Она вышла во двор, но там не плакала, а только стояла и смотрела на темнеющее небо со своим излюбленным, да вот так, ужасом.
Чувство вины меня охватило такое сильное, что, казалось, мне физически больно. Я вдруг понял, какой гнилой я внутри, как плоха плоть души моей, палое мясо. Я кинулся к ней, во двор, рухнул на колени и принялся целовать ее живот и руки.
— Прости меня, птенчик, прости, я так перед тобой виноват! Я так не заслуживаю тебя, маленький птенчик!
А она гладила меня по вискам.
Знаешь, что самое ужасное? Когда к нам приезжали ее родители, она всегда была само счастье, такая радостная, будто я лучший муж на свете. Вот то, что я не могу пережить в Октавии, то же самое, что я не мог пережить в Фадии.
Ну да ладно, Луций, я виноват и не оправдываюсь, целиком и полностью на мне лежит ответственность за Фадию, ее жизнь и смерть.
Я пишу это, и мне противно от самого себя, не хочу жить таким и не буду. А в то же время, я закончу письмо и перестану думать о ней. Там, в гробнице ее, стерлась уже, небось, и надпись на урне, столько-то прошло лет. И я жил с этим и продолжаю жить.
А тогда наступала красивая, свежая ночь, и я целовал ее живот, и вдруг кто-то толкнулся мне в нос, я опешил и, наверное, лицо у меня было такое забавно недоумевающее, раз Фадия засмеялась.
Какое это чудо — жизнь, как она зарождается, и как она исчезает. У меня много детей, и я много убивал — но до сих пор не перестаю удивляться тому и другому.
— Он толкается? — спросил я. — Серьезно?
— Да. Уже давно, — сказала Фадия. — Но теперь это заметно снаружи.
— Как живой!
— Он живой, — ответила Фадия. В ту ночь я был с ней таким нежным и ласковым, и она уснула.
Некоторое время я честно старался ее понять — эту грустную улыбку, эти страхи, это желание спрятаться. Но, в конце концов, Курион снова позвал меня хорошенько напиться, и я решил: почему бы и нет.
Знаешь, как мне повезло, милый друг, что мои последние сказанные ей слова были:
— Птенчик, я сегодня пойду потусуюсь, а завтра мы с тобой куда-нибудь вместе сходим, в хорошее тихое место, ты послушаешь свой плеер и все такое. Я люблю тебя, даже когда я ужасный. Может быть, чем я ужаснее, тем больше я люблю тебя и волнуюсь за тебя. Но разве великолепный Марк Антоний это не исправит?
— Разве? — спросила она и погладила меня по переносице, как большое животное. — Иди.
А ведь я мог ругаться с ней, вернее, на нее, и как бы я себе тогда это простил? А нежное прощание, гляди, простил.
В общем, сам помнишь, я уже рассказывал тебе эту историю, мы тогда с Курионом подрались по пьяни, и я его сильно избил, и мы только спустя месяц помирились, хоть он и сразу пообещал не говорить отцу. Кроме того, какая-то шлюха украла у меня деньги, и я возвращался домой невероятно злой и пьяный. Но злой не на Фадию, нет. Ее я хотел оттрахать. Уже представлял, как сладко мне сейчас будет и, надо сказать, изрядно возбудился.
Частенько, приходя домой пьяным, я приставал к ней, и она покорно мне подчинялась.
Моя ночь закончилась рано (и плохо), но дом был таким шумным и непривычно светлым. Когда я вошел, меня встретила мама. И она, клянусь тебе, сказала:
— Марк, если бы я могла, я бы тебя ударила.
Но она никогда не могла, ты знаешь. Я был растерян и остатки опьянения еще не выветрились окончательно. Помню, вокруг ходили какие-то люди, повитуха, ее помощницы, мамин доктор. Не было только родителей Фадии — они жили в Остии.
Наверное, тысячу раз пожалели, что отдали свою бедную девочку замуж так далеко от дома.
— Фадия, — сказал я. — Она в порядке?
Нет, было очевидно, что Фадия не в порядке, но я зачем-то все равно спросил.
— Она умерла, — сказала мама. И от неожиданности, от растерянности я ответил:
— Как, уже?
— Да, — сказала мама. — Минут десять назад.
Всего десять минут мне нужно было, чтобы успеть с ней попрощаться.
Я сел на пол и посмотрел на маму. В ее глазах вдруг мелькнула короткая и яркая вспышка нежности, она вспомнила меня ребенком. Я заметил, что под мамиными ногтями — запекшаяся кровь.
— Это кровь Фадии? — спросил я.
Мама взглянула на свои руки, нахмурилась и пошла к чаше для умывания.
Великолепное Солнце, как бессмысленна жизнь, природа рождает миллионы непохожих друг на друга, неповторимых особей, чтобы почти немедленно предать их забвению.
— А ребенок? — спросил вдруг я. — Я совсем о нем забыл.
— Неудивительно, — сказала мама. — Где ты был, Марк?
— Я не знаю, — ответил я. Я был в прострации, и мне казалось невозможным выдумать хоть какую-то ложь, но и правду я говорить не хотел.
В смерть Фадии я не совсем верил. В конце концов, думал я, она столько раз меня об этом предупреждала.
А я и не слушал. Наоборот, Фадия так часто говорила о своей смерти, что я совершенно перестал ей верить.
Еще я подумал: интересно, а сейчас ей темно?
А потом я горько заплакал. Ты же знаешь этого сентиментального Марка Антония, и я его знаю, но мои слезы все равно удивили меня. А потом ко мне вынесли моего первенца. Я сидел, и его положили у моих ног. Пришлось встать, хотя колени пошатывались. Сверху вниз смотреть на него было еще тяжелее. Это был крошечный, синеватый человечек, живой и двигающийся, но еще слишком маленький. В общем-то, я мог закончить все для него с самого начала. Я знал людей, которые просто оставляли таких недопеченных детей, и, наверное, это было актом милосердия. Но я так не смог, взял его на руки (это был мальчишка) и поднял над головой. Он был такой крошечный и скользкий, я очень боялся его выронить.
Акушерка посмотрела на меня вопросительно, но потом склонила голову набок. Я признал ребенка, а значит его ждала жизнь и смерть по всем правилам, только очень маленькая. Маленькая жизнь, маленькая смерть.
Конечно, ему не полагалось имя, но про себя я дал ему, как и полагается первому сыну, свое собственное, причем тут же.
Он был не слишком похож на человека, но на Марка Антония — вполне.
Я спросил маму:
— Ему холодно?
— Да, — сказала мама. — Ему нужно очень много тепла.
Она тоже была озадачена моим поступком, но — в хорошем смысле.
Потом пришло время посмотреть на Фадию.
Она была такая маленькая, а крови в ней было так много. И я видел распущенные, длинные-длинные, ее прекрасные волосы. А лицо — безмятежное, словно она спит. И никакой боли.
Я надеялся, что хотя бы в последний момент, и правда — никакой боли. Рядом с Фадией горела лампа, которая больше не нужна была ей для того, чтобы уснуть. Я ее потушил.
Что касается моего сына, мы с мамой укутали его в тридцать три одеяла, и колыбель поставили ближе к очагу.
Дальше все вспоминается с трудом. Приехали родители Фадии, ее мать плакала и кидалась на пол, и проклинала меня, хотя после извинялась, она ведь не думала, что я что-то сделал не так, моя вина осталась между мной и Фадией.
Отец Фадии вел себя достойно и неожиданно. Он обнял меня и выразил надежду, что Фадия была счастлива, и что его внук будет жить, если уж я был к нему так милосерден.
— Юнона оценит твою любовь к Фадии, — сказал он. — И даст вашему мальчику шанс.
Да и я, признаться честно, подумал об этом. Спеленутый, в колыбели, он выглядел куда менее печально — почти обычный ребенок: маленький носик, милый разинутый рот и все дела.
Но он почти не плакал.
— Ты все время плакал, — говорила мама. — Хотел внимания.
А мой сын, в основном, спал в тепле, слишком слабый даже, чтобы питаться от кормилицы самостоятельно.
Моя мама переселилась к нам, чтобы ухаживать за ним, как и мать Фадии. Они даже неплохо ладили, как семья, хотя мой сын и оставался единственной ниточкой, которая их связывала.
А потом был большой погребальный костер. Я смотрел на Фадию, спеленутую саваном так же тесно, как младенец, и думал о конце и начале жизни в непривычно глубоких для меня выражениях. Она очень быстро исчезла в огне. Быстрее, чем это бывает обычно. Как будто она и существовала не вполне.
Мой сын умер через неделю. Три дня я был с ним, четыре дня не мог выдержать напряжения и, пьяный, грязный, возвращался только к рассвету. Но тогда я сразу шел к нему, и он держал меня за палец. Я даже и не думал, что такие крошки умеют вот так.
Тогда мы много разговаривали.
Я говорил:
— Моя совесть перед твоей мамой не чиста. Если ты отправишься туда же, куда и она, то передай ей, как я люблю ее и волнуюсь, что с ней, и как она там. Так удивительно, когда умирает кто-то, кто так боялся смерти. Как будто страх должен все это отвратить. А ты еще ничего не боишься. Ты очень смелый. Вообще-то, знаешь, я хороший отец. Многие дети вроде тебя отправляются на свалку, потому что отцы не желают их признавать. То есть, я себя не хвалю, но сам понимаешь. Я был бы тебе неплохим папой. А твоя мама, да, она очень хорошая женщина. Добрая. Милая. Очень красивая. Мы с ней были полные противоположности, а ты, кто знает, какой ты.
Он хватал меня за палец очень крепко, с силой, которой от такого хрупкого существа вовсе не ожидаешь. Так иногда могла вцепиться в меня его мать, тоже с невероятной силой. В минуту ужасного страха.
И я брал сына на руки и успокаивал, такой пьяный, что волновался, как бы не выронить бедняжку.
Как-то Эрот меня спросил:
— Можно тебе сказать правду?
К тому времени я уже подумывал над тем, чтобы дать ему свободу, так что Эроту было что терять. Но, если у него была какая-то мысль по моему поводу, он старался ее озвучивать.
Эрот, сообразно своему имени, из заморыша вырос в красивого кудрявого юношу с миндалевидными, темными глазами и чувственными губами, в любимца наших служанок. И если бы не его знаменитая в узких кругах прямота, девушки ценили бы его еще больше.
Но Эрот не мог скрывать свое ценное мнение по любому вопросу от любых людей.
Я некоторое время раздумывал над тем, нужно ли оно мне. Потом сказал:
— Валяй.
— Это очень грубо.
Я еще подумал, затем кивнул.
— Ты — урод.
— Спасибо, Эрот.
Я почему-то не разозлился, хотя, бывало, наказывал его за резкие высказывания. Наверное, в душе я был с ним согласен.
Я даже был ему, отчасти, благодарен за то, что он ударил меня хорошенько этим словом. Впрочем, я бы, может, в принципе хотел, чтобы он меня ударил. А ты меня любил и поддерживал, и я не решился тебе сразу сказать, как мы жили. Только спустя очень долгое время и будучи очень пьяным, я рассказал тебе эту историю, и ты тогда даже со мной подрался.
— Я был с ней таким жестоким, — сказал я. Эрот, серьезный как всегда, кивнул.
— Ты был.
— Но мне стыдно.
— Ну и что? — спросил он.
— Ты забываешься, — сказал я, и Эрот тут же замолчал. Больше он ничего не говорил мне по этому поводу. Впрочем, и с самого начала Эрот выразился достаточно ясно.
А мой сын, да, он умер. Смешной маленький ребенок, недозрелое яблоко. Он умер до того, как получил возможность носить мое имя.
Как-то раз я пришел домой, и, пьяный, ты уже понял, склонился над его колыбелькой.
— Привет, — сказал я. Он схватил меня за палец и некоторое время держал. Потом вдруг издал пару раз какой-то тихий звук, не очень похожий на плач, и тихонько, будто бы заснул, отошел к большинству.
Я даже сразу этого не понял, заметил только, когда он стал остывать. Такой маленький, поэтому и случилось это быстро.
Так ушла Фадия, а за ней ушло и все, что от нее осталось.
Потом, милый друг, спустя несколько недель, когда мой дом сделался совершенно пуст, я нашел ее красный плеер. Хотел было послушать, наконец, то, что слушала Фадия, нажал на кнопку, но — ничего. Ни музыки, ни звука. Он сломался.
И теперь уже совершенно точно нельзя было сказать, что ее так волновало.
Был солнечный день, я смотрел на переливающиеся, глянцево-красные бока плеера и думал, что теперь никогда не найду вот этой правды. Единственный человек, знавший, что за музыка играла в этих наушниках, ушел. Вместе с ним ушла и эта маленькая, никому, в общем-то, неинтересная тайна.
Люди ломают голову над тем, что оставили после себя Кориолан или Сципион Африканский, или хотя бы недавний наш поэт Катулл, мало проживший и умерший загадочно.
И маленькая Фадия с ее маленьким плеером в подметки не годится главным загадкам истории и искусства. Но меня занимало, что же там было записано. Я даже относил плеер в ремонт, но мне сказали, что починке он не подлежит. Я спрашивал у отца Фадии, ездил в Остию только с этой целью. Но он не знал.
Никто не знал.
Я вспоминал ее лицо, загадочную улыбку бледных губ и думал, что она могла означать. Как все, так и ничего. У меня не было никаких ответов. Теперь я думаю, что мне стоило попытаться лучше ее понять. Она была очень мудрая девочка, знавшая, если не как умирать (этого не знает никто), то как это — знать, что ты скоро умрешь.
Теперь я тоже не могу спать без света, мне всегда слишком темно. И я узнаю ее лучше, мою Фадию, так давно погибшую, что я думал, будто бы о ней забыл.
Теперь у меня есть по крайней мере один ответ, Луций. Темнота душит. Будто бы залезает в рот и в ноздри, и делается трудно дышать.
Я не думаю, что я боюсь смерти так же, как Фадия, и я уж точно не так же хрупок — но темнота реальна. Впрочем, я, наверное, ужасно тебе надоел. Милый друг, ты уже давно увяз в этой вязкой ночи, и не коготком, но всей птичкой. Так чего же я хочу от тебя? Разве утешения или прощения? Тем более, что когда-то я уже все тебе говорил, и в этих же подробностях, и в тот момент мне будто бы стало легче.
А сейчас заглядываю в прошлое, и все такое же: вина и печаль.
Но ведь чему-то меня вся эта история научила? Наверное, я стал бояться того, что может меня оставить. Разве, думал я, не приносит этот великолепный Марк Антоний несчастье и смерть по ему самому неведомой причине? Он приносил: вокруг него это случалось постоянно.
Но никогда не забуду рассветные пьяные часы, маленького, преступно крошечного, нашего с ней ребенка, хватающего меня за палец только потому, что он — теплый. Свет через окно лился такой белый-белый, и я думал о ней, о Фадии, о ее присутствии, может быть, ощущал его.
Или, может быть, присутствие еще кого-то, кто знал ее куда лучше меня.
Да что я тебе рассказываю, как я жил, любил и терял, ты знаешь сам.
А теперь, великолепный Марк Антоний, иди спать, потому что темнота, которая душит тебя, ушла.
Что касается тебя, Луций, мой дорогой, ты будь счастлив в темноте или там, где она, наконец, заканчивается.
Твой брат, неожиданно отсутствующий на вечеринке Марк Антоний.
После написанного: я люблю тебя.
Послание седьмое: Красавчик Клодий
Марк Антоний и, всем уже надоело, брату своему, Луцию, который не перестанет от этого быть мертвым.
Здравствуй, Луций, говорить ничего о дне сегодняшнем не хочу и не могу, я в бессильной ярости, и, если думаю обо всем этом, то становлюсь только злее и злее.
Достаточно с тебя того, что у меня поганое настроение, может, оттого у меня на уме один Клодий Пульхр. Я его обожал, я его ненавидел, и иногда я вспоминаю его, и эти чувства возвращаются с первозданной силой, они становятся так велики, что я не знаю, куда деваться от них.
Ненавижу его, а он уже умер. Люблю его, а он уже умер.
Мне просто некуда направить ни мою злость, ни мое обожание. Кроме того, я никогда не мог уложить в своей голове его достаточный и непротиворечивый образ, потому как Клодия Пульхра всегда и везде было слишком, в том числе и в моих воспоминаниях.
Наверное, я пишу путано, не хочу заставлять тебя долго раздумывать над моими фразами. Цезарь всегда писал очень просто, а я не могу, мне надо все запутать, все завертеть. И ведь это он — сложный человек, а я — так, я простой и открытый, так почему же все наоборот, когда мы говорим?
Каждая вещь уже содержит в себе свою противоположность, поэтому мир так богат. Кто это сказал? Уже не помню. Я взвинчен, но, наверное, именно в таком настроении лучше всего писать о Клодии.
Не прошло и года после смерти Фадии, как к нам поступило предложение от дядьки, выглядевшее крайне заманчивым.
Дядька к тому времени уже два года как грабил Македонию, совершенно ничего не стесняясь. Ты знаешь дядьку — в нем нет природной стыдливости, заставляющей человека скрывать свои злодеяния, вместо нее боги дали ему просто непомерную жадность. Даже когда его отправили, наконец, в изгнание, он всех на своем островке заставил плясать под его дудку. А уж Македония — это была вершина его хищнической жизни. И хотя в пограничных войнах его имели, самую Македонию он трахал очень по-всякому. В общем, этот бесстыдный бандит, наш дядька, все думал, куда бы вложить деньги, отнятые у населения, чтобы их, в свою очередь, не отняли у него, ведь на всякую рыбку найдется рыбка покрупнее, без сомнения. В его крошечный пьяный ум, способный исключительно на животную хитрость, (теперь всегда кажется, что, критикуя дядьку, я критикую себя, просто иносказательно) родил замечательный план. Он решил создать себе неприкосновенный запас в виде приданного Антонии. Для того, чтобы это приданное отделить от своего собственного имущества, ему было необходимо выдать Антонию замуж, но не за кого-то, а так, чтобы деньги не утекли в какую-нибудь другую семью.
Предполагалось, что в случае чего Антония разведется, заберет приданное, а счастливый жених получит барыш за участие. На эту звездную роль был выбран великолепный Марк Антоний, думаю, просто потому, что дядька любил меня больше всех.
Будучи в перманентно сложном финансовом положении, мы согласились. Тем более, Антония Гибрида, хоть и не выросла красоткой, вызывала у меня некоторый интерес еще с того момента, как мы чуть не поцеловались в фонтане, и выходило все для меня вполне хорошо. Дядька, как ты понимаешь, словно в воду глядел. Очень скоро у него действительно начались проблемы, и даже его дружок Цицерон не помог.
Про Цицерона надо сказать отдельно: они друг друга очень не любили, но были в то же время закадычными друзьями. Дядька получал от него длинные порицания, когда, в очередной раз, Гай Антоний Гибрида выкидывал что-нибудь этакое. В свою очередь самому дядьке в Цицероне не нравилось великое море лицемерия, разливавшееся у него в душе все дальше и дальше с каждым годом.
Думаю, они не нравились друг другу ни единой секунды, но их весьма тесное общение подтверждает мою теорию о том, что Цицерон в некотором роде был обязан дядьке за победу над Катилиной.
Так вот, пока закадычный дружок Цицерон позволял своему закадычному дружку Антонию Гибриде трахать местных жителей в интересных позах, деньги утекали в разные тихие гавани, в том числе и оседали в приданном Антонии.
О, она была очень завидной невестой, но свадьбу мы сыграли тихо. Причитающийся нам процент с этих денег позволил снова перевести наше состояние из модуса "о боги, мы пропали окончательно" в более благожелательный модус "проблема становится угрожающей, но недостаточно быстро". Однако, основной статьей расходов, как ты понимаешь, были мои ставки на коней, гладиаторов и в кости, вино и новые белые кроссовки (уже третья пара совершенно одинаковых кроссовок, больше я ни в чем не любил повторяться).
Впрочем, я вас щедро одарил, и жаловаться тебе нечего, а Гаю — тем более. Он получил свою рабыню для плетки, которая на некоторое время сделала его счастливым. А что я подарил тебе? Ты помнишь?
Но к Антонии Гибриде. Она была не в восторге, и в первую брачную ночь у нас ничего не получилось, хотя я был готов. Мы потратили ее, главным образом, на взаимные уколы.
Это я виноват. Помню, когда она села на мою кровать, я сказал:
— Да. Вот здесь Фадия и умерла.
Антония посмотрела на меня, вскинув одну бровь (о, она божественно умела делать так с детства).
Я сказал:
— Да-да. Истекла кровью. Кошмарище. Все вокруг меня умирают. Ты следующая.
На что Антония, помолчав, сказала:
— Ты не думал поискать проблему в себе?
Я сказал:
— Знаешь, если дело в том, что люди, которых я люблю, умирают, тебе вряд ли что-нибудь угрожает.
Антония сказала:
— Дело в том, что люди вообще умирают, ты, идиот. И только великолепный Марк Антоний предполагает, что мир вращается вокруг него.
Я сказал:
— А если я тебя удавлю, это будет считаться моей личной трагедией?
Она надула розовый пузырь и лопнула его пальцем.
— Ты сам вполне можешь считаться своей личной трагедией, — сказала она.
И все в таком роде и в таком духе, короче говоря, наша брачная ночь запомнилась мне желанием разбить об ее голову нечто очень увесистое. И если сначала я хотел вставить в нее что-то большое, то потом только что-то острое.
В целом она еще пару недель не давала мне покоя и я, наконец, спросил:
— Жена, когда ты выполнишь свой долг супруги?
Она сказала:
— Да пошел ты на хуй, Антоний, — и ни одна жилка, ни одна мышца не дрогнула на ее безэмоциональном тупом лице. Но почему-то спустя пару секунд мы начали целоваться, так страстно, будто мечтали об этом всю жизнь. Постель — вот единственное место, где она была переносима, эта Антония Гибрида. Впрочем, если хочешь знать, какова наша кузина в койке, представь ее каменное выражение лица и жесткий, озлобленный взгляд, а потом добавь немного румян на щеки.
Но мне это нравилось. Впрочем, я не показатель: сложно представить женщину, которая не завела бы меня. Однако магия Антонии Гибриды действовала и еще на одного человека в этом мире.
Ну да ладно. Я получил эту очаровательную женщину и деньги, чего еще нужно было для счастья? Я приготовился кутить на все с Курионом, но появилось неожиданное препятствие — его увлечение Клодиями Пульхрами, ей и им. Или, как моя детка назвала их, когда я рассказывал ей и такую историю: Красавчиком Клодием и Красоткой Клодией. Ей очень нравится этот перевод их родового прозвища, и она использует его к месту и нет, припоминая этих интересных персонажей.
Короче говоря, в Красотке Клодии Куриону нравились красота с порочностью, идущие рука об руку, а в Красавчике Клодии — идея кидать зажигательные смеси в сенат.
Курион не давал мне покоя, трезвый или пьяный, он все время говорил:
— Ты не понимаешь, Клодий Пульхр — надежда нашего падшего общества. Он закончит, наконец, диктатуру отцов, он сделает небо землею!
— Правда? — спрашивал я. — Диктатуру отцов? Забавненько выходит, ты же всегда заодно со своим отцом теперь, разве нет? У вас одни цели!
— Да, — сказал Курион. — И папа тоже считает, что за ним будущее.
— А, ну тогда он легко свергнет диктатуру отцов, — сказал я. — Твой папа плохого не посоветует.
— Да причем здесь отец! Это я велел ему поддержать Клодия!
— В таком случае, диктатура отцов уже свергнута!
И действительно, как ты помнишь, Курион и его отец выступили в защиту Клодия Пульхра, когда того хотели судить за святотатство. И, хотя выход был не слишком удачный, и мало чем помог Клодию, то выступление перед народным собранием было первым настоящим политическим делом Куриона, в котором он мог продемонстрировать остроту своего языка.
— Нет, — говорил Курион. — Нет, ты не понимаешь, не можешь понять! У тебя не политический ум. За ним стоит реальная сила, настоящие люди. Не сенат, не закон — люди.
— А сенаторы у нас кто?
— Диктатура отцов.
Тут он схватил меня за плечи и принялся трясти.
— Ты должен убить диктатора в самом себе, Антоний! Так говорит Клодий!
Я захохотал, запрокинув голову, и Курион тогда очень обиделся. Но еще хуже дело обстояло с Красоткой Клодией. Она была намного старше его (старшая сестра Красавчика Клодия, у которого было десять лет форы по отношению к нам), и Курион буквально помешался на ней.
Мне эта ситуация была знакома, если бы не одно но.
— Я не могу есть! — говорил Курион. — Я не могу спать! Я только и думаю, что о ней, о ней, о ней!
Глаза у него горели ровным, ясным огнем подступающего безумия, с которым уже ничего сделать было нельзя. И, хотя я вполне понимал, почему так происходит, и сам не раз становился жертвой этого дикого огня, Красотка Клодия, сделавшая с Курионом такое, вызывала у меня справедливое негодование. Точно так же Курион не любил Фадию за излишнюю власть надо мной этих ее слабых ручек и длинных теней от ресниц. Но Фадия была безобидным птенчиком, тогда как про Красотку Клодию ходили слухи прекрасные и ужасные одновременно. Дескать, и оргии она устраивает, и мужа своего отравила, и братом своим бешеным верховодит именно она, и вообще не женщина, а злой дух в безупречном теле.
Курион говорил:
— Я умираю без нее, никогда она не станет моей, и тогда лучше мне исчезнуть вовсе, чем жить без Клодии Пульхры.
— Да? — спросил я. — Но если ты исчезнешь, то кто же будет скидывать диктатуру отцов?
— Клодий Пульхр!
— Без тебя?
— Ему никто не нужен, он сам себе армия. Кроме того, что будет, когда он узнает, сколь дорога мне его сестра.
Я легонько дал Куриону по драматичной морде.
— Очнись, ему плевать.
Я, конечно, говорил, что Красавчик Клодий с Красоткой Клодией будут вместе крутить Курионом, как им хочется, потому что он богат. На что Курион отвечал:
— Деньги для них ничто. Плевали они на деньги.
И, в общем, я лишний раз убеждался в том, что идти наперекор любовным движениям души человеческой — занятие пустое и неблагодарное, куда лучше поддерживать их в нужном тебе ключе. Но тогда я этого еще не умел. Я вообще ничего не умел и ни к чему не был приучен. Теперь, спустя многие годы, когда я стал тем, кем я стал, со всеми достоинствами и недостатками моего положения, я уже не удивляюсь тому, что увидел во мне Цезарь. Но ведь будущего он не знал, а как можно было разглядеть во мне что-нибудь потрясающее тогда — ума не приложу.
Но вернемся с тобой, милый друг, к проблемам бедного Куриона, который не знал уже, как стать частью доблестной семьи Клодиев. И, хотя он защищал Клодия перед народным собранием и оказывал всяческие знаки внимания Клодии, ему все не удавалось пообщаться с кем-нибудь из них достаточно долго, и он довольствовался тем, что ходил послушать Клодия, выступавшего перед народцем.
А когда возвращался, то аж дрожал от желания свергнуть диктатуру отцов и все такое прочее, и сразу бежал ко мне, рассказать, что на этот раз удумал этот безумец.
— Клодий Пульхр сказал, что нам нужно быть готовыми до основания уничтожить старый порядок! Преступления и богохульства освободят нас, потому что тогда мы поймем, что ни отец, ни Юпитер не смогут удержать нас…
— У него проблемы с папочкой, — сказал я. — И у тебя проблемы с папочкой.
— Священная ярость ради нашего народа! Мы пожертвуем собой ради черни, совершим величайшие преступления ради людей! Пожертвуем своими сердцами и жизнями ради их будущего!
— Ого, — сказал я. — Настоящий патриций, куда уж нам всем, плебеям, до него.
— Его сердце полно благородства!
— Неизмеримого!
И так далее и тому подобное. Знаешь, что самое ужасное равно во влюбленных людях и в людях, одержимых какой-либо идеей (читай: тоже влюбленных)? У них совершенно исчезает здоровая самоирония. Грешил ли тем же самым я, когда был влюблен, скажи мне честно? Если да, то у меня есть еще хотя бы один повод наложить на себя руки (на счету каждый, и ты мне здорово поможешь).
Так вот, я изрядно задолбался слушать про Красавчика Клодия (как позже я задолбался слушать про него от тебя), и как раз тогда, когда мое негодование на эту парочку, лишившую ума моего лучшего друга, достигло предела, Курион вдруг ворвался ко мне домой и, игнорируя Антонию, которая игнорировала его, закричал, вцепившись в свою тогу.
— Антоний, я умру! Умру!
— Клодия Пульхра тебя отвергла? — спросил я. — Ты извини, я тут немного занят.
На самом деле я не был занят, просто злился, и Антония хмыкнула.
— Хуже! — закричал Курион, не слушая меня. — Много хуже, любезный друг Антоний! Она пригласила меня к себе на вечер!
— Ну и отлично! — сказал я, хлопнув в ладоши. — Разве не этого ты хотел? Мечта сбылась, чего же еще ты ждешь от Фортуны? Теперь настало время действовать!
Антония захохотала, и я рявкнул:
— Выйди, женщина!
Она смерила меня презрительным взглядом, но ушла, Курион же рухнул на колени в изнеможении.
— Никогда не видел такого долбоеба, — сказал я.
Курион обнял мой пол и сказал.
— Она отвергнет меня!
— Слушай, судя по тому, что о ней говорят, она особо никого не отвергает.
Я сел на корточки с ним рядом, поднял его за шкирку. Курион горько плакал, и от него несло вином.
— Понятно, — сказал я. — Нажрался утром и без меня. Лучше друга нет.
Курион сказал:
— Антоний, я умру, если она не станет моей. Хотя бы на одну ночь, большего мне не надо! Но этого никогда не случится!
— Да почему не случится?
— Потому что она даже не обратит на меня внимания!
— Твой папаша богат, как Крез, ну, или как Красс. Непременно обратит. Если они хотят изменить мир или, тем более, его разрушить, им нужны деньги. Ты очень привлекателен в этом плане.
Она схватил меня за руку.
— Ты должен пойти туда со мной, Антоний!
— Меня никто не приглашал!
— Я приглашаю тебя!
— Ты вроде бы еще не женился на Клодии, — пожал плечами я.
— Да тебя пустят, там не строгие порядки, я обещаю.
Вообще-то мне не слишком хотелось видеть этих Пульхров, однако же Курион выглядел крайне отчаянно.
— Хорошо, я скажу Антонии.
— Нет, — сказал Курион. — Ты должен явиться без нее! Там будет все очень…неоднозначно.
— Что?
— Разврат, безоговорочный разврат.
— Ну и хорошо, — ответил я. — Может, она чему-нибудь научится. В конце концов, должен же я проводить время со своей женой.
— Антоний, — сказал Курион. — Притворись моим любовником!
Я отпустил его, и он ударился головой об пол, выругался.
— Чего? — спросил я.
— Клодия Пульхра любит развратных мужчин, которым неведомы половые ограничения!
— Я тебе сейчас голову оторву, — сказал я.
— Хотя бы на один день!
— Ты что, больной? Совсем охерел со своей Пульхрой.
— Антоний!
— Пошел на хер! Я не буду позорить свое имя из-за того, что тебе не терпится присунуть цыпе, которая любит, чтобы мужики пехались.
— Ладно-ладно, — сказал он. — Но ты пойдешь со мной! Чтобы, если я онемею, ты мог поддержать разговор и все такое!
— Но никакой херни этой педерастической? — спросил я.
— Никакой херни!
Но, знаешь что, думаю, он мне наврал. Во всяком случае, Луций, судя по тому, что потом лепил в своих речах против меня Цицерон, Курион наплел что-то такое Клодии и, желая показаться большим мужчиной, оставил мне незавидную участь в его истории. Если бы Курион был жив к тому моменту, как этот слух всплыл, я бы его убил, хоть это все и чрезвычайно смешно.
Так вот, удостоверившись, что Курион собирается вести себя прилично, я все-таки согласился.
— Тогда завтра вечером! — сказал Курион. — А мне еще надо разучить какие-нибудь стихи, но не про любовь, и подобрать какую-нибудь одежду, но не слишком роскошную, ведь Клодий Пульхр считает, что правда за нищими!
Не успел я ничего ответить, как Курион исчез, будто его и не было никогда в моем доме.
Антонии я сказал:
— Развлекусь без тебя, может быть, смогу набраться сил, чтобы протянуть еще один день в твоей компании.
— Отлично, — сказала Антония. — Буду трахать Эрота, пока тебя нет.
— Только дай мне повод вышвырнуть тебя пинком под зад.
Честно говоря, мы оба получали от наших стычек невероятное удовольствие. На этом удовольствии и зиждилась некоторая любовь, которую я питал к этой отвратительной женщине, Антонии Гибриде.
Но к Красотке и Красавчику, и дальше к моей истории, или даже лучше сказать к истории меня, как думаешь, Луций?
Чем больше я размышлял об этом, тем интересней мне становилось при мысли о том, что я увижу на вечере Красотки Клодии. В конце концов, если уж о чьих приемах и ходили слухи (в потрясающем разбросе от "лучшее, что я испытывал в жизни" до "кошмарный ужас"), так это о приемах Красотки Клодии.
Тем более, можно было, наконец, посмотреть на это чучело, ее брата Клодия. Тогда у меня не имелось хоть сколь-нибудь внятных политических представлений, я руководствовался симпатиями и антипатиями личного характера. Я не любил Клодия за то, что он сводил с ума Куриона. И я полюбил Клодия за то, что Клодий ненавидел Цицерона так же сильно, как я.
Однако, беспорядочные политические мысли из тех, что у меня были (возможно, привитые Публием) скорее прибивались к тихой гавани абсолютной власти. В этом мы никогда не совпадали с тобой. Я считаю и буду считать, что любое государство состоит из людей, раздираемых противоречиями даже внутри самих себя, что уж говорить о различных их группах. И чтобы примерить эти противоречия нужен единственный человек, который скажет "хватит", а не множество людей, не способных договориться друг с другом. Только один человек, который в силах справиться с собой, может выбрать настоящую дорогу и идти по ней, не сворачивая, и тащить за собой все государство. Думаю так, и буду думать, и даже, мне кажется, думал тогда, не оформив еще все это в пристойную форму, так что, стоит сказать даже, что я ощущал.
Так вот, Клодий Пульхр был слишком хаотичным, веществом, которое не может долго находиться в условиях реальности, но в то же время он являлся силой, силой многих, данной одному человеку. Идея мне нравилась. Клодий был радикалом, все люди у него — братья, как ты любишь, даже теснее и ближе, чем ты любишь. Люди в его гипотетическом государстве должны были быть равны друг другу, как ряд одинаковых цифр. Все немногих должны были получить многие все. И это с таким религиозным жаром, с такой страстью. При этом в перерассказе Куриона образ его терялся, просто потому, что Курион не был человеком таких страстей и масштаба, как Красавчик Клодий. Его можно было оценить лишь стоя перед ним в волнующейся толпе.
Но рано, рано, до Красавчика Клодия мы дойдем в свое время, а сейчас о том, как я сходил на вечер к его сестре.
Выдвинуться нам надо было весьма заранее, потому как Красотка Клодия устраивала вечер на берегу прекрасного Альбано, где (Курион говорил очень путано) вилла была не то у нее самой, не то у ее друзей, не то она и вовсе арендовала ее.
— О боги, пощадите его, — сказал я, когда мы прибыли на место. Воздух прелестный, вокруг — яркая, но теплая осень, кроны деревьев уже покраснели, но еще не начали обнажаться, невероятная красота. Место действительно живописное. Озеро — будто плещется в чаше, и вокруг него лесистые холмы и симпатичные красноголовые виллы богачей.
Курион сказал:
— О Венера, у нее прекрасный вкус, сделай ее моей.
— Ты меня достал, — сказал я. — Не могу это больше слушать. Сейчас меня стошнит.
— Это укачало, — просто сказал Курион. — Пойдем, Антоний, когда ты увидишь ее, ты забудешь все свои предрассудки.
— Я уже их забыл, — сказал я. — Весьма заранее, чтобы не испортить твой вечер, раз уж ты мой лучший друг.
— Я твой лучший друг, — повторил Курион.
— Но идиот, — сказал я.
— Но идиот, — повторил Курион.
Нам пришлось спускаться по узкой дорожке, и Курион, как и полагается безнадежно влюбленному, едва не полетел вниз.
— А если бы я испортил свою одежду!
— Она бы обратила на тебя внимание, — сказал я. — Если только у нее не все гости так летают по этой скользкой дороге.
Мы самую чуточку опоздали. Курион говорил, что это даже во благо.
— Так она точно подойдет ко мне, поприветствует отдельно.
— Да, — сказал я. — Но ты определись, хочешь ли ты, чтобы она с тобой поговорила, или нет.
Курион, не в силах ответить на мой вопрос, замолчал. И мы пошли дальше по скользкой дороге под отчаянно алыми от осенней тоски деревьями и темнеющим с каждой минутой небом. Вдалеке видно было, какой синевой отливает озеро, и как волшебно прозрачен воздух над ним. В самом деле, прекрасное место. Я очень хотел бы показать его сейчас моей детке.
И вот мы пришли к дому Красотки Клодии (или не к ее дому, до конца вечера я так и не разобрался), и это оказалась со вкусом отделанная вилла, наполненная прелестнейшими вещицами, одной из которых была Клодия Пульхра.
Она сразу впечатлила меня именно в этом смысле, как очень красивая вещь, прекрасная статуэтка или удивительная картина. В ней было нечто совершенно неживое, хотя при этом и предельное эстетичное. Красотка Клодия просто идеальна: аккуратный прямой носик, большие синие глаза, в своей яркости сравнимые только величавыми водами моря. Да и не всякого. Да, только в Александрии, вблизи их прекрасного маяка, видел я настолько синее море, чтобы сравнить его цвет с цветом глаз Красотки Клодии, редким и ярким. А уж гладь этого глупого озера меркла перед гладью ее радужки абсолютно.
Эти глаза производили диковинное впечатление, но казались, в то же время, кусочками смальты редкого оттенка, они были абсолютно холодны. Умны, да, но в то же время сообразительной живости, присущей ее брату, в них не хватало.
И ее губы, тоже идеальные — форма, легкая припухлость, будто бы развратная зацелованность. И удивительно нежный овал ее лица. И холодная, мраморная с легчайшими голубыми прожилками вен бледность ее кожи. И изящный ее стан, и вот даже эта удивительная линия ключиц, так совершенно исполненная. Я помню все, и все кажется мне прекрасным и ныне.
Однако же, Клодия Пульхра никогда не стала для меня живой женщиной, Красотка Клодия была изящной вещицей, столь прекрасной, что в этом и состоял ее единственный недостаток.
При этом, думаю, мое восприятие во многом сузило для меня удивительный мир Красотки Клодии, не позволило мне познакомиться с этой дурной, но по-своему тонкой и удивительной натурой.
Клодия Пульхра была умна, язвительна и крайне энергична, она умела завлечь в разговор и задеть этим разговором за живое. Но во всей это ловкости и тонкости всегда было для меня нечто хирургическое. А я, милый друг, ценю в людях недостатки даже превыше достоинств, потому что только в них люди раскрываются с беззащитной искренностью. Клодия Пульхра же никогда на моей памяти не была беззащитной, ни на полсекунды.
Ее выбор гостей, я подметил сразу, тоже был очень эстетичным. Красивые люди. Курион на их фоне, вполне симпатичный малый, казался действительно страшненьким. Но великолепный Марк Антоний не выделялся.
Мужчины и женщины возлежали в триклинии вместе против всех приличий, им прислуживали полуголые девицы и полностью обнаженные мальчики-виночерпии. Я немного обалдел с самого начала. В то время мы с Курионом, в основном, пившие винцо в Субуре и гулявшие от борделя в борделю, к таким изыскам еще не привыкли. Да и среди красивых гостей Клодии встречались вполне именитые молодые люди, которых не ожидаешь застичь в таком виде.
Красотка Клодия поцеловала Куриона в щеку, будто девушка девушку, с той же легкостью.
— Здравствуй, Курион, рада, что ты посетил нас. А твой прелестный спутник, если я не ошибаюсь…
Надо было мне что-то заподозрить еще на "прелестном спутнике"!
— Марк Антоний, — сказал я. — А у вас тут интересно. Курион меня долго уговаривал, но теперь вижу, что не зря.
Красотка Клодия чуть склонила голову набок и улыбнулась мне, показав изумительно белые и ровные зубки.
— Теперь припоминаю. Наслышана о твоих подвигах.
— В зависимости от того, с иронией это сказано или нет, я скажу: спасибо или "спасибо"! — засмеялся я. Второе, саркастичное "спасибо" удалось мне как нельзя лучше, и Клодия засмеялась. Курион толкнул меня в бок, и я замолчал.
— Скажу честно, — сказал он. — Для нас большая честь, что ты встретила нас.
— Мне было исключительно любопытно, — сказала Красотка Клодия. — Увидеть, наконец, человека, который решился на такое безнадежное дело, как защита моего брата. Было интересно: дурак он или интриган.
Я спросил:
— Так дурак или интриган? Какое твое мнение?
— Еще слишком рано его составлять, — сказала Клодия. — Но я рада видеть у себя и тех и других.
Я был заинтригован, но, в целом, мне показалось, все скучновато. Вокруг Красотки Клодии сгруппировались ее поклонники, соревновавшиеся в том, кто сколько высоколобых цитат ей посвятит. Среди них оказался и Курион, выглядевший в этой компании, как жалкий детеныш какого-то животного. Мне стало за него очень обидно.
А меня Клодия вдруг не привлекла в достаточной степени, и я держался в стороне. Прямо напротив меня лежала симпатичная рыжая девчонка примерно моего возраста, улыбчивая девчонка с длинным носом, вся в веснушках, с чуть раскосыми, кошачьими глазами и милыми щечками. Из всех присутствовавших девушек она была самой простенькой, хотя в целом — безусловной красавицей, иных Клодия не пригласила. Я все пытался с ней заговорить, но, когда я открывал рот, она меня игнорировала. Стоило же мне замолчать, как рыжуля снова начинала мне улыбаться.
Потом меня узнал один из парней, с которым мы вместе бегали на Луперкалии, и завязал со мной скучнейший разговор. Вся эта светская мутотень без живых, кровавых развлечений меня утомляла, и я тихонько набирался, мечтая о том, как раздвину рыжуле ноги или дам в морду тому парню, как бишь его там.
Хваленые вечера Клодии, думал я, со всякими непотребствами. Единственное непотребство здесь: непереносимая скука, с которой невозможно смириться.
Я вдруг спросил рыжулю:
— Эй, красавица, а когда все будут трахаться со всеми подряд без разбору? Или эта часть вранье?
Рыжуля посмотрела на меня и улыбнулась, голос у нее был резкий, звонкий, запоминающийся.
— Когда и если мальчики этого заслужат, — сказала она.
— Что нужно делать? — спросил я и добавил шепотом, кивнув на моего надоедливого товарища. — Хочешь, я ему двину?
Она засмеялась и отвернулась, потянувшись за устрицей.
Зато кормили, надо сказать, хорошо. Было столько морепродуктов, всяческих моллюсков и прочих тварей, что приходилось заглушать их запах ладаном и нардом.
Клодия очень любила морепродукты, но не знаю, насколько искренне. Вполне возможно, что постоянное поедание афродизиаков было частью ее образа.
Еще подавали много фруктов и ягод, моя рыжуля измазала рот и руки красным соком, и от этого зрелища я весь извелся.
— Если хочешь, — сказала мне рыжуля, заметив мое плачевное состояние. — Воспользуйся помощью какой-нибудь рабыни.
— Я бы предпочел…
Только я хотел сказать "тебя" и тем самым придать вечеру обещанную развратную нотку, как Красотка Клодия объявила:
— А теперь, друзья, давайте отправимся на пляж, и воздадим должное этой прекрасной прохладной ночи.
На пляже было зябко, хотя и абсолютно безветренно. Озеро лежало ровной черной гладью, в которой очень точно отражались луна и звезды. Нам начали подавать неразбавленной вино, вышли восточные артисты, заклинатели огней, размахивавшие цепными лампами, музыка стала изрядно веселее.
Когда мы устроились на пляже, Клодия стала развязнее и приятнее, смеялась громче, говорила жестче. В такие ночи она чем-то напоминала брата, в обычной жизни будто бы совершенно на нее непохожего. Но в тот вечер ее брата я еще не встретил. Я улучил момент и спросил у Куриона:
— Где Клодий Пульхр?
— Его сегодня не будет, — вздохнул Курион. — Дела. Но будет в следующий раз, я уверен! Тебе надо понравиться Клодии, чтобы она пригласила тебя еще.
— Да сомнительное какое-то удовольствие, — ответил я, но Курион и слышать ничего не хотел.
В прохладную ночь приятно согреться вином и огнем. После того, как вино перестали разбавлять, и рабы зажгли для нас костры, стало ощутимо веселее, во всяком случае, мне. А, может, устрицы оказали нужное влияние. Во всяком случае, через полчаса я уже с кем-то целовался, но не с рыжулей, вот что я помню.
Потом мы о чем-то спорили, кричали, какие-то девушки подрались, шипя, как кошки. Прежде я такое видел только в Субуре. Красотка Клодия скорее наблюдала. У меня было ощущение, что она экзаменует присутствующих. Смотрела она и за мной, за тем, как я себя веду, как смеюсь.
Впрочем, все было, как по мне, вполне в рамках приличия, пока не случилась одна примечательная вещь. В какой-то момент Клодия, когда мы сидели у костра на подушках, и я рассказывал какую-то веселую историю, встала и скинула одежду. Какое совершенное было у нее тело, и как невероятно смотрелось оно в буйном свете огня, обласканное тенями и вспышками.
Ее примеру последовали и другие. Я не сдержался и выдохнул:
— Ну, наконец-то!
Клодия услышала это и засмеялась.
— О, нет, Марк Антоний, это не для того, чтобы удовлетворять твои низменные инстинкты.
— А для чего тогда? — спросил я, изрядно расстроенный и разочарованный.
— Чтобы не иметь друг от друга тайн, — сказала Клодия и, подойдя к Куриону, стала стягивать с него одежду. — Мы с вами будем очень искренними друг с другом.
Сначала мне было непривычно сидеть голым среди голых людей без надежды на немедленное удовлетворение желаний плоти, но, спустя минут двадцать, смущение окончательно прошло, словно его со мной и не случалось.
Мы передавали друг другу чашу с вином по кругу и смотрели на огонь, сначала почти молча, а потом Клодия рассказала историю о том, как она впервые занялась любовью с мужчиной, и это была не то чтобы горячая история, а во многом даже отвратительная, рассказанная в подробностях, которые не хочется знать.
И другие истории были в таком духе, будоражащие, но мерзкие. Когда пришла моя очередь рассказывать, я говорил о Фадии, о том, что считаю себя виноватым за то, что сделал ее беременной. И я все-таки это сказал:
— Я убил ее.
И это было неловко. Когда говоришь, что убил кого-нибудь, зарезав его или задушив, оно звучит вполне пристойно, но это моя любовь убила Фадию.
Странное дело, мне стало легче, когда я все рассказал едва знакомым людям в таких подробностях, в которые не посвящал даже Куриона. Мы пили все больше и больше, и в какой-то момент мне стало плохо. Я отошел в темноту, подышать холодным воздухом с озера, ступил в воду, надеясь, что она меня отрезвит. Тошнило невероятно, и в голове будто настойчиво пилили какую-то железяку — мерзкое и навязчивое ощущение. От выпитого я совсем отупел и, честно говоря, не знаю, сколько я так простоял, в холодной воде. Вдруг ко мне подошла Красотка Клодия. Она обняла меня, и я почувствовал, как ее соски прижимаются к моей спине.
— Почему ты ушел, Антоний? — спросила она.
Я сказал:
— Не могу больше пить.
— И сразу ушел?
Она выскользнула вперед, подняв брызги воды, и взяла меня за подбородок обеими руками, ласково погладив.
— Только-то и всего? — спросила она.
— Ага, — сказал я.
— У меня есть вопрос, Марк Антоний, — сказала она. — Который я не могу решить. Я слушала твою историю и подумала, что ты можешь мне помочь.
— С готовностью, — ответил я. — Если не отрублюсь.
Клодия Пульхра, чьи прекрасные русые волосы выбелила луна, чуть склонила голову, переступила ногами в воде (это было очаровательно, потому как говорило о том, что ей холодно, и она вполне живая женщина). А вот мне холодно не было, наоборот, только ледяная озерная вода удерживала меня от тошноты.
— Что такое по-твоему зло? — спросила она.
— Чего? Мне плохо, Клодия, я не…
Но она продолжала держать и гладить меня.
— Как ты думаешь? Мне очень важно услышать.
От нее очень сильно пахло вином, и глаза ее блестели. Я сказал:
— Когда перепьешь на вечеринке, и девахи пристают к тебе с философским вопросами.
Но она ничего не ответила, продолжала смотреть на меня совсем темными в слабом свете луны глазами.
— Ну, — сказал я. — Я не очень-то соображаю. Интересного ничего не скажу.
— Только не словами какого-нибудь философа, — попросила она так нежно, что я не удержался и погладил ее по волосам. Они были очень мягкие. В слабом белом свете было вовсе не видно, что она старше меня. Красотка Клодия казалась совсем девчонкой.
И я сказал:
— То, что делается без усилий. Вернее, то, что случается, когда перестаешь прилагать усилия, чтобы этого не случалось. Ты меня понимаешь?
Далеко не лучшая речь великолепного Марка Антония, без фирменных цветастых метафор и сальных шутеек, но Клодия Пульхра оценила то, что я сказал.
— Так не прилагая усилий, чтобы не впускать в мир зло, мы виноваты в его появлении?
В ушах у меня шумело, и нос почему-то заложило. Я сказал:
— Я думаю, что люди делают злые вещи, потому что они перестают следить за собой. И то же самое — боги. Боги забывают о том, что мы маленькие и хрупкие, и случаются всякие моры, землетрясения и прочее. Я делаю зло, когда забываю о человечности других.
— Ты говоришь о Фадии?
Я разозлился и решил толкнуть ее в воду, но Клодия сказала:
— Тшшшш! Ты помог мне, я помогу тебе. Значит, тебе плохо, и ты перепил?
— Со мной случается, — сказал я, но не успел я вывернуться, как она принялась гладить мои губы. Клодия делала это так ласково и нежно, что я закрыл глаза от удовольствия, но, в то же время, в ее ласке не было ничего сексуального. Я быстро привык к ее нежности и расслабился, а она резко засунула мне пальцы в рот и стала гладить мой язык.
— Ты чего? — сказал я невнятно, но Клодия покачала головой, а потом сунула пальцы мне в горло, я оттолкнул ее, и меня стошнило.
— Твою мать.
— Вот, — сказала Клодия безо всякой брезгливости. — Теперь ты можешь пить дальше.
И действительно, всякий раз после того, как тебя стошнит — приходит замечательнейшее облегчение, исчезают все страдания и заботы.
Клодия подозвала рабыню, взяла у нее что-то и сказала:
— Открой рот.
— Второй раз я на это не куплюсь!
Тогда она разжала кулак и показала таблетку на ладони, в спрессованном белом порошке были темные крапинки, на таблетке кто-то выцарапал солнышко.
— Что это?
— Экстази, — ответила она. Я что-то такое о чем-то таком слышал, поэтому открыл рот, и она положила таблетку мне на язык.
— Глотай.
Мы с ней пошли обратно, и я спросил ее:
— А что будет?
— Станет очень хорошо, — пообещала Красотка Клодия. — Подожди немного.
— А зачем ты спросила меня про зло?
— Ты так винил себя, я думала, ты что-то про это знаешь, — сказала она. — Ты меня впечатлил.
Я думал, что таблетку она дала мне за хороший ответ, но к тому времени, как мы вернулись, все уже закинулись и ходили с огромными зрачками. Через полчасика я почувствовал, как сердце бьется сильнее и чаще, а потом пришло и ощущение невыразимого полета. Холодная ночь стала теплой, и все наполнилось светом и любовью, каких я не знал прежде.
Парень, которому я хотел вмазать, показался мне лучшим другом, и я сказал ему, что он прекрасный человек. Да и вообще каждый из тех, с кем я провел тот вечер, вдруг стал для меня особенным. Я полюбил этих людей, я полюбил Клодию, и, хотя это прошло к рассвету, сменившись такой же искусственной и такой же пронзительной тоской, тогда я ощущал себя частью какого-то большого и небессмысленного плана вместе со всеми другими людьми.
Сознание оставалось ясным и ярким, но в то же время мир казался мне очень нежным, воплощенной любовью, которая никогда не увянет и не угаснет. Я вдруг почувствовал эту живую линию, идущую с самого начала времен в меня и через меня — в будущее.
Короче говоря, скажу тебе сразу, Луций: что оно того не стоит понимаешь только на следующее утро. А тогда я думал, что Клодия сделала мне величайший подарок в мире. Разве что я все время клацал зубами, и к утру у меня стала ужасно болеть челюсть.
Оргия все-таки случилась, но я почему-то ни с кем так и не трахнулся. Я лежал с рыжулей на песке, и она, растянувшись на мне, гладила мое лицо.
Я говорил ей, что люблю ее. Она говорила:
— Я никогда не любила никого так сильно, как тебя, Антоний. Я больше никогда не буду плакать, потому что я люблю тебя.
Когда я гладил ее, то хорошо ощущал, как ей нравятся мои прикосновения. Я ощущал это будто бы ее кожей. У нее было длинное, гибкое тело, тоже как у кошки, и, лаская ее, я чувствовал, как ее возбуждение нарастает и спадает.
— Почему мы не трахаемся? — спросил я.
И она ответила:
— Потому что наша любовь выше этого.
— А как тебя зовут? — спросил я тогда, накручивая на палец прядь ее волос.
— Фульвия, — ответила она.
— Хорошо, — сказал я. — А то я все про тебя знаю, кроме этого.
Куриону, кстати, обломилось, причем все то, чего он желал. Однако к утру мы все равно были злые и несчастные, какими, может, не были прежде никогда. В горле у меня немилосердно пересохло, чувство легкости исчезло, а голова, напротив, стала свинцовая, и накатила на меня совершенно невероятная волна отвращения к себе и к миру. Вот урод, подумал я, этот великолепный Марк Антоний, и мир вокруг него тоже уродский.
Курион, судя по выражению лица, был примерно в том же состоянии, и мы молча смотрели на молочный туман, сменивший прозрачный воздух. Все виделось мне пыльным и грязным, хотелось тереть глаза, но цвета и краски не возвращались, и мне казалось, что я смотрю на мир сквозь какое-то ржавое зеркало.
На обратном пути мы с Курионом даже немного поссорились. Я его поддел как раз таки по поводу его любви к Красавчику Клодию, спросил:
— Слушай, а серьезно, как твоему отцу может быть выгодно поддерживать Клодия? Идеи у него довольно людоедские для людей вроде твоего папани.
— Ну да, — сказал Курион. — Только отец не верит, что Клодий собирается их выполнять. Он думает, это хитрая политическая игра.
— А ты?
— А я думаю — выполнит. Так что мы с отцом стоим на одной стороне, но на противоположных позициях!
— И он об этом точно-точно знает? — спросил я.
Тут Курион и разобиделся, так что мы даже не обсудили наши впечатления по поводу вечеринки Красотки Клодии. Лично я так впечатлился, что хотел только лечь и умереть. Так я и сказал Антонии, на что она ответила:
— Слава богам, услышавшим моим молитвы.
Но заснуть я тоже не мог, мучился и маялся, у меня болели зубы, и я чувствовал себя таким жалким существом, что у меня нет правильных слов, которые я в силах подобрать для описания этого состояния. Даже теперь, когда я вспоминаю о том утре, смерть представляется мне плохой, но не худшей перспективой. Да, это муторно, умирать, но не столь отвратительно, сколь утро после экстази. Представь себе, милый друг, свое самое худшее похмелье, измельчи его ножом и смешай со своей же кровью, выпущенной в результате твоего худшего ранения, приправь это все горестными сожалениями о том, что никогда не вернется, но залпом не пей — растяни величайшее удовольствие на пару ближайших дней.
На третий день, когда меня стало чуточку отпускать, я все равно не был вполне в силах справиться с трагедией собственного существования, зато был в силах куда-нибудь идти. Так что я встал тихонько поутру и пошел смотреть тренировки гладиаторов.
Вообще утро — тоскливое для меня время, я предпочитаю его проспать. В тот период моей жизни, если уж я просыпался достаточно рано, чтобы встретить скучнейшую часть дня, то, пока приличные люди работали на благо или даже во вред государству, я, как ты знаешь, ходил в качалку или смотреть тренировки гладиаторов, один важный тренер был мой хороший знакомый. Я брал с собой какой-нибудь вкусный завтрак (бои всегда возбуждали у меня аппетит, мясо есть мясо, что ни говори) и отправлялся смотреть, как мужики мутузят друг друга деревянными мечами, и очень радовался, когда у них все-таки получалось что-нибудь друг другу раскровить.
Тогда, помню, взял с собой вяленое мясо и пирожки с медом (аппетит ко мне вернулся впервые за три дня и очень решительно), уселся на скамейке и принялся смотреть, как два крепких парня сражаются на деревянных мечах. Больше всего я любил глядеть, как учатся молодые. Они еще не всегда понимают, что выгоднее бить не в полную силу, и все происходит куда реальнее, чем у их более опытных товарищей.
Мы поговорили с тем человеком из школы гладиаторов, я поделился с ним едой, и мы обсудили, на кого выгоднее всего ставить в этом месяце.
— А ты все не собираешься? — смеялся он. — Тебе к нам сюда дорога, не бойся, я не забуду нашей дружбы.
— Ну спасибо, — сказал я с набитым ртом. — Очень приятно, умник. Умеешь ты поддержать светскую беседу.
Потом он ушел по каким-то своим делам, а я все глядел, как ребята молотят друг друга деревянными мечами.
— Ну живее! — крикнул я. — Больше чувства! Не воины, а намокшие лисицы!
В этот момент кто-то сел рядом со мной на скамью и сказал:
— Да чего тут смотреть, сука, бля, это постановка все. Улицы — вот где реальная жесть.
Голос был скрипучий, гнусавый, резкий, но очень запоминающийся. Человек рядом со мной вытянул ноги, и я увидел крепко зашнурованные блестящие черные берцы.
Вот это вульгарная латынь, не так ли?
— Да, — сказал я. — Не без этого. Но люди покупаются.
— А их обманывают, — сказал он. — Им не хватает правды.
Прежде, чем я повернулся к моему собеседнику, он подался ко мне и заглянул мне в глаза. Он спросил:
— А ты по алкашечке веселый или грустный?
— Когда как, — сказал я.
— А я злой, сука, бля, — ответил он. — Публий Клодий Пульхр, кстати.
— Ну вот и познакомились, — засмеялся я, и он тоже с готовностью засмеялся. Красавчик Клодий был полной противоположностью своей сестре. Когда она — синеглазая, он — кареглазый, носик ее крайне аккуратен, у него же широкий нос в заметных порах, где там ее мягкий овал лица, а где его острый подбородок и ярко выделяющиеся скулы. И только губы у них абсолютно одинаковые, безупречно идеальной формы. У Клодия, как и у тебя, лицо в веснушках, из-за этого он всегда казался мне младше своих лет. Я бы никогда не сказал, что он на десяток годков старше меня, максимум, года на два. Было в нем что-то лихое, мальчишеское, что с возрастом почти у всех пропадает.
Я сказал:
— Курион про тебя много рассказывал.
Клодий вскинул густые темные брови.
— Это, бля, кто?
— Ну, парень, — сказал я. — Который защищал тебя в народном собрании.
— А, — сказал он. — Ну да. Спасибо ему от всей души, сука, бля.
Он вытянул ноги в тяжелых ботинках и посмотрел на учебную арену.
— Говно, — сказал он. — Твой раб меня сюда отправил. Хороший малый.
Я несколько растерялся.
— Тебя? Сюда? Ты меня искал?
— Ну, — ответил Клодий Пульхр. Не ожидал я такого красноречия от этого одиозного персонажа. С другой стороны, а чего я еще ожидал?
В Клодии Пульхре не было ровным счетом ничего аристократического, не так, совершенно не так представляешь себе представителя древнего и прославленного рода. Он одевался просто, улыбался широко, сквернословил, словно такова была большая половина его словарного запаса. Клодий походил на разбойника из Субуры, однако весь его образ был тщательно им продуман. И оттого, если можно так выразиться, смотрелся эстетичнее, чем реальность.
Прекрасные женщины, смотрящие с фресок, продуманнее наших обычных, живых женщин, сколь красивы бы они ни были. Даже Красотка Клодия, идеальная вещичка, допускала иногда отвратительную гримаску. То же и здесь — Красавчик Клодий не был представителем низших классов, он был самой идеей низших классов, воплощенной в очень точном образе человека, который ни слова не может сказать без брани, но ищет священную правду жизни, до которой никогда не опускаются богачи.
Прекрасный пример того, как хороший политик должен создать свой образ, опираясь на тех, кого он хочет призвать под свои знамена.
Но в то же время это не значит, что Клодий был лжецом. Он вполне искренне желал стать тем, с кем шел рука об руку к власти. Потому что он думал, что за ними справедливость. И именно в этом желании было столько огня, чтобы народ полюбил его самозабвенно. В конце концов, всем нам хочется, чтобы нас любили настолько, чтобы уподобиться нам. И если в обратную сторону, от бедных к богатым, это работает легко и приятно, то богатые снисходят до подражания бедным очень редко.
Вот что я думаю: Красавчик Клодий мог быть тем еще мудаком, но любовь его к своим питомцам был искренней и настоящей. И в этом его гениальность, до которой ни один популяр не снизошел до сих пор. Никто просто не любит всех этих грязных людей настолько, можешь себе представить? Именно так: не отмыв их, не приведя в порядок, не обучив нашей порядочной латыни.
Ну да ладно, после драки кулаками не машут, милый друг, и кем был Клодий, в сущности, уже неважно.
А тогда мы с ним сидели, и над нами светило яркое, сильное солнце, слепившее глаза мальчишкам-гладиаторам, и их деревянные мечи стукались друг об друга с еще более оглушительным треском.
— А зачем ты меня искал? — спросил я. Красавчик Клодий заставлял меня вести себя очень настороженно. Это со мной нечасто в жизни случалось.
— Ты же Марк Антоний, так? — спросил он вдруг, хлопнув себя по кудрявой голове. — Сука, бля, вдруг я перепутал. Вот лажа-то какая.
— Марк Антоний, — ответил я после некоторой паузы. Красавчик Клодий улыбнулся мне, широко и зубасто. А я все думал, как же он произносил эти речи, которые я слышал в пересказе Куриона. Выяснилось, что никак — то были совсем другие речи, хотя и с более или менее сохранным смыслом, Курион просто оказался не в силах передать изысков вульгарной латыни.
— Ну зашибись, — сказал он. — Марк Антоний. Очень приятно. Будем знакомы.
Он похлопал меня по плечу и сказал, глядя на солнце (глаза его изрядно посветлели, зрачки сузились, и радужка приобрела теплый коричневый оттенок):
— Короче, сестра мне о тебе рассказывала. Ты крепкий парень, мне такие нужны.
— Физически крепкие?
— По-всякому крепкие, сука, бля, — Клодий Пульхр хрипло засмеялся. — Мы с тобой будем друганами, правда? Ты хорошо говоришь. Сестра не сентиментальная, но, бля буду, сказала, ты ей понравился.
— Да мы почти и не общались, — ответил я растерянно.
— Да похуй, — сказал Клодий. — Посмотрим, что она в тебе нашла.
Он ни на секунду не засомневался в том, что я пойду с ним куда угодно. В этом еще одна прекрасная и ужасная черта Красавчика Клодия, позволившая ему стремительно возвыситься и стремительно пасть.
Я сказал:
— А чего ты, собственно, от меня хочешь?
— Ну так, — уклончиво ответил Клодий. — Послушай меня. Если тебе понравится, мы посмотрим, чего ты можешь сделать.
— А с чего ты взял, что мне интересно? — спросил я, вдруг разозлившись. Красавчик Клодий посмотрел на меня и оскалился, его острые, мелкие, белые акульи зубы заблестели под ярким светом солнца.
— Я думаю, тебе все интересно. Тебе реально нечего делать, сука, бля. Ты ж помираешь со скуки. Я уверен, придешь, даже если тебе насрать на общественные проблемы и все такое.
— Справедливо, — сказал я. — Вполне.
— А то.
Клодий Пульхр вскинул кулак.
— Справедливость, сука, бля. И все дела.
Он встал, и тень его легла на деревянные скамьи, очень длинная. Я сказал:
— А где?
— Да в Субуре, — ответил он. — Все, как ты любишь.
— А ты навел справки, я так погляжу.
— А я считаю, сука, бля, что нечего с человеком базарить, если ты не в курсах про него вообще. В Субуре, короче, в семь.
— А где? — спросил я.
— Да ты увидишь. Все будут на ушах, это я обещаю. Реальная жесть. Как ты любишь.
— С чего ты взял?
Я чувствовал себя глупо, мне надоело задавать вопросы, но ничего утвердительного в ответ на напор Клодия сказать было нельзя.
— Ну не знаю. Вижу, ты такой. Все, парень, бывай. Всего приятного.
Я еще долго смотрел ему вслед, игнорируя очень старающихся гладиаторов.
Честно говоря, Клодий был прав. Я даже не раздумывал над тем, пойти мне сегодня вечером смотреть на Клодия или нет. И хотя я относился к нему с некоторой неприязнью из-за Куриона, раз уж я согласился пойти на вечер к Клодии Пульхре, почему же не пойти послушать, что говорит Клодий Пульхр.
Да и вообще, честно говоря, мне и вправду было совершенно нечего делать в этой жизни.
Куриона я предупреждать не стал, просто явился в Субуру. Однако, Клодий зря не дал мне четких указаний — район этот не маленький. Некоторое время я бессмысленно бродил по узким улочкам, успел купить себе выпить и, наконец, услышал крики. Толпа волновалась и шумела, и я устремился на этот пугающий и завораживающий звук.
Народ собрался недалеко от одного из стихийных рыночков, который то возникал, то исчезал, и я хорошо знал это место. Ораторское возвышение Клодию Пульхру было без надобности, он стоял на каких-то деревянных коробках, высоко возвышаясь над толпой. Коробки качались, и Клодий был похож на артиста, выполняющего сложный трюк. Иногда он подавался назад, и люди ахали, думая, что Клодий упадет, но он только смеялся и расхлябанным, быстрым движением подавался уже вперед, он стоял на одной ноге, подпрыгивал, и вообще всячески проверял эти коробки на прочность. Такие вот мелкие движения выглядели как насмешка над традиционной ораторской жестикуляцией, и у Клодия она получалась очень остроумной, действительно забавной.
Артистичный и гротескный, как комический актер, он в то же время лучился искренностью и энергией. Клодий Пульхр умел держать толпу, как никто из тех, кого я когда-либо знал. Только присоединившись к этой толпе, я почувствовал себя ее частью, живым, внимающим организмом. Быстро забылось, что толпа — это все какие-то отдельные люди со своими неповторимыми жизнями и историями. Оказалось, что толпа — нечто больше моего нескромного "я", это поглощающее "мы". Я стоял, тесно зажатый между незнакомыми мне людьми, и чувствовал их лихорадочное тепло, запах их пота, запах чеснока, запах грязных волос. Но вместо отвращения я испытывал чувство, которое сложно описать. Это абсолютное забытье, в котором ты растворяешься, как растворяются в вине, или в любимой (не в любой!) женщине. Здесь, когда Клодий Пульхр говорил о том, что все люди — братья, его понимали буквально.
Эти пару сотен незнакомцев были для меня в тот момент такими же родными, как вы, я любил их всем сердцем, они любили меня, и мы были частью того, о чем говорил Клодий Пульхр — он говорил о нас. Обо всех потерянных, опозоренных, обремененных долгами, о тех, кто страдает от немощи и бедности, о тех, кто возвращается с войн в никуда, о тех, кто не имеет крова над головой.
Говорят, Клодий Пульхр — защитник черни. Это тоже правда, однако, он никогда не делал настоящей разницы между ими и нами, потому-то он и пугал всех этих высоколобых мразей вроде Цицерона (которому, кстати, всегда доставалось именно за незнатность рода). Он видел правду о людях, которые очень похожи, как бы ни различалось их происхождение. Если хочешь знать, эта правда Клодия Пульхра намного опередила наше время, никто не готов принять ее в полной мере. И я, даже страстно восхищаясь Клодием, не был в свое время готов. Разве что чуть-чуть, осколочками.
Но вернемся к тому вечеру в Субуре, над головой зажглись уже яркие звезды, и голос Клодия, резкий, гнусавый и скрипучий, возносился прямо к небесным телам.
Он, качаясь на коробках, будто искусно прирученная к трюкам обезьянка, запрокинул голову со страстью оракула. Весь он был полон контрастов, этот странный патриций, посвятивший свою жизнь последовательному уничтожению своих же привилегий.
Он кричал, как одержимый:
— Посмотрите на эти сенатские рожи, мои друзья, посмотрите в их глаза — они испытывают к людям отвращение. Они умываются, чтобы очистить себя от вашего запаха, если столкнутся с вами на улице. Они кривят ебла при виде вас потому, что вы не богаты и не знатны. Им противно думать, что вы существуете! Они еще примирятся со мной, мать их я еб, но с вами — никогда! И ненавидят они не меня, ненавидят они вас. А ненавидят, потому что боятся. Как мало богатых людей, и как много вас, тех, у кого нет пищи, крова, свободы! Мы перевернем мир, если захотим, он изменится до неузнаваемости!
Ох, как ловко он сначала говорил "вы", а затем вдруг перешел к "мы", я даже этого не заметил, но душа моя потянулась к нему.
— Позор, вот чем они облекают вас, как только у вас недостаточно денег и родовитых предков, чтобы составить им компанию в их блядских развлечениях. Они, мать их, говорят, что так было всегда. Что на этом блядстве держится Рим! Это неправда! Рим — это мы, ты, я, ты, ты, ты, ты! Рим это огромное чудовище, которое не подавится кучкой богатеев. Вы — солдаты, вы — земледельцы, вы — торговцы, вы — ремесленники, вы — плоть и кровь этого города. Они — лишь кровоядные крысы, вцепившиеся в эту плоть. Но мы не слабые, нет, мы не слабые. Кто сильнее нас? Я спрашиваю вас сейчас, пацаны, кто сильнее нас, кто, сука, бля, может нам противостоять? Горстка дедов, трясущаяся от страха при одном упоминании меня, но на самом деле напуганная вами? Нахуй их. Купленные гладиаторы? Те из них, кто слишком напуган, чтобы переметнуться на нашу сторону? Нахуй их! Я не боюсь сдохнуть, я ничего не боюсь, потому что мы — правда, равной которых нет. Мы — сама реальность, бля!
Словом, ты понял. До сих пор — практически слово в слово, и, когда я вспоминаю о том дне, в голове у меня как во сне звучит голос Клодия Пульхра.
В конце концов, он спрыгнул вниз, но не упал, хотя высота была приличная, пнул коробки, и башенка из них с треском рассыпалась.
— Нахуй это! — крикнул он. — Я не выше вас! Я, сука, бля, один из вас! И мне не надо большей чести, чем это!
Толпа взревела, и я вместе с ней. В конце концов, я тоже был плебеем, хоть и куда более знатным, чем уличный сброд, собравшийся здесь. Этот патриций хотел быть одним из тех, кто стыдится своего происхождения, что оказывало невероятное воздействие. Помню, Клодия обнимали, тянули к себе, трогали, стремясь урвать кусок его одежды. Я был выше многих присутствовавших и кое-что видел, даже перепугался, как бы его не разорвали на кусочки. Но Клодий, раскинув руки, расслабился и позволил трогать его, целовать и обнимать. Было в этом что-то очень чувственное. Потом он закричал.
— А сейчас мы пойдем и наваляем им! Нахуй налоги, нахуй их кредиты, правда? Нахуй их ебаные привилегии! Мы будем есть свой хлеб, потому что мы трудимся и воюем, и никто больше ничего у нас не отберет! Ни одна сука больше никогда у нас ничего не отберет!
Ну и все в таком духе. Я и не заметил, как устремился, сам не зная куда (начало речи я пропустил) вместе с толпой. Но мне нравилось это — будто меня подхватило бурное течение, и я с головой ушел под воду, где не надо было думать.
Нас учат, что хорошая речь должна быть аргументированной, что в ней должны быть ясные тезисы, и одно пусть непременно исходит из другого. О, милый друг, большей чуши я не слышал в жизни. Хорошая речь никогда не должна включать голову, она должна ее выключать. Неважно, что из чего следует, даже лучше, если ничто и ни из чего. Важно только ощущение, это ощущение единства, переживание любви и ненависти.
Хороший оратор не возносит тебя, он опускается к тебе и говорит с тобой доверительно, так, что ты ему поверишь. А верят не разумом, верят сердцем, я знаю только это.
О, толпа, о, люди, передававшие друг другу такого расслабленного и почти безвольного Клодия, на самом деле они были полностью в его власти, они сделали бы все, что он захотел.
Если бы он сказал им убить, они бы убили. Если бы он сказал им грабить, они бы грабили.
Но Клодий сказал:
— Так пойдемте покажем им, что следует с нами считаться.
И мы пошли показывать им, что следует с нами считаться.
Кто-то обнял меня и сказал:
— Реальная жесть, правда, друган?
И, так как это были слова Клодия, я крепко обнял этого человека в ответ.
— То ли еще будет! — сказал я, ощущая, как много во мне силы и страсти для того, чтобы изменить мир.
Я этого человека совсем не знал и не помню сейчас его лица, но тогда он был мне ближе родной матери, и мы шли в ногу. Люди смеялись, кричали, выкрикивали отрывки из речи Клодия (словно те самые кусочки, на которые его могла разорвать толпа). И я был среди них, был одним из них.
Кучка богатеев, думал я, они возомнили, что могут отнять у меня отчима, что могут заставить меня отдавать долги человека, который умер, когда мне было всего двенадцать лет.
Ирония в том, что Клодий в свое время конфликтовал с Катилиной, но сейчас это было совершенно неважно. Тем и хороша речь Красавчика Клодия, каждый мог употребить ее по назначению.
Толпа текла по Субуре, словно река. Я не знал, куда, зачем и почему, и меня это не волновало. Вдруг кто-то дернул меня за рукав.
— Антоний! — крикнул он.
— Курион! — ответил я. И мы крепко-крепко обнялись, словно давно разлученные братья.
— Как я рад, что ты здесь!
— Совсем не похоже на ту хрень, которую ты мне заливал!
— Это нельзя передать! — сказал Курион восторженно. — Нельзя передать, что он творит с людьми!
— Артист! — сказал я. — Я думал, политики делают как Публий!
— Лгут и воруют?
— Пошел в пизду, — ответил я, и тут же услышал смех Клодия. Люди, передавая его из рук в руки, донесли Клодия до нас. Он смеялся, запрокинув голову, и, когда он попал ко мне, я крепко взял его за воротник.
Не помня себя, я выдохнул:
— Хочу быть тобой. Я хочу быть тобой! Как ты делаешь это?!
Красавчик Клодий захохотал, его острый кадык задергался, словно Клодий задыхался.
— Мастерство, сука, бля, не пропьешь, — сказал он и выкрикнул. — Ребята, сейчас будет настоящее мясо! Месиво! Месиво!
Толпа подхватила его вопли.
А Клодий Пульхр подался ко мне и шепнул:
— Дай им съесть тебя заживо. Вот и весь секрет. Пусть они прожуют тебя и проглотят.
Я так понял, что весь секрет в любви и вожделении. Но кто его знает, что на самом деле имел в виду Клодий Пульхр?
Вдруг он сунул мне в руку кинжал.
— А ты без оружия, Марк Антоний! — сказал он. — Это плохо! Вот теперь все хорошо! Все пиздато!
Рукоять кинжала была разогрета его ладонью, и я сжал ее, стараясь не упустить ни капли этого тепла.
Знаешь, что самое смешное, Луций, и одновременно со мной так бывает чуть ли не всегда. Я так и не понял, куда мы шли. Я пытался спросить у Куриона, но он был слишком взвинчен. Я пытался спросить у Клодия Пульхра, но его уже утянули дальше, он продвигался вперед и вперед, пока не возглавил толпу, которую прежде направил. Отличная метафора для власти, правда?
Но это незнание ничуть мне не мешало, я чувствовал себя важным, я чувствовал себя частью чего-то большого и очень сильного. Я мог бы делать ужасающие и потрясающие вещи, и я бы этого не осознал: ни повода для гордости, ни повода для позора.
В ту ночь (а была уже яркая, звездная ночь) мы, разогретые собственным дыханием и уже совершенно нетрезвые (даже те из нас, кто и каплей вина себя не подзадорил), шли вслед за Клодием долго, заводя плебейские песни и размахивая факелами. Все стало хорошо, лучше не бывает.
Я чувствовал себя, наконец-то, цельным.
Так что, когда мы увидели крепких вооруженных ребят, никто, в общем-то, не испугался. Их было меньше, но они были куда лучше экипированы.
— Пацаны! — закричал им Клодий Пульхр. — Бросайте нахуй свое оружие, а лучше бросайте своего папашу Цицерона и присоединяйтесь к нам! И мы дойдем вместе до самого Капитолия!
Но, наверное, ребятам хорошо платили. Во всяком случае, Клодий не успел объяснить им, что станет с папашей Цицероном, и ему пришлось выхватить меч. Я воспринял это как личное оскорбление. Так как изначально я находился ближе к концу шествия, а теперь конец стал началом, положение у меня было удачное для того, чтобы ринуться в бой.
И, честно, тогда я ничего не боялся. Скажу тебе так: от военной подготовки очень отличается. И хотя дрался я на тренировках отлично, здесь сразу все забыл, но никакие знания мне и не понадобились.
Природа есть природа, и она безжалостна, но милосердна. Не знаю, как я тогда уцелел, потому что я активно лез на рожон.
Теперь я думаю, что Красотка Клодия рассказала Красавчику Клодию именно это — что я очень отчаянный, в том самом смысле, что несчастный. Уж не знаю, как она поняла, но на то она и Красотка Клодия. А Красавчик Клодий всегда питал слабость ко всем несчастным в мире.
Что касается той ночи: запах крови очень быстро перебил запах пота, и это было приятно.
Я думаю, я тогда убил человека. Во всяком случае, я помню, как лезвие входит в человеческую плоть (с трудом, который вознаграждается стоном) именно оттуда. Потом мы куда-то бежали вместе с Курионом, и кинжал у меня в руке был покрыт черной липкой кровью. Я очень этому удивлялся и — еще долго-долго.
Я даже не уверен, что я убил не одного из своих же ребят — такой суматошной и хаотичной была эта свалка. Впрочем, теперь я понимаю, что Клодий не считал жертв. Наоборот, гибель его людей раззадоривала толпу, потому как вызывала праведный гнев. Нет легче способа его разжечь, чем безвинные жертвы.
В любом случае, я помыл кинжал в Тибре, но мои руки как будто бы еще долго пахли кровью, хоть это и невозможно.
— Ты видел, ну ты видел! — говорил Курион. — Что было! А! Клодий Пульхр!
— Да, — сказал я. — Клодий Пульхр! Реальная жесть!
Я склонился к Куриону, взял его за плечо и сказал:
— Посмотри на них! Они испытывают к людям только отвращение!
И мы счастливо засмеялись.
На следующее утро Клодий пришел ко мне в дом. На рассвете вдруг зарядил дождь, и с тяжелых ботинок Красавчика Клодия стекала вода, он оставлял за собой яркие следы.
— Антоний! — сказал он. — Бля, я реально уверен, что тебе понравилось. Сука, бля, какой ты был — молодца вообще, хвалю. Цицерон, еб его мать, обосрался небось, да? Мы — сила, и вся хуйня.
Я крепко обнял его и сказал:
— Клодий Пульхр, ты показал мне справедливость, я хочу добиться ее! Научи меня всему!
— Да не вопрос вообще, — ответил Клодий. — Реально, чего ты думаешь об этом?
— Ну, — сказал я. — Перво-наперво, теперь я думаю: как странно, что горстка людей захватила власть надо всем миром. Может, их предки и были умны, но с чего мы взяли, что умны они сами, а?
— Во, — сказал Клодий. — Мозги у тебя, сука, бля, начинают работать нахуй. Почему? Да? Нет ответа!
В общем, мы проговорили все утро и очень тепло попрощались, а потом, уже у двери, Клодий вдруг выхватил из ножен кинжал и прижал его к моей шее. Инстинктивный страх заставил меня замереть.
— Чего? — спросил я, лезвие сильнее прижалось к шее, а Клодий Пульхр смотрел на меня блестящим, лихорадочным взглядом.
— Думаешь можешь ебать мою жену, а? — спросил он. — Ты, бля, думаешь можешь ебать мою жену? Мою симпотную Фульвию!
— Чего? Да иди ты, не ебал я твою жену, — ответил я оторопело, и вдруг вспомнил о рыжуле. Что правда, то правда — я ее действительно не ебал, но это лишь счастливое стечение обстоятельств. Впрочем, кто знает, что Красотка Клодия наплела Красавчику Клодию. Обниматься голыми под экстази тоже предосудительно.
Клодий вдруг засмеялся и отвел нож.
— А я знаю, — сказал он. — Я, бля, знаю. Это на будущее.
Вот такой аристократический молодой человек.
Наша дружба была крепкой, ее поддерживало мое желание учиться у Клодия с одной стороны, и его абсолютная, подкупающая доверчивость с другой стороны. Я искренне восхищался им, он в свою очередь был очарован этой моей искренностью.
— У тебя обаяние животного, — говорил он. — Все, сука, бля, любят непосредственных смешных животных! Все!
Но нас объединяло и еще кое-что, кроме яркой дружбы: ненависть к Цицерону. Клодий ненавидел Цицерона по идеологическим причинам и, конечно, за то, что тот выступал против него во время процесса о саботаже Таинств Доброй Богини. Ненависть подчас объединяет так же сильно, как и любовь.
О, мы крепко дружили, когда он сумел стать народным трибуном (сам помнишь, сложности были связаны именно с его аристократическим происхождением). И это я помог ему протолкнуть тот самый закон, благодаря которому стало возможным изгнать Цицерона из города.
Помню, я тогда упражнялся с мечом, а Клодий говорил мне:
— Я буду преследовать суку, пока у него сердце не остановится. Я ему, блядь, покажу, вот увидишь. Теперь мы с ним играем на одном поле, и он у меня будет плясать, пока не посинеет нахуй.
Клодий был так же горяч в ненависти, как в любви и в дружбе.
— Но ты не умеешь играть на его поле, — сказал я. — Честно тебе скажу, сенат так не работает. А как он работает, ты понятия не имеешь.
— Как будто ты имеешь, — сказал Клодий.
— А я тем более, — ответил я бесхитростно. — Знать не знаю. Вот бы здесь был Публий. Он бы точно понял, как прищучить гада.
К тому времени я уже несколько раз рассказывал Клодию эту историю, и каждый раз он, хоть и не был согласен с заговорщиками, обращался ко мне с искренним сочувствием. Вот и сейчас Клодий сказал, что помощь моего отчима не помешала бы и правду, хотя бы добрый совет.
Вдруг я, в связи с вышесказанным, вспомнил, как его судили. И вспомнил, как Цезарь давал интервью и говорил о законе.
— Закон Семпрония! — выпалил я. — Семпрония Гракха!
— Ну и чего? — спросил Клодий.
— Того, — сказал я. — Что никто не может убивать римского гражданина без санкции народного собрания! А он убил целых пять! Ну, и вообще будет выглядеть так, как будто ты продолжаешь дело Гракха. Очень разумно.
Клодий щелкнул пальцами.
— Точняк! Обалденная идея, Антоний! Мысля красивая, мне нравится, тем более, что Цезарь вроде чего-то такое даже пиздел же по телику.
— А я об этом и вспомнил. Не благодари, великолепный Марк Антоний всегда к твоим услугам.
О, было истинным удовольствием наблюдать, во что вылился наш тогдашний маленький разговор. Говорят, Луций, что Цицерон, скотина, ползал на коленях перед Помпеем. Не знаю, так ли это, но верить хочу.
Надеюсь, он изрядно настрадался, зная, какой позор навлек на себя своим преступлением. Думаю, Клодий хотел смерти Цицерона так же сильно, как и я. Однако было бы несправедливо упрекать его в убийстве римских граждан, предлагая его убийство. И чтобы избежать ненужной иронии, было решено остановиться на ссылке. Клодий в лицах пересказывал нам с Курионом (о, ирония, это твой великолепный брат помог Куриону сойтись с его обожаемым Клодием) всю эту историю, и мы ужасно радовались. Курион, впрочем, не так яростно, как я, ему нечего было иметь против Цицерона, он просто любил позлорадствовать.
В конце концов, Цицерон убрался из города, правда, добровольно, чтобы сохранить хорошую мину при своей невероятно плохой игре.
Тогда Клодий пришел ко мне и сказал, что любит и ценит меня, и знает, сколько зла причинил моей семье Цицерон.
— Другалек, — сказал Клодий. — Я тебе реально предлагаю замес, сука слился, но остался его дом. И он теперь наш.
Ох уж эта его вульгарная латынь.
Был и еще один смысл, его мне Клодий объяснил по дороге.
— Разрушение, — сказал он. — Вот что такое созидание в самом начале. Мы с тобой будем разрушать, да, сука, бля, мы будем разрушать. Я хочу чтобы ты это испытал. Это просто необходимо. Ты хочешь быть, как я, я покажу тебе, как.
Саму дорогу я помню плохо, наверное, от радостного волнения, охватившего меня тогда. Помню вот, как мы стояли на лужайке перед домом Цицерона. Хорошенький домик, надо сказать. Очень изящный, почти воздушный. Произведение искусства.
Я смотрел на этот дом и знал, что мы сожжем его.
Куриона Клодий не взял, и вообще никого из своих обычных товарищей не взял, кроме меня. Он запустил в дом Цицерона настоящих разбойников, а потом уже зашли мы. Всюду сновали люди, они выносили вещи, били шкатулки, сгребали украшения, плескали жидкой грязью на стены, разрисованные птицами и травами, выносили запасы вина, бросали со второго этажа бюсты. Я переступил через бюст Фукидида, уставившегося на меня слепыми глазами.
— Историк, бля, — сказал Красавчик Клодий и сплюнул. — История — насильница. Ненавижу историю.
Он пнул и без того разбитую голову Фукидида.
— Сука, бля.
Я чувствовал какую-то злую, идущую из груди радость, неостановимую, неудержимую. Вместе со всеми я бил, резал, заливал грязью то, что было когда-то жизнью Цицерона. И мне становилось радостно от мысли, что я уничтожаю часть его.
Для Клодия же разрушение имело сакральный смысл. Таким было его таинство. Он погружался в него, будто жрец. И для Красавчика Клодия здесь не было границ.
Впрочем, я почувствовал себя неловко лишь раз, когда Клодий вытащил свитки из библиотеки Цицерона и сбросил их в горячую ванную, вода тут же почернела, а я вдруг почувствовал печаль. Книги были для меня почти живыми. Это ведь человеческие мысли. Да и сколько труда вложено в эти дорогие вещи. Побольше, чем в иные фрески и вазы.
Я смотрел, как чернила покидают пергамент и становятся ничем в горячей воде. Я сказал:
— Жаль библиотеку.
Клодий сказал:
— Ничего не жаль, сука, бля.
А потом он прыгнул в черную воду и утянул за собой меня. Мы барахтались среди размокшего пергамента, и Клодий просил (он никогда не велел, только просил) принести нам выпить. Тогда-то я и попробовал знаменитое опимианское вино, которым, по дядькиным словам, должен был насытиться — оно оказалось вязким и горьким на вкус. Ничего особенного.
Клодий, задыхаясь от смеха, говорил:
— Разрушение — вот что главное, остальное ты вправе забыть!
А я приноровился и ощутил эту радость уничтожения чего-то по-настоящему ценного.
— Убийство вещи, — сказал я, и Клодий кивнул, повторил, смакуя:
— Убийство вещи. Мне нравится.
Мы сильно напились, уродуя дом Цицерона. Помню, вечером я лежал на постели Цицерона и резал ножом его мягкие ласковые простыни. Нет, сука, никогда тебе не спать на них, думал я. Клодий, тоже совершенно пьяный, лежал рядом и смотрел в потолок.
Я вдруг спросил его.
— А как это было?
— Чего? — спросил он, повернувшись.
— Ну, с Таинством Доброй Богини.
Помнишь эту историю, родной? Когда Клодий из любви к жене Цезаря проник туда, куда не проникал прежде ни один мужчина: переодевшись в женское платье, он пробрался на Таинства Доброй Богини.
— А, — сказал Клодий, он взял пустую амфору, перевернул ее над головой, на лоб ему упала пара капель вина. — Нормально.
— А что там было-то? — спросил я.
— Да я ничего особо и не видел. Бабы чего-то там бормотали, мазали лбы благовониями. Херня какая-то, если честно, я большего ожидал.
Вдруг Красавчик Клодий резко приподнялся на кровати, бросил амфору в стену, и та со звоном разбилась.
— Мне понравилось другое, — сказал он. — Понравилось, что я разрушил их маленький мирок. Что я сделал то, что было нельзя. Вот что главное. Все должно быть можно. Вот тогда — заживем.
Он говорил резко, зло, маленькие острые зубки клацали сильно, но вдруг Красавчик Клодий блаженно улыбнулся и вновь упал на кровать, уставившись в потолок.
— Я построю на этом месте храм, — сказал он. — Прекрасный храм, потому что за разрушением всегда следует созидание!
Я покрутил пальцем у виска, а Красавчик Клодий громко засмеялся, вытянув ноги в грязных берцах на дорогущей простыни.
Потом, когда мы смотрели на пламя, объявшее разграбленный дом, Клодий все говорил:
— Это будет прекрасный храм, такой прекрасный храм, боги и люди будут любить его одинаково сильно, сука, бля.
Больше не могу писать, хочу закончить на хорошей ноте: вот такие мы с Клодием Пульхром были друзья, если это можно назвать дружбой. Когда ты увлекся его персоной, я с ним уже враждовал, и, сколько ты ни просил меня рассказать о нем и о том времени, что мы провели в дружбе, я не соглашался.
Теперь я думаю, что надо было согласиться, в его истории много поучительного для тебя, Луций, да и ты, в конце концов, просто хотел узнать побольше о своем кумире, это вполне невинное желание, хоть и не всегда сообразуется оно с моим тщеславием.
В любом случае, я рассказываю о нем теперь, когда некому меня послушать и поправить.
Таков был Клодий Пульхр, и таков был я тогда, и таков, как я сейчас, во многом, сделался я благодаря Красавчику Клодию. Спасибо ему и пошел он на хер.
А ты, если только встретил его там, передай ему именно это.
Твой брат, Марк Антоний.
Послание восьмое: Земля любви
Марк Антоний брату своему, Луцию, у которого настроение весьма получше, должно быть, потому как мертвые больше не волнуются о своем жребии.
Все изменяется, даже сами любовь и ненависть превращаются со временем свои жалкие тени. Одно неискоренимо: представление о том, что где-то когда-то было хорошо. Память так гладко срезает углы, что прошлое почти всегда кажется нам лучше настоящего, если, во всяком случае, не глядеть на него пристально. Отсюда, наверное, и представление о невинном веке Сатурна, когда люди были столь кроткими и нежными, что не убивали ни зверей, ни птиц, ни себе подобных, а земля была так добра, что не нуждалась в плуге.
И все это, конечно, не то что в наш порочный век (можно без проблем подставить нужный).
Вот и я, оглядываясь сейчас на свое прошлое, поначалу вижу только нежный туман, скрывающий его истинные очертания. И мне хорошо в этом тумане, он дурманный, он заставляет забыться и видеть прекрасные сны.
Но стоит мне присмотреться к тамошним пейзажам, и я начинаю замечать острые углы и сколы, которые больно ранят меня.
Я пишу тебе, великолепное Солнце, и думаю о том, достаточно ли я сделал для того, чтобы ты и Луна были счастливыми. Мне следовало присматривать за вами лучше, да и вообще, когда я думаю о вас, о моей семье, я всегда держу в уме, сколь многое я упустил.
На прошлое без этого тумана тяжело смотреть, везде видишь ошибки, которые необходимо исправить, но ты ведь не можешь, эти ошибки вымостили твою дорогу и дороги многих других людей.
Наверное, прошлое становится благим и туманным со временем, потому что иначе, оглядываясь на него, мы слишком хорошо понимали бы наше настоящее и будущее. А в таком случае, в мире не осталось бы тайн.
Клянусь тебе, вспоминая, я лучше осознаю день нынешний и его взаимосвязь с днем грядущим — все они несут мне только то, что я сам для себя сотворил. Плохо ли это? Я думаю, сила разума в том, чтобы не жалеть, как бы ни велик становился соблазн заплакать, оглянувшись. У меня этой силы разума нет, я жалею, но иногда мне хочется думать, что я иду к покою.
Вот, посмотри, опять он ноет, этот великолепный Марк Антоний. Хорошо бы ему уже посмотреть на себя без прикрас и повзрослеть хотя бы в финале, под самый конец жизни.
Чем вызвано мое печальное настроение? Похмельем, я думаю. Иногда мне кажется, что я уже готов, а иногда я думаю, что всего этого просто не могло случиться со мной. Я ведь такой волшебный, и разве могу я погибнуть здесь и вот так?
Моя детка лишена всяких иллюзий. Она всеми силами старается смотреть на вещи без вуали, и она понимает, что мы, как и всякие другие люди, ошибаемся и платим за свои ошибки. Она знает, что все случится, тогда как я большую часть времени, даже когда говорю ей об этом прямо, не могу поверить.
Мне кажется, сам Юпитер спустится с небес и поможет мне просто потому, что это я. Какие глупые надежды для мужчины моего возраста, правда?
Я все думал о Красавчике Клодии, о его судьбе. Он жил так, словно никогда не умрет, и все же в нем была тяга к разрушению не только другого и других, но и себя самого. Он тоже один и тех волшебных людей, верящих в собственную особенную судьбу, которая закончится в каком-то другом месте, чем у людей прочих.
Именно в этом аспекте я всегда его понимал, в неутомимой страсти к особому и собственному, и в смелости, которая берется исключительно из представления о своей важной роли в мире и невероятной удаче. Клодий научил меня многому, как жить, и как умереть. Хотя с виду наши судьбы и финалы весьма различны, мы двигались одной хорошо освещенной дорогой.
Знаешь, что Клодий говорил всегда, и что, я считаю, самый ценный его урок, данный мне? Когда я в очередной раз спрашивал, как ему удается так взвинчивать, так влюблять в себя целые толпы, он говорил на очень хорошей, неожиданной от него латыни:
— Относись к ним с любовью и жалостью, Марк Антоний, потому что они всю жизнь ищут чего-то и не могут найти, а однажды они умрут. Это единственное, что их объединяет, в остальном у них разные жизни, разные судьбы, они имеют или не имеют деньги, имеют или не имеют долги, они согласны или не согласны с тобой. Не думай о том, в чем они непохожи, не то ты расколешь аудиторию на крошечные песчинки. Люби их сильно, потому что все они однажды умрут.
Какая универсальная, какая хорошая идея, правда, Луций? Тебе бы она понравилась. Потом Красавчик Клодий неизменно добавлял:
— И все такое, и тому подобная хуйня, ну ты понял.
И я понимал, и я учился. Нельзя обращаться к живым людям без любви и нежности, даже если ты хочешь, чтобы они сделали то, что тебе нужно, дай себе труд прежде увидеть их в их печальной ранимости и обратиться к тому, что этих людей по-настоящему волнует. Дай им что-то, прежде чем просить об ответной услуге.
Ну да ладно, Луций, зачем я учу тебя тому, что тебе не пригодится? Ты уже прошел свою дорогу, искал, искал и умер, и я близок к финалу своей. Однако, милый друг, я хочу тебе объяснить, кто есть Клодий, а без этого его не понять. Без того, что он давал людям сожрать себя заживо (после его выступлений первоначальное возбуждение всегда сменялось у него полнейшим изнеможением почти на грани смерти) ради их утешения. Он давал им смысл всего, пусть на короткое время, и за это они его любили.
У меня был похожий (я воспитан Клодием Пульхром), но все-таки немного другой подход.
О боги, если я сегодня и Дионис, то Самопожирающий, хватит мне копаться в себе, пойдем посмотрим, милый друг, как там моя дружба с Клодием.
Поначалу все было очень хорошо. Я, как и многие его соратники, видел в Клодии героя, чуть ли не полубога. Когда он кричал:
— Да, каково мое происхождение вы знаете сами! Но трибуны из плебса хотят возвыситься за ваш счет, я же мечтаю спуститься к вам!
Была эта пропасть, даже усыновленный плебеем ради должности, он оставался патрицием. Но Клодий умел эту пропасть перешагнуть.
Так вот, когда он так кричал, я чувствовал, что к нам снисходит бог. Это очень глубоко сидит в нас, правда, Луций, трепет перед аристократическим происхождением. И вдвойне приятно, когда аристократ нисходит на нашу грязную землю.
Все-таки, даже то, что много позднее Цезарь ввел наш род в число патрицианских, даже власть над третью целого мира, и все подобные радости не смогли полностью вытравить из меня это чувство.
Мы с Курионом бегали за Клодием хвостиками, он был старше нас, но не мудрее, и это позволило нашей дружбе стать правдивой и искренней. Кроме того, Клодий тоже любил жить хорошо и приятно, и шумные попойки, и женщин, и игры. Мы говорили на одном языке, и очень скоро я научился не только мастерски сквернословить (это помогло мне потом, в армии), но и высекать огонь из людей, которые слушают меня. На Куриона дружба с Клодием повлияла не меньше, все похвалы в его адрес по поводу того, что он хороший оратор, конечно, действительны: у него отличное образование и острый язык. Однако вызывать чувства, высекать искру его научил именно Клодий.
Еще Клодий искренне любил помогать людям. Вот просто так, просто потому что они того просят. Очень полезное качество для народного трибуна, правда?
Он мог потратить неделю на дело какого-нибудь жалкого отчаявшегося бездетного старикашки, у которого отбирают дом. Я в то время считал это пустым расточительством: дед все равно скоро умрет. Только со временем, благодаря Клодию, я научился быть милосерднее и щедрее (и все это — не в пьяном угаре).
Красавчик Клодий помогал и мне. Когда он стал народным трибуном, то собрал вокруг себя еще больше крепких ребят, которые одним своим видом очень внушали уважение. Богачи боялись Клодия Пульхра, как огня. И, как только кредиторы начинали на меня давить, Красавчик Клодий просто отправлял к ним своих людей, и направление давления несколько менялось.
Впрочем, при всех его достоинствах, недостатки Красавчика Клодия были внушительны. Он обладал сложным неуживчивым характером. Его любовь к человечеству в целом, и к самым незащищенным его представителям в частности, странно сочеталась с невероятным умением поссориться с каждым отдельным человеком. У меня, и это я говорю без своей обычной хвастливости, в целом хороший характер. Я дружелюбен, игрив и открыт, могу поладить почти с кем угодно. Клодий же был склочен, легко впадал в ярость и не мог терпеть, когда люди поступали не так, как он хочет.
Иногда я ощущал невероятное желание проломить ему чем-нибудь башку (что мне вообще-то с друзьями не свойственно), но мог его сдержать. Клодий же принципиально никогда не шел на компромисс, не успокаивал своей злости.
Тяжелый человек. Особенно доставалось его Фульвии. Или нашей с тобой Фульвии? Из будущего сподручнее всего говорить так, правда? Ты ее знаешь прекрасно, и тогда она была той же Фульвией: неистовой, амбициозной, сильной душой, запертой в слабом теле. Фульвия никогда не отличалась прекраснодушием, любви к черни она не испытывала. Фульвию всегда вела вперед только страсть. Страсть: к мужчине, к власти, в войне — да. О, моя неистовая дурочка.
Она тоже обладала сложным характером, и они с Клодием все время сцеплялись, как парочка голодных псов, но, когда работали вместе, то становились просто обалденной командой. Фульвия многое советовала ему, там, где Клодий Пульхр по природе своей не мог быть хитрее, Фульвия вступала в дело. Она легко умащивала людей, втиралась в доверие, лгала и пускала нужные сплетни. А как она сквернословила! Заслушаешься! Ты и сам знаешь. Этому она научилась у Клодия, и он никогда ей не препятствовал, он вообще предоставлял своей женщине полную свободу самовыражения. Причем ругалась Фульвия с большой фантазией. Эта милая нежная девушка, уже будучи моей женой, как-то сказала Эроту, который принес ей священную правду о том, что Фульвия поступает неправильно:
— Так, пиздобол, ебало склеил и свалил отсюда. Ты мне тут нахуй не сдался со своей политической аналитикой.
Удивительная женщина, правда? Нежные ручки и жесткий язычок.
Фульвия была намного младше Клодия, моя ровесница, но с лихвой компенсировала это решительностью и целеустремленностью. Частенько она сидела с нами, и у нее всегда было лучшее и более точное понимание политической ситуации, чем даже у Куриона.
Оно изменило ей лишь один раз. И теперь я думаю, может, Фульвия любила тебя, Луций, сильнее, чем меня? Это вполне возможно. Жаль, мы с тобой так никогда и не поговорили об этом. Думаю, ты мог бы рассказать мне совсем о другой Фульвии. Может быть, такую я никогда не знал.
Ну да ладно, в Фульвии и состояла вся проблема, сам знаешь. Вот какая она была тогда, тебе это, должно быть, небезынтересно: яркие веснушки, собранные в модную прическу рыжие волосы, бледные руки с длинными тонкими пальчиками, а на ногтях — лимонный лак, всегда одного и того же сверкающего цвета. Ей, в общем-то, не совсем шло — цвет этот делал ее руки еще бледнее и придавал им болезненный вид. Но я не помню, чтобы она когда-нибудь изменяла себе: всегда аккуратно покрытые лаком, без единой неровности, ногти, острые, жесткие коготки.
Знаешь, как бывает — человеку не идет что-то, но так с ним ассоциируется. Когда она, признав ошибки юности, перестала красить ногти лимонным лаком, я скучал по нему, по ярким коготкам, блестящим от света.
Как ты помнишь, мы провели с ней чудную ночь под экстази, сверкающую, наполненную нежностью и пониманием, которого сложно добиться в обычной жизни. И это всегда меня гложило, когда я видел Фульвию, то вспоминал ее длинное обнаженное тело, эту приятную, незначительную тяжесть на мне. И то, что я чувствовал тогда — великолепное единение, сильнее которого не было в моей жизни, продолжая движения друг друга, мы ощущали, как огонь наших тел сливается и разгорается. Но мы не занимались любовью, нет, даже не целовались, в общем-то, разве что чуть-чуть, слегка прикасались губами к губам, не продолжая. И эта близость волновала меня страшно, всякий раз, когда я ее видел, уже совсем другую, серьезную, в голове моей вспыхивало воспоминание о нашем невинном удовольствии, о радостной кротости века Сатурна, которую мы с ней узнали. Больше она со мной не кокетничала, как тогда у Красотки Клодии, и позже я узнал, что Фульвия незадолго до того поссорилась с Клодием и хотела ему отомстить. Но, думаю, и ее не оставляли воспоминания о той ночи, у Фульвии всегда были большие проблемы с близостью, она и желала ее и боялась, как огня.
Я все мечтал увидеть Фульвию голой снова, даже не для того, чтобы хорошенько ей заняться, а просто чтобы вспомнить очертания ее тела под моими руками, и то ощущение, что она идеально мне подходит.
О, ее тело, ты вполне можешь оценить этот пассаж, ведь ты тоже ее любил. Она была долговязой, тощей, но это длинное, чуточку смешное тело прекрасно было приспособлено для рождения детей. Она родила мальчишку и девчонку Клодию, сына Куриону и двоих сыновей мне. Думаю, она бы и тебе родила детей, побудь вы вместе еще немножко, это всегда был ее способ выказать мужчине любовь. Я помню, как любил целовать ее нежный бледный живот. Она была исключительно плодородна, но так не выглядела, нелепость ее фигурки, слабые руки, длинное тельце, сперва Фульвия казалась трогательной и беззащитной. Хотя кто-то, а Фульвия беззащитной не была никогда, правда?
Так вот, когда она сидела с нами и красила ногти (вонь стояла на весь триклиний), рассуждая о тайном сговоре между Цезарем, Помпеем и Крассом, и о неизбежности новой гражданской войны в жестких, совершенно не женских выражениях, Клодий часто выходил из себя.
— Фульвия, бля, пасет на весь дом, свали отсюда!
— Чего? — спрашивала она. За этим следовала краткая и емкая семейная сцена, и мы с Курионом все не знали, куда деть глаза. Наконец, Фульвия уходила со скандалом, эта молоденькая, пахнущая лаком для ногтей, наглая хамка, и перед тем, как хлопнуть дверью, она говорила что-нибудь вроде:
— Скоро все изменится, не проебись, Клодий. Союзы непрочны, тем более такие.
— Вон пошла, сука, бля! — орал Клодий. И, когда она уходила, говорил нам:
— Ебал я эту власть! Я хочу, чтобы ее не было! Никто ни над кем пусть будет нахуй не властен!
И она, я знал, слушала, стоя у двери, и посмеивалась, как девчонка, зажав рот пальчиками с лимонными ноготками. Фульвию всегда очень смешил идеализм. Думаю, поэтому они с Клодием так сошлись в начале: она много смеялась, а он любил, когда смеются.
— Но если ты не хочешь власти? — спрашивал Курион. — То зачем ты стал народным трибуном?
— Чтобы защищать людей, — отвечал Клодий. — А зачем еще нужен трибун по-твоему? Я бесчестный человек во всем, кроме, сука, бля, этого.
— Ну, — говорил я. — Погоди-ка, а разве нельзя защищать людей оттуда?
Я указывал пальцем вверх и благоговейно прикрывал глаза.
— Должно быть, очень удобно, — говорил я. И Клодий задумывался. В нескольких минимально отличных вариациях этот разговор повторялся, по-моему, четырежды или около того. Будь Клодий жив, история могла пойти совсем по-другому, лучше или псу под хвост — это большой вопрос, но веселее — уж точно.
Возвращаясь к Фульвии, я все никак, брат мой, не могу понять, как эта смешная долговязая девчонка, да, красивая, но все равно отчасти нелепая, хабалистая и резкая, смогла так сильно очаровать нас всех. Нас троих, а под конец еще и тебя.
Что в ней было такого, я сказать не могу. И ты, наверное, не мог. Но тем привлекательнее Фульвия была.
Так вот, я все время отводил взгляд, не мог смотреть на нее, не думая о той звездной ночи над нами и о ее горячей коже. Фульвия же рассматривала меня безо всякого стеснения, за что частенько получала от Клодия вполне ясное сообщение:
— Хватит пялиться на него, сука, бля!
Красавчик Клодий всегда был крайне прям и точен, и выражать свое мнение по любому вопросу не стеснялся. Я чувствовал себя очень неловко, потому как Клодий был мне дорог, и я уважал его, и то, что произошло в ту звездную ночь между мною и его женой, без сомнения, дурацкое недоразумение.
Я избегал Фульвию всеми силами. В конце концов, расположение Клодия было так же легко потерять, как и приобрести. Мы втроем, я, Курион и Клодий, были неразлучны, и я это очень ценил. То, что делал Клодий, казалось мне таким большим и важным, и я был частью этого, помогал ему.
Так длилось довольно долго, но все веревочки, сколько бы им ни виться, достигают однажды своего конца. Мое странное, построенное на единственном воспоминании чувство к Фульвии не проходило, и мне нельзя было оставаться тогда в их доме.
Сначала, конечно, я винил во всем Фульвию, мол, дело в том, что она — шалава, а я вообще-то был суров в своем нежелании с ней сближаться до определенного момента. Теперь, конечно, глядя в прошлое без прикрас, я могу сказать тебе честно: я принял предложение Красавчика Клодия остаться, потому что я хотел его жену. Я тайно надеялся, что она придет ко мне и разделит со мной постель, услышит мой зов.
Конечно, я не признавался себе в этом, причем еще долгие годы. Однако, стоит сказать хотя бы тебе: я не мог больше жить без Фульвии, я вообще не могу жить, если не получаю того, чего хочу.
Сделал бы я так снова? Да, я любил Фульвию, и я сделал бы так снова. Что касается Клодия, нас обоих раздирали лютые страсти, и нам суждено было рассориться именно на этой почве.
А теперь к той ночи. Мы с Клодием обнимались и пели песни, он сказал мне:
— Антоний, пиздец, я так ценю тебя, опиздинительно это, что мы друзья с тобой, правда?
— Бля буду, Клодий, — ответил я и крепко обнял его. — Нет для меня на земле лучших друзей, чем вы с Курионом!
Курион, кстати говоря, храпел на кушетке, открыв рот и демонстрируя неровные белые зубы.
— Точняк! — осклабился Клодий Пульхр. — Чтоб я делал, если б не мои кореша!
Курион пробормотал что-то во сне, и Клодий ткнул его ногой.
— Гляди, готовенький!
— Я тоже, просто стараюсь поддерживать какой-то приличный вид. Мне нелегко, но мои старания окупятся, когда мне еще нальют.
Клодий засмеялся, потом сказал:
— Ладно, чего далеко идти, у меня оставайтесь. Эй, Сурия, давай по-бырику комнаты им приготовь, лады?
Со своими слугами он всегда обращался ласково. Куда ласковее, чем со всеми, кто был равен ему или выше. Рабы в доме Клодия разбаловались, как приемные дети. Но дети добродетельные и благодарные, не то что мы с вами, конечно.
Помню, через пару часов я поднялся в гостевую, повалился на постель и заснул крепким, без единого сновидения, сном.
Разбудило меня прикосновение холодных пяток Фульвии и к моим ногам. Она крепко обняла меня и поцеловала.
Спросонья я не совсем понял, что происходит, хотя, скажу не таясь, узнал ее сразу. Некоторое время я думал, что Фульвия мне снится, и запустил руки под ее тунику. Тело Фульвии было гибким и нежным, она легко поддавалась мне, и ее ладони скользили по-моему лицу.
Думаю, мы бы вполне счастливо разделили ложе, если бы она не стала целовать мочку моего уха. Уши у меня чувствительные, и от этого ощущения я сразу же окончательно проснулся. Фульвия тут же прекратила меня гладить и замерла.
— Ты в своем уме? — спросил шепотом.
— Он нажрался, точно проспит до утра.
— Я тоже нажрался и тоже просплю до утра, иди отсюда.
Фульвия прижала холодные руки к моим щекам. Да, помню, помню, как сейчас, холодные руки и ноги, горячее тело. В белесом лунном свете на ее ногтях поблескивал лимонный лак, а веснушки стали темнее и ярче. Глаза ее тоже блестели.
— Не надо, Антоний, не прогоняй меня.
— Иди отсюда, — сказал я, просто потому, что больше не в силах был ничего сказать. Мне казалось, еще секунда, и мой непослушный язык заставит меня признаться ей в любви. Я прикусил его крепко, так, что почувствовал во рту слабый привкус крови.
— Я не хочу заниматься любовью, Антоний, — выдохнула Фульвия, ее легкое дыхание, пахнущее клубничной зубной пастой, коснулось моих губ. Мне представилось, как Фульвия тайком жует зубную пасту перед своим походом в темноте, такая нелепая и дурацкая, и такая желанная. Я запрокинул голову и застонал.
— Антоний, — сказала Фульвия. — Мне не нужно, чтобы ты входил в меня.
— В рот тоже считается изменой, — сказал я. Фульвия легонько ударила меня по щеке, и я перехватил ее запястье, мне захотелось поцеловать его там, где сильнее всего бьется кровь.
— Дурак, — сказала Фульвия зло. — Нет, я имею в виду, я не собираюсь тебя соблазнять.
Пятки ее грелись о мою горячую после сна кожу, и это было в определенном смысле совершенно невинно, хотя у меня стоял колом.
— Быстро ты переобулась, — сказал я, думая только об этих мягких пятках, и метафоры подбирая соответствующие. — И чего ты хочешь тогда?
Фульвия посмотрела на меня. Ее кошачьи глаза с огромными зрачками глядели очень внимательно, с неотступной цепкостью.
— Обними меня, — сказала она. — Пожалуйста. Просто обними. У меня прежде никогда такого не было, как у озера, я хочу, чтобы это повторилось.
— Мы же не под экстази, — сказал я.
— Какой же ты дурак, ну обними.
И я сделал то, чего она хотела. Она улеглась на мне, будто кошка, и принялась слушать мое сердце.
— Бах, бах, — говорила она. — Такое большое, как у быка.
Она послюнявила палец и стерла пятно розовой пасты с уголка своих губ.
— Слушай, Фульвия, иди к своему мужу и скажи ему сделать вот это самое. Получится так же.
— Не получится, — сказала она. — Я не уверена, что и с тобой получится. Обними меня крепко, Антоний.
— И со мной не получится, — сказал я. — Мы не под наркотой, Фульвия.
Но это все были отговорки, сердце мое так стремилось к ней, так яростно рвалось из моей груди, и я обнял Фульвию крепко и принялся гладить ее распущенные рыжие волосы.
— Твоя Фадия, — сказала она вдруг резко. — Ты ее любил?
В этом была вся Фульвия, ершистая, злая, но беззащитная в своей злости.
— Да, — сказал я. — Очень. Но все равно недостаточно.
— Люби меня.
— Мы не будем…
— Нет, люби меня сейчас, как тогда. Обнимай, гладь, не отпускай.
А ты и не знал, наверное, что она такая, что может быть такой.
В темноте ее волосы казались темнее, чем есть на самом деле, они рассыпались по моим плечам и щекотали меня. Фульвия еще сильнее прижалась щекой к моей груди и глубоко вздыхала. Я сжал ее в объятиях, и тело ее, обычно крайне напряженное, расслабилось.
— Делай так, чтобы я была частью тебя, — сказала она. — И не смей сейчас даже подумать, что это о постели.
И хотя она была влажная (я чувствовал это своим бедром), а у меня стоял член, я на самом деле вдруг не подумал, что это о постели. Обычно твой брат, великолепный Марк Антоний, наоборот сводит к постели все то, что туда не сводится.
Я коснулся носом ее макушки, осторожно поцеловал Фульвию, и она выдохнула:
— Так же как тогда, — сказала она.
И снова лунный свет, и снова звезды, и тихая ночь. Разве что вдалеке не горели костры. Ее маленькое злое сердечко билось очень быстро.
В какой-то момент я подумал, что она заплачет. Но нет. Фульвия никогда на моей памяти не плакала, просто этого не умела. Она замерла, только дышала тихонько, и я гладил ее по плечам, по спине, то обнимал сильно, то отпускал. Разумеется, мы не могли физически не думать в тот момент о физической любви, и состояние мое было мучительным. Но в то же время странно хрупким и прекрасным.
Пальцами я вырисовывал на ее лопатках какой-то невидимый орнамент, и она иногда чуть подавалась вслед моим пальцам, а иногда замирала почти испуганно.
Нет, все неповторимо, тем более опыты с наркотиками, милый друг, и не стало — как тогда. Но было по-другому и по-настоящему. В какой-то момент Фульвия задремала, я почувствовал, как выровнялось ее дыхание, как расслабились руки. В уголках ее губ блестела слюна, нахмуренный лоб разгладился. Я любовался ей, как никогда и никем прежде. Потом я тоже задремал. Когда я проснулся, Фульвии уже не было рядом.
И я испытал великую боль от этого осознания, боль, которая заглушила даже похмелье.
Я бессловесно позвал ее, где-то внутри себя, ощупал свое лицо, стараясь собрать остатки ее вчерашних прикосновений.
В полусне я вышел из дома Клодия (он все еще спал). За мной выбежал Курион.
— Эй, Антоний, ты куда?
Я сказал:
— Домой. Голова болит, не могу больше.
Он остановил меня, и мы посмотрели друг на друга. Мне кажется, тогда он уже все понял. Слишком хорошо мы друг друга знали.
— Понятно, — сказал Курион. — Я передам Клодию твои прощальные слова и скажу, что ты отметил его в своем завещании, хотя завещать тебе нехрена.
— Да, — сказал я. — Шутка в моем стиле. Так и передай.
Вот, дорогой брат. Теперь я вижу в этом некоторую странность: такую хрупкую, такую не готовую к плотской любви Фадию я любил именно в этом смысле, именно в постели, тогда как мои чувства к Фульвии, большой развратнице, между нами говоря, бывали чисты, невинны и прозрачны, будто весенний ручей.
Причудливо, не правда ли?
Сначала я был в смятении, пару дней отказывался видеться с Клодием, сказался больным. Не мог найти себе места, любовь сделала меня нездоровым, и я не лгал. У меня даже поднялась температура, пришла мама и, как о маленьком, заботилась обо мне.
А я думал о том, что руки Фульвии вытворяли не с телом моим, но с душой.
Теперь, по прошествии времени, узнав эту рыжую суку, поимев ее и потеряв, я боюсь все больше, что такова была ее уловка. Впрочем, вряд ли. Даже в словах моей детки, куда большей лгуньи, я мог почувствовать фальшь (просто не хотел себе в этом признаться). Но в Фульвии в ту ночь (те ночи) ничего фальшивого не было, наоборот, какой настоящей она была, может, более, чем когда-либо.
И теперь я думаю: а не узнавал ли я ее в обратном порядке? Обычно нам представляется, что люди постепенно обнажаются перед нами, когда, по прошествии времени, мы открываем в них все больше. А вот Фульвия могла быть со мной самой настоящей именно тогда. Ну почему бы и нет?
Словом, три дня я мучился невыразимо, а потом решил, что мы точно не станем близки физически, но разве нечестно будет любить ее? Хорошенькое решение от меня, а?
И все-таки, верь или не верь, я держал свое слово.
Теперь я часто оставался у Клодия по разным надуманным причинам, впрочем, он всегда мне радовался, и от этого становилось еще грустнее. Фульвия приходила ко мне, и мы проводили несколько часов в нашей неземной нежности.
Потом она исчезала, и бывали ночи, когда я думал, что все это сон. Так все могло длиться неопределенно долго: я маялся от вины перед другом и, в то же время, радовался от осознания того, что я не даю себе предать Красавчика Клодия окончательно.
Фульвия никогда у меня ничего не просила, кроме как любить ее крепко. Все у нас продолжалось в духе первой ночи.
Скажу тебе честно, я не трахал ее тогда. Так что, однажды, когда Клодий бросился на меня с ножом и сказал, что я отымел его жену, я очень опешил.
— Чего? — спросил я. — Ты опять?
Но на этот раз Клодий был настроен серьезно. Это случилось у него дома. Он пригласил меня в триклиний и, как только я улегся и выпил, вдруг с быстротой голодного хищника кинулся на меня, злобно рыча. Я упал с кушетки, и это дало мне некоторую фору, однако я сильно ударился головой и, не успел подняться, как Клодий снова на меня накинулся.
— Ты больной, блядь?!
— Ты оттрахал Фульвию! — орал Клодий. — Ебаный предатель!
Он собирался вонзить нож для чистки фруктов мне в горло, и я чудом успел уклониться. Лезвие вошло в пол так глубоко, будто он был мягким. Я скинул с себя Клодия, схватил нож.
— Ты совсем двинулся?!
— Ты трахал ее, — рявкнул Клодий. — Мою жену!
О, он любил ее. Впрочем, справедливости ради, Клодий любил многих женщин.
— Идиот больной! — крикнул я ему. — Я ее не трогал! Я никогда бы так с тобой не поступил!
— Ты, сука, бля, думаешь, я поверю тебе?!
Клодий вскочил на ноги и снова быстро метнулся ко мне, ему не удалось выбить у меня нож, но я запнулся о собственную тогу и повалился на пол.
— Сука! Я зарежу тебя нахуй! — вот какие теплые слова я слышал от моего дорогого друга Клодия Пульхра.
Дрались мы ожесточенно и долго, думаю, я мог бы легче справиться с Клодием (он был куда меньше меня), если бы не испытывал такого огромного чувства вины.
Да, я абсолютно точно не трахал его жену (что бы там ни говорил Цицерон), но я любил ее. И мы были вместе, хоть и не физически.
Наконец, оба мы выбились из сил и выпустили пар в достаточной мере, чтобы я смог отбросить нож и ретироваться. Нож для фруктов, мать его. Но Клодий Пульхр с его неуемной энергией мог зарезать меня и ложкой.
Клодий не сказал своим слугам остановить меня, нет, хотя имел на это полное право. Он лежал на полу, из носа его текла кровь, и он слизывал ее и кричал:
— Я тебя ненавижу!
Но он все-таки не сказал им меня остановить. А что бы со мной стало, если бы люди узнали, что я ударил народного трибуна, нарушив его священную неприкосновенность, представить можешь? Клодий был в своем праве, но он никому ничего не сказал.
У двери я увидел Фульвию. Она была растрепанной, бледной, сжимала руки в кулаки.
— Какого хера?! — рявкнул я. — Курион не мог…
— Не мог, — сказала она. — Это я.
— Что?
Я совсем опешил, только смотрел на нее и не мог закрыть рот.
Фульвия сказала:
— Потому что я люблю тебя, Антоний. Я сказала ему так, чтобы он развелся со мной. Тогда ты возьмешь меня в жены.
— Ты обалдела?! Ты выставила меня предателем перед моим другом!
И она, убийственно холодно, спросила:
— А ты не предатель?
— Ты солгала ему обо мне!
— Сильно ли?
— Какая ты умница, — сказал я и, оттолкнув ее, вышел на улицу. Просто прелесть, правда?
Я крикнул ей:
— И, кстати, я не люблю тебя!
На что она ответила:
— Это было бы похоже на правду, если бы ты действительно меня трахнул, Антоний.
Сам Цербер мечтает о подобной суке, правда?
Курион попытался выступить посредником, но Клодий ничего не хотел слушать. Кстати говоря, Куриону я рассказал все, как есть, на что он отреагировал так же, как, должно быть, отреагируешь ты.
— Идиот, — сказал он. — Как ты вообще умудряешься быть таким идиотом? Как с этим великим умом ты еще на ровной дороге не падаешь?
— Я сейчас и тебе в морду дам, — сказал я.
— Народному трибуну уже ебнул, что теперь терять. От великого ума, небось.
С Клодием мы так и не помирились. Более того, Клодий больше не помогал мне с кредиторами, и они насели на меня с новой силой. Словом, все в моей жизни не ладилось, и я не мог справиться с бурным течением дней.
В конце концов, мне надоело бегать от кредиторов, надоело ждать, пока ко мне заявится Клодий с молодчиками, и я решил уехать. Так я и сказал Антонии:
— Все очень плохо, у меня большие проблемы, я сваливаю. Поедешь со мной?
— Не, — сказала Антония. Помню, она читала тогда какое-то письмо и задумчиво водила пальцем по строкам.
— Спросишь, какие у меня проблемы? — спросил я.
— Не, — повторила она. — Не интересно.
В общем, Антонию в расчет можно было не брать. Я заявился к вам и сказал, что хочу учиться. Гай неплохо в этом продвинулся и я, мол, тоже не промах. Мама страшно удивилась.
— Учиться? Ты?
— А что тут удивительного? — спросил я. — Я был весьма способным мальчиком в детстве.
— Это было давно, — сказал Гай.
— И тем не менее, — ответил я. — Клодий Пульхр меня вдохновляет. Я хочу заниматься политикой, мне нужно соответствующее образование. Конечно, сначала нужно повоевать, а потом уже делать карьеру, но я сначала поучусь, а потом повоюю, да? Какая разница, в каком порядке все делать? Клодий, вот, так и говорит, например.
Мама скривилась, одно упоминание этого имени вызывало у нее зубную боль. И я сказал это не зря, потому что после упоминания Клодия мысль о моем отъезде ее весьма порадовала.
— А где еще учиться ораторскому искусству, как не на его великой родине! — сказал я радостно. — В Греции!
— Все в порядке, — добавил я быстро. — Никаких денег мне не нужно. У Антонии большое приданное! Лучше оно пойдет на мое образование, чем на корм кредиторам.
— Это деньги дядьки, — сказал ты. — Сам знаешь.
— Дядька в изгнании! Хрена лысого он пососет теперь.
Как ты помнишь, к тому времени дядька доигрался и отправился на остров, с которого, как я полагал, он вряд ли выберется.
— Он, между прочим, мудак, — сказал я.
— А ты нет? — спросил меня Гай. — Кстати говоря, а как же Антония?
Я пожал плечами.
— Мы с ней теперь вместе навсегда. Когда я стану успешным, устрою ей роскошную жизнь, не беспокойся.
И все в таком духе. Мама долго молчала. Не от нее зависело, уеду я или нет, но мне не хотелось оставлять маму вот так. Я всеми силами пытался уговорить маму, убедить ее в правильности своих доводов. Наконец, она уступила.
— И ты говоришь, ты не увидишься больше с Клодием Пульхром?
— Думаю, не очень-то он меня любит, — ответил я. — Мне стоит где-нибудь затаиться, а потом все утрясется, поверь. У него в Риме везде свои люди.
Наконец, она кивнула. Я радостно обнял ее и пообещал привезти ей что-нибудь из Греции. Помню из того вечера еще наш разговор с тобой. Я сказал:
— Как сильно изменился дом без меня. Все привели в порядок, надо же.
Ты сказал:
— Я не хочу, чтобы ты уезжал, Марк.
— Слушай, Клодий — народный трибун, он неприкосновенен, и он меня уничтожит, если захочет, а я не смогу его и пальцем тронуть. Даже сейчас, если он расскажет, что мы тогда подрались, мне конец.
— А он расскажет? — спросил ты взволновано. — Мне не кажется, что Клодий такой человек!
Твое увлечение идеями Клодия тогда еще не разгорелось, однако что-то такое всегда витало в воздухе, признайся, вы были ягодки с одного поля и могли бы ладить куда лучше, чем мы.
— Не думаю, что он скажет, — ответил я. — Но я совершил преступление, ударив народного трибуна.
Ты обнял меня и сказал:
— Мне тебя очень не хватает, правда.
И сердце мое наполнилось, помню, любовью и жалостью. Стояла хорошая, теплая весна, даже воздух был свободным и приятным, и до меня доносился легкий цветочный аромат, источник которого я не видел.
Я сказал:
— Мало я тебе внимания уделяю? Не как раньше?
Ты кивнул, и в этот момент ты, совсем уже взрослый, вдруг снова стал для меня ребенком.
— Это потому, что ты, — сказал я. — Куда лучше, умнее и сильнее меня. Я совсем запутался и ничего не понимаю.
И, Луций, великолепное Солнце, что бы ни было между нами, тогда я сказал правду. Ты — лучшая версия меня. Впрочем, все гармонично, ведь Гай — худшая версия меня.
— Гай правда хочет заниматься юридическими этими делами. Обвинять ему нравится. А я — нет, я не хочу. Я люблю защищать.
— Так стань адвокатом, — сказал я. — Вот, еще один глупый совет от твоего брата.
Ты сказал:
— Но я хочу чего-то большего, чем это.
И я ответил, что тоже хочу чего-то большего, но не понимаю, чего. И это только значит, что время еще не пришло. Все на свете боги делают тогда, когда следует. Мы долго сидели, обнявшись, пока совершенно не замерзли.
— Ты любишь меня, как в детстве? — спросил ты.
— Еще бы, — ответил я. — У меня много недостатков, которые мешают мне быть хорошим братом. Но я люблю тебя всем сердцем. И я знаю, что у тебя все будет хорошо. Просто знаю и все, с самого детства и вот именно у тебя. Потому что ты прекрасный человек. Хорошие люди долго ждут, но их ожидания вознаграждаются вдвойне.
— Но я тоже ничего не понимаю, — сказал ты.
— А я не знаю ни одного человека, который понимает, — ответил я. — Даже очень-очень старого. Нужно идти туда, куда ведет тебя твое сердце. И если оно ведет тебя к чему-то большему, значит именно ты заслуживаешь большего.
— А твое сердце?
— Оно ведет меня бухать.
В общем, мы пошли в дом, и я остался на ночь, и спал в своей детской комнате. Мне снился Публий, какой-то тяжелый, беспокойный был сон, в котором он говорил мне, что я, во что бы то ни стало, должен оставаться веселым и всех развлечь, хотя мне было грустно.
Проснулся я, впрочем, вполне бодрый и принялся устраивать свою поездку. Нет, подожди, помню еще за завтраком Гай дал мне напутствие в своем обычном стиле. Я все расписывал, каким буду успешным, после обучения у греков.
— Ну полно тебе, — сказала мама. — И здесь хватает греческих учителей.
— Дома им помогают стены, — сказал я. — Это же очевидно.
А Гай пнул меня под столом и сказал:
— Подожди, большой брат, а как же не делать ничего, кроме как ходить в качалочку?
Я засмеялся.
— Ходить в качалочку это труд, тощая мразь!
— Я и говорю, он тощий, как палка, — сказал ты. — И ничего не знает про качалочку.
И я еще раз вспомнил прекрасные времена, когда мы были детьми.
Дома я опять предложил Антонии поехать со мной. Она сказала:
— Не. Мне неинтересно.
Я сказал:
— Да ладно, в Греции здорово! Там всем интересно.
— А мне — нет, — сказала Антония. — Потому что там будешь ты.
— Где ты, Гай, там и я, Гайя, да? — передразнил я ее свадебную клятву.
Она похлопала меня по плечу.
— Точно. Удачи в Греции, Геркулес.
Что касается денег, Антония никогда не жадничала, даже из вредности, и в этот раз оказалась так же благосклонна. Думаю, такой щедрой она была по причине своей невероятной тепличности, дядька всегда ее баловал в этом плане.
Признаюсь честно, я взял больше, чем мне было необходимо. Вернее, скажем так, мне было необходимо больше, чем любому приличному человеку и счастливому обладателю какой бы то ни было совести.
Что тебе рассказать про Грецию, кроме того, что она прекрасна? Вернувшись, я тебе, по-видимому, рассказал почти все, да и ты с тех пор повидал мир.
Греки очень от нас отличаются, и мне они во многом всегда были ближе моих соотечественников, греки чувственны и эмоциональны, они искренне любят красоту и, как более ни один народ в мире, ставят ее во главу своей жизни. Греки любят все красивое: храмы, истории, людей, даже язык их прекрасен для слуха. Они много врут, но им это прощаешь.
Сразу понятно, почему эти люди в свое время были так могущественны. И сразу понятно, почему им все-таки, даже лучшим из них, никогда не справиться с бременем власти над миром. Они слишком любят жить и слишком любят любить.
Может, это ответ и для меня.
Наверное, греки так ценят и любят красоту, потому что сама их страна прекрасна, залита золотым солнцем, и будто бы вечно пребывает в ожидании руки великого художника или слова вдохновленного поэта.
Греки умны, но больше для самих себя, чем для других, они любят покрасоваться, и видимость значит для них больше, чем действительность.
Греческая роскошь, нерасторопность и склонность сорить деньгами мне импонирует. Я жил в Греции на широкую ногу. Вдали от дома меня ничто не сдерживало, и я пристрастился к жизни, которой по-хорошему не мог себе позволить. Особенно в плане еды — греки большие в этом мастаки, у них прекрасная кухня, изысканная и изощренная.
Учиться мне нравилось. Конечно, меньше, чем ходить в качалочку (поэтому частенько учебе я предпочитал именно ее), но даже больше, чем просто бессмысленно шляться по улицам или смотреть тренировки гладиаторов. В основном, мне нравилось учиться, потому что меня хвалили. На то есть две причины. Во-первых, греки не так скупы на похвалу, как наши римские учителя. Во-вторых у меня действительно получалось здорово. То есть, поначалу учеба казалась мне занудной, но потом один претенциозный грек рассмотрел во мне способность к пышным, "азиатским" выступлениям, и мучения по поводу старика Демосфена были забыты. Пышные, яркие, метафоричные речи удавались мне намного лучше, я легко расточал порицания и похвалы, писал лучшие сочинения и всегда побеждал в контроверсиях, потому что у нас, на азиатском курсе, важна была не логика, но способность вызвать у слушателя искреннее сочувствие или негодование.
Можно сказать, я стал лучшим учеником неожиданно, но на самом деле это не так. Я прекрасно знал, что среди старых и молодых (а разброс был приличный, как и уровень слушателей), талантливых и бездарных, да и вообще каких угодно, я все равно буду лучшим.
И мой учитель ценил во мне, думаю, именно это. Как-то раз он сказал мне на своем быстром греческом, который я уже научился прекрасно разбирать:
— Знаешь, в чем секрет твоего успеха, Антоний?
Я пожал плечами.
— Просто я великолепен.
— Нет, — сказал он. — И да одновременно. Ты поразительно веришь во все, что говоришь.
Вот как-то так. И я любил все эти красивости, драгоценности, как их называл мой учитель, мне хотелось навешать их везде и побольше. Но, в то же время, я не забывал и о том, что драгоценностям, чтобы заиграть огнями, необходим солнечный свет. Под солнечным светом учитель подразумевал эмоциональное воздействие на слушателей.
Короче говоря, великолепие твоего брата на чужой земле вдруг оценили по достоинству, и всем его ставили в пример, несмотря на разгульный образ жизни (который, впрочем, в тех краях не считался особенным пороком).
И все было бы прекрасно, если бы не Фульвия. Я не мог перестать думать о ней, и ни одна другая женщина, пусть самая красивая, пусть самая страстная, не утоляла моей жажды. Стоило мне оказаться в одиночестве, и я предавался воспоминаниям о наших нежных невинных ночах, да с такой одержимостью, словно мы занимались чем-то совершенно диким.
Я вспоминал ее холодные пяточки, и ощущение тяжести ее тела, и то, как внимательно она слушала мое сердце, и смешную рыжую макушку.
По ночам я не мог спать, не мог оставаться дома, и меня неудержимо тянуло в самые злачные места города. Так что, достопримечательности, которые я традиционно смотрю первыми: разбойники и проститутки, были мне уже вполне известны.
Вот интересная история, я рассказывал ее тебе, но без подробностей, да и совсем по другому поводу. Тогда я познакомился с Архелаем, своим дорогим другом, одним из самых непохожих на меня людей из всех, с кем я был когда-либо близок.
История нашего знакомства крайне забавная и, по-моему, характеризует меня с положительной стороны. Я был пьяный (скажи мне, когда великолепный Марк Антоний в этих своих величайших воспоминаниях в последний раз был трезвым?) и спас его от разбойников, во всяком случае, так я сначала подумал.
Ночью я возвращался с попойки, устроенной одним эллинизированным римлянином и радостно принюхивался к сладким благовониям, оставленным на мне ухоженными проститутками. Я пребывал в благодушном настроении, день выдался чрезвычайно удачный и по учебе и по кутежу, даже проклятая Фульвия на некоторое время перестала меня терзать, и я не скучал по Клодию, что тоже становилось проблемой и накатывало обычно к вечеру, как и любая тоска.
Тут я увидел, что трое молодчиков кого-то там избивают. Естественно, я решил, что великолепный Марк Антоний должен восстановить справедливость.
Скажу сразу: драка была куда менее жестокой, чем я ее представлял, парни оказались совсем молоденькие и быстро струхнули. Я даже удивился. Казалось бы, от этих людей ожидаешь больше пыла, а они даже не попытались меня зарезать, получили пару пинков и бежать. Я сразу понял, что гордиться таким геройским поступком не получится и несколько расстроился, поднял с земли жертву нападения трусишек и спросил:
— Что это за разбойники, если они даже не пытаются тебя зарезать? Куда катится мир?
Жертва произвола принялась яростно утирать от крови разбитый нос. Парень был моим ровесником, может, чуть младше или старше. Он весь дрожал, кровь отхлынула от лица (в смысле, он побледнел, в остальном же — губы и нос у него были разбиты, и крови на нем сверкало достаточно). Вполне миловидное греческое лицо портили очки в роговой оправе с толстыми линзами, за которыми глаза у паренька казались совсем маленькими, похожими на черепашьи.
Он был невысокого роста и тоненький, без долговязости Куриона — низкий ростом и узкий в кости.
— Это не разбойники, — грустно сказал он. — Это мои кузены.
— Да ладно? — спросил я. — У тебя реально нелады с родственниками. Все серьезно.
— Да уж, — сказал он. — Я должен за ними присматривать, а они шляются по борделям. Я решил их застать за этим, а они — дурные мальчишки.
— Печальная история. Можно я буду говорить, что они были в два раза больше, с ножами и хотели тебя ограбить?
Парень слабо засмеялся и кивнул, потом обхватил свою голову и едва не упал, я снова поддержал его.
— Тебе бы полежать, — сказал я. — Как тебя зовут?
Парень представился Архелаем. Знатный грек и сын понтийского военачальника, он учился в той же риторской школе, что и я, только на враждебном мне курсе классической риторики. Сначала я подумал, что он такой же бездельник, но Архелай завершил свою вступительную речь тем, что он, дескать, верховный жрец каппадокийского храма Великой Матери (впоследствии, будучи мужем одной египетской царицы прежде моей египетской царицы, он считался уже сыном правителя, но это — ложь).
— Ух ты, — сказал я.
— Да, — ответил Архелай, поправляя очки и утирая нос рукавом (все его движения были суетливыми и нервными, мельтешащими).
— А сколько тебе лет?
— Двадцать пять.
— Что я делаю со своей жизнью? — спросил я, обращаясь к нему. — Кто-то в двадцать пять уже верховный жрец, а я? Кто я?
— А кто ты? — с любопытством спросил Архелай.
— Никто, — ответил я. — Вот, учусь тут по мелочи языком трепать.
— О, — сказал Архелай. — Ты, наверное, очень богат.
Мы потихоньку брели ко мне, Архелай опирался на меня, и только поэтому я не исчез тут же, и не оставил его в гордом одиночестве, когда меня охватил неожиданный для меня сильный стыд.
— Нет, — сказал я. — Более, чем беден, весь в долгах.
— Тогда мне не вполне это понятно, — сказал Архелай. — Но я искренне благодарю тебя за то, что ты помог мне.
— Наглые у тебя кузены, как можно бить верховного жреца.
— Да уж, — сказал Архелай. — Чего у них не отнять, так это наглости. Их отец недавно умер, и я за ними присматриваю.
— Так у тебя еще и дети есть, — сказал я. — Молодец ты, ничего не скажешь. Тебе надо поучить их уважению.
Тут я закатал рукава.
— Хочешь я их поучу?
Он замахал руками и головой, разбрызгал кровь.
— Нет-нет, я сам. Все в порядке. Обычно со мной такого не бывает. Просто, как ты понимаешь, я не хотел никого с собой брать на такое личное, семейное дело. Обычно у меня есть защитники.
Архелай был добродушный, милый, мягкий человек, очень добрый и всепрощающий, он никогда ни о ком, даже об отъявленных мудаках, не мог сказать злого слова, у него просто не получалось это сделать. Я очень им восхищался, хотя всем вокруг Архелай казался слабаком и мямлей, и люди обходили его стороной.
А я думал: как тебе повезло, твой добрый нрав уберегает тебя от стольких бед.
Мы вышли на широкую улицу, и Архелай сказал:
— Благодарю тебя еще раз. Они не сделали бы ничего плохого, это я, падая, разбил себе лицо.
— Оправдывай, оправдывай их.
— У всех свои недостатки, — сказал Архелай. — Они совсем мальчишки и перерастут свою мальчишескую злость. Научатся уважать старших.
— Да, — сказал я. — Недостатки.
В тот вечер я привел его к себе в гости и с радостью оказал ему первую помощь. Мне было приятно помочь кому-то такому добродушному, такому светлому, кому-то настолько лучше меня. Мы долго говорили, я отчего-то представил себя с худшей стороны. Наверное, мне хотелось проверить, будет ли он общаться со мной, если узнает, какой я конченный человек.
Долгий список моих недостатков окончился главным.
— И, кроме того, у меня ужасная привычка, я ем, пока меня не начинает тошнить.
— Как собака?
Я кивнул.
— Вот такой я человек.
— Но ты побежал меня спасать, думая, что на меня напали разбойники, да? Возможно, вооруженные.
Я пожал плечами.
— Да, я без балды вообще.
Архелай засмеялся и сказал:
— Но это, пожалуй, перебивает некоторые твои недостатки. Во всяком случае, последний. Ты знатен?
Я помахал рукой перед его носом, мол, не особо-то, но и не то чтобы совсем нет. Объяснять такое — слишком долго, греки обычно плохо разбираются в том, чем нобили отличаются от патрициев. Тем более, как это может быть, что отец мой — плебей, а мама — патрицианка, но я-то все равно плебей, но при этом не плебей с улицы, а плебей знатный. Но как может быть знатным плебей? И так далее, вот все эти вопросы. Нет уж, спасибо.
— Марк Антоний, — сказал я. — Не знаешь? Марк Антоний Оратор. Мой дед. Он был консулом и даже цензором.
Архелай задумчиво покачал головой.
— Никогда не слышал, прости.
— Ну да. С чего бы тебе, в принципе, слышать о нем, — сказал я. — О, Гай Антоний Гибрида! Мой дядя.
— Да, — задумчиво сказал Архелай. — Пожалуйста, больше никому не называй имя своего дяди, а если тебя спросят, не из того ли ты рода, то лучше говори, что он твой дальний родственник или это совпадение.
Тут я вдруг понял, почему отношения с греками в моей группе складывались у меня не слишком-то хорошо. Я хлопнул себя по лбу.
— Ну точно! Он же мудак!
Архелай улыбнулся, я казался ему смешным, но он стеснялся надо мной смеяться.
Мы стали закадычными друзьями, благотворное влияние набожного и спокойного Архелая даже несколько освободило меня из плена попоек и азартных игр. У него был здесь дом получше моего, и я к нему переселился, тем более, что мое присутствие держало в узде зловредных кузенов Архелая.
Я всегда старался его подбодрить и защитить, потому как Архелай был совершенно беззащитен перед этим миром. У него не имелось щита из смеха, не имелось щита из жестокости, и он шел по жизни с широко открытыми глазами и поднятыми руками.
Когда он уехал, мы клятвенно пообещали друг другу переписываться, обменялись адресами и крепко обнялись. Правда, мы потерялись, ибо вскоре я крайне радикально сменил место жительства, как, впрочем, и Архелай. В следующий раз мы встретились там, где я меньше всего ожидал.
— Знаешь, — сказал Архелай. — Марк Антоний, которого ты описал мне в первый вечер нашего весьма примечательного знакомства не совсем похож на того Марка Антония, которого знаю я.
— Но это же хорошо? — спросил я.
— Наверное, — ответил Архелай. — Сложно сказать. Я знаю только одного Марка Антония.
Он был такой хороший, чистый и светлый человек, что до сих пор, когда я делаю что-то плохое, в голове у меня звучит его мягкая, наполненная канцеляризмами, нервная речь. Но он не осуждает меня, а просто напоминает, что знал несколько другого Марка Антония.
Вот, мы расстались, у Архелая закончилась его профессиональная, так сказать, переподготовка, и обозначились какие-то важные праздники в Каппадокии.
После отъезда Архелая я думал даже побить, наконец, его оставшихся в городе наглых кузенов, но в конце концов отказался от этой мысли.
Письма из Рима приходили однообразные. Курион писал, что Красавчик Клодий пребывает в добром здравии и устраивает на улицах реальную жесть, он терроризирует богачей и несколько утомил уже таких важных людей, как Помпей и Цезарь, но никто не решается с ним что-либо сделать.
Курион никогда не писал мне про Фульвию, но подразумевалось, что она с Клодием. Впрочем, с кем еще ей было быть? Думаю, соврав о нас (сильно ли?) Фульвия совершила чуть ли ни единственный поступок, о котором пожалела в жизни. И, наверное, для нее все сложилось хорошо. Я уехал и увез с собой ее любовь. На самом деле, Фульвия не могла позволить себе развестись с народным трибуном Клодием, стремительно делавшим свою головокружительную карьеру, и выйти замуж за меня.
Кем я, строго говоря, являлся?
Я был сам не свой, и хотя с учебой у меня все оставалось прекрасно, я не мог найти себе места. Впрочем, разве это не вечная проблема великолепного Марка Антония?
Все стало мне скучно, даже выпивка. Фульвия была уже не моя, я это чувствовал, а потом мне написала письмо мама с последними новостями, включая одну небезынтересную — Фульвия беременна, и скоро родит Клодию второго ребенка. Сказать, что я расстроился, это мало что сказать. Я убивался так, что едва не убился окончательно. Как-то пьяный свалился с моста и едва не утонул. Вместо того, чтобы бороться с течением, я глядел в угасающее ночное небо, и думал, что ничего в этой жизни полезного и внятного не сделал, и все было зря. Но разве могло оно затеваться только для того, чтобы я пьяный упал с моста в бурные воды и умер вот так вот? Эта мысль меня отрезвила и, в последний момент, я все-таки спохватился, сумел выбраться на берег и долго лежал на прекрасной греческой земле, дыша прекрасным греческим воздухом.
Потом я впервые в жизни жестоко заболел, лихорадка терзала меня две недели, и я не думал, что справлюсь с ней, надиктовал прощальные письма вам с мамой и Антонии, но так и не успел их отправить, потому что одним прекрасным утром мне вдруг резко стало лучше. Тоска и боль отступили вместе, и из темноты я вышел на свет с желанием что-то делать и как-то жить.
Настроение мое тоже улучшилось, и вместо того, чтобы писать вам письма о том, как я умираю здесь, на чужой земле, я написал дядьке.
"Гаю Антонию Гибриде, от племянника и зятя.
Твои деньги будут в сохранности, мой дорогой, если ты придумаешь, чем меня занять. Умоляю, дай мне что угодно, лишь бы это заняло мой пытливый ум и сильные руки. Я более не гибну и готов действовать, как никогда.
Будь здоров!"
Вскоре пришел ответ.
"Марку Антонию, паскудному прожигателю своей жалкой жизни.
Наконец, дорогой племянник, ты решил заняться чем-то реальным и значимым. В этой жизни у мужчины есть только один достойный путь — это война. У меня для тебя интересное предложение. Авл Габиний, чей отец был другом твоего деда, извещен о твоем желании что-либо делать, и он с тобой свяжется в ближайшее время, недавно Габиний как раз отправился в Грецию. Как проконсул Сирии, он собирается навести порядок с этими ебаными жидами.
Я все за тебя уже попросил, твоя задача только кивать головой и улыбаться.
Будь силен и смел, не опозорь свой род".
Война! Вдруг все стало на свои места. Я буду героем, я пригожусь родному отечеству, я, в конце концов, приобрету бесценный опыт настоящей битвы. Это и по сравнению с беспорядками Клодия — реальная жесть. Горнило войны выплавляет из юношей мужчин, и мне давно пора было попробовать себя в деле. В конце концов, дядька стал дядькой именно благодаря войне. А у него все в жизни получилось, даже изгнание (к тому времени дядька у себя на острове успел основать новый город и активно им занимался, держась будто восточный царек, а не порицаемый всеми преступник).
Да уж, если я хотел быть человеком, стоило приложить усилия и стать им, как сделали уже многие доблестные юноши до меня.
Короче говоря, милый друг, ты понял, что я вдохновился. Отчасти, не буду лгать, я вдохновился идеей погибнуть, чтобы все потом лили горькие слезы. Отчасти, идеей привезти с собой роскошную награду вроде муральной короны (что я и сделал). Отчасти же мне хотелось увидеть мир, как и любому молодому человеку. Он казался мне после Греции таким огромным. Как начнешь путешествовать, становится очень сложно остановиться.
Что за птица этот Авл Габиний, я не знал, когда я снова написал дядьке и спросил, ответ был краток.
"Хорош для Помпея. Плох для Цицерона. Не любит Клодия.
Меньше вопросов, больше дела.
Будь здоров."
Вскоре я действительно получил приглашение от Авла Габиния. Он остановился в большом, роскошном доме у моря, и, пока мы возлежали, принесли как минимум восемь перемен блюд.
Габиний был полненький, забавный мужик с длинными бровями почти до самых висков и длинными, смешливыми глазами. Судя по всему, он комплексовал по этому поводу, потому что на выпускаемых им монетах всегда изображал себя юным и прекрасным. Он был большой добряк во время мира, хотя изрядно зверствовал на войне. Ко мне Габиний сразу проникся симпатией, он сказал, что я напоминаю его в юности.
О боги, подумал я, не допустите, чтобы, в таком случае, я стал им в старости.
Он был мягкий и спокойный, как боров, и мне все время хотелось ткнуть Габиния в бочок.
Изначально Габиний предложил мне сопровождать его в частном порядке без какого-либо звания.
— Будешь помогать мне разбираться с делами, — сказал он. — Посмотришь, как и что, разберешься. А там мы разберемся, Антоний.
Я опустил в рот свиную матку в соусе из желтка (Габиний их, как и я, очень любил) и принялся жевать это неподатливое, упругое мясо. Паузой я воспользовался, чтобы подумать.
Со всех сторон такой расклад для меня получался крайне невыгодным. С одной стороны, я не мог продемонстрировать свою доблесть, с другой стороны, продвижение по службе крайне затрудняла полная зависимость от капризов Габиния, который, хотя и был милым мужичком, не вполне годился на роль опытного, мудрого и благожелательного наставника.
Я сказал:
— Мне было бы очень приятно помогать тебе по мере сил, однако я не ищу безопасности и спокойствия на войне. Когда я прошу тебя о назначении, я прошу не о снисхождении и высокой почести путешествовать с тобой, но о том, чтобы отправиться туда, где я больше всего нужен и могу послужить, пусть даже ценой собственной жизни.
Габиний хмыкнул, но слова мои ему явно понравились.
Он сказал:
— Правда? Значит, ты хочешь быть героем, Марк Антоний? Учитывая все, что я о тебе слышал, никогда бы так не подумал.
— Я могу удивить, — ответил я. — И сильно. Дай мне шанс проявить себя.
— Проявить себя? — спросил Габиний. — И что же ты подразумеваешь под словосочетанием "проявить себя"?
— Мне нужна должность, которая будет позволять мне проявлять беспримерную храбрость, силу и ловкость. В этом я хорош, во всем остальном могу быть не очень хорош. Например, в бумажной работе я буду плох, за ней я засыпаю.
И правда, только теперь, когда я, в принципе, почти не могу спать, милый друг, у меня есть роскошь не засыпать за длинными письмами и терпение их оканчивать.
Словом, я не слез с Габиния, пока он не пообещал мне весьма солидную должность префекта конницы.
Моя настойчивость ему явно понравилась. А напоследок мы немного посплетничали о Цицероне. Я сказал ему:
— Мне приятно было знать, что ты не водишь дружбы с Цицероном, значит я могу тебе доверять.
Габиний засмеялся.
— Цицерон скучен и склочен.
— Да, — сказал я. — Мой принцип никогда не иметь дела с его друзьями очень легко исполним, учитывая, что он ненавидит почти всех. И я благодарен тебе за то, что ты выгнал его из Рима.
Конечно, основная заслуга принадлежала Клодию, но я не упустил момента похвалить Габиния, обойдя стороной еще одного его недоброжелателя.
Габиний широко улыбнулся, и его масляные глазки засветились.
— Это было удовольствием. Что касается тебя, я слышал ты поссорился с Клодием Пульхром.
— Да, — ответил я. — Отчасти поэтому мне пришлось покинуть Рим.
— Уверяю тебя, после нашей с тобой поездки, ты сможешь вернуться без страха.
Но, о, я бы все отдал сейчас, чтобы на месте Габиния был Клодий с его неугомонной натурой и радостным энтузиазмом. Однако мы слишком самоуверенны, когда говорим, что выбираем себе друзей. Частенько их выбирают за нас обстоятельства.
А в общем и целом, милый друг, как я и писал тебе тогда, все устроилось хорошо. Ты, видимо, обиделся, что я не вернусь в Рим, и ответа я не получил, а затем мы отплыли в Сирию.
Как поразил меня древний, напоенный тысячелетиями скорби и крови, святой Восток, с его диковинными запахами, раскаленными песками, жирными мухами и роскошными золотыми дворцами под ярким синим небом.
Греция, в общем и целом, похожа на Рим, только лучше. Она как версия Рима для очень хороших мальчиков и девочек: климат мягче, люди добрее, еда вкуснее. Восток другой по самой своей природе, он весь золотой, он дикий и страстный, совершенно экстатический, люди там безумны по нашим меркам, изнежены и ожесточенны одновременно.
Восток — это вечность, место, где история замерла, будто змея в горячем песке. Восток был, когда нас не было, и Восток будет, когда нас не будет. Я пою песнь любви Востоку не потому, что я здесь умру. Я римлянин, и я предпочел бы умереть в Риме, но оттого моя искренность не становится меньше. Восток — моя земля любви, еще одно изощренное удовольствие, которое я успел испытать.
Многие жаловались на жару, на непонятных местных жителей, на мерзкий вкус воды, но не я. С первой секунды я полюбил диковинную архитектуру, огромное оранжевое солнце на синющем небе и даже причудливых насекомых, сопровождавших нас постоянно.
Только я всю поездку сохранял преувеличенную бодрость.
Что касается самого ремесла войны, сначала я подумал, что оно мне не под силу. Но вскоре понял, что на войне, как и в любви, главное смелость, чувство момента и умение вовремя позабыть о себе.
Странное дело, после роскошной жизни в кредит, к которой я себя приучил, лишения показались мне даже приятными. Я любил долгие переходы под палящим солнцем, грубую солдатскую еду, боль в заживающих ранах — все это стало для меня обратной стороной удовольствия, его реверсом, без которого невозможен аверс. Лишения и мучения сладки, потому что они придают вкус жизни, и тогда простой хлеб становится во рту изысканным яством.
Я хорошо ладил со своими солдатами, быстро запомнил многих, их имена и чаяния, кто хочет домой к жене, кто мечтает о кусочке землицы, кто спит и видит, как бы налиться вкусным еврейским вином по самые зрачки. Они оказались простые мальчишки, как ребята из Субуры, как парни из банд Клодия, и я испытывал к ним нежность и жалость, потому что они были — мой далекий дом, воспоминания о любимых друзьях, о любимых местах. Неприхотливые в жизни и в смерти молодые крестьяне или бедные городские жители, они с благодарностью смотрели на меня, потому что я был куда лучше их предыдущего начальника, мелочного зануды, по поводу и без велевшего младшим офицерам использовать виноградную палку для наказания неугодных.
Я ел со своими солдатами, пил со своими солдатами, мы делили вместе все радости и горести, и со временем мне совсем перестало быть интересно в компании Габиния и офицеров высшего ранга.
Во время долгих переходов я развлекал своих ребят историями или пошлыми рассуждениями.
— Еврейки, — говорил я. — Все говорят, они очень узкие, даже те, у кого много детей. Поэтому их мужчины срезают себе кожу с члена. Чтобы не кончать быстро! Мы будем воевать против людей, которые принесли такие жертвы, чтобы удовлетворять своих женщин.
И начиналась некоторая дискуссия.
Я был простодушен, посвящал солдат во все проблемы, в подробности своей собственной мирной жизни, и слушал их истории, советовал им что-то, общался так, словно мы были собутыльниками где-нибудь в Субуре. Мне ужасно повезло, что, пока я учился искать баланс между субординацией и любовью, рядом со мной были такие добрые и верные мальчишки. Их было чуть больше четырехсот, но, говорю тебе, помню я до сих пор каждого. Были у меня и любимцы: Гней Гатерий, лучше всех игравший в кости, невероятный везучник, Гай Ацилий Северус, совершенно, несмотря на устрашающее имя, безобидный малый, Квинт Варус с его кривыми зубами и шепелявым голосом, он всегда меня смешил. Но, если начну перечислять всех, не управлюсь до конца целого мира.
Они хорошие люди, а, может, я так считаю, потому что то был мой первый отряд, и я не столкнулся с теми сложностями, с которыми обычно сталкиваются молодые офицеры.
Многие погибли, и о них я до сих пор жалею, даже сейчас, хотя ныне я теряю куда больше людей.
Теперь, обладая опытом, я уже вижу все ошибки, которые совершал, и вижу, почему кто-то погиб, а кто-то выжил, все это становится простым и легким, как схема на карте. А тогда я действовал по наитию. Оно чаще бывало верным, чем нет.
Я бросался в бой, не боясь смерти и почти не помня себя. Убивать было не страшно, умирать тоже. Страшно только облажаться.
Кровь вызывала у меня восторг, у нее все еще был праздничный цвет. Запах гниющих на солнце трупов быстро въелся в ум и сердце, и перестал вызывать какие-либо чувства. На мертвых, если их много, привыкаешь смотреть очень быстро. Я все искал в себе хоть что-то, что протестовало бы против смерти, крови и боли — и не нашел. Я вдруг оказался на своем месте. Меня заводила возможность показать себя, заводила необходимость действовать быстро и в нужный момент, нравилось наносить удары, нравилось, когда они были смертельны, нравилось побеждать.
Когда-то Цезарь сказал мне, что на войне не стоит думать, потому что любой думающий человек сойдет с ума.
— Поэтому, — сказал Цезарь. — Ты хорош в этом искусстве.
— Потому что я тупой?
— Потому что ты умеешь вовремя перестать думать.
И это, может быть, самое главное. Я видел множество офицеров куда лучше, куда умнее меня, которые не могли прекратить думать, просчитывать, предугадывать. И они умирали. Просто потому, что у них не было того животного чувства, которое всегда спасало меня, и которое включалось только тогда, когда отключалось все остальное. Я всегда умел выбрать для нападения нужный момент, умел выбрать кратчайший путь достижения желаемого и умел приободрить своих солдат перед самым безнадежным заданием.
Я переменился. Стал жестче, но, вдруг, и куда менее эгоистичным. Мне пришлось думать о других, они были под моей ответственностью, их жизни зависели от меня. Но мне показалось, будто я готовился к этому всю жизнь, подспудно, будто во сне, по ночам (или по утрам сказать лучше, зная меня?). Все, что было во мне хорошего вдруг развернулось и расцвело.
А потом я совершил свой самый первый подвиг. Мы тогда подавляли еврейское восстание, один мятежный царевич возомнил о себе, как это всегда бывает с евреями, слишком много. Евреи — дивный народ. Они продадут что угодно, кроме своего странного бога. И не умрут ни за что, кроме него. Они умирали с молитвой на устах. Что-то вроде "Шма, Израэль", и так далее, и тому подобное. Я никогда не мог различить все слова. Один наш проводник, когда я поинтересовался, сказал, что это переводится как "Слушай, Израиль". Они обращаются к своей стране или к народу, цитируя старую книгу и признаваясь в любви и покорности своему богу. Это восхищало и пугало меня. Евреи неутомимы в бою. Они не боятся умереть из-за какой-то своей высшей реальности, и потому делаются иногда почти непобедимыми.
Я быстро понял, что нельзя проявлять к ним жалость. На поле битвы их нужно истреблять либо всех, либо почти всех, так как евреи не успокаиваются никогда, но, в отличие от варваров, они умны и коварны. Я никогда не брал еврейских пленников после одного случая. Однажды, еще в самом начале подавления еврейского восстания, один молоденький мальчишка, которого я, помню, пожалел именно за возраст, прокусил горло еще одному мальчишке по имени Луций (какой дурной знак), который был не старше, и разве не его я должен был пожалеть в первую очередь?
А этот молоденький еврейчик, его сразу же пронзили мечом, смотрел, как Луций отчаянно зажимает рану на шее, и кровь из его груди, поднимавшая вверх, в рот, мешалась с кровью Луция на его губах.
А я не думал, что человек на такое способен — выгрызть из другого кусок, порвать артерию. Перед смертью мальчишка тоже шептал свою молитву, а Луций умер молча, очень удивленный таким поворотом.
Я не мог есть и спать, и после этого я никогда их не щадил.
Мне свойственна жалость, но убивать не тяжело, потому что убивая — не думаешь, в голове затемняется.
Свой первый настоящий подвиг я совершил, когда мы брали Александрион, самую важную крепость мятежников и самую труднодостижимую. Обидно, но я почти ничего не помню. Помню, не боялся, нет, не боялся смерти. Помню, что думал: я избранный, всех избраннее и веселее, и, если кто и будет первым, то я. Помню, хотел подбодрить моих ребят. Обесценивается ли геройский поступок, если ты не веришь, что умрешь? Если не боишься и не преодолеваешь себя.
Помню, мне все давалось легко, даже слишком, и, когда я оказался на стене их хасмонейской крепости, то удивился, что я первый, что я еще один. Помню ту секунду, когда балансировал, и мог упасть, и смотрел на огромное солнце и темные изгибы гор. Солнце било мне в лицо, я был ослеплен, рукоятка меча стала влажной от крови и скользила. Секунда триумфа, скольжения без страха смерти, и вот я уже подаюсь вперед, и бой продолжается.
После боя Габиний вызвал меня к себе. Он сказал:
— Я видел, Антоний.
— И что ты думаешь? — спросил я. — Я почти ничего не помню.
— Что, может быть, и не врут о родстве Антониев с Геркулесом.
— А еще что? — спросил я рассеянно.
— А еще я тебя награжу, — сказал Габиний, и его длинные, масляные глаза сузились, когда он улыбнулся.
— А еще что? — спросил я, не совсем придя в себя.
— А еще — ты на своем месте, — сказал Габиний. — Вот так.
Я был на своем месте, а это, может, лучшее чувство на свете.
На торжественном построении Габиний надел мне на голову муральную корону, символ моего места в этом мире.
Как ты помнишь, вся кампания против Аристобула, еврейского царька и его непокорных евреев, была для меня крайне успешна — мой гений благоволил мне, и я понял, зачем нужен на свете этот великолепный, диковинный Марк Антоний.
Ну, будь здоров теперь, и счастлив, что ты не жив, потому как умер бы уже от скуки, слушая мои сентиментальные речи.
Твой брат, Марк Антоний, которому здесь, в Александрии, так скучно, что есть и время предаться воспоминаниям, и время попытаться решительно все забыть. Жизнь кажется такой короткой.
После написанного: Какая скука? Нет уж, так мы писать не будем, и думать мы так забудем мгновенно и навсегда. Что за уничижительная критика, и почему ты начинаешь так делать под самый конец жизни? Марк Антоний всегда был отличным развлечением и еще никого не заставил скучать.
Послание девятое: Декапитация
Марк Антоний брату своему, Луцию, с извинениями и искренним беспокойством.
Сегодня слышал от одного сирийского жреца, что я таким образом, своими письмами, тревожу тебя, милый друг, и ты, пусть боги не допустят этого, испытываешь тоску и боль от моей скорби.
Надеюсь, что это не так, мой родной, однако сегодня я постараюсь не обращаться мыслями к твоей ранней смерти и не думать о тебе, как о ком-то, кого нет. Если все так, как говорит тот жрец, то сколько слез проливают наши близкие после смерти, куда больше, чем при жизни. Не хочу, чтобы тебя постигла какая-нибудь плохая участь, наоборот, великолепное Солнце, я буду стремиться думать о тебе, как о том, с кем мне предстоит радостная встреча.
Братья и сестры! Это одна из немногих тем, в которых мы с моей деткой друг друга полностью понимаем. Я уже говорил тебе, что моя детка никогда и никого не любила больше, чем сестру свою, Беренику. Доходит до смешного: знаешь, на кого похожи две ее любимые прислужницы, с которыми она едва ли расстается хоть на минутку, Ирада и Хармион? Словно две капли воды, сами могущие сойти за сестер, они походят на Беренику. Думаю, моя детка долго искала таких.
Береника куда красивее моей детки: у нее правильные черты, нежный овал лица, приятный, без желтушности, золотой цвет кожи. Она вся прекрасна такой гармоничной и нежной, предзадуманной красотой. Помню, в ней не было резкости и даже некоторой грубости, которые присущи чертам моей детки, так любимым мною ныне. Наоборот, вся она — только нежная мягкость, ласковый свет. Страшная глупышка, Береника совершенно не годилась, чтобы управлять государством, ее повергал в ужас собственный народ, у нее была очень плохая память, но, когда она взглядывала из-под ресниц, казалось, струится теплый свет, как в начале дня.
Моя детка и ныне тоскует по старшей сестре. Смерть сестры впечатлила ее крайне надолго, и ныне моя детка, когда она совершенно беззащитна, жмется ко мне и говорит, что больше всего на свете боится быть казненной. Более всего, этот страх бывает силен на рассвете, особенно, когда утренняя дымка над Александрией желтеет к жаре — тогда стояла такая погода и был тот час, нежный, но навсегда испорченный для моей детки.
Прежде она задергивала шторы и не хотела смотреть на то, как светлеет небо, сейчас нарочно поит этим зрелищем свои глаза.
Помню, когда она приезжала в Рим, случился у нас с ней единственный странный эпизод. Других и не могло быть, тогда жил еще Цезарь, и все знали, какова суть их отношений. Моя детка устроила вечер, и мне выпала честь вести с ней некоторое время какой-то ни к чему не обязывающий разговор. Я плохо его помню, кроме единственного момента. Не думаю, что царице Египта было со мной интересно, а я не старался ее обаять. Я вообще не могу сказать, что в тот свой приезд она вызвала у меня какой-либо особенный интерес, как и я у нее — вот так причудлива бывает судьба, а теперь мы влюблены навсегда и умираем вместе. Я рассказывал ей, как в первый раз побывал в Египте, и как восхитился его плодородной красотой.
— Это было, когда твой отец, — сказал я. — Вернул свой трон.
Вдруг лицо ее чуточку изменилось, бесстрастное и спокойное прежде, оно стало злее и вместе с тем — живее и красивее.
— Ты, стало быть, воевал тогда вместе с Авлом Габинием? — спросила она.
— Да, — ответил я, уже понимая, что говорю что-то не то. Я собирался как можно быстрее свернуть тему, однако моя детка вдруг улыбнулась, вспомнив.
— Марк Антоний, — сказала она задумчиво. — А ведь сестра моя, Береника, рассказывала мне о тебе.
— Правда? — спросил я. — И что же говорила тебе сестра твоя, Береника?
Я и предположить не мог, как они успели пообщаться обо мне, учитывая всю ситуацию.
Моя детка чуть склонила голову набок и напевно сказала:
— Мы говорили, как девочки.
Именно так: де-во-чки. Голос ее в тот момент очень напоминал голос Береники. И ничуть — ее собственный.
Потом моя детка (тогда еще не моя детка) встала на цыпочки и прошептала мне на ухо.
— Она говорила, что Марк Антоний смеется, когда кончает.
Я как ни в чем ни бывало ответил:
— Иногда он плачет или кричит.
— Сущий ребенок, — сказала моя детка и невероятно ловко вернулась к обычному, скучному, необременительному разговору, который мы вели еще некоторое время.
Больше она ничего такого не выказывала и вообще не выделяла меня излишним вниманием. Вскоре я и думать забыл об этом разговоре, списав его на странности царицы, иноземные причуды.
Однако сейчас я понимаю, что я интересовал ее, как последний мужчина, у которого была в объятиях Береника, и она довольно пристально наблюдала за моими манерами и повадками. Я вызвал ее любопытство, а моя детка так пресыщена всякого рода знаниями (в том числе и о людях), что это крайне сложно сделать.
С другой стороны, я никогда не говорил ей, что именно я уговорил Габиния согласиться на египетский поход, и, может быть, если бы не мой язык, Береника осталась бы жива. Я пытался спасти ее (о, она была прелестным созданием) это правда, но я же ее и погубил.
Я никогда не говорил этого моей детке, но, думаю, она знает.
А как пугает ее сама эта идея, оказаться без головы.
Как-то моя детка сказала мне:
— Декапитация превращает человека в мясную тушу. А вы считаете это почетной казнью, достойной римского гражданина. Как глупо.
Она ранима и беззащитна, и я так жалею ее.
Но вернемся с тобой, пожалуй, к великолепной судьбе великолепного Марка Антония. И для меня великая трагедия всей жизни моей бедной детки была, по большому счету, хорошей историей.
Я шел за своей звездой, и мне действительно везло, но, кроме того, я делал что-то полезное: для себя, для своей Родины, для своей семьи. Я зарабатывал деньги, причем деньги большие. Приворовывал, конечно, не без этого, но что ты за Антоний такой, если не лезешь никому в карман? Я делал то, для чего был рожден, убивал и не боялся быть убитым, и моя счастливая звезда не угасала ни на минуту, во всех предпринятых сражениях я показал себя прекрасно, и очень скоро оказался у Габиния на хорошем счету, если не сказать больше. Я даже потеснил многих его старших офицеров, и он активно прислушивался ко мне.
Габиний мне, в общем и целом, нравился. Он был несложный, добродушный человек, временами страшный тупица, но кто без недостатков, даже без этих вот самых?
Габиний частенько говорил мне:
— Марс именуется Слепым, потому что Марс не обещает тебе победу, только вечную войну. Он не знает, кто победит, и лишний раз ввязываться в сомнительные авантюры не стоит. Страдающий от Марсовой жажды найдет гибель быстрее, чем следует.
Но от какой только жажды я не страдал в этой жизни? От жажды войны, разумеется, я страдал тоже. Мне слишком понравилось побеждать, и останавливаться я не хотел. Кроме того, походы — это деньги, много денег, а я жаден и до них.
Как ты понимаешь, дорогой друг, смотреть дальше собственного носа было не в моих правилах, зато убеждать я умел. Так и получилось с египетским походом, который, в конце концов, привел Габиния в суд. Я часто вызываю восторг, но редко приношу счастье.
Словом, история вышла такая. После того, как у нас не случилась война с парфянами, которой я очень ждал, я пребывал в расстроенных чувствах. У евреев опять наступило их временное еврейское затишье, остальные народы Востока не демонстрировали обычной враждебности друг к другу, и я заскучал.
Некоторое время я надеялся, что Габиний соберется погонять арабов, единственную мою отраду, все таких же диких и необузданных, но вскоре стало понятно, что мы надолго застряли в Антиохии. Стареющий Габиний, казалось, радовался этому. Он закатывал грандиозные пиры, заплывал жирком и сетовал на то, что провинция приносит не так много дохода, как он ожидал.
Однажды мы с Габинием и еще парочкой серьезных офицеров возлежали в роскошном, слишком для нас просторном зале его резиденции, и я уговаривал Габиния пойти на арабов.
— Арабы, — фыркнул он. — Молодой Антоний, арабы — это не деньги, арабы — это проблемы.
— Это победа, — говорил я. — В череде твоих блестящих побед. Так ты приблизишь свой триумф, разве нет? Мы разгромили евреев, но этого мало. Восток при тебе станет мягким и покорным, как косский шелк. Дай Риму оценить твои благодеяния.
Габиний сам был страшный льстец и любил, когда льстят другие. Я быстро это усвоил, а фантазии у меня — хоть отбавляй.
Габиний все сомневался и мялся, мнения среди других офицеров разделились, и назревала горячая перепалка. Но вдруг быстрым шагом вошел раб, сообщивший что-то на ухо Габинию. Глаза у него расширились, он пошамкал слюнявыми после еды губами.
— Да? — спросил он. — Правда? Надо же.
Раб кивнул.
— Что мне передать, господин? — спросил он. Габиний почесал пухлую щеку пухлой рукой.
— Пусть войдет, — сказал он. — Друзья, прошу прощения, я должен ненадолго покинуть вас. Вскоре мы снова соединимся и продолжим наше обсуждение.
Твою мать, подумал я, как не вовремя, ты, кто бы ты ни был, у меня ведь могло получиться склонить Габиния на нужную сторону, все шло неплохо.
Поднявшись, Габиний сказал:
— Антоний, ты пойдешь со мной.
— Да, — ответил я, как всегда бодро, хотя в душе у меня царило радостное, детское любопытство, которое мне хотелось тут же выразить. Куда? Зачем? Кто там пришел?
Но я нашел в себе силы не задавать лишних вопросов. При всей своей мягкости, вот этого Габиний не любил. Мы перешли в небольшую комнату с симпатичной мозаикой на полу, изображавшей фруктовые деревья и с четырьмя чашами для умывания, источавшими тонкий аромат благовоний (здесь, на Востоке, ими пахло все). Габиний умыл лицо, пощипал себя за шею.
— Знаешь, кто к нам идет? — спросил он, вновь устраиваясь на ложе. Я последовал его примеру.
— Не могу даже представить, — ответил я искренне.
— Птолемей Авлет, — сказал Габиний. — Правитель Египта.
— Ничего себе!
— Но бывший, — задумчиво добавил Габиний. — Его свергли и изгнали. Сейчас в Египте правит его дочь. Та еще штучка, надо сказать, но, как правитель, она всего лишь марионетка в руках придворных интриганов.
— И чего ему надо?
— А чего им всем надо? — спросил Габиний. — Помощи Рима.
Так и оказалось. Когда Птолемей вошел, он немедленно откинул капюшон плаща, и я увидел человека с желтым, некрасивым лицом (этот желтоватый цвет достался и его дочери Клеопатре, которая стала много позже моей женщиной) и огромными, темными глазами. Впечатление было такое, что он очень нездоров. Его лицо исхудало, под веками залегли фиолетовые мешки с густой кровью, глаза горели, скулы натягивали сухую кожу.
— Приветствую, — сказал он скрипучим, неприятным голосом. — И благодарю тебя за гостеприимство, Авл Габиний.
Он посмотрел на меня, но не счел нужным со мной здороваться. Вообще, несмотря на абсолютную покорность, которую он выражал при Габинии, всегда в нем присутствовало нечто неприятное, нечто змеиное, какой-то тяжелый дух болезни и неуживчивости.
Почти сразу он закурил, никого не спрашивая. Птолемей курил сигарету за сигаретой, частенько одну поджигая от другой, надсадно кашлял, и его раб держал перед ним золотую чашу для царских желтых плевков.
Мы с Габинием после всего очень над этим смеялись. Я бил себя по коленкам и говорил:
— Ой, не могу, это же слюна бога! Ни капли не должно пропасть!
Габиний хохотал.
— Да уж, горе египетской земле, если этот человек сплюнет хотя бы в серебряную чашку!
А тогда Птолемей сидел перед нами и, глубоко затягиваясь сигаретой, только собирался поведать нам свою печальную историю.
Она оказалась простой и короткой, самой интересной частью в ней оказались десять тысяч талантов. Сумма колоссальная. Да получив хотя бы малую ее часть, я смог бы покрыть долги своей семьи, и еще осталось бы отгулять освобождение от них. Глаза мои загорелись сразу же, и куда сильнее, чем у Габиния, и без того весьма богатого человека, хоть и изрядного жадины. Птолемей заметил это. Выдохнув дым в мою сторону, Птолемей пристально и внимательно оглядел меня, словно припоминая мое имя, которого никак не мог знать.
А я думал: и вот это потомок великого Птолемея, военачальника Александра Македонского? Желтомордый злобный мужик, болезненный и неприятный, как бездомное животное. В нем не было ничего царственного, кроме того, что Птолемей цены себе сложить не мог.
Но десять тысяч талантов, неправда ли, убедительный аргумент?
Птолемей и Габиний разговаривали долго, прежде всего потому, что Габиний не собирался давать однозначный ответ, а Птолемей не хотел без него уходить. Эти восточные люди (а династия Птолемеев уже всего этого набралась), они очень липкие. Во многом им цены нет, но липкости не отнять. Они привязчивы и не слезают с тебя, пока не добьются, чего хотят, ты отказываешь им, а они начинают снова и снова, чуточку иными словами, будто стараясь тебя загипнотизировать.
Я с интересом слушал разговор, но не встревал, хотя Птолемей иногда посматривал на меня, видимо, ожидая, что я тоже что-нибудь скажу. Однако, каким бы неформальным ни казалось наше с Габинием общение, я точно знал, когда нужно выступить. Вот тогда стоило промолчать.
Наконец, Габиний сказал:
— Мне нужно подумать.
— Да, — Птолемей снова завел свою песнь. — Безусловно, решение требует глубокого раздумья, однако времени действительно мало. Я не хочу, чтобы кто-то узнал о моем нынешнем местоположении до того, как мы выступим.
Уже и мы, подумал я, уже и выступим.
Но, хотя Птолемей вызывал у меня неприязнь, мне, в то же время, не терпелось поговорить с Габинием по поводу двух вещей, которых я хотел больше всего на свете: денег и действия.
И вот, все к этому шло, добродушный Габиний потерял терпение.
— Я извещу тебя о своем решении, — сказал он, прищурив длинные глазки. — Как можно скорее. Прости, к сожалению, я устал, и нам следует закончить этот интереснейший разговор.
Птолемей скривился и резко встал, пепел с его сигареты упал на столик, расписанный птицами. Он закашлялся, сплюнул мокроту в золотую чашу, предусмотрительно подставленную рабом.
— Хорошо, — хрипло выдавил он из себя. — Как тебе будет угодно. Однако, я недолго буду готов предложить тебе такие деньги.
Когда он ушел, Габиний задумчиво поглядел в свой кубок с вином, прошелся большим пальцем по рубинам, которыми он был инкрустирован.
— И что ты об этом думаешь? — спросил я.
— Что это как раз тот случай, о котором я говорил. Слепой Марс зовет нас в бой.
— Храм Януса всегда открыт, — сказал я. — Рим — это война.
— Рим отказал ему в поддержке, — мрачно ответил Габиний и махнул рабу, чтобы тот подлил вина. — Недавно Помпей писал мне об этом. Знамения неблагоприятны.
— Вероятно, никто не предсказал появление десяти тысяч талантов, — сказал я. Габиний махнул рукой, сказал притворно-строго.
— Не богохульствуй, Марк Антоний. Скажи мне лучше, как это будет расценено дома?
— Если мы выиграем, то как геройство, — ответил я. — Египет получит царя, который будет отдавать долг Риму всю свою жизнь.
— Справедливо. Но что будет если мы, учитывая сложный переход, путешествие через пустыню и прочие чисто технические трудности, проиграем?
— Такого не будет, — сказал я. — Я могу ручаться за моих ребят, и, спроси кого угодно, они знают своих. Все это время нам сопутствовала удача, наша армия сильна и воодушевлена победами.
Габиний молчал, покачивая вино в кубке.
Я знал, что большинство офицеров будет не в восторге от перспективы пойти наперекор сенату, поэтому мне не следовало упускать невыпотрошенную рыбку из рук. Я должен был уговорить его сейчас.
— Послушай, дерзость добродетельна не всегда, чаще она порочна и убийственна, но самые великие деяния совершаются вопреки, а не по указанию. Разве Брут не изгнал Тарквиния, наплевав на законы, которые действовали тогда? Разве Ромул побоялся царя могущественного Амулия?
Габиний молчал.
— И разве не заслужишь ты награды за свои труды, если выступишь со своей победоносной армией и преподашь египтянам урок хорошей войны? Покорный Египет будет тебе наградой, и благодарный царь.
— Ты действительно думаешь, что стоит рискнуть? — спросил вдруг Габиний совершенно беззащитно, и я понял, как быстро он стареет. — Ты действительно вот так и считаешь?
— Таковы мои домыслы, но решать тебе, как мудрому командиру, — ответил я.
— Выглядит так, будто все располагает к походу. Наши удачи, вышеназванная сумма.
— То, что царь Иудеи поддержит нас. Евреи издавна ненавидят египтян, а, кроме того, разве царь Иудеи не поддержит своих спасителей? От нас зависит его положение, и он сделает все, чтобы наш поход был успешным.
— Да, — сказал Габиний. — Но решать надо быстро.
— Такие суммы редко предлагаются дважды, — ответил я. Я знал, что Габиний, искренне меня любивший, даст мне щедрый кусок со своего стола. Он доверял мне, я был ему почти как родич. И вот сейчас он предлагал мне разделить на двоих тайну, а у этого тоже есть своя цена, даже если кажется, будто бы ее нет.
— Да, — сказал он, наконец. — Антоний, в этом что-то есть. Я высплюсь с этой мыслью, если мне это удастся, и утром мы обсудим поход еще раз.
Но я уже знал, что он согласен, видел характерный блеск в этих узких глазках.
Все вышло так, как я и думал. Очень многие видные люди были против такого похода, но Габиний уже загорелся идеей не только получить десять тысяч талантов, но и дерзостью своей вписать имя Авла Габиния в замечательную историю Рима. Я горячо убеждал всех, кого мог достать, и даже во сне я чаще всего уговаривал кого-нибудь двигаться в египетский поход.
Мои ребята тоже не выказали должного энтузиазма, и я несколько раз выступал перед ними, проповедуя им невиданное приключение.
— Земли Египта — житница цивилизации, разве не хотите вы увидеть колыбель человечества? Когда у нас еще волки по холмам бегали, их фараоны уже спали в своих гробницах. Будет почетно отыметь столь древнюю цивилизацию, тем более, если мы отымеем ее по полной. Посмотрите достопримечательности, сфотографируетесь на фоне пирамидки, жены будут в восторге, шлюхам можно показывать, опять же, мол, где я был. А какой он богатый, этот Египет. Чего там только нет! Сколько денег и подарков вам достанется! Их женщины, между тем, бреют себе лобки.
Как ты понимаешь, это компиляция из нескольких моих речей, которые, в конце концов, благодаря природному любопытству человека, природной жадности и частому повторению возымели эффект.
Вскоре нашелся и повод объявить войну правительнице Беренике. Габиний утверждал, дескать, она покровительствует пиратам, опустошавшим побережья просторных римских владений. Всем было понятно, что это лишь предлог для вторжения, но он был необходим, потому как соблюдалась видимость законности всего предприятия. В Риме молчали. Прямого запрета не поступало, но и одобрения Габиний не получил. Впоследствии, в суде, ему популярно объяснили, что запретить что-либо достаточно лишь один раз, но тогда, ведомый жадностью и жаждой славы, Габиний все время повторял:
— Если бы они были против, то написали бы об этом.
Царь Иудеи, Гиркан, многим нам обязанный, позаботился, о нас, отправив с нами весьма хорошо укомплектованное и опытное войско во главе с Антипатром. Это был умный, красивый, породистый еврей, воплощавший все их добродетели: холодный разум, смелое сердце и стремление угодить, и не имевший их недостатков, таких как вечная и непримиримая непокорность.
Я долго думал, что он еврей и есть, пока один из офицеров, разбирающийся в этом вопросе лучше, не просветил меня, что идумеи — это не другое название евреев.
Мне этот мужик очень нравился, он напомнил мне Цезаря. Конечно, труба пониже и дым пожиже, но, в общем и целом, он отличался тем же светлым, прохладным взглядом человека умного и незлобивого одновременно.
Я многому у него учился, часто следил за тем, как он общается с офицерами, как строит войско, какие приказы отдает.
Переход по пустыне оказался мучительным, но не таким длинным, как я ожидал. Антипатр говорил:
— У нас хорошие проводники. Они могут идти по пустыне сорок лет.
— О, — отвечал я. — А могут они идти по пустыне чуть поменьше?
На самом деле, как я осознал потом, мы были крайне быстрыми, на грани с чудом.
О, золотые пески Синая. Все осталось в далеком прошлом, кроме бесконечного песка. Исчезли в нем и Красавчик Клодий со своей дружбой и враждой, и нежность злобного сердца Фульвии, и раскрасневшееся лицо Антонии, румянец которой я любил сцеловывать в постели, и даже вы с мамой почти оставили меня. Пустыня умеет сводить с ума.
Мои глаза всегда были красны от песка, я кашлял, потому что песок проникал даже в самые мои легкие, я ел еду с песком, я пил воду с песчинками. Но Антипатр держался легко и спокойно, словно мы прогуливались по прекрасному саду, знакомому ему с детства. Хуже пустыни были только болота, поэтично называющиеся "Выдохом Тифона", и правда, они ужасно воняли серой. Но и там Антипатр подавал мне пример стойкости и умения переносить трудности. Переносил их стойко и я, подавая пример своим бедным солдатикам.
Давай, думал я, не подведи, Марк Антоний, не опозорься перед этим иноземным умником и не дай впасть в уныние своим ребятам. Да, Антипатр, не зная этого, здорово мне помогал.
Знаешь, какой был самый важный урок для этого молодого и кровожадного Марка Антония? Пелузий.
То была неприступная крепость и едва ли не важнейший город на египетской карте. Не войдя в Пелузий, не войдешь в Египет, так говорили. Габиний доверил мне взять Пелузий, это говорило о том, что он не просто ценит меня, а восхищается моим даром и верит в него более, чем в самое себя. Я это оценил. И я не мог проиграть, я был готов зубами грызть камень, чтобы пробраться туда.
Я предполагал быстрый и решительный штурм города по аналогии с тем, что я уже проводил прежде во время подавления еврейского восстания. Антипатр, ни в коем случае не оспаривая мой авторитет (я со своим отрядом и еще несколькими, мне данными для штурма, двигался перед Габинием и был в его отсутствии самым главным человеком), подошел ко мне отдельно, после быстрого совещания. Он сказал:
— Антоний, мои агенты узнали, что город защищает весьма значимый контингент еврейских наемников. Я берусь уговорить их открыть нам ворота.
— О, — сказал я, настроившийся было на хороший бой, один из тех, что уже случались с нами на подходах к Пелузию. Все это время я действовал блестяще, и соблазн проявить отвагу и силу в очередной раз был велик. Я знал, что смогу.
Антипатр видел, что я сомневаюсь. Он покручивал свою по-восточному окладистую черную бороду и ждал, что я скажу. Антипатр никогда не намекал на мою молодость или неопытность и всегда соблюдал положенную субординацию. Но я молчал, растерянный. Мне хотелось действовать, а какова цена города, добытого хитростью?
Антипатр словно прочел мои мысли. Он сказал:
— Высока цена городов, добытых воинской силой и доблестью. Но еще выше доблесть и сила того, кто может войти внутрь, не пролив ни капли крови.
— Да, — сказал я. — Наверное.
Антипатр посмотрел на моих ребят. Поблизости от нашего шатра человек пятнадцать играли в кости. Вернее, играли двое, а остальные болели за кого-либо из игроков.
Каждый из них вверял свою жизнь Марсу, а Марс — слеп. Я вдруг испытал жалость и любовь к ним, будто к собственным детям, хотя я был еще молод и не знал толком отцовского чувства (если не считать моего коротко знакомства с первым сыном).
Антипатр сказал:
— Человечность ценится везде, в том числе и на войне.
— Да, — сказал я, глядя на веселых и, главное, живых солдат. — Попробуй-ка устроить дело миром.
У Антипатра получилось, нам открыли ворота, и Пелузий сдался безо всякого боя.
Помню, как я вошел в этот притихший голод. Ни повреждений, ни огня, ни крови, ни трупов. Все замерло в ожидании моей милости или свирепости. Все окна были затворены, люди будто исчезли. Чувствовалось лишь тяжелое дыхание ветра.
Когда в город въехал Птолемей, вид у него был чудовищно злобный. Он сидел на гнедом, блестящем от пота коне и смолил сигарету за сигаретой.
Сначала он сказал:
— Прекрасная работа. Ты сохранил столько людей для для моей мести.
Тут меня обуял страх. Птолемей спешился и крикнул своим воинам:
— Я хочу, чтобы в городе были перебиты все мужчины, способные держать оружие. Среди них скрываются воины, которые предали меня.
Птолемей сказал это на египетском, которого я не знал. Антипатр наклонился ко мне и тихонько перевел сказанное.
Узнав, чего хочет Птолемей, я сразу же сказал:
— При всем уважении, их воины потеряли надежду на победу еще во время битв у перешейка и подступов к городу. Удача не сопутствовала им, и они сдались.
— Они подняли оружие против своего царя! — сказал Птолемей. Ох уж это восточное "вам, римлянам, не понять, что значит "царь".
— Но они сложили его, — сказал я. — И теперь они покорны и молят о пощаде.
— Раз подняв оружие, — процедил Птолемей, затушив сигарету о тонкую золотую пластину на груди лошади и тут же закурив новую. — Они определили свою судьбу. Мятежники умрут!
Габиния еще не было, и гонец, передавший мне его слова:
— Прекрасная, прекрасная работа, — так вот, этот гонец сказал, что Габиний не прибудет в Пелузий раньше, чем через три часа. Действовать нужно мне. Дух у меня захватило от осознания того, что я сейчас — это Рим. Я, как префект конницы, самый высокий по званию римлянин, который находится здесь, и я говорю от имени своей великой страны.
Думаю, тогда и было решено, что я стану политиком, вот это чувство — оно не покидает тебя больше никогда. Желание быть значимее, чем человек, говорить голосом целого государства.
Решать должен был я, милый друг, и решать мне предстояло немедленно. Я чувствовал дрожь города, его жители взывали ко мне. Мы стояли на главной площади, и окна домов напротив ожили, тут и там мелькали чернявые головы. Какие у них смешные маленькие домики, думал я, каменные, но будто бы из песка.
Соберись, великолепный Марк Антоний, пусть твое порочное, но доброе, хотя бы в самом центре, сердце подскажет тебе путь. Я смотрел на Птолемея секунду, может, две. Цвет его лица был нездоровым, а тени под глазами — просто чудо как глубоки.
Он тяжко болеет, подумал я, и боится смерти. Вот почему так яростно и страстно хочет вернуть свою страну, и с такой злобой смотрит на мир. Это все от страха.
И я сказал на греческом и громко, так, чтобы все, понимающие этот язык, могли разобрать мои слова.
— Время уничтожит нас всех, и одна судьба у царя и нищего, египтянина и римлянина, однако время не в силах бороться с двумя вещами: великим злодеянием и великим милосердием. И то и другое выше нас, эта память сердец остается, когда нас уже нет.
Птолемей буквально в затяжку выкурил сигарету и бросил ее в свою золотую плевательницу, которую протянул вовремя подоспевший раб. Я сказал:
— Великий правитель совершает великие вещи, благодеяния ли, злодеяния ли.
Выбор, как говорится, за тобой, мудила.
Что до меня, спасибо прекрасному греческому образованию, которое я успел получить перед моим приключением.
На латыни я добавил:
— Рим не одобряет убийства беззащитных людей.
— Правда? — спросил Птолемей. — Значит, Рим осудил был разрушение Карфагена?
Ути-пути, какой знаток истории, подумал я. Еще я подумал: ну, если у тебя хватит соли, чтобы засыпать здесь все, вперед, дружок, вяль мясо.
Но язычок-то прикусил. Вместо этого я ответил как можно спокойнее, стараясь, по возможности, не выдать своего волнения.
— Нынешний Рим, может, и осудил бы.
Птолемей смотрел на меня. Взгляд его огромных черных глаз (в этой темноте едва ли было видно его зрачки) вцепился в меня, будто коршун в добычу, но я только улыбнулся шире.
Город, чувствовал я, зависит от меня, все эти люди сейчас зависят от меня, и сердца их бьются в унисон, быстро-быстро, как у загнанных зверьков.
Я смотрел на Птолемея. Он был еще не старый, но я знал, что долго ему не прожить. А если долго ему не прожить, то пора бы подумать и о том, как его запомнят. Кроме того, ему смертельно нужна была наша поддержка.
Я улыбался, зная, что победил. Тишина в городе стала совсем звонкой. Я не мог поверить, что место, где одновременно находится столько людей, может быть таким тихим. Воздух с хрипами выходил из груди Птолемея.
Наконец, он махнул рукой, признавая, что я прав.
Но как относительна добродетель, милый друг! Я спас жителей Пелузия, однако я уговорил Габиния привести к власти жестокого и злого человека и способствовал, хоть и косвенно, убийству одной глупенькой малышки, которую кто-то очень сильно любил.
Да, я пытался ее спасти, но неудачная попытка, в отличие от удачной, не в силах сколь-нибудь искупить вину.
Что касается жителей Пелузия, они устраивали в честь меня шумные праздники, когда я, как и Птолемей Авлет, провозгласил себя Новым Дионисом. Ирония в том, что среди его бесконечных мудреных греческих имен было и такое, хотя меньше всего этот ссыхающийся мужик был похож на Подателя Радости. Кроме того, когда удача отвернулась от меня, среди египетского контингента вернее и преданнее всего мне служили именно пелузианцы.
Воистину, мир помнит добродеяния, и они умащивают его жесткое сердце.
Разве не прекрасно, что мы в силах оставить по себе такое наследие, и оно будет жить, когда нам уже не захочется жить, и будет жить после того, как у нас перестанет получаться жить?
По-моему, нет ничего прекраснее. Я часто утешаю себя мыслью, что добра и зла во мне все-таки поровну. Ведь я пожалел их тогда искренне. Ты спросишь, и резонно, какой труд пожалеть безоружных, сдавшихся людей, всякий, кроме Птолемея, пожалел бы их. Безусловно, но сердце мое весьма и весьма ожесточилось, и я был рад услышать от него весть жизни.
Кроме того, прежде я не совершал столь благородных поступков, живя жизнью молодого и беззаботного повесы, я не знал, как прекрасно может отражаться на настроении благородство души, смелость и самостоятельность в благодеяниях.
Хватит себя восхвалять, Марк Антоний, прекрати это и скажи, что думаешь. Я просто почувствовал сильную печаль от мысли, что здесь прольется столько слез и крови, от которой я заранее отказался. Я пришел сюда милостиво и милостиво собирался уйти.
Жители Пелузия не восславили меня громко, когда Птолемей сдался, чтобы не вызывать жгучую царскую ревность, но затаили благодарность в сердце, и я вкусил ее позже. А тогда мне и не нужно было ничье восхваление, я отлично сам себя восхвалил, как это умею, и чувствовал молчаливую любовь, которой насыщался, как водой после долгого перехода по пустыне.
После, перед самым приездом Габиния, Антипатр сказал мне:
— Я впечатлен.
Он снова покручивал черную бороду, и я все гадал, как это у него получается так здоровски при этом выглядеть.
— Правда? — спросил я. — Хорошо получилось?
— Очень, — ответил он. — Милосердие стоит дорого.
— Крайне еврейский ответ, — сказал я. — О, извини, ты же не совсем еврей, я помню.
— Неважно, — ответил он. — Важно, что ты вел свою линию до самого конца.
Прекрасный человек, я всегда очень тепло к нему относился, восхищался им и учился у него. Мне несколько обидно, что, когда Цезаря убили, он встал на сторону Кассия, а не на мою.
Я, уже взрослый и состоявшийся человек, помню, переживал тогда, что Антипатр в меня не верит, не верит в силу моего гения, в мою удачу, в то, что я всему научился, и вообще считает, что я безнадежен.
Переживал страшно, хотя все понимал, и что политика есть политика, и что у Антипатра было много причин поступить именно так.
Представляешь, обидно даже сейчас, когда он тринадцать лет как умер. Ну что ты с этим сделаешь?
Таким было взятие Пелузия, но если тогда мне угодно было отведать крови, то боги благоволили этому желанию. Битва под Александрией вышла ожесточенной и зверской, и, мне кажется, это своего рода действие самой Александрии, прекрасного города, тем не менее склоняющего к великим преступлениям. Основанный самим Александром Македонским, этот город питается хорошими сражениями.
Помню, наша армия стояла там же, где сейчас стоят войска Октавиана. И я думал так же, как, должно быть, думает Октавиан теперь: прекрасный, проклятый город, смотришь на тебя и думаешь, что умрешь, но ляжешь там, где это славней и достойней всего на свете. Было, есть и будет в Александрии что-то настолько величественное, что не страшно сложить за нее голову, не страшно пасть, пытаясь получить ее. А вот защищать ее куда менее приятно, потому что Александрия благоволит смелым и молодым, тем, кто входит в нее с оружием.
Она манит тебя постоять на причале среди буйных волн и огромных кораблей, и ощутить свое величие, которое все равно окажется кратким.
Да, тогда я был счастливым и удачливым, и я знал, что впишу свое имя в историю этого великого города.
Ты знаешь, натура моя такова, что я хвастаюсь даже самыми незначительными вещами и, уж тем более, я не упущу такого повода. Габиний выиграл эту битву с войском царицы Береники благодаря мне. Я нашел нужный момент и был достаточно смел для того, чтобы зайти египтянам в тыл. Неожиданный удар и поднявшееся вслед за ним смятение позволило нам одержать решительную победу. Если хочешь знать, война это в чем-то театр, неожиданное и эффектное появление значит очень много, кроме того, у твоего противника всегда бесценные глаза, когда тебе удается сбить его с толку и напугать. Глаза пораженного зрителя!
Стоило рассказать тебе это раньше, поделиться наблюдениями, но я все помню и не собираюсь грустить, поверь мне.
Битва воспламенила меня, и этот жар, подкрепленный основательным воздействием египетского солнца, еще долго не сходил. Мы с Антипатром словно пьяные бродили по полю боя и искали погибших со знаками отличия или раненных, достойных взятия в плен.
— А кто нас, собственно, интересует? — спросил я. Антипатр назвал мне парочку имен, совершенно безыинтересных, сердце мое пылало, и сам воздух, пахнущий кровью, входил в легкие ликующе и победно. Я все время облизывал губы, они были солеными от крови и пота. Веришь или нет, я не получил в той битве ни царапинки, ни синяка, словно Марс окутал меня невидимой броней. Разве что глаза немного болели от пыли и слезились.
— Архелай, муж Береники, тоже должен был участвовать в этой битве, — закончил он.
— О, — сказал я весело. — Знавал одного Архелая, но ему было не до битв. Такой добрый, умный парень. Хотя, казалось бы, сын военачальника. Вот так странно бывает, отец — солдат, сын — жрец.
— Да, — сказал Антипатр. — Каппадокийский жрец. Носит очки.
— Ого, — сказал я. — И ты тоже знаешь Архелая? у него жил.
Тут я осекся и проследил за взглядом Антипатра.
— Да, — сказал Антипатр. — Это один и тот же Архелай.
Он лежал на песке, и голова его была запрокинута так высоко, что стало ясно: чей-то удар раздробил ему шейные позвонки. Очень жалко выглядят люди, у которых перебиты шейные позвонки, будто куклы.
Странно увидеть среди гор вражеских трупов, на которые тебе плевать, тело человека, которого оплачет твое сердце.
Архелай выглядел трогательно и печально, типично греческое лицо его потеряло в красоте, но выглядеть он вдруг стал моложе, совсем мальчиком. Очки валялись недалеко, одна линза выпала, другая каким-то чудом осталась в порядке.
Архелай стал мужем Береники примерно в то же время, когда я отправился в Сирию, наши жизни изменились столь резко, но моя, дав здоровый крен, продолжила течь в нужном направлении, а его — подошла к обрыву.
— Я не знал, — сказал я растерянно. — Не думал даже.
Над Архелаем кружили мухи, и я, наклонившись, отгонял их и вглядывался в его лицо. Не было сомнений, точно он. Я рассматривал длинную рану, шедшую от его шеи вниз, к ключице, кровь залила всю грудь и блестела теперь черно-красным лаком, засыхая на солнце.
— Ты этого не заслужил, — сказал я печально и почувствовал, как кровь приливает к голове, а слезы стремятся из глаз. Мы с Архелаем, может, и не вели самое долгое и дорогое знакомство, но он был гостеприимным другом, который помогал мне, когда я чувствовал себя плохо. И я никак не ожидал увидеть его здесь, этот контраст вышиб из меня дух.
Вдруг мне подумалось, что здесь целое море таких вот людей, чьих-то дорогих друзей или родственников. И многие люди будут плакать сегодня, узнавая своих мертвецов. Я не ожидал, что и мне придется.
Антипатр спросил, давно ли мы были знакомы.
— Да не очень, — сказал я, шмыгая носом. — Просто я сентиментальный.
— Это неплохое качество, — задумчиво ответил Антипатр. — Я позову Габиния, скажу, кого мы нашли.
И я остался с трупом Архелая один на один. Нестерпимая вонь поджаривающейся на солнце крови забила мне нос. Я сел на корточки рядом с ним, поднял его очки и надел их на Архелая. Теперь он выглядел привычнее.
Я много раз видел смерть и терял тех, кого я люблю. Но она все равно удивительна. Удивительно, как меняется человек, но удивительно и то, что он остается прежним. Странно видеть новое, странно видеть старое — все приходит в дисгармоничное состояние.
Публий казался мне очень непохожим на себя, отец — тоже, а вот Архелай был до боли такой же. Вот мы с ним сидим, и вокруг мир и зелень, и я что-то говорю, а он внимательно слушает. И вот он лежит под жарким солнцем с огромной раной, идущей через его грудь. Как ни печально, но жизнь такова. И таковы ее сюрпризы.
Бедный мой друг, подумал я, и вообще — беден человек. Судьба его такова, что придется лежать бездыханному, и тело будет поддаваться неумолимым законам природы. Я отгонял с лица Архелая мух и думал, что ему на самом деле все равно. Ему не холодно и не жарко, он не чувствует боли, он не несчастен, проиграв, и ничего не боится.
Но почему так неохотно мы меняем нашу беспокойную жизнь на это состояние абсолютной безмятежности?
Такова судьба моего друга, упасть на поле брани и лежать, быть найденным мною, а потом всеми забытым. Я думал о том, сколько раз разыгрывалась в мире эта драма. Нежданно-негаданно, схватив за хвост удачу, молодой воин вдруг находит мертвого друга, которого не ожидал увидеть на поле брани. Казалось бы, ситуация эта включает множество не слишком вероятных совпадений. Но за долгую историю мира, должно быть, она приключилась со многими и часто.
И все они, эти молодые, счастливые воины, умерли, а теперь я, словно в театре, в очередной раз разыгрываю старую трагедию, все еще забавляющую богов.
Разве бессмертные боги не зрители, которым подавай одни и те же ситуации, с небольшими вариациями, чтобы совсем уж не надоело?
А ведь это моя жизнь, моя боль, мое удивление, мое отвращение.
Но судьба человека такова, что и они смешны, если смотришь из вечности.
Я сидел рядом с Архелаем, пока не пришел Габиний. Оказалось, Габиний тоже знал Архелая и его отца.
— Печально, — сказал он. — Когда добрые знакомцы, а, тем более, друзья оказываются на разных сторонах.
Вот еще какой вопрос меня волновал. А не могло ли случиться так, что этот, явно нанесенный всадником, удар нанес я? Такое могло случиться, я не утруждал себя тем, чтобы всматриваться в лица и запоминать убитых, и я был слишком взбудоражен, чтобы осознать, кто передо мной.
Нет, конечно, совпадение было бы поистине чудовищным. Зато вполне вероятным казалось, что удар нанес один из моих ребят. В конце концов, Архелай лежал с той стороны поля боя, с которой мы так удачно зашли и зажали египтян в смертельные тиски.
Я сказал:
— Он мой друг. Хочу похоронить его. Он был хорошим человеком и заслуживает славной смерти.
Помолчав, я добавил:
— Не смерти, погребения.
— Славную смерть бедняга уже получил, — задумчиво сказал Габиний.
— Ты знал его хорошо? — спросил я.
— Конечно, его отец перешел на сторону Рима во время войны с Митридатом, — ответил Габиний. — Хороший юноша. Но таковы обстоятельства. Я и то, что он будет сражаться с нами, знал.
— А я только сейчас узнал.
Габиний неловко переступил с ноги на ногу.
— Это тяжело. Но что бы изменилось, если бы ты узнал раньше?
— Ничего, — сказал я. — Разве что, мне стало бы грустно заранее.
— Вот именно, так что считай свое неведение милостью богов.
— Так я могу его похоронить?
Габиний кивнул.
— Это будет хорошо.
Надо сказать, на похороны Архелая я истратил много денег, и мне было приятно, что награбленное мною пошло, наконец, на какое-то условно благое дело. Антипатр сказал:
— Помни, он грек. Они не сжигают тел.
Это был хороший совет.
Думаю, Архелаю понравились бы похороны, которые я устроил ему. Хотя, может, они были для него слишком помпезными. Я все никак не мог представить, как он оказался в одной постели с египетской царицей и умудрился выдать себя за царевича.
И подумал, что никогда и не узнаю. Мы были знакомы недолго, и я не мог прочесть эту книгу полностью, а теперь она сожжена или, лучше сказать, погребена в земле.
Так или иначе, даже слезницы у плакальщиц были золотые.
Но это все потом, после Береники.
Солнце нависало все ниже и краснело все сильнее, и, когда закат окончательно вступил в свои права, мы вошли во дворец. Птолемей — хозяином, Габиний — благородным гостем, мы с Антипатром — верными и доблестными товарищами благородного гостя.
Как же удивила меня вся эта несказанная золотистость и красота, и диковинные письмена на стенах. Еще никогда в жизни я не видел ничего подобного. Антиохия по сравнению с Александрией казалась недорисованной картинкой. Диковинно толстые колонны поддерживали высокий потолок тронного зала, казалось, они могут держать и само небо. Всюду были изображения жутких египетских богов с головами животных, красных шаров солнца и серпов луны, зарослей тростника.
Я будто попал в иной мир. Мягкая прохлада этого места, идущая от древних камней, сулила покой, но непривычные образы будоражили воображение. Я посмотрел на Антипатра, он вовсе не выглядел удивленным, наоборот, на лице у него застыло спокойное, даже несколько скучное выражение. И я подумал, что, может быть, его поразил бы Рим, потому что он оказался бы столь же чудным и чуждым для него, каким для меня был Египет.
Сердце мое все еще полнилось тоской по Архелаю, но новые впечатления ненадолго вывели меня из оцепенения.
Я с интересом осматривался, и мне все время хотелось что-нибудь потрогать, хотя бы камень, к которому прикасались великие люди своей эпохи, не говоря уже о странных рисунках и золотых украшениях.
Птолемей велел привести ему Беренику. Сложилась бы крайне романтическая история, если бы тогда я и увидел мою детку, но мы разминулись. Я только слышал ее голос:
— Береника, Береника! — и голос этот был не слишком хорош, хотя позже, когда девочка выросла, именно тембр и тон ее голоса очаровывали самых великих мужчин. Моя детка не обладает самым нежным голосом на свете, он резковат, но это голос чувственный и прекрасный. В подростковом же возрасте она вопила не то что непримечательно, а даже чуточку неприятно.
Пока Беренику вели, ее маленькую сестру держали рабыни, а она царапала их и извивалась, как змея. Позже Береника объяснила ей, где спрятаться, чтобы посмотреть на казнь. Я все думал: зачем? Причуда и без того чудной Береники? Моя детка говорила, что она сама так хотела, но, думаю, это было не лучшее зрелище для столь юной девушки.
Так или иначе, стража вывела Беренику к нам. На ней было очень красивое платье, золотые нити в нем блестели в закатном свете, проникавшем в зал сквозь высокие окна, подол был украшен драгоценными камнями, яркий пояс с египетским орнаментом сверкал прекраснейшей лазурью, которую я видел в своей жизни.
Береника была прелестна, слезы падали из-под ее длинных ресниц, красивые, нежные руки царапали друг друга, губы стали алыми, будто от поцелуев. Чуть припухшее от слез, личико ее было неповторимо прекрасным.
Архелаю чрезвычайно повезло, подумал я, какая женщина скрашивала его ночи! С этой точки зрения — неплохая плата за раннюю смерть.
Это чудное, воздушное существо вызвало у меня много чувств: я давно не видел такой неповторимо красивой женщины, я воспринял ее как часть моего доброго друга, ныне уже погибшего, и почувствовал с ней родство, я пожалел ее, потому что для этих слабых плеч все происходящее явно оказалось слишком тяжелым.
— Отец, — сказала она и рухнула на колени. — Прошу тебя!
Птолемей положил ногу на ногу и закурил очередную сигарету, огонек ее блеснул таким же рубиновым светом, что и браслеты Береники.
— Неужели, маленькая дрянь, — спросил Птолемей. — Ты хотела убить собственного отца?
Неудивительно, подумал я тогда, кому ты вообще нравишься?
Да уж. Одно из имен моей детки — Филопатор, что значит Отцелюбивая. С таким папенькой, как Птолемей? Есть сомнения.
Береника захлопала ресницами и быстро покачала головой.
— Нет, отец, никогда, отец!
Но ее охватывало волнение, а страх приводил Беренику в оцепенение. Вместо того, чтобы предпринять хотя бы попытку оправдаться, она только еще пуще залилась слезами.
Милые красные глазки, думал я, будет так жалко, если она исчезнет. Столь прекрасное создание должно жить и дарить радость.
Птолемей смотрел на нее, на то, как она трет глаза маленькими кулачками и трясется. Глупенькая, напуганная девочка. Ее сестра, должно быть, была в то время куда более зрелой личностью.
Думаю, среди мрамора и золота дворца Птолемеев происходили и не такие трагедии. Многие из них, наверное, было куда интересней смотреть.
Но я думал об этом бедном маленьком существе, пусть и вполне объективно виновном в измене и предательстве, о маленькой и короткой судьбе этого существа.
Я посмотрел на Птолемея. Докурив сигарету в единственную затяжку, он бросил ее в Беренику.
— Маленькая шлюха! — рявкнул он. — Что ты натворила?!
Следующая фраза была очевидна, я будто услышал ее до того, как Птолемей открыл рот: отрубить ей голову!
Я быстро наклонился к Габинию.
— Могу ли я сказать?
Наслышанный об инциденте в Пелузии, Габиний кивнул.
— При всем уважении, — крикнул я, когда Птолемей уже собирался выкрикнуть этот свой приказ (как я думаю). Птолемей воззрился на меня и знатно поправил великолепного Марка Антония, упомянув всю свою титулатуру, в том числе и божественное происхождение.
— Вот теперь, — сказал он. — При всем уважении.
Я повторил эту громадную и нелепую конструкцию и добавил:
— Совершенно очевидно, что эта женщина — лишь игрушка в руках вероломных людей. Она сломлена и больше не представляет для тебя опасности.
И это правда. Моя детка всегда говорила, что Береника была глупа, ленива и легкомысленна, сама по себе, без ее хитрой и коварной матери, она мало что из себя представляла.
Я говорил быстро, на этот раз получалось не так здорово, как тогда, в Пелузии. Да и сердце Птолемея ожесточилось к дочери.
— Пощадив ее, ты выкажешь не слабость, а силу. Народ будет почитать тебя за сохранение жизни столь диковинного цветка. Выдай ее замуж, и пусть муж увезет ее куда-нибудь далеко отсюда, удали ее из дворца. В конце концов, она твоя дочь.
— Антоний, — сказал Габиний, почувствовав, что я перегибаю палку. Птолемей сплюнул в золотую чашу, подбородок его затрясся, желтая кожа натянулась на напрягшейся шее. Но я все говорил:
— Сейчас, кроме того, не лучшее время для казни. Приближается ночь, время ужаса, разве твою власть умолит подождать до рассвета и дать ей в последний раз взглянуть на солнечный свет?
Вдруг я почувствовал на себе взгляд Береники. Она легонько улыбалась мне, и я едва подавил в себе желание улыбнуться в ответ. Глупенькая девочка, подумал я, зачем тебе умирать ни за что?
— Разве не поплатилась она уже в достаточной мере проигрышем и позором? — вопрошал я, пока Габиний не рявкнул:
— Антоний!
Я закрыл рот так резко, что зубы клацнули. Но Птолемей вдруг махнул рукой. Розовые белки его глаз увлажнились.
— Он прав, — сказал Птолемей. — Никто не должен умирать ночью. Я хочу, чтобы ее голову мне принесли на рассвете.
Мысленно я добавил: хочу ей позавтракать.
— Что вы стоите?! — крикнул Птолемей. — Увидите эту тварь!
— Отец! — крикнула Береника. — Разреши мне спать в моих покоях! Я не хочу последнего сна в темнице! Мне будет страшно и сыро, я простужусь.
Габиний едва удержался от смеха, а я, напротив, ничуть не позабавился ее дуростью, хотя, казалось бы, меня сложно удержать от смеха в неподходящих ситуациях.
И Птолемей, чувствуя себя, должно быть, очень благородным милостиво махнул рукой, мол, конечно, конечно, все для тебя, доча.
— Ну что ж, — сказал Птолемей. — Вернемся к обсуждению более важных дел.
Беренику уже почти увели, когда она вдруг обернулась, и наши взгляды встретились. Она прикоснулась пальцами к свои губам, но послать мне воздушный поцелуй не успела, исчезла за дверью.
Птолемей удостоил нас чести отужинать с ним и заночевать во дворце.
Каким роскошным было здесь все, я ворочался на своей постели под балдахином, защищавшем меня от навязчивых насекомых, и не мог уснуть от духоты благовоний, которыми все здесь окуривали (тоже от насекомых). Над изголовьем моей постели какой-то птицемордый бог держал красное солнце, и это меня пугало, будто я был ребенком, слишком напоенным впечатлениями. Не выходила у меня из головы и Береника с ее нежной красотой диковинной птички. И прикосновение ее тонких золотистых пальчиков к красным губам.
Луций, родной мой, как я страдал от того, что не сумел ей помочь. Завтра голова этого очаровательного создания должна была расстаться с хрупким, стройным телом.
Но мне, наконец, удалось задремать. Казалось, меня разбудили почти сразу.
— Царевна Береника послала меня, — сказала морщинистая женщина, чьей иссушенное солнцем, темное лицо перед моим носом так меня испугало, что я едва ее не ударил.
— Чего? — спросил я, спросонья не совсем уразумев, что мне говорят по-гречески.
— Она просила меня привести тебя навестить ее. Царевна Береника.
— Навестить? — спросил я.
Дурочка, тебе больше не разрешено водить гостей.
— Я проведу тебя к ней, если ты согласен.
Это было опасно. Сложно представить, что сделал бы со мной Птолемей, если бы заподозрил в измене, и, кто знает, что подумал бы Габиний, и встал бы ли он на мою защиту. В ту ночь я очень приблизился к смерти, но как я мог отказать Беренике в свидании, тем более, что она была так прекрасна?
И ей наверняка нужен был друг в эту страшную ночь.
Меня провели в ее покои через пыльный тайный ход. Это была длинная, узкая кишка, которая вела из коридора (вход располагался за одной из статуй) в дальнюю комнату. Если я мог туда проникнуть, то почему бы ей не попытаться сбежать? Покинуть сам дворец, думаю, было неизмеримо сложнее, но, возможно, реально.
Может, она отчаялась или сдалась, может, не додумалась. Но, скорее всего, ей не у кого было просить помощи, и она оказалась в полном одиночестве.
Когда мы говорили о тебе, Луций, моя детка тоже поделилась со мной своей болью. Она предложила Беренике попробовать сбежать, на что та спросила:
— Ты поможешь мне?
Моя детка не решилась. И корила себя за это всю жизнь.
Покои Береники были просторные, расписанные синим и золотым. На огромной кровати Береника лежала, раскинув руки. Когда я вошел, чихая от пыли, она приподнялась на колени и приложила палец к губам.
— Тише, пожалуйста, — сказала она. — Не привлекай внимания.
На ней было красивое, легкое бирюзовое платье и полный комплект драгоценностей, длинные сережки оттягивали ушки. Они изображали золотых птиц с раскрытыми крыльями, обнимавших кружочки из лазурита. В волосах ее тоже болтались драгоценные камни. То есть, теперь я понимаю, на Беренике был парик, но он сидел так крепко и хорошо, что я об этом не догадался.
Береника поманила меня к себе двумя руками, браслеты украшенные синей эмалью, поблескивали в полутьме.
— Здравствуй, — прошептала она. — Ты пытался мне помочь, я это оценила. Как тебя зовут?
— Марк Антоний, — ответил я.
— Римские имена такие странные. Отрывистые и резкие.
— Ты прелестное создание, — сказал я. Береника облизнула губы.
— Благодарю, — сказала она, польщенная и такая радостная, словно это не последняя ночь в ее жизни. — Но почему ты пытался мне помочь? Я совсем-совсем не поняла тебя, Марк Антоний.
— Твой муж, Архелай, был моим другом. Недолго, но был, — ответил я.
— Правда? — спросила она. — Архелай был очень мил. Предыдущего своего жениха я задушила.
— Сама? — тихонько засмеялся я.
— Нет. Но я велела это сделать.
От нее пахло чем-то диковинным и душным, почти как в моей комнате, но еще острее. Я подошел к кровати, и Береника спустила ноги на пол, стала разглядывать меня.
Мне всегда нравились только победители, но здесь мои симпатии встали на сторону побежденной.
— Мне так страшно умирать, — сказала она доверительно. — Не могу думать об этом. Ты был так добр ко мне.
Я сказал:
— Если бы я мог тебе помочь…
— Ты можешь, — прервала она меня. — Ты можешь помочь мне, Марк Антоний.
Я подумал, что она попросит меня тайно вывести ее или еще что-нибудь в этом роде, но Береника принялась гладить меня по животу.
Я истосковался по женщине, которая ляжет под меня добровольно, без криков о милосердии и о деньгах. Не было нужды просить меня два раза.
Как ты понимаешь, никогда прежде у меня еще не было царицы, пусть и бывшей, и само это чувство — обладание чем-то столько ценным, возносило меня на небеса. Она не издавала ни звука, и я тоже, мы делали все тихо-тихо, только в самом конце я не смог удержаться от радостного смеха, и Береника ладошкой зажала мне рот. Ее кровать была такая большая и просторная, удобная для того, чтобы хорошенько исследовать царицу-царевну Беренику.
Когда мы закончили, она, тяжело дыша, прижала руку к вспотевшей полной груди и ущипнула себя за темный сосок.
— Да, — сказала Береника. — Так намного лучше.
На ней были только украшения и больше ничего. Я рассматривал их причудливые формы и гладил Беренику по бедру.
Она сказала:
— Ужасно думать, что мою голову покажут всем этим неумытым людям, и они будут смеяться над ней. Они грубы и плохо пахнут. Они могут плюнуть мне в глаза. Хотя мои глаза все равно не будут видеть.
Пот блестел на всем ее теле и причудливо смешивался с запахом благовоний.
— После смерти я стану богиней, — сказала Береника, повернувшись ко мне. — Я уже богиня, но после смерти произойдет воплощение. Ты делал любовь с богиней.
Я прошептал:
— Такого со мной еще не случалось.
— Моя сестра Клеопатра считает, что я совсем глупенькая. Это не так. Она любит меня, но не понимает. Никто не понимает меня.
— Ты очень хорошенькая, — сказал я, не зная, как ее утешить. — Одно из самых прекрасных существ на свете.
Береника наморщила носик.
— Хорошенькая. Надо же! Всего лишь хорошенькая! Если хорошенькая девушка — одно из самых прекрасных существ на свете, то разве этот свет хоть чего-нибудь стоит?
Я приложил палец к ее губам.
— Тише. Ты сама сказала.
— Да, — она кивнула. — Точно. Папенька мог бы пощадить меня, если бы я сдалась, как ты думаешь? Если бы не случилось этого боя? Так досадно.
— Скорее нет, — ответил я. — Он у тебя не из самых милосердных.
На самом деле, я думал, что это было возможно. Но разве стоило расстраивать ее, если все уже сложилось именно так?
— Да уж, — сказала она. — Значит, никакого выхода не было? Совсем-совсем?
— Нет, — сказал я. — Но ты ведь царица.
— Царевна, — сказала она. — Теперь я снова царевна, и больше никто.
— Царевна — это уже кое-что. И ты успела подержать в руках страну столь прекрасную, что замирает сердце.
Забавно, что это утешение теперь вполне применимо ко мне: я тоже успел подержать в руках эту страну и даже двух ее цариц.
— Я хотела бы родиться животным, — сказала она, снимая и надевая браслет, рука ее проскальзывала в него легко, хотя сидел он крепко, даже все наши забавы не смогли его сдвинуть. А теперь он так скользил от одного умышленного движения — все-таки у них отличные ювелиры.
— Каким? — спросил я.
— Красивым. Я хотела бы жить во дворце. Может быть, павлином. Только мальчиком. Их девочки ужасно некрасивые. Моя сестра Клеопатра никогда не будет в безопасности. Отец запомнит мое преступление и однажды обязательно припишет его ей.
— А она умная девочка? — спросил я, чтобы сказать хоть что-нибудь.
— Очень, хоть и младше меня. Все время пишет и читает. Какая скука.
Я сказал:
— Значит, с ней все будет хорошо. Слышал, умные люди умеют предсказать событие до его наступления.
— Как гадатели?
— Наверное. Не знаю, я тоже не великий умник.
Береника улыбнулась.
— В этом мы похожи. Ты хочешь меня еще раз?
Один этот вопрос, произнесенный ее сладкими, царскими устами взбудоражил меня невозможно. Береника оседлала меня, со стоном приняла меня в себя и сказала:
— Мы с Архелаем думали, что, если победа будет за нами, мы сделаем ребенка. Сегодня у меня хороший день для этого. Я могла бы родить тебе сына. Или дочь. Но этого не будет никогда-никогда, потому что завтра я умру.
Не знаю, что больше возбудило меня: то, что ее тело было готово к тому, чтобы понести или то, что завтра, бездыханное, оно будет лежать без своей прекрасной головы. Может, где-то в ее чреве зарождалась сейчас жизнь, которой не суждено было сбыться. Вообще-то это грустно, но та любовь была полна для меня ощущения смерти, и оно, как и война, делало радость острее.
После всего Береника устроилась у меня на руках и попросила обнять ее покрепче. Я вспомнил Фульвию и ее холодные пятки. Береника сказала:
— Так тепло. А потом станет холодно, как ты думаешь? Что я почувствую.
— Ничего, — сказал я. — Это очень быстрая смерть. Ты не успеешь даже понять, что умираешь.
— Точно-точно?
Я кивнул.
— Ну, я не пробовал. Но умные люди говорят, что так.
— А умные люди пробовали? Нет ведь. Значит, никто не знает, каково это — умирать.
— Есть люди, которые чудом спаслись, почти умерли, но не умерли.
— Почти умерли, но не умерли, — повторила Береника. — Но давай не будем с тобой говорить о грустных вещах. В мире и так очень много печального. Что бы ты сделал, если бы ты завтра умер?
— Провел бы эту ночь в постели с такой прекрасной девушкой как ты.
— Мужчинам легче, — сказала она. — Ты мог бы думать, что мы сделали с тобой ребенка. И осталось продолжение тебя. У меня никогда не было ребенка. Я этого не испытаю. А еще я, представляешь, никогда не была в Антиохии. Там красиво? Говорят, там очень красиво.
— Александрия намного лучше, — сказал я искреннее. — Ты ничего не потеряла.
— И я не пробовала эти маленькие мидийские пирожные из легкого теста, покрытые медовой глазурью.
— Но, уверен, ты пробовала блюда, намного превосходящие их.
— Может, может, не знаю. И я никогда не увижу, как вырастет моя сестра, Клеопатра. Ах, почему я не спросила у мамы, как это — умирать? Хотела бы я знать это сегодня.
Я поцеловал ее в губы.
— Умирать не страшно. Просто думай о хорошем.
— Как если не можешь заснуть? Мамочка всегда говорила мне: если не можешь заснуть, представляй себе море, какое оно синее, и его волны. Я пробовала сделать это сегодня, но мое море бушевало.
Она стала тихонько плакать, и я прижимал Беренику к себе, вдыхая запах ее кожи и целуя ее в висок.
— У тебя такие прекрасные волосы, — сказал я.
— Это пари-и-и-и-ик, — заныла она. — Пари-и-ик!
Я зажал ей рот.
— Тихо, царица, — попросил я. — Дай мне снова тебя поцеловать.
Я прикоснулся губами к ее губам, и Береника вся расслабилась в моих руках. Еще некоторое время мы целовались, и я был готов повторить все снова, с самого, так сказать, начала. Но Береника сказала:
— Теперь уходи. Скоро приведут мою сестру. Я хочу попрощаться с ней, она, моя бедная девочка, теперь остается совсем одна. Папа не считается. И Арсиноя не считается. И братья тоже. Только я люблю эту малышку.
— Уверен, и она тебя любит.
— О, очень, очень любит. Спасибо тебе, Марк Антоний. Ты такой теплый. И я сразу подумала, что у тебя большое достоинство.
— Именно такое, какое и нужно для столь печальных моментов? — спросил я.
Береника тихонько засмеялась.
— Ну иди, — сказала она сквозь смех. — Мне еще нужно одеться. Я хочу быть красивой, чтобы моя сестра тоже захотела стать красивой. Скажу тебе честно, ее внешность оставляет желать лучшего. Я хочу быть очень красивой сестрой сегодня.
Я оставил ее в комнате, прихорашивающейся, и на следующее утро увидел ее голову на золотом подносе. Он стоял у Птолемея на коленях, и Птолемей задумчиво рассматривал его содержимое. Ее глаза и рот были закрыты, думаю, об этом позаботились. Выражение на лице Береники казалось очень спокойным, мне даже подумалось, что на губах ее играет легкая улыбка.
Прекрасное, одухотворенное лицо маленькой богини.
Сегодня Птолемей поднял ее голову и взвесил на руке, а я вспомнил, что делал с ее телом вчера, и меня затошнило.
Вчера мысль о том, что завтра Береника умрет, казалась мне крайне волнующей. Сегодня же я испытывал лишь отвращение. Странно думать, что тело, которое ты так любил пару часов назад, валяется сейчас обезглавленное и обескровленное.
Я вспоминал темные соски и длинные ноги Береники, и мне было плохо от мысли, что все это утратило свою красоту и жизнь.
А эта голова — глупая, но хорошенькая голова, разве заслуживала она этой злой судьбы?
У меня внутри все звучал этот ее вопрос: каково это, умирать? Вот Береника, молодая, здоровая, спрашивала это, а вот ей уже все известно. Великая тайна пролегла между двумя этими состояниями. Получаем ли мы вообще ответ на свой вопрос, Луций, великолепное Солнце?
Может, мы не успеваем получить ответ?
Вскоре и моя гибель станет навевать на людей такие философские размышления.
Береника, может, и не была семи пядей во лбу, но отличалась трогательной искренностью. Жаль, что она не может родиться снова. Хотя Пифагор, вроде бы, верил в переселение душ. Поэтому он не ел мясо, опасаясь поужинать дедушкой или дядюшкой.
Вроде бы он был очень мудрый человек. И, если так, может, всем божественным законам назло Береника переродилась красивой птичкой, павлином-мальчиком.
А, может, как в их роду и полагается, она исполнила свое смертное предназначение и стала богиней. Тогда нечего грустить о ее глупой смерти, но я все равно грущу.
Эта смерть сделала несчастной женщину, которую я люблю, очень и очень надолго, а, может быть, навсегда.
Но кто мог знать тогда, что любовью всей моей жизни станет сестра Береники, что однажды я встречусь с ней, и судьбы наши соединятся так крепко, что и после смерти их будет не разъединить?
Неказистая девочка, которую я даже не увидел, выросла в женщину, приведшую меня к гибели.
А как все сложилось бы, будь Береника жива? Не меньше ли жило бы злости и недоверия в ее сестре? Этого уже никто знать не может и, наверное, этого не надо знать.
Что касается меня, я смотрел на эту голову с ужасом и печалью, хотя каких только отрезанных голов я уже не навидался.
Вчера я целовал эту голову, а сегодня она на подносе. История, собственно, об этом.
Любая история всегда об этом.
Ну вот, сейчас, милый друг, я опять начну думать об смерти, и тебе будет больно, а я этого не хочу. Я напишу тебе еще, когда сердце будет способно это выдержать.
Будь здоров и пошли мне знак, если только я причиняю тебе боль.
Я обещаю, я не буду дурным.
Этот ужасный Марк Антоний, он же, твой брат.
Послание десятое: Костер
Брату своему, Луцию, уставший выдумывать новые окончания, уставший от жизни, уставший от всего вообще, Марк Антоний.
Сегодня и вчера я не спал совсем, просто перестал уметь это, удивительно, ведь раньше я любил сладко вздремнуть, и леность моя не знала себе равных. Теперь вдруг бушует дикая энергия, как бывает обычно перед боем, но не перед хорошим.
Почему на юге темнеет рано? Я не знаю, а ты? Ты, милый друг, теперь-то уж наверняка все знаешь.
В последний раз, когда мне удалось заснуть, приснился Клодий. Думаю оттого, что я тебе так много о нем написал. Клодий стоял со своим оранжевым громкоговорителем в руке, и я слышал его шумное дыхание, звук шел, во много раз увеличенный. И, хотя на теле Клодия не было никаких ран, звук этот не оставлял сомнения в том, что легкое у него пробито.
И на мегафоне — пятнышки крови, как причудливая глазурь для украшения, звук его голоса разносил их далеко.
— Все люди, — кричал он. — Братья, сука, бля! Нет тех, кого мы не примем в наш круговорот жизни и смерти! Ни одна сука не имеет морального права говорить нам, что мы не едины, что не равны, что нет великой цели, которая объединит раба с хозяином, а бедняка с богачом. Она существует, эта цель, и будет, блядь, существовать всегда, сколь бы упорно ее ни пытались скрыть. Эта цель — справедливость, забота о бедных и о богатых, и о тех, кто не может позаботиться о себе сам. Люди есть люди. Мы ведем себя одинаково уже много веков, одинаково любим, страдаем и ненавидим. И в этом главном никогда друг от друг не отличались. Я все сказал, нахуй.
Я все сказал.
Я стоял к нему близко, и, глянув на свои руки, увидел, что они в какой-то красной сыпи. Затем я понял, что это капли крови Клодия, они распространяются так далеко от того, что Клодий кричит, и от этого же звук становится совсем уже невыносимым.
Я тер друг о друга руки, пока они не стали равномерно красными. Во сне я все еще ненавидел Клодия за то, что тогда он мне не поверил, и за то, что он был, не поверив мне, совершенно прав. Но я знал уже, что Клодий умрет, и мы не успеем помириться, и от этого я его любил.
У меня часто бывает, что во сне я вижу мертвых и не знаю, что они уже умерли. Часто мне снится Публий, мы с ним разговариваем так, будто он живой, иногда он советует мне что-нибудь. Снится мама, но она чаще молчит. Снитесь вы, конечно, наше детство и все, в чем я был перед вами не прав. Снится Фадия, и мы занимаемся любовью. И так далее, и все подобное тому.
Но Клодий приснился мне с предзнанием, что он уже умер, и передо мной стоит не мой друг, не мой враг, а несуществующий больше человек.
И мне так жаль было надежды его и мечты, пылающий, страстный голос, где они все теперь? Вопрос старый, как мир, но, куда денется после смерти, к примеру, Лепид, я догадываюсь. Будет тенью бродить и ничего-то более, почти как в жизни. А куда мог деться Клодий с его безмерной страстью к жизни, контрастностью, безумием, терзавшим его, подобно злобному псу. Куда он делся, если редко говорил и все чаще кричал, если люди ему не нравились, но он любил их, если ненавидел меня так, что готов был убить? Может исчезнуть что-то незначительное или просто хрупкое. К примеру, разве удивительно, что исчезла Фадия? Она и с самого начала только одной ногой стояла в этом мире, а другой был там, где все иначе.
Но Клодий, нет, Клодия нужно было с мясом вырывать из этого мира. В то, что он мертв, долго не верилось. И долго не понималось, как вообще это человеческое, не слишком внушительное тело могло выдерживать то, что теперь ушло оттуда и навсегда замолчало. Как в нем умещалась его злая энергия?
Как ты понимаешь, милый друг, я расскажу о смерти Клодия. Не для того, чтобы вспомнить очередные чудные мгновения, в которых я идиот. Скорее уж, для того, чтобы все-таки понять, как получилось так, что он умер. Если и знал я людей, подобных Ромулу, которых вместо традиционной для человечества смерти стоило в вихре забрать на небо, то да — это Клодий.
Но с Клодием все случилось так же, как и со всеми прочими людьми. Те же муки, та же смерть, та же пустая оболочка, про которую только недоумеваешь: ну как так, и всего лишь это — красавчик Клодий?
Ну, да я заговорился.
Габиния отозвали из Сирии, и первое, что было ему вменено на суде — наше с ним египетское приключение. Вышло крайне досадно. Габиний ни словом не выдал мою причастность, тем более, что Птолемей обломался выдать все сумму одним махом (оказалось, он на грани банкротства), и я ничего не получил, да и Габинию достались какие-то крохи, всей этой истории не стоившие.
Мне стало жалко этого старика, который так упрямо просил чеканить монеты с собой молодым и красивым, который любил поспать после еды, который так блестел своими длинными глазками и так мне доверял.
Я на самом деле пытался ему помочь, сам помнишь, я просил вас с Гаем выступать обвинителями по его делу, надеясь, что вы сумеете поиграть в поддавки так, чтобы это было не слишком заметно. Гай долго не соглашался (а он был куда успешнее тебя в своем деле), но больше из вредности, и я просил тебя его уговорить.
Впрочем, план был глупый — вас не взяли.
Мне, как и большинству офицеров Габиния, удалось избежать не то что наказания, а даже и суда. Но в то время нас встречали не сообразно масштабу произведенных побед. Вместо того, чтобы вернуться героем, я вернулся одним из разбойников под началом именитого грабителя. Чувство было неприятное, мягко говоря. Зато я почти разделался с долгами семьи, и дома-то героем стал, однако, по-моему, люди презирали меня еще больше прежнего.
Война, на которую я уговорил Габиния, шла против воли священных книг, тем более, люди были вполне осведомлены о том, что Птолемей — злобный и порочный государь. Габиний и я вместе с ним оказывались помощниками зла.
Впрочем, разве не умеет сенат закрывать глаза, когда это нужно? Птолемей был не лучше и не хуже многих, кто кормится из щедрой руки Рима.
Я думал, что отдав долги (большую их часть, с остальными я разделался чуть позже) и став военным, я заработаю всеобщее уважение, но получилось по-другому. Несмотря на проявленную отвагу и награды, меня презирали, я был грабителем с муральной короной на голове, только-то и всего. Далеко ли это было от правды? Едва ли. Но, Луций, милый друг, а когда это бывает далеко от правды? Война есть война, и ни древние подвиги, ни современная политика не свободны от ее животных проявлений.
Только Красавчик Клодий мечтал вывести какого-то нового, идеального человека (сам таковым не будучи), а я жил в мире низменных потребностей и целыми днями искал их удовлетворения, как в мире, так и на войне.
В Риме я провел не так много времени, как мне хотелось, и было оно совсем не таким, каким я его представлял.
Кое-что хорошее я все-таки успел сделать — мою старшую дочь. Так как нигде нам не были рады, мы с Антонией Гибридой редко вылезали из постели.
Я вообще маловато помню из того времени. Какие-то наши семейные посиделки, у мамы были проблемы с зубами, я все время хотел от Антонии секса, Гай зачитывал письма дядьки с острова, из которых получалось, что все у него хорошо. Мы все никак не могли пересечься с Курионом, он получил квестуру в Азии при брате Красавчика Клодия и собирался в ближайшее время отплывать, и всякий раз, когда я просил его о встрече, у Куриона находились дела.
Я даже думал, что он не хочет появляться в моей компании, однако теперь мне кажется, что дело в Красавчике Клодии. Курион разрывался между нами и не хотел показывать свое предпочтение ни одному (в компании с Клодием его в то время тоже не видели), ни другому.
Я полагал, что до отплытия Куриона мы так и не успеем увидеться. Я радовался, что с Клодием он тоже не контактирует. Выходило так, что Курион и вправду мог быть занят своими крайне срочными делами.
Но как же повидать этого великолепного Марка Антония хотя бы раз? Неужто у Куриона вовсе не осталось совести?
Осталось немножко. Но то была хорошая капелька концентрированной совести. Вроде как с медовой водой, чем меньше ее остается, тем лучше остаток.
Курион пригласил меня на охоту. Письмо было примерно таково:
"Гай Скрибоний Курион другу своему, Марку Антонию!
Здравствуй! Подготовка дело утомительное, думал, уже не найду для тебя время и уеду в печали. Но нам не помешало бы встретиться и все обсудить. Приглашаю тебя поохотиться со мной, завтра день будет крайне для этого благоприятен, и добыча обещает быть богатой.
Будь здоров!"
В этом крошечном письме мне чудилось какое-то тайное послание, шутка или секрет под маской вполне обычных слов. Я был заинтригован, тем более, что касается охоты, мне уже приелись все развлечения, в которых не пускается кровь. Рим мало что мог предложить мне, прошедшему через пустыню Синая на запах крови.
Я сказал Антонии, что поохочусь с Курионом, на что Антония ответила мне:
— Ты думаешь, Курион тебя просто так пригласил?
Я пожал плечами. На самом деле, я так не думал.
— Сейчас вокруг творятся очень чудные дела, — сказала Антония. — Ты все пропустил. Курион зовет тебя выбрать сторону.
— Это когда это ты умная стала?
Антония надула большой пузырь из жвачки и втянула его обратно так, что он прилип к ее зубам тонкой пленкой.
— Пока ты тыкал мечом в людей, я изменилась. Трахать меня было некому, а трахаться как-то нужно, вот я и стала интересоваться политикой. Там, говорят, все постоянно друг друга трахают.
— И как, помогло?
— Помогло, теперь, когда я трахаю Эрота, представляю, что я верхом на Цезаре.
— Дура, — сказал я.
— Нет, я серьезно. И тебя представляю Цезарем тоже.
— Все, пошла ты на хер.
— Как скажешь, Цезарь, — сказала она с придыханием. — Давай в следующий раз ты — он, а я юная девственная галльская девушка невероятной красоты?
— А ты сможешь сыграть юную девственную невероятную красоту так, чтобы я поверил?
— Пошел на хер.
Вот и поговорили.
Ну, к охоте. Как приятно снова оказаться верхом на лошади! Хотя конь, которого мне дал Курион, был спокойный, не военного нрава, даже чуточку пугливый, само это ощущение, животного тепла и доверия, оно приятно всегда.
Мы с Курионом двинулись на охоту рано утром, еще до завтрака, и в животе у меня урчало. Но в том, что касается охоты, это приятное чувство, даже очень — быть голодным и добыть себе еду самым древним способом на свете. Голод — сила и страсть, которые позволяют охотнику выследить и поразить свою жертву.
Стоял солнечный день, приятный бриз с Тибра холодил голову, а, когда мы ушли под сень леса, с тем, чтобы дарить нам прохладу, справлялись уже густые кроны деревьев. Рядом с Курионом вертелись его охотничьи псы, черные, гладкошерстые и очень страшные, с огромными зубами и искривленными челюстями. Курион говорил, что это особая порода, но я, наученный собственной ложью о Пироженке, не верил ему. То были просто уродливые ублюдки, вполне закономерно носящие имена Сциллы и Харибды. За ними едва поспевали серые парни постарше, Какус и Тифон, они достались мне. Впрочем, я по этому поводу не переживал. Не больно-то мне и хотелось проводить время между Сциллой и Харибдой.
На поляне рабы готовили жаровни для мяса, набирали в амфоры с двойным дном холодную речную воду, чтобы остудить хранимое внутри вино.
— Я так скучал по тебе, Курион, — сказал я искренне. — Дорогой друг, как твои дела? С тех пор, как началась кампания в Египте, я едва мог отвечать на твои письма.
Курион проверил, как натянута тетива лука, посчитал в колчане стрелы. Он чувствовал себя неловко, но я не понимал, почему.
— Слушай, — сказал я. — Все мне понятно. Клодий, да, и я, мы наделали много глупостей, и ты здесь ни при чем. Несправедливо заставлять тебя выбирать между моим и его обществом. Он сильно злится?
Курион почесал густую бровь.
— Никогда не переставал.
— Я не удивлен.
— А ты переставал?
— Нет, — сказал я. — Только во сне. Иногда.
— Это уже хороший знак.
Курион помолчал, устроился поудобнее в седле и погладил по шее коня.
— Кстати говоря, — сказал он. — Отец болен. Представляешь?
— Ужасно, — сказал я. — Тяжело тебе, наверное, уезжать.
— Он говорит: езжай. Отец старый, мол, все равно умрет, а Родина — останется. И вообще, говорит, никогда не меняй государство на людей. Оно одно, а их множество.
— В его стиле так говорить, — сказал я.
— Но не делать, — ответил Курион.
— Да, в этом его трагедия.
Мы помолчали.
— Все серьезно?
— Он весь исхудал, и кожа стала какой-то желтой. Жалуется на боли.
Я вспомнил Птолемея, и в нос будто сразу ударил запах его сигарет.
— Но я думаю, еще сколько-нибудь он продержится, — сказал Курион. — Может, я даже успею вернуться.
— Ты сам-то хочешь в Азию?
Курион помолчал. Собаки шли рядом с нами совершенно тихо, я слышал лишь их хриплое дыхание. Стало прохладно, и я поплотнее закутался в плащ. Свет ненадежно пробивался сквозь обнимающие друг друга кроны деревьев, и я напряженно вглядывался в темноту леса, ища движение.
— Тоже не знаю, — ответил Курион. — Не очень-то я веселый сегодня, правда?
— Да я тоже тебе пример не подаю.
— Это понятно. Ты изменился.
— Изменился?
Курион снова принялся проверять, достаточно ли натянута тетива, он делал это, высунув кончик языка и прищурив один глаз. Потом Курион дернул тетиву и раздался резкий, почти музыкальный звук.
— Да, — сказал он. — Даже выглядишь по-другому. Что-то в выражении лица. И ощущение от тебя в целом другое.
— Какое?
— Как от Сциллы, — сказал Курион, указав на здоровую, черную тварь, трусившую рядом с лошадью. — Или от Харибды.
Курион громко засмеялся, и я, наклонившись, толкнул его в плечо, Курион едва не слетел с лошади.
— Ты меня обидеть хочешь, я не понимаю?
— Нет, Антоний, совсем не хочу тебя обидеть. Наоборот, это хорошая перемена. Многие проходят через войну, но не на многих Марс оставляет свою печать. Тебе нужно продолжать. Тем более, по моим сведениям, в неправедной войне ты был весьма успешен.
Вдруг я услышал далеко впереди шорох, хруст ветки. Секунда, и вот я вижу олениху, тень оленихи, блеск ее черного глаза, дергающееся ухо. Все это неизмеримо далеко, но близко — голод усилил зрение и обоняние. Мне казалось, я мог даже чувствовать этот лесной, жирный запах, исходящий от ее шкуры. Курион замолчал, я тоже.
Я посмотрел на Куриона, он кивнул мне, мол, заметил ее ты. Я смотрел на это существо, еще ни о чем не подозревающее. Она склонила голову и искала что-то в траве, шуршала. Совсем еще молоденькая, непуганая девочка.
Тетива впивалась в кожаный напальчник, палец уже устал, губы пересохли, и я водил по ним языком. Есть захотелось невероятно.
Наконец, она подняла голову, посмотрела на небо, на солнце, словно бы с какими-то мыслями, если только у нее были мысли, о высоком и вечном. Я выстрелил и попал оленихе в шею, но рана оказалась недостаточно глубокой. Олениха устремилась бежать. Я хлопнул в ладоши, и собаки сорвались со своих мест, ведомые запахом крови и охотничьей радостью, они помчались за оленихой вслед, мы тоже припустили, но по ровной, удобной дороге.
— Ух! — сказал Курион. — Хорошо.
— Она истекает кровью! — крикнул я, пустив лошадь галопом. Лай собак уже не утихал и отдавался в моей голодной голове эхом.
Курион крикнул:
— Антоний, вечеринка закончена!
— Какая вечеринка? — спросил я.
— Триумвират, — сказал Курион. — Вечеринка Помпея, Цезаря и Красса. Все заканчивается, Фульвия была права.
— И чего? — спросил я, озабоченный только погоней. — Кстати говоря, слышал, ты задружился с Цицероном.
— О, не волнуйся, во мне нет ни грамма искренности.
— Не сомневаюсь, — сказал я. Я видел только, как собаки гнали олениху, видел ее обагренную кровью шею. Она отчаянно пыталась убежать, но, то ли от страха, то ли от боли все время натыкалась на деревья. Псы пытались укусить ее за ноги, клацали зубами, а она брыкалась.
— Какая жажда жизни, — выдохнул я. — Жизнь воплощенная!
Я снова выпустил стрелу, теперь она попала в круп оленихи, та рванулась вперед только быстрее.
— Так вот, все это подходит к концу, — сказал Курион. — И есть определенное количество предполагаемых победителей.
— Да-да, — сказал я. — Разумеется.
— Один из них — Цезарь.
— Но ты вроде бы ближе к Цицерону?
— Может статься, что победит именно он. Но факты говорят за себя: Красс скоро начнет войну в Парфии, и, если она увенчается успехом, еще некоторое время все может остаться, как есть. Если же нет, то страна полетит в Плутоново царство. Красса рассматривать не стоит, он либо победитель и сохраняет баланс, либо проигравший и мне неинтересен. Остаются Цицерон, Помпей и Цезарь.
— А у тебя с Клодием нет проблем по поводу Цицерона? — засмеялся я. — Он-то этому не рад.
— Я говорю, что это все отец. Да и Клодий, он уверен в себе.
— А что говорит-то Клодий?
— Что я сраный папенькин сынок. Я переживу. Он куда более верный друг, чем тебе теперь кажется. Он меня поймет. Остаются Помпей и Цезарь. Все здравомыслящие люди поставили бы на Помпея. Но я не здравомыслящий человек.
Наконец, олениха запнулась, и собаки окружили ее, кусая за ноги. Я спешился, ноги мягко ступили на нежный, скользкий мох.
Я шел к оленихе, как пьяный и жаждущий любви шел когда-то к Фадии, жажда эта была невероятно сильной.
— Так вот, — говорил Курион. — Ты мог бы стать человеком Помпея, Габиний, в конце концов, человек Помпея, но, я думаю, ему конец. И через Габиния у нас больше ничего и никак не получится. Да и нет у меня интуиции, что это нужно.
Я едва слышал его. Собаки лаяли и бросались на олениху, не давая ей встать, и я видел ее толстое белое брюшко. Неужели беременная?
Я натянул тетиву и пустил стрелу, прицелившись очень точно. Я попал ей в глаз. Шея ее на мгновение напряглась очень сильно, а потом она уронила голову на мягкую землю и задергалась, будто в приступе падучей.
Курион, запыхавшись, подбежал ко мне.
— Так вот, слушай. Я сейчас не вижу смысла в Помпее. Цицерон трус, он вступит с ним в коалицию. Вот Цезарь — это интереснее.
— Ты же его терпеть не можешь. Разве ты не лил про него всякое говно?
— Лил, — сказал Курион. — Когда это было необходимо. Политика — это баланс. Поэтому мне нужен свой человек у Цезаря. Тот человек, который переманит меня на его сторону, когда и если придет время. Тот человек, благодаря которому я тоже смогу стать человеком Цезаря. А тебе нужна война. Хорошая война. Цезарь грабит Галлию, но он щедр к солдатам. Особенно к талантливым. Тебе это нужно, Антоний, и не спорь со мной.
— Может, я поеду в Парфию, с Крассом.
— Это гиблое дело, — сказал Курион. — В этом нет смысла. Да он тебя и не возьмет. Ты пока никто. Подающий надежды никто. Тебе поступит предложение от Цезаря, я уверен. И ты должен будешь его принять. Цезарь любит именно таких. Ты — никто, а значит, он может сделать тебя кем-то, и ты будешь обязан ему всю жизнь. И однажды приведешь своего хорошего друга к нему, и этим другом буду я. Цезарь милостив, он примет меня, и все будет хорошо.
— А как же Клодий? — спросил я, наклонившись над оленихой. Симпатичная мордочка вся в крови. Я вытащил стрелу из ее глаза, она вышла с неприятным, вязким звуком, будто шаг по болотистой почве.
— Клодий, — сказал Курион. — Прекрасен, и я его люблю. Но Клодий — это Клодий. Фульвия ошибается, если думает, что он большой политик. Клодий — маленькое воинственное божество. И он не живет в реальном мире. Кажется, что он могущественнее, чем когда бы то ни было, но это не так.
Я посмотрел на Куриона, склонив голову набок.
— А ты тоже изменился, — сказал я. Вместе со стрелой вышел глаз оленихи. Я рассматривал его, пытаясь понять, как он устроен. Зрачок расплылся, разодрался, как проткнутый желток в яйце.
— Фу! — сказал Курион. — Еще съешь это! Фу-фу-фу!
— Но не очень изменился, — засмеялся я.
Я сел на корточки перед оленихой. На губах у нее сверкала в проблесках солнца белая пена, рот был приоткрыт, язык вывалился. Я погладил ее по голове, шерсть была еще мягкой. Вдруг она дернулась изо всех сил и дала в лоб бедняге Сцилле.
— Твою мать, — сказал Курион. — Сцилла, девочка, ты в порядке?
Сцилле хоть бы что. А олениха дернулась еще раз.
Тогда я взял нож и, удерживая олениху за голову, перерезал ей горло. Кровь хлынула на мягкую землю.
Потом, на поляне, когда рабы освежевали и разделали олениху, оказалось, что она действительно беременна.
— Это хороший знак, — сказал Курион. — Для нашего с тобой начинания.
— Уже и нашего с тобой?
— Говорю тебе, крайне благоприятное знамение. Он скоро предложит тебе, только согласись. Тебе нечего делать в Риме, Антоний, для тебя он тесен. Ты теперь человек другого масштаба.
— Лестью ты ничего не добьешься. Плаценту надо пожарить и взять Антонии. Ей давно пора родить мне ребенка.
— Она у тебя не слишком плодородна.
— Скорее, слишком увлечена травками из сомнительных лавок.
— И чем тогда поможет скормить ей плаценту?
— Ничем. Я положу ее Антонии в кровать.
Курион захохотал.
— Эй! — крикнул я рабу. — Я хочу съесть детеныша.
Был он точно как обычный новорожденный олененок, только покрыт вязкой слизью, от которой его долго отмывали. Видимо, время его подходило.
— Говорят, — сказал я. — У них очень нежные внутренности.
— Я обещаю кормить тебя только внутренностями, Марк Антоний, если ты прислушаешься к моему совету.
— Я прислушаюсь к твоему совету, — сказал я. — Хотя он выглядит мудацки. То есть, я должен ходатайствовать за тебя перед Цезарем, если вдруг у тебя приключится беда на твоем фронте с Цицероном?
— Ты же знаешь Цицерона, с ним то и дело случаются какие-нибудь беды.
— То есть, ты позвал меня только для того, чтобы изложить свой дурацкий план?
— Он не дурацкий. Это просто перестраховка. Может, ничего и не нужно будет.
— И я должен быть шпионом?
— Почему шпионом? Я хочу, чтобы ты был человеком Цезаря. Искреннее. Наоборот, Цезарь прекрасно чувствует фальшь. Если он не будет тебе нравиться, лучше попросись куда-нибудь в другое место и не мозоль ему глаза. Тогда — ничего не надо.
Я вспомнил Цезаря, наш разговор в саду, его историю об отце, которая, может и не помогла мне, но успокоила.
Мне подали моего олененка, отдельно — мясо, отдельно — маленькое нежное сердце, мягкие, не раскрывавшиеся прежде легкие, красную полусырую печень и тому подобное.
— И как ты можешь это есть? — спросил Курион. — Дай мне яблок, Галактион, мне нужно перебить этот запах.
Так или иначе, мы отлично посидели. Курион, может, и превратился в изощренного интригана, но я, как по мне, остался тем же. Мне вовсе не казалось, что война меня изменила.
Я согласился с Курионом и стал ждать письма от Цезаря (самому мне писать его не рекомендовалось). Хотя, честно говоря, лучше бы я сразу спросил его, и все дела. Ожидание оказалось мучительным.
Тем более, меня снова посетил приступ болезни, которая носит имя Фульвии. Стоило мне увидеть ее случайно на улице, холодные пяточки снова заняли все мои мысли.
Даже когда Антония сказала, что, пожалуй, пора бы нам завести ребенка, а то ей скучно, я не слишком-то обрадовался.
— Плацента подействовала? — спросил я.
— Я думала, это ты рядом со мной на подушке лежишь.
— Да ладно?
— Что побили тебя.
— Ладно, хер с тобой, пошли детей делать.
— Хочу дочку. Здоровую, как ты. Огромную деваху! Будет меня защищать.
— Женщина, я не способен выносить тебя дольше пяти минут.
— Пять минут тебе вполне достаточно, правда?
— Наглая ложь.
— Полуправда.
Наша игра радовала обоих. Может, Антония не была самой чувственной и любящей женой, но я ценил ее, и мне было с ней хорошо.
Да, истинная правда, я ее любил, и она любила меня, не так сильно, как мы оба могли любить кого-нибудь другого, но все же. И поэтому мне было больно за нее, когда, имея Антонию, я представлял себе Фульвию, представлял накрашенные лимонным лаком коготки на своих плечах, представлял разметавшиеся рыжие волосы и веснушки, в молочном лунном свете столь яркие, что кажутся пятнами крови.
Всего одна встреча, а я весь перекорежился и долго не мог успокоиться.
Наконец, состояние мое стало ужасным, я не мог спать, не мог отвлечься ни на секунду, и перед глазами все время стояла какая-то смутная пелена молочного цвета. Как тот свет, когда мы любили друг друга.
Тогда я решил обратиться за помощью. Я принес в жертву Венере белую голубку и попросил заступничества богини.
Я стоял на коленях перед алтарем, перед крошечной фигуркой Венеры, которую греки называют Афродита Анадиомена — она едва родилась из морской пены и выжимала волосы маленькими мраморными ручками удивительно тонкой работы. На алтаре лежали ракушки, мягко пахли свечи, сохли лепестки цветов. Венера смотрела на меня нежно и пленительно, губы ее готовы были раздвинуться в улыбке, но этого еще не случилось, и никогда не случится, потому что образ богини застыл в камне навечно.
Юнцы молились ей до меня и будут молиться после меня. Я поцеловал камень алтаря, а потом капнул кровь голубки, которую выделили мне жрецы для отправления собственной просьбы, на одну из ракушек. Красное растеклось и закрыло собой перламутр. Окровавленной рукой я коснулся сердца под одеждой и прошептал:
— Венера Милена, черная Венера, покровительница страстных ночей и тайных любовников, я не знал, как обратиться к тебе. Мы проводили вместе ночи, но не знали плотской любви. Она — жена моего друга, и мы с ней влюблены. Вернее, я не знаю, любит ли она меня до сих пор. Я люблю ее, и с каждым днем сильнее. Избавь меня от этой любви, дай мне любовь и страсть к другой женщине, к моей жене, или к чьей угодно еще, но дай мне забыть жену Клодия Пульхра.
Я всматривался в хрупкую и маленькую фигурку Венеры.
— Скажи мне, за что мне такая любовь?
И мне показалось, что, в мареве от свечей, Венера все-таки мне улыбнулась. И будто сказала прекрасным голоском Фадии:
— Тебя волнуют лишь неисполненные желания.
Все правда. Я склонил голову, вдохнул тяжелый горячий запах.
— Дай мне свободу, — попросил я. — Хочу освободиться.
И вдруг сказал, сам того не понимая, как-то вдруг:
— Или дай мне ее. Пожалуйста, дай ее в мои руки, и я покажу тебе такую любовь, что ты обалдеешь.
Тут я понял, что пошло совсем не то, что я планировал и, поблагодарив Венеру, встал. Я прошелся через темный, дымный храм.
Голова у меня кружилась, и я готов был рухнуть на мраморный пол — слишком долго не спал и слишком страстно желал свою Фульвию, так, что замирало непокорное разуму сердце.
Стараясь отвлекаться, больше глядеть по сторонам, я вдруг заметил знакомый силуэт у другого маленького алтаря.
Гай стоял на коленях, голова его мерно клонилась вперед, вдруг вспыхнула от пламени свечи прядь волос, и он тут же сжал огонь ладонью, никак не показав, что ему больно. Потом голова Гая снова принялась клониться вперед. Создавалось такое впечатление, что он спит.
В странном, трансовом, полубессознательном состоянии он покачивался и шептал что-то, изредка его язык скользил по неровным белым зубам.
— Гай, — позвал я. Он выглядел очень плохо. Изможденное, отощавшее лицо, синяки под глазами, искусанные губы в трещинах, дрожащие руки — тяжело болен, ни добавить, ни убавить.
Я вздернул его на ноги, Гай качался, стараясь упасть.
— Венера, — говорил он, уставившись куда-то поверх меня. — Венера, будь ласкова со мной, дай мне ее любви.
Вдруг он заговорил еще резче и невнятнее:
— Так приди ж и ныне, из тягот горьких. Вызволи: всему, к чему сердце рвeтся, до конца свершиться вели, сама же. Будь мне подмогой.
Я не сразу узнал "Гимн Афродите", греческий Гая был не слишком хорош и слишком быстр.
— Заставь ее быть на мой стороне, пусть узнает меня, мою любовь.
Мне казалось, у него сейчас пена на губах запузырится. Он до боли напоминал того маленького, невыносимого Гая, и в чем-то был даже хуже.
Я встряхнул его.
— Сколько ты здесь?
Через некоторое время мне удалось добиться ответа.
— Три дня.
— Ты ел? Пил? Спал?
Гай посмотрел на меня мутными глазами, и я потащил его к выходу, не надеясь найти ответа в этом душном помещении. На улице Гай почти тут же лишился чувств. Думаю, в храме среди свечей и благовоний ему здорово не хватало воздуха. Я подхватил его, усадил на ступеньки.
Гай пришел в себя, открыл мутные глаза.
— Ну? — спросил его я, нависнув над ним. Гай дрожал, как от холода, и шмыгал носом, будто простуженный, и рот разевал, как рыба.
— Так, Гай, тебе надо прийти в себя.
В ближайшем термополии я взял для него теплого вина и хлеба, кормить и поить Гая пришлось насильно.
Я все пытался спросить, что, собственно, говоря произошло.
Но ответ был один:
— Квинтилия! Квинтилия!
Да уж, братец влюбился. Ты ведь наверняка это помнишь, и даже больше знаешь о его ненаглядной Квинтилии, чем я.
Я подумал о своей ненаглядной Фульвии и сел рядом с Гаем, прижал руки к макушке.
— Ой, бля. Я же со стороны так же выгляжу. Вот мы с тобой друг друга стоим.
А Гай вдруг вцепился в амфору так, что мне показалось, будто она треснет.
— Тварь, — сказал он. — Глупая, склизкая тварь.
Гай запрокинул голову и засмеялся. Давно с ним такого не случалось, ты сам помнишь. На виске у него я заметил длинный, широкий шрам, похожий на подживший ожог.
Накормив Гая, я заставил его подняться, и мы побрели домой.
— Я хочу ее, — бормотал Гай. — Квинтилия будет моей. Я умру, но Квинтилия будет моей.
Вот это подход Антониев, правда?
Мне стало очень жаль Гая. Дома я положил его в саду на скамейку, дышать воздухом, маме объяснил, что Гаю стало плохо, и он приболел, а до того пил с друзьями, как все нормальные люди.
— А Квинтилия? — спросила мама.
— Какая Квинтилия?
— Эта девушка, он все время о ней говорит. Увидел ее в городе и не может забыть. Дочь одного хорошего ювелира.
— Он все выяснил?
— Просто ищейка.
— А ей не пора замуж?
— Ее отец нам отказал.
Я помолчал.
— А сама Квинтилия?
— Не думаю, что Гай ей понравился, — осторожно сказала мама. Нехотя она поведала мне историю о том, как Гай пролез к ней ночью и попытался ее изнасиловать. Квинтилия ударила его лампой по голове. С помощью денег, кстати говоря, моих, дело удалось замять.
— Умник, да? — спросил я. — Что ж ты раньше не сказала?
— А ты меньший умник? — спросила мама. — Поговори с ним.
Я вернулся в сад, к Гаю.
— Вот, мама передала тебе глобули. Поешь, они очень медовые.
— Не хочу.
— Не хочешь, как хочешь, я сам съем.
Некоторое время мы молчали, и я возил в меду шарики из теста и отправлял их в рот.
— Скажу маме, что ты съел. Она тебе больше не даст еды, тощая мразь.
— Мне все равно.
В этот момент я понял, что меня не было слишком долго. Я совсем не понимал, как помочь Гаю.
— Послушай, в мире много женщин, похожих на Квинтилию, — начал было я, но Гай меня перебил.
— Не смей мне такое говорить!
— Хорошо, не буду, — легко согласился я. — Да я и в курсе, как это сейчас воспринимается. Но если тебе не изменить ее решение, попробуй измениться сам. И тогда она может захотеть тебя.
Гай резко повернулся ко мне.
— Измениться?
— Да, — сказал я. — Хотя бы не пытаться ее изнасиловать.
— Мама тебе рассказала?!
— Она мне все рассказывает.
Гай обнял меня и прошипел:
— Я не могу больше, не могу.
— И не надо, — сказал я. — Изменись. Стань другим, тем, который может. И она полюбит тебя. Ты можешь быть кем угодно. Кто-нибудь ей точно понравится.
— Ты так думаешь? — спросил Гай недоверчиво. Я пожал плечами.
— Да, я так думаю, — и я не лгал ему, Луций.
— Если ей не нравится бешеный идиот, может, ей понравится симпатичный молодой магистрат вроде тебя, дружок?
— Я не магистрат.
— Но ты можешь им стать. У тебя отличное образование, у тебя есть мозги, ты завидный жених, если так подумать.
— Пускаю самую белую и самую пушистую пену изо рта.
— Из пены родилась Венера, — сказал я, и мы засмеялись.
— Идиот.
— Это правда, — сказал я. — Но здесь, на этой скамейке, особенно умных я не замечаю.
— Потому что у тебя настолько нет разума, что ты не способен оценить чужой.
— Это ты намекаешь, что ты умница?
— Ты сам сказал, что я мог бы стать магистратом. И у меня есть мозги.
— Ну, наверное, я погорячился, тощая мразь.
Вдруг Гай обнял меня, весь он дрожал.
— И Квинтилия станет моей? — спросил он. Весь дружелюбный тон нашей беседы за секунду сошел, спал, будто стянули жировую пленку с мяса и осталась красная плоть.
— Да, — сказал я. — Если ты займешься собой. Карьерой, например. Сделай из себя того, кому есть что предложить.
Я обнимал его, и все-таки Гай меня немного пугал. Так или иначе, я остался дома еще на пару дней и выхаживал его. Наконец, Гай стал не только есть, но и улыбаться.
Тут-то мне и пришло письмо от Цезаря, которого я так ждал.
Конечно, я согласился сразу. Мне хотелось уехать из Рима, где, как мне казалось, больше не было для меня места. Мне все надоело, и я не чувствовал, что смогу забыть Фульвию, будучи в том же городе, что и она.
Кроме того, милый друг, навязчиво вспоминался тот самый Цезарь, который не хотел убивать моего отчима. И сделал все для этого возможное. И единственный из ее родичей приехал навестить мою маму.
То тепло, которое Цезарь посеял во мне тогдашним своим визитом, проросло в быстрое и решительное согласие. Думаю, Куриону нечего было и уговаривать меня, я бы поехал все равно.
Кроме того, ну разве не был Курион прав еще в одном? Война мне необходима, а мир — тесен и душен, как отравленный плащ Геркулеса, и я чувствовал, что воздуха становится все меньше.
Что касается Галлии, в Галлии все было по-другому. Война всякий раз иная, ее облик подчиняется многим факторам, и нельзя, вернувшись, например, из Египта, сказать, что ты знаешь войну, что ты знаешь, как быть на войне.
Война, которую вел Габиний являлась в большей мере политическим предприятием, чем война, которую вел Цезарь. Звучит странно, но я постараюсь объяснить. Война Цезаря была войной на истребление. Он ставил своей целью не достижение каких-либо условий, а полную покорность, покорность животного толка, покорность перед более сильным хищником.
Цезарь был человеком милостивым, он знал цену прощению и знал, что враг может стать ценным другом. Но все это относилось, естественно, к римлянам.
С галльскими племенами Цезарь жалости не знал.
Я так уже поступал, когда не щадил евреев, и я знал цену жестокости, я знал, что это тяжело и печально, но Цезарю невероятная жестокость давалась с легкостью. Он мог отдать приказ вырезать целое племя, и более об этом не вспоминать, потому как проблема исчезла полностью.
Мне не было жаль тех, кто может принести гибель моим воинам. Поэтому под началом Габиния я старался не брать еврейских пленников, но мне бы и в голову не пришло убивать евреев без разбору просто за то, что они — евреи. В конце концов, одни евреи были на нашей стороне, другие — на вражеской, и мы прежде всего играли в политику, пусть и жестокую.
Галлы, а тем более белги до политики в понимании Цезаря не доросли и церемониться с ними он не собирался.
Бывало и так, что он искреннее восхищался, так было с нервиями, смелостью, преданностью, любовью к своей земле и говорил, что нам, римлянам, есть чему поучиться у этих диких людей.
Но как ты думаешь, сколько он при этом оставил нервиев? Штук пятьсот, не больше, да и тех угнали в рабство. Обучение оказалось несколько затруднительно. Учиться, видимо, предполагалось у истории, частью которой стали нервии, а не у живых людей.
Считаю ли я, что это плохо? Наверное, я скорее удивляюсь. Мне свойственна некоторая сентиментальность, но война есть война.
Цезарь, как он говорил, ощущал исчезновение еще одного человеческого сообщества с лица земли, и это — потеря. Взамен он оставлял труды о нравах, быте и истории всех этих племен. Жестокость и такой живой интерес к культуре, как они уживались?
Однажды я решился заговорить об этом с Цезарем. Как раз таки о нервиях.
Я спросил его, почему нельзя пощадить их женщин и их детей?
— Из их сыновей вырастут мужчины, их женщины родят еще мальчиков, которые тоже станут мужчинами, — ответил Цезарь. — И эта война возобновится. Покорные рождают покорных, гордые рождают гордых, и ты ничего с этим не сделаешь. И сыновья твоих солдат, и твои сыновья будут умирать, сражаясь с ними. Если тебе тяжело, представь, что это делается ради наших женщин и детей. Нет, не представь, пойми. Потому что это так и есть.
Цезарь мыслил будущим, оттого рассуждения его всегда казались очень холодными. Иногда они не затрагивали напрямую судьбу никого из ныне живущих.
— Я хочу, чтобы наши с тобой потомки видели мирную, покорную и богатую Галлию. Чтобы здесь обитали спокойные, уживчивые люди. Чтобы римляне, лишенные всего, могли получить землю, которую смогут возделывать. Все это не предполагает существования таких сообществ, как нервии. Хотя они крайне интересны, и я питаю глубокое уважение к отсутствию чувства страха и искренней любви к своему дому. Иногда этого не хватает римлянам.
Мы сидели в шатре над картой, и я видел, как Цезарь обозначает освобожденные от людей земли. Вдруг он поднял на меня спокойные, красивые светлые глаза. Очень умное, прозорливое лицо без единого, кажется, недостатка.
— Ты испытываешь жалость, Марк Антоний?
Я почему-то смутился, словно Цезарь спросил у меня о том, что я делаю в постели со своей женой.
— А? Жалость?
Я почесал затылок, мне стало жарко.
— Да. Испытываю, — сказал я, наконец. — Мне немного жаль.
— Правда? — спросил Цезарь спокойно, он меня не передразнивал и говорил очень прямо. — Почему ты жалеешь их? Они — твои враги. Они убили бы тебя, не задумываясь. Сожгли бы тебя или придумали бы еще что-нибудь.
Но он меня ни в чем не убеждал, только интересовался.
Цезарь помолчал, глядя на меня, а потом спросил:
— Если ты испытываешь жалость, Марк Антоний, то какова она? Как работает твоя жалость?
Я помолчал тоже. На секунду я подумал, вопреки формулировке вопроса, что ответ и не нужен, но Цезарь продолжал смотреть на меня.
— Я могу испытывать жалость только когда представляю что-то, что может случиться со мной, — сказал я. — Я представлял, что маленького меня, моих братьев и мать убили бы во время войны, и мне становилось больно.
— А испытываешь ли ты жалость к калекам?
Вопрос был интересный, я задумался.
— Ну, к некоторым.
— К каким?
— С которыми что-то случилось. В течение жизни. Например, один мой парень, он потерял глаз, представляешь? Мне так жаль его.
— А если человек слеп с рождения?
Мне стало стыдно за мой ответ.
— Мне его не очень жалко, скорее, я считаю, что он накличет беду и постараюсь обойти.
Цезарь сказал:
— Видишь, Марк Антоний, твоя жалость — это всего лишь эгоцентризм в сочетании с хорошим воображением. Тебе не жалко, тебе страшно, что такое могло произойти с тобой. Ты не можешь родиться заново, так что не жалеешь слепорожденных, они тебе просто неприятны.
Думаю, скажи мне такое кто-нибудь другой и каким-нибудь другим тоном, я решил бы, что я глубоко и безнадежно порочен, и душевности во мне не больше, чем в галльском дубе. Но Цезарь говорил без какого-либо осуждения, он просто рассказывал мне обо мне, как о некоем механизме, принципы работы которого определенны и просты.
— Но ты и твои братья взрослые люди, живущие в могущественной стране. Вряд ли с твоей семьей может произойти то же, что и с северными племенами. Тебе легче?
И я с ужасом и отвращением понял, что мне легче. Тиски, сжимавшие сердце, ослабели.
— Но нет, — почти крикнул я. — Это не все! Еще я жалею их в целом, как народ, как племя! Разве это ты можешь объяснить? Когда никого не остается, остается пустота!
Цезарь улыбнулся, ему нравилась моя горячность, она будто подсказывала ему что-то. Позже он сказал, что, благодаря мне, научился обращаться с такими людьми, как я, а их немало.
— Да, — сказал Цезарь. — Это другое. Исчезновение чего-либо вызывает в нас тоску, напоминая о том, что все в этом мире временно. Поэтому поздней осенью мы грустим в ожидании зимы. Поэтому печально оставлять буллу на семейном алтаре. Это чувство печального созерцания доступно тебе в полной мере, оно и делает тебя человеком, Антоний.
Я был в отчаянии. Все, чем я оправдывал себя, оказалось глупой ложью и не относилось напрямую к тем живым существам, которых я жалел.
Цезарь вдруг спросил меня, снова оглядев своими ясными глазами.
— Ты хочешь что-то узнать от меня, так? Узнать, что я об этом думаю.
— Да. Хочу. Ты посвящаешь много времени изучению этих людей. Если ты хочешь уничтожить их, зачем ты хочешь их понять?
— Я хочу их понять, это правда. Они монстры, Марк Антоний, и ты знаешь, что они жестоки. Но монстра можно понять. И нужно понять, хотя бы ради себя самого, чтобы увидеть, не превращаешься ли в монстра ты сам. И монстра может быть жаль, я это допускаю, но его необходимо убить. В этом нет никакой радости, это грустная обязанность, которую кто-то должен выполнять. Будь ты Геркулесом, думаю, для тебя это сравнение вполне приемлемо, и обнаружь ты гнездо очередного убитого тобой монстра, разве оставил бы ты его детенышей взрослеть? Ты убил бы их, и был бы прав. Есть мирные племена, чье процветание должно быть заботой Рима. Покорные торговцы и ремесленники должны плодиться, занимаясь хорошим делом. Монстры должны исчезнуть. Вот и все. Но это не значит, что их нельзя понять. Лишь понимая кого-то, можно по-настоящему его пожалеть. И лишь пожалев монстра, ты имеешь моральное право его уничтожить.
Я смотрел на него оторопело. Выходило, что моя жалость была поддельной и построенной на примитивных чувствах. Цезарь же жалел этих людей по-настоящему, но он все равно отдавал приказы на уничтожение. Более того, он считал способность жалеть и понимать этих существ — признаком того, что он еще не уподобился им. Моральной, так сказать, санкцией.
— Монстра можно понять, можно пожалеть, но его все равно нужно убить, — повторил Цезарь, прикрыв глаза. Разве не мог через много лет эту фразу повторить Брут?
Монстра можно понять, его можно пожалеть, но его необходимо убить.
Да, думаю, Брут рассуждал примерно так.
Что касается меня и моей глупой жалости, она столь слаба. Кампания в Галлии была более жестокой, чем на Востоке, но я оказался к ней готов. Постепенно, с помощью тренировок, ты все легче поднимаешь все большую тяжесть. Тут так же.
Я помню реки, полностью красные от крови, и горы трупов, которые мешали воде течь. Я помню, как это, сжигать деревню, где не осталось больше ни единой ценности, в том числе, ни единого человека. Такие пустые места, какие сложно себе представить.
Цезарь говорил, в случае войны с особенно дикими племенами, всегда добивать раненных. Ни один из них не должен был уцелеть даже чудом, чаяниями богов. Некоторые считали это своего рода милосердием. Кому понравится долго умирать под безжалостным солнцем, если за тобой никто не придет.
Впрочем, когда Цезарь видел, что с племенем можно договориться, он не пускал в ход крайние меры. Очень рациональный человек.
— Игра в кости и страховые компании основаны на одном и том же принципе — на шансе, который выпадает нечасто. Война — тоже азартная игра. Ты просчитываешь вероятность умереть, вероятность стать героем, вероятность разбогатеть, вероятность превратиться в калеку. Но решение действовать так или иначе, ты все равно принимаешь не разумом, а сердцем, потому что на самом деле ты не знаешь ничего. Шанс есть шанс.
А я помню красные воды реки, там, против течения, она прозрачная, а по течению — алая. Но снились мне реки красные в обе стороны.
Убивать столько людей все равно тяжело, физически трудная работа, но еще это большая работа для ума, который такое в себя не вмещает.
Как я могу знать все это и утверждать, что Цезарь — хороший человек? А я вот тебе говорю: он был добрый, благородный, тонко чувствующий, милосердный. И все-таки, думаю, он не щадил тех, кого можно было, и щадил тех, кого не стоило.
Я всегда выполнял его приказы, поскольку считал, что мой ум не охватывает величину замыслов Цезаря. Однако смог ли я поступить так же, как поступал Цезарь, когда был свободен в своем выборе?
Нет. Позже, когда вождь атребатов, Коммий, просил меня о пощаде и прощении за измену, я простил. И Цезарь, хотя сам бы он поступил совершенно по-другому, не стал оспаривать мое решение.
Но то случилось позже, а перво-наперво я изрядно обалдел.
Знаешь, кто обалдел бы еще сильнее? Красавчик Клодий. История все-таки о нем, кроме того, вот у него монстры, которых он понимал, вдруг переставали таковыми быть. И он знал истинную схожесть всех людей мира, какую-то тайну.
Там, где мне было не очень легко, ему было бы невозможно. Клодий мог быть жестоким, но то была природная жестокость, обратная сторона жизни. Клодию просто не под силу рациональная жестокость, он не умел подвести под нее ни цифр, ни красивых слов.
В какой-то мере именно он и Цезарь, а не Цезарь и Помпей были главными антиподами нашего времени. Рациональное будущее и иррациональное, хаотическое настоящее. Все и сразу или когда-нибудь, но — куда больше. Фундаментальный, как сказал бы Цезарь, конфликт между настоящим, пожирающим будущее и будущим, пожирающим настоящее.
Да, Клодий был милосерднее, чем Цезарь, чем я, выполнявший вполне законные приказы, чем другие наши офицеры. У нас были вопросы, но их было мало.
Клодий же был существом из прежнего времени, из века Сатурна, когда все мы жили в любви и мире. И пусть он казался таким воинственным, в нем не было ничего, кроме животного желания распространить себя как можно дальше.
А это, Луций, согласись, совсем другая война.
Да, о Клодии. Вот мы и подошли к нему, и как скоро. Сколько лет моей жизни все крутилось вокруг него?
Я не хотел обратно в Рим. Богатая Галлия, которая, сколько ее ни грабь, не истощалась, меня полностью устраивала. Да, в остальном порядки у Цезаря были строже, чем у Габиния, но я продвигался по службе, и Цезарь меня ценил. Я любил наблюдать за ним и слушать его, этот человек впечатлял меня своим масштабом.
А какие в Галлии были небеса — низкие-низкие, звездные. Говорят, небо везде одно и то же, но это ведь не так. Там небеса были такие чудные, словно в любой момент готовые порваться под своей тяжестью и одарить нас тем непереносимым сиянием, которое рождают небесные тела.
Я чувствовал себя свободным. Казалось бы, жесткая дисциплина должна была меня подавлять, но внутри я ощущал себя куда свободнее, чем в Риме, потому что жил по примитивным правилам, вполне мне понятным.
Так что, когда пришло время ехать на выборы квесторов, я расстроился. Мне это было не слишком по сердцу, но Цезарь настоял. Ему нужен был свой человек на этой должности, а я доказал свою надежность.
Впрочем, квестором я в том году так и не стал, да и история эта неинтересная, если ты ее помнишь, а если не помнишь, то ты ничего не потерял.
На самом деле история о Клодии и обо всех причастных.
Так вот, первым делом, приехав в Рим, я отправился к Цицерону с рекомендательным письмом от Цезаря. Сам я его не читал, потому как оно было скреплено печатью Цезаря, и не зря. Увидев упоминание себя и Цицерона в одном предложении, я бы как минимум расстроился.
Паскудина меня приняла без разговоров. Он был скучный и в плохом настроении, бледный с лица. Вдумчиво прочитал письмо Цезаря, посмотрел на меня поверх кустистых бровей.
— Интересный выбор, — сказал он. — Чем больше знаю Цезаря, тем больше убеждаюсь в том, что он любит парадоксы.
Я расплылся в широкой улыбке.
— Цезарь разбирается в людях и видит в них то, что они сами в себе не видят, — сказал я. — Это отличное качество для руководителя.
— Руководителя, — хмыкнул Цицерон. — Я знаю множество отличных качеств для руководителя, и доброта не одно из них.
О боги небесные, думал я, я сейчас съем твое лицо, обещаю тебе, если ты только скажешь еще хоть слово. То ли Цицерон почувствовал что-то в мельчайшем колебании моей улыбки, то ли мое общество успело наскучить ему за две с половиной минуты, но он только кивнул и положил письмо на стол.
— Ты свободен, Антоний, — сказал он. — Свой ответ Цезарю я напишу в ближайшее время.
— Ну ладно, — сказал я. — Бывай.
— Что за вульгарность? — спросил Цицерон, когда я захлопнул за собой дверью. Впоследствии эта паскудина упрекала меня в том, что я прежде заехал к нему, чем к родной матери. Признаю, мне хотелось разобраться сначала с неприятными делами, такой уж я человек.
Дома меня встретили теплом и радостью. В тот вечер я рассказывал вам о Галлии только хорошее, как красивы и бурны там реки, какое небывалое небо, как мягка галльская овечья шерсть. Да, рассказывал всякое и раздавал подарки, коих привез с собой великое множество, и не все бы мама приняла, зная, как они добыты.
Мы пили теплое вино, смеялись, я рассказывал какие-то хорошие истории, и оттуда, из того вечера, пронес идею, что война меня совсем не изменила. Я все тот же: незаметно наклюкался на семейном празднике и давай звенеть историями, которые только мне кажутся смешными.
Было так тепло и хорошо. Ты попросил меня познакомить тебя с Клодием, я сказал, что мы все еще враги, но, может быть, когда-нибудь. Я даже думал, а почему бы и нет?
Мы с тобой и Гаем возлежали и пили вино до самого рассвета, и вы слушали меня, раскрыв рты, хотя ты к тому моменту сам успел повоевать.
— А кровавые истории расскажешь? — спросил Гай.
— Не, — сказал я. — У меня нет настроения.
И правда. Хорошая вышла ночь, чудная-чудная, и тоже звездная. Почти как в Галлии.
Все было прекрасно. Но выборы квесторов задерживались, мне приходилось лебезить перед паскудиной Цицероном, и это ожидание вкупе с вынужденным общением с крайне неприятным мне человеком породило напряжение.
С каждым днем я чувствовал себя все хуже и хуже, начались даже какие-то боли в мышцах, охочих до прежнего движения.
Кроме того, да, Фульвия. Все вернулось на круги своя. Почти забыв ее в Галлии и утешаясь с местными женщинами без мыслей о ней, в Риме я вдруг снова сошел с ума.
И понял Гая, все еще страдавшего по своей Квинтилии — никакого облегчения, как больно.
Я перестал спать по ночам, весь день вынужден был улыбаться и стараться затесаться кому-нибудь в друзья. В обычных условиях я сходился с людьми легко, но вдруг мне все, будто по аналогии с Цицероном, стали противны.
В городе стало неспокойно. Завелся, как в своих письмах называл его Курион, "злодейский Клодий", Милон.
Тот же Клодий, писал Курион, только не искренний и не талантливый, зато — куда хитрее.
На улицах то и дело происходили стычки группировок злодейского Клодия и стандартного Клодия, и я жалел, что не могу присоединиться ни к одному из них. Я должен был вести себя очень прилично.
Давление росло и росло, пока не стало невыносимым. Это случилось в одну из ясных лунных ночей. Наша с Антонией дочка хныкала в колыбельке, и Антония встала к ней (она мало доверяла рабыням в плане ее воспитания).
— Ты не спишь? — спросила она, появившись в проходе с ребенком на руках.
— Не, — сказал я. — Не могу.
Антония замурлыкала нашей дочке.
— Папа у нас сумасшедший, у папы у нас трубы горят, да?
Я молчал и смотрел в потолок. Дочь не вызывала у меня никаких особенных чувств. Ребенок, как ребенок, симпатичный, но даже и не понять еще, на кого похожа.
— Заткни ее, — сказал я.
— Не могу, она же тебя увидела.
Я огрызнулся, сказал ей что-то резкое, а потом вдруг встал и начал одеваться.
— Я не могу жить, — сказал я. — Антония, я люблю другую женщину.
— Ну-ну, — сказала Антония. — Удачи. Удачи ему, правда, малышка?
Я, вопреки обычаю, ничего ей не ответил. Пожалуй, это Антонию даже взволновало.
Знаешь, к кому я пошел? Догадываешься, очевидно. Я пошел к Фульвии. Мне было все равно, встречу я Клодия или нет, и что я ему скажу. Я ворвался в его дом, сбив с ног привратника. Фульвия заверещала. Клодия, судя по всему, не было дома. Ну, конечно, где-то далеко в городе полыхало зарево от факелов.
Справившись с первым испугом, Фульвия спросила:
— Что ты тут делаешь?
Она подозвала к себе двоих кухонных рабов с ножами, и они заняли какую-то дурацкую боевую стойку в их представлении. Думаешь, настолько пугающий у меня был вид?
— Фульвия, — сказал я. — Не могу больше жить без тебя. Я забывал о тебе только на краю мира. Я не могу быть здесь и думать, что ты не моя. Я люблю тебя, и мы будем вместе. Ты была права с самого начала.
Фульвия, о, она почти не изменилась, схватилась за длинную рыжую прядь и принялась нервно ее накручивать.
— Антоний, я была не права, — сказала она. — И ты это сам знаешь! Поэтому ты уехал. Я не права, и я разлучила тебя с другом. Я виновата.
Фульвия и сама потихоньку пятилась к столу, где я увидел злополучный нож для фруктов. Еще служит, старичок. Уже и я служу, а он все в строю. Я засмеялся.
Фульвия тут же спросила меня:
— Ты чего смеешься, Антоний?
Ей казалось, что я сошел с ума. А, может, в тот момент я и был сумасшедшим.
Я сказал:
— Я люблю тебя. Ты хотела, чтобы я…
— Больше не хочу, — сказала она. — Антоний, это была большая ошибка. Я люблю его, не тебя.
Но она лгала мне, я знал. Я стоял, пошатываясь, как пьяный, и смотрел на нее.
— Разве ты меня не любишь? Разве ты не хотела меня все это время?
— Антоний, иди домой, к жене. Прошло очень много времени. Мы изменились.
— Я не изменился!
Но что-то в ее взгляде подсказало мне, что да, изменился. И я разозлился.
— То есть, ты рассорила меня с одним из моих лучших друзей? Ты спизданула ему про то, что у нас было и про то, чего не было, а теперь я больше тебе не нужен? Так? Ты говорила, что любишь меня, а теперь разлюбила, раз и все?
Р-р-раз и все, сказал я и клацнул зубами от злости. Я двинулся на нее, мальчишки-рабы задрожали. Фульвия прижала руки ко рту.
— Антоний, — сказала она. — Прости меня.
Вполне нормальные слова для любой женщины, правда Луций? Но не для этой суки, сам знаешь. Она почему-то меня испугалась.
— Антоний, — говорила она. — Я виновата перед тобой, но я не люблю тебя, я ошиблась, я люблю Клодия, я люблю его очень сильно.
Она не заплакала, просто не умела, но губы ее задрожали. Я замер напротив нее, и она обхватила себя руками.
— Антоний, — сказала она. — Не надо, Антоний.
Чего она боялась? Того, что я сделаю больно ей, или что ее рабы ткнут в меня своими крошечными ножичками? Я не знаю. Фульвия — загадка, и ты ее не знал тоже, даже если думал, что знал.
Я смотрел на ее нелепое длинное тельце, на руки с тощими пальцами, на сухие локотки, на опущенную рыжую голову.
— Ладно, — сказал я. — Все я понимаю, не переживай. Я знаю, в чем вся проблема.
И я ушел. Ты представляешь, Луций, а я думал, что война не изменила меня.
Остаток ночи я проспал, а утром выпил крепкого вина, взял меч и пошел за Красавчиком Клодием. Я нашел его на Форуме. Он стоял с оранжевым мегафоном в руке и кричал:
— Свобода! Свобода! Свобода! Они говорят: сенат — ваша свобода. Ваша свобода — подъедать кости за дедами, полжизни протирающими задницы на хлебных должностях, сука, бля, и решающими, как вы будете жить, и как вы будете умирать! Я здесь один, посмотрите на меня, у меня нет ликторов, за мной нихуя вооруженных пацанов сейчас, вообще никого нет. Я один, и я говорю это, нихуя не боясь! Потому что бояться я, блядь, не умею! Свобода это отсутствие страха! Это когда ни один дед не может запретить тебе поселиться на своей земле и работать на свою семью! Это когда, сука, блядь, деды говорят тебе — пиздуй туда, а ты вдруг не одеваешься и не идешь умирать! Свобода — это жизнь! Милон говорит, что свобода — это война. Я скажу вам — свобода, да, война, но война за себя, за свою жизнь, за свое будущее, а не за ублюдков, которые, может быть, отбашляют тебе медяк! Подними, блядь, голову, человек!
Меч в руке был очень легким. Я шел к Клодию не потому, что он был один (не считая зевак), не потому, что он не был вооружен. Я был готов к любому исходу.
И почему я все-таки думал, что война не изменила меня?
Я взял меч и собирался отрезать его голову, вот и все. Решить эту проблему, которая так долго меня мучила. Тогда больше никаких угрызений совести, а Фульвия станет моей. Совершенно животная логика, простая, как медная монетка, и такая же кислая ярость. Голова была пустой, но сердце пылало. Люди расступались, видя меня.
Я знал, что легко могу убить его. Физически для меня в этом нет никакой проблемы, а разум мой темен и неподвижен, как застоялая вода в болоте.
Не помню, как я шел к нему, помню только, что люди расступались.
А я думал война не изменила меня, да?
Конец моей дружбе с Клодием Пульхром, бедный Красавчик Клодий. Он заметил меня и оскалился. При нем не было никакого оружия вовсе, но меня это не остановило. Я замахнулся мечом, но он успел выставить вперед оранжевый громкоговоритель. Лезвие проломило его и, бросив мегафон, Клодий ушел из-под удара.
— О! — крикнул он. — Охуеть, Антоний! Здорово ты теперь решаешь проблемы!
А я думал, что война не изменила меня.
Я зарычал:
— Я не спал с твоей ебаной женой. Но теперь я убью тебя, и буду с ней спать. Так тебе больше нравится?! Так лучше, правда?!
Клодий сказал:
— Нихуя себе! Вот это появление, сука, бля! Ты всегда любил что-нибудь такое, еба, эффектное!
Я снова замахнулся мечом, но Клодий успел вовремя отскочить, я порезал ему руку, в глубокой ране открылось мясо. Клодий побледнел, но не закричал.
— Сука ты, — сказал он. — Давай, иди сюда, Антоний, бешеный бык. Покажи мне, чего ты стоишь! Покажи мне, чему я тебя научил!
Эти его слова привели меня в еще большую ярость, я закричал.
— Клодий Пульхр, я отрежу твою ебаную голову! Слышишь!
— Тебя не услышишь! — засмеялся Клодий. Весь рукав у него был в крови, и он хохотал, как сумасшедший. Казалось, вся ситуация ему даже нравилась.
— Не как в старые добрые времена, — сказал он. — Но тоже ничего! Я скучал!
— Сука ты, — заорал я. — Сукой был, сукой и сдохнешь!
А потом я за ним погнался. Люди кидались от нас в разные стороны, Клодий бежал быстро, мне было тяжелее, ведь перед тем, как отправиться за Клодием, я много выпил. Иногда я почти настигал его, но он выходил из-под лезвия меча в последний момент.
В целом, я думаю, это выглядело очень нелепо. Я вдрадабан пьяный гонюсь за ним, кричу, а он ругается и смеется, и ведет себя так, словно мы с ним играем в салочки, и мы просто дети, и никому ничего не будет от этой игры.
— Герой войны, нахуй! — крикнул Клодий. — Съехал крышей наш герой войны!
Клодию было весело, а я чувствовал бесконечную ярость, которая делала меня сильнее, но — куда менее ловким.
Когда Клодий почувствовал, что я его измотал, он взбежал вверх по ступеням, распахнул дверь какой-то книжной лавки и быстро опрокинул стеллаж, загородивший мне проход, потом второй, потом третий, пока я пытался пробиться, вход оказался завален. И я колотил мечом по дереву и свиткам, уже молча, с методичностью взбесившегося быка, снова и снова, изо рта у меня капала слюна и вырвался озлобленный рык.
— Давай, большой бык! — кричал Клодий. — Давай, бля, давай! Хочешь трахать мою жену? Сначала откромсай мне башку! Да побыстрее!
Я изрубил два первых стеллажа, но Клодий громоздил все новые препятствия между нами. В какой-то момент я понял, что мои руки окровавлены? Где я успел? Я утер лоб, будто умаялся от долгой работы (а разве не так?) и, милый друг, принялся размахивать мечом дальше.
Вдруг Клодий выглянул из-за преград, и я почти вонзил в него меч, но остановился в последний момент.
Красавчик Клодий не испугался, нет, он жалел меня.
— Ебаный маньяк, — сказал Клодий и улыбнулся мне. Я плюнул ему в лицо, слюна была розоватой из-за того, что я вытирал рот окровавленной рукой.
— Ненавижу тебя.
— И я тебя, и я тебя, — пропел Клодий. Вдруг я пошатнулся и упал, покатился вниз по ступенькам, прямо ни дать, ни взять глупый, нелепый бык, не справившийся с творением человеческих рук, лестницей.
Я полежал вот так, пока болел затылок. Небо надо мной стало совершенно белое, а, может, мне так казалось. Люди столпились вокруг нас, они говорили, зудели, как старая рана. Я заорал, будто от боли. Клодий прижался к остаткам стеллажа, выглянул. Он казался крайне любопытным, но и обеспокоенным. Даже более того, Клодий Пульхр, да, он испытал ко мне жалость.
Этого я выдержать уже не мог. Я вскочил на ноги, схватил свой меч и сбежал оттуда, потому что меня охватил невыносимый стыд.
Кроме того, это ж надо было так подвести Цезаря. Я ведь обещал вести себя прилично.
Я пришел к вам и долго полоскал руки в чаше для умывания, пока вода не стала красной, как кровь в галльской реке. Пальцы болели. Когда я потом посмотрел на свои руки, все они оказались в занозах и порезах. Порезы эти легко открывались, и за белесой кожицей видно было красное мясо.
И я думал: как это я мог так поступить? Я ведь совершенно себя не контролировал. Я так хотел Фульвию, что решил убить Клодия — вот и вся недолгая цепочка. Я разучился жить по-человечески.
А я думал, что война не изменила меня.
В тот вечер ты подошел ко мне и снова попросил познакомить тебя с Клодием, а я своими больными руками дал тебе подзатыльники, один и другой.
— Сам познакомишься, — рявкнул я. — Со своим обожаемым Клодием.
Прости. Когда человек умирает, так больно становится вспоминать все моменты, когда ты был неправ, несправедлив и жесток.
Всю ту ночь я проговорил с мамой. Вернее, как проговорил: я только плакал, потому что не мог ей объяснить, почему и что я делаю в этой жизни.
— Бедный мой зайчик, — говорила мама.
— А мне сказали, — сказал я. — Что я не зайчик, а бешеный бык.
Так смешно, да? Здоровый мужик, а все туда же. Она ни о чем меня не спрашивала и ничего не советовала, только гладила по голове, и ей было все равно, сколь грешен я перед богами и людьми.
— Для чего я такой нужен? — спросил я.
Это потом я — Неос Дионис, и жизнь воплощенная, милосердие витальных желаний. А тогда я разучился жить обычной жизнью, если когда-нибудь умел ей жить, и я запутался и испугался, в первую очередь самого себя.
А через четыре дня умер Клодий.
Такие совпадения, знаешь ли, настраивают на мистический лад. Я подумал сначала, что это все мне снится.
Пришел к ним с Фульвией, а там всюду кипарисовые ветви и — его тело. Он был бледен, губы посинели, на груди и животе страшные раны. Фульвия кинулась ко мне и принялась бить меня по голове и груди, удары ее сыпались будто отовсюду, но я не спешил ее отталкивать. Во-первых, это ей было нужно, во-вторых, я так скучал по ней.
Фульвия кричала:
— Это ты! Ты! Ты убил его! Ты убил его! Ты убил его!
Хотя, конечно, к этому времени она прекрасно знала, что его убил совсем другой человек и даже знала, при каких обстоятельствах. Фульвия осела на пол, и я осторожненько ее поднял.
Она крикнула рабыне:
— Уведи детей! Уведи, блядь, детей!
Потом прижала руки к сердцу таким беззащитным жестом, ладошка к ладошке, локотками вниз.
— Зарезали, как собаку! — крикнула она. — Моего Публия!
Вдруг у меня в глазах начало двоиться. Я, конечно, знал, что Красавчика Клодия зовут Публий. Публий Клодий Пульхр. Но вдруг я подумал о Публии, моем отчиме, о его смерти, о моей убивающейся матери, и мне стало больно вдвойне.
Я смотрел на труп Клодия и не верил, что он мертв. Кто-кто, а Клодий не мог умереть вот так легко. Он был такой шумный, не верилось, что он станет тихий. Не верилось, что не вскочит сейчас, истекая кровью и хохоча. Выражение его лица было незнакомым, мирным, спокойным.
Будто маска. Да, маска. Я долго смотрел на посмертную маску, которую с него потом сняли, и не находил в ней ничего общего с Клодием. Все другое. Другой человек. А тот — тот не мог умереть.
Я пытался его убить, с яростью гнался за ним, упрямо пробивался сквозь все заслоны, пытался схватить его окровавленными руками, и вдруг он умер по-настоящему, и я понял, что этого не хотел.
Никогда не хотел смерти Красавчика Клодия, потому что вместе с ним ушло что-то очень дорогое мне. Я подошел к нему, положил руку Клодию на плечо и потряс его. Тело безвольно поддалось, будто какая-то вещь.
Глаза мои видели столько трупов, их нельзя счесть, но в тот раз все было другое. Слишком уж натура Клодия отрицала смерть, и, как бы ни призывал он ее на свою голову, мне казалось, она не властна над ним.
И вот теперь видеть его пустую оболочку было невыносимо. Как будто кто-то изготовил очень хорошего качества куклу.
А глядя потом в пламя его погребального костра, я подумал, что не так уж сильно война изменила меня.
И о том, что мы не помирились.
Но он, должно быть, знал, как мое сердце скорбит, и смеялся.
Клодия убил "злодейский Клодий" — Милон. У них случилась очередная потасовка, стенка на стенку, все по-взрослому, и Клодий получил ранение, он истекал кровью, но не успели его отнести в ближайшее же помещение, то ли в забегаловку, то ли в гостиницу, как ворвался Милон и приказал своим рабам добить его.
Вот такая история.
Она плохая. Смерть в уличной драке — эта идея Клодию нравилась. Но то, что его добили, будто собаку или сломавшую ногу лошадь, ранило меня до глубины души. Это делало Клодия слабым, а он не был слабым.
Я пытался убить Клодия Пульхра так, как он того заслуживает. И, думаю, мой вариант понравился бы ему намного больше.
На самом деле он был моим другом до самого конца, и судьба добра ко мне, добрее, чем я того стою, потому что на мне нет его крови.
Что касается Милона, подлый пес Милон. Я два часа про это говорил в суде, честное слово, и у меня даже горло не пересохло.
Цицерон позже будет насмехаться надо мной, я, мол, пытался убить Клодия, а теперь, представляешь, осуждаю за это Милона.
Но Цицерон ничего, мать его, не знает о человеческой душе, в его мире люди действуют из нравственности или безнравственности, из храбрости или из трусости, из жажды наживы или из жажды власти — больше он не знает ничего.
А я ценил Красавчика Клодия, я верил ему, я хотел его убить, я ненавидел его, я научился у него столь многому, я любил его жену, и я врал ему, и я не мог ее трахнуть, потому что это было бы окончательным предательством, и я уехал от него на край света, и я боялся его, и он боялся меня.
Цицерон всего этого не знал. Он думал, что я нажрался и попытался убить Клодия из-за Фульвии. Это правда, но столь маленькая ее часть.
А больнее всего мне стало знаешь от чего? Я увидел, что к его смерти, рана на руке Клодия, оставленная моим мечом, еще не зажила. Она была рана среди ран. Будто это все я.
Ну да ладно, к Милону, которого потом отправили к изгнание. Он был плохой пародией на Клодия и не стоил букв, которые я сейчас пишу. Моя речь же была хороша и талантлива, но длинна и насыщенна повторами. Я приведу тебе только самую лучшую часть, она совсем маленькая.
— Клодий Пульхр, — сказал я. — Вам не нравился. Его любили, либо ненавидели, и я думаю вы из тех, друзья, кто его ненавидел. Но у него была одна единственная идея, понятная всем нам вне зависимости от степени богатства, от склада ума, от убеждений. Клодий Пульхр верил в то, что люди — есть люди, и у них есть право на человеческое достоинство. На человеческую жизнь и человеческую смерть. Люди для Клодия оставались людьми, даже когда они были его врагами. И он мечтал о благе, которое, однажды, может, примирит нас всех. Он не был человеком, который способен принести это благо, но он возвещал о его приходе. О том, что однажды мы все-таки преодолеем различия и станем едины. Я не знаю, ошибался он или нет, Клодия и мир рассудят боги. Но разве достоин человек, всю жизнь говоривший о людях и только о людях, собачьей смерти? Публий Клодий Пульхр был человеком, а человек, как он всегда говорил, должен жить легко и умирать безболезненно. Всю жизнь Клодий Пульхр говорил о людях, о том, как они живут и умирают, и как должны жить и умирать. И разве при всех его недостатках, должен он был умереть этой собачьей смертью, смертью загнанного животного? Не стоит ли нам наказать Милона по той лишь причине, что Клодий Пульхр был человеком, да, неприятным, да, снискавшим себе множество врагов, но именно человеком, а Милон приказал своему слуге зарезать его, как животное?
Об одном я умолчал. Красавчик Клодий погиб от руки раба. Думаю, ему это было куда больше по нраву, чем умереть от руки самого Милона.
Клодий всегда любил ничтожных и маленьких людей, он считал, что за ними будущее. Во всяком случае, его будущее — точно.
Мы стояли в кругу солдат, так народ рвался, чтобы лично разорвать Милона. Я оглядел все вокруг и сказал:
— И разве эта любовь не есть первое подтверждение того, что он был человеком? И разве ваша ненависть не есть первое подтверждение того, что он был человеком? Так дайте ему человеческое отмщение, или его возьмут люди.
А когда горел его погребальный костер, в который я смотрел и ничего, в то же время, не видел, я много думал о том, как война изменила меня, и как, не моргнув глазом, я встал и пошел убивать Клодия. И о том, как война не изменила меня, и я все так же болел от его смерти, а, может, даже и больше.
Толпа бросалась в костер палками, досками, стульями, и он разгорался все выше, выше, выше. Народу было столько, что нечем стало дышать, еще и огонь выжигал кислород. Все прибывали люди и бросали в костер поленья, вещи, пусть даже прутики, чтобы этот огонь никогда не погас.
И тогда, вынырнув на секунду из своего горя, как из глубокой воды, и оказавшись в пекле, я подумал отстраненно: великая сила, я подумал, да, сила невероятная — эта ваша толпа. И я ее полюбил.
И, дорогой мой Луций, понял, как с ней обращаться. Красавчик Клодий научил меня последней вещи из всех.
Потом, когда будут хоронить Цезаря, я смогу запалить костер еще выше. Но тогда я, конечно, об этом не знал.
Да какое "смогу", какое будущее время? Откуда я его взял?
Все прошлое, и все прошло.
Будь здоров.
Твой брат, неугомонный Марк Антоний.
Послание одиннадцатое: Холодная река
Марк Антоний брату своему, Луцию, по которому он так скучает.
Здравствуй, дорогой мой, и прости, что не писал тебе ничего вчера. Я полон любви и радости, всех целую, всем говорю хорошие слова, и вижу в людях такую красоту, которую они не видят в себе сами. Даже те, кто меня покидают, милы мне сейчас. Во мне столько любви, что я чувствую ее привкус даже во рту, он сладкий, как и следовало ожидать.
Как можно не видеть, сколь хрупок мир? Сколько убивали эти руки, желающие дарить ласку, и зачем это было нужно? Вдруг мне все открылось, я люблю своих друзей, люблю свою детку, люблю каждого проклятого раба в этом проклятом дворце, и все они кажутся мне столь хрупкими и прекрасными стеклянными сосудами для чего-то большего. Я люблю их души, люблю, что они боятся, люблю, что когда они напиваются, они блюют, люблю, что они плачут и люблю их слезы, люблю движениях их рук, люблю их глаза, все их глаза.
Сколько любви. Об этом я мечтал в детстве — все смотрят только на меня. Я — центр мироздания, и вокруг меня вращается погибающий мир.
Луций, брат мой, прекрасный человек, чудесный друг, я так жалею, что ты не со мной — жалею без скорби, с чистой любовью и сочувствием. Я жалею о Красавчике Клодии — он бы понял, что это есть такое: моя любовь.
Обо всех я жалею, кто умер, о тех, кого я знал и не знал, и кто родился и исчез за многие годы до моего рождения во всех ведомых и неведомых царствах, и кто еще родится, и кто еще умрет — и они достойны любви, потому как жизни их, еще не начавшиеся, начнутся и закончатся, и сколько прекрасного погибнет с ними, их движения, их слова, их мысли.
Не хочу, чтобы что-либо погибало, хочу жизни вечной, хочу жизни во плоти, еды и вина, и женщин.
Почему я должен умереть? А почему хоть кто-нибудь должен?
Все время в голове вертятся воспоминания о Цезаре, тут и там всплывают, будто светлячки в темноте, и от них уже не избавишься.
Цезарь не боялся смерти, я никогда не слышал от него такого. Он рассуждал о ней легко, как о некоем простом жизненном событии: человек рождается, взрослеет, стареет и умирает, и ничто в этом ряду не казалось Цезарю лишним.
При этом я не замечал, чтобы у него были какие-либо стойкие убеждения по поводу посмертной участи. Он просто жил, зная, что однажды умрет, как и все мы, но никогда не старался отгородиться от этого знания, ни слава Цезаря, ни победы Цезаря, ни даже острый ум Цезаря не служили этой цели.
Смерть была для него пустышкой.
— Но ты не боишься? — спрашивал его как-то я, вообще-то на войне не принято говорить о смерти, но тогда я не удержался, перебрав с вином и галльскими шлюхами (жизнь всегда кличет свою противоположность, будучи предельно насыщенной). — Разве ты не боишься, что ты стараешься, но все исчезнет вместе с тобой? Ты стараешься изменить мир, но весь мир исчезнет.
Цезарь сказал, очень спокойно (он не перебирал ни с вином, ни с галльскими шлюхами):
— Жизнь продолжится без меня. Я должен гордиться, если оставлю в ней след, но, кроме пустой гордости, это ничего не дает. Победами я хочу сполна насладиться при жизни. После, как я полагаю, исчезнет и хорошее и плохое, и я сам, чтобы отличить хорошее от плохого. С одной стороны, думая об этом, я не боюсь ошибиться и сделать что-то не так. С другой стороны, у любой радости есть срок. И это отрезвляет, когда поиск этой радости становится самоцелью.
О, слова умудренного жизнью мужа. Я не такой, я скребусь, царапаюсь и вою при мысли о том, что меня припорошит пыль истории. Мне вряд ли грозит полное забвение, однако и пищей для новых поколений становиться я не хочу. Я хочу быть, и жить, и просыпаться по утрам, и кричать, и дышать.
Не хочу умирать.
Цезарь же не видел в смерти ничего страшного. Он говорил, что смерть это всего лишь сон без сновидений, от которого тебя никто не разбудит. А спать приятно.
— Я интересовался этим в детстве, — говорил он мне. — Спрашивал у спокойно умиравших стариков. Сначала больно, но потом нападает приятная усталость, и становится все равно. Дальше, как ты понимаешь, они мне не отвечали.
Сначала больно, думаю я теперь, а потом усталость, приятная усталость, как после долгого, хорошего дня, и веки так и смежаются, и падаешь в темноту с приятной оттяжкой, и кажешься себе очень легким.
Но чего Цезарь боялся, так я этого совершенно не боюсь. Цезарь боялся безумия.
— Не смерти, — говорил он в тот вечер. — Боюсь я больше всего, но сойти с ума. Разум, умерший раньше тела, вот истинная трагедия, а в смерти самой по себе ничего страшного нет.
Я все время слушал его, раскрыв глаза и рот, мне очень нравилось, как говорит Цезарь, сам тон его голоса, легкая улыбка, которой он всегда завершал особенно длинную фразу.
— А почему? — спросил я. — Когда ты безумен, кусок тебя ведь остается.
— Это меня и пугает больше всего, — сказал Цезарь. — Кусок меня остается и будет думать, что он — это целое.
Звучало действительно жутковато, милый друг, и я решил не развивать тему. Тем более, что для Цезаря она была тяжелой и близкой. Он страдал мучительными головными болями. Не представляю, что за сила была у этих болей, Цезарь не любил жаловаться, но на лице его я всегда в такие дни улавливал хорошо скрытое страдание, и даже обычная его легкая улыбка, казалось, блекла. Цвета зато вспыхивали перед его глазами. Как-то Цезарь сказал мне, что видит пульсирующие пятна зеленого и красного света, удивительного, божественного света.
Он сказал:
— Они прекрасны. Яркие, как огонь, и хотя от них режет глаза, я счастлив видеть их. Ради них можно претерпеть некоторое неудобство.
Я подозревал, что "некоторое неудобство" — это мягко сказано.
В остальном, Цезарь о своей болезни говорить не любил. И только раз я видел его в столь слабом и жалком состоянии, что мгновенно понял природу всех его страхов. Мы с ним обсуждали план штурма Алезии, в очередной-то раз, и вдруг он упал. Я первым делом подумал, что его отравили, но рабы Цезаря бросились к нему с будничными выражениями на лицах и аккуратно перевернули. Его встряхнуло пару раз, глаза были широко раскрыты, будто у человека, который видит что-то ужасное, а зубы скрипели, крепко сжатые, и из каких-то дальних областей его горла доносилось глухое мычание.
И это — величайший человек на земле. Во всем прахе своем, мычит, зубами скрипит и смотрит в пустоту. Я наклонился к нему, не в силах сдержать волнения, позвал.
Глаза его затуманились, но напряженный рот вдруг расслабился.
— Какого хера вы ничего не делаете?! — рявкнул я. Один из рабов осторожно сказал:
— Сейчас все пройдет, господин придет в себя очень быстро.
В гневе я был скор на расправу, поэтому никому из рабов не хотелось оставить о себе неправильное впечатление, и один из них принялся обмахивать Цезаря раскрытыми ладонями, другой побежал за водой.
Вдруг Цезарь раскрыл рот, и из его глотки вырвалось клекотание, совершенно птичье, никогда прежде не слышал такого странного звука. Потом он сказал:
— Ты обещал мне, что я пойду туда с тобой, но никогда не сделал.
Предложение было несогласованное, странное, совсем ему не свойственное. Я подумал, что он обращается к отцу. Его отец ведь тоже умер рано. Но на самом деле, кто знает, кого Цезарь видел перед собой тогда. У меня хватило совести не спрашивать.
Потом Цезарь пришел в себя. Он выглядел сонным, но только-то и всего, и вскоре посетовал, что ему нужно поспать прежде, чем продолжить работу. Я кивнул. До этой минуты Цезарь ничем не напомнил мне о произошедшем, и только когда я собирался покинуть его, вдруг мягко взял меня за плечо.
— Антоний, — сказал он. — Ты видел мою тайну. Я не беспокоюсь об этом, потому что знаю, что ты не выдашь ее.
О, он знал, как обращаться с этим великолепным Марком Антонием, требовалось сказать только это, и ничего и больше. Как видишь, я поверяю эту тайну лишь бумаге, предназначенной мертвецу, да и то через много лет после смерти Цезаря.
Меня достаточно похвалить, и я сделаю все на свете, вот мое главное достоинство и мой главный недостаток.
— Само собой разумеется, — бодро сказал я. И Цезарь мне улыбнулся.
— Иногда мне снятся кошмары. Они тревожные. Я куда-то бегу, меня зовут, но никогда не дожидаются, и я остаюсь один.
Казалось бы, не самое страшное описание, правда, милый друг? Где же монстры, где стаи волков, настигающие тебя с крепким намерением разорвать на клочки? Однако от слов Цезаря меня пробрала дрожь. Было ощущение — очень одинокое и страшное, во взрослом возрасте мы редко испытываем ужас такого рода.
Я сказал:
— Благодарю тебя за доверие.
И ушел, смущенный, и долго думал, могу ли я как-то помочь этому великому человеку с его великим ужасом. Наверное, самое страшное для Цезаря заключалось в том ощущении — безумие могло запереть в нем Цезаря навсегда.
Но я все равно, хоть убей, ха-ха, не боюсь сойти с ума. Потому что у меня есть четкое понимание того, что я — всегда буду я, и что безумие это тоже жизнь. Не хочу жить опозоренным, не хочу жить проигравшим, но вот обезумевшим я могу провести еще пару десятков лет без особенного напряжения, если считать мое нынешнее состояние предсумасшествием.
А, может, я как всегда не понимаю ничего. И такое бывает. И со мной — часто.
Хотел еще написать о грустном. Вот примерно в это время, как же я тосковал по Клодию, и как не верил, что его нет, и как думал, что он спасся каким-то чудом, и мне снился он, и слышался его голос, и я узнавал его в незнакомых людях. Я верил, что Клодий не мог пропасть бесследно.
С этим мне тоже помог Цезарь. Я думал, что восстание галлов, из-за которого мне и пришлось досрочно покинуть Рим и отправиться обратно в Галлию, здорово меня отвлечет, но этого не случилось. А Цезарь заметил мое плачевное состояние, несмотря на то, что дел у него было по горло. Он сказал:
— Я вижу, что ты несколько печален в последнее время. Это из-за смерти Клодия Пульхра? Она печалит и меня.
— Да, — сказал я. — Мы с Клодием Пульхром не были друзьями, во всяком случае, в последние годы, но теперь я скучаю.
— Знаешь, какая мысль помогает мне в последнее время? — спросил Цезарь легко. Он спокойно оглядывал зеленые галльские луга и небо в бегущих облаках, будто мы говорили о чем-то приятном.
— Нет, не знаю, какая?
— Я думаю, что мы не способны узнать других людей, мы любим, ненавидим, боимся и восхищаемся лишь их смутными образами, доступными нам. Лишь наше собственное истинное богатство души доступно нам в полной мере. Остальных мы видим искаженно.
— Как эти ребята в пещере у Платона? Которые смотрят на тени, а у них за спиной кто-то ходит?
— Да, вроде того.
— Меня всегда так пугал этот пример. Когда мой учитель рассказал мне все это, про тени, и про то, что люди никогда никогда не оборачиваются, мне стало так ужасно, я потом не мог заснуть. Я все думал: что же там на самом деле, что будет, если они обернутся, выдержит ли их разум истинный облик вещей?
— Антоний, — сказал мне Цезарь вполне искренне, безо всякой насмешки. — Ты потрясающе глубоко мыслишь. Примерно это я и имею в виду. Кто знает, как бы мы отнеслись друг к другу, если бы наши души слились.
Я вспомнил Фульвию, и ту ночь под экстази, сердце зашлось радостным биением.
— Но то, что у нас есть — представление о человеке, а не сам человек. И это смерть не в силах забрать у нас никоим образом, во всяком случае, до того, как навестит нас самих. Ты не знал Клодия Пульхра, у тебя было лишь представление о Клодии Пульхре. И оно умрет именно с тобой, а не с ним.
— А как же эта тоска? В сердце?
— О, это говорит в нас животное начало, — сказал Цезарь и плавно перевел тему в другое русло. Стало ли мне легче? Как всегда, когда меня пытался утешить он — нет. Но стало как-то по-иному. Наверное, я обрадовался возможности что-то сохранить, что-то, что неотделимо от меня и пребудет вечно (в моем понятии), пока не исчезнет сам великолепный Марк Антоний. А уж тогда кто-то сохранит свое представление о нем.
Правильным ли оно будет? Нет, как и сказал Цезарь, как минимум неполным. Но оно будет, и его тоже пронесут через свою крошечную вечность.
Ну да ладно, а дальше снова война, где смерть так привычна, что о ней не говорят, и ее не замечают.
Лучше расскажу тебе веселую историю, вот как. Не стоит грустить, не стоит думать о плохом, лучше вспомним с тобой прекрасные времена. Хотя теперь, вдумываясь и раскручивая воспоминание, не знаю, все-таки достаточно ли эта история весела. Ее самая главная часть — торжественна, самая важная — забавна, а начальная — сентиментальна.
Ладно, начнем с сентиментальной части. Через пару лет после смерти Клодия, Цезарь снова отправил меня в Рим.
— Гай Скрибоний Курион, твой друг, один из лучших, насколько я понимаю, — сказал мне Цезарь. — Теперь он народный трибун. Очень упрямый молодой человек, в свое время он попортил мне много крови. Но очень талантливый. И ты имеешь на него влияние, Антоний. Я хочу, чтобы ты донес до него одну простую мысль: я щедрый союзник.
Я умолчал о том, что когда-то Курион сам настойчиво советовал мне принять предложение Цезаря.
— Да, — сказал я. — Упомянуть, что вдвойне дает тот, кто дает быстро?
— Да, — сказал Цезарь. — Упомяни и это.
Курион, думал я, небось уже заждался предложения Цезаря. Он оставался его непримиримым противником, но, как и женщина, когда ее сдерживают рамки приличия, думаю, несколько выдавал себя этой нарочитой непримиримостью.
Тем более, я за него волновался, в последние полгода писем мне от него почти не приходило, а те, что были казались минимально информативными. Три года назад умер отец Куриона, и я думал, что с Куриона станется все еще переживать это. В конце концов, чувства Куриона к отцу были неоднозначны, но глубоки.
Приехав в Рим, я тут же нанес ему визит. Курион жил в доме его отца, и сколь же удивительно было, что дом этот не изменился. Будто Курион-старший выглянет сейчас из окна и крикнет, что мне сюда нельзя.
Я и не подозревал, что Курион способен поддерживать такой строгий порядок.
Он встретил меня радушно, крепко обнял и сказал:
— Как говорил мой папа, нет неожиданного визитера лучше, чем старый друг. Трюизм, конечно, но главная тут часть, в которой это говорил мой папа.
Курион вообще взял за правило то и дело поминать отца. Было в этой привычке что-то и жутковатое, и очень грустное. Слова его Курион часто критиковал, но повторял их с удовольствием, и так до конца и его короткой жизни.
— Друг мой, Антоний, — говорил Курион при встрече. — Дорогой друг!
— Ого, — сказал я. — Какое многообещающее начало. В конце разговора я тебе дам по морде, что ли?
— Может быть, может быть, — сказал Курион. — Это вовсе не исключено. Я долго думал врать тебе до последнего, но, раз уж ты здесь, я решил быть с тобой честным.
— Похвально для друга, — сказал я. — Молодчина, так держать!
Курион поцокал языком.
— Как говорил мой отец…
— Вали отсюда, Марк Антоний!
— Да, так он тоже говорил, безусловно.
— Вот это "безусловно", оно у тебя точно получилось, как у твоего отца. Та же интонация.
— Правда? — спросил Курион с улыбкой.
— А то, — улыбнулся я. — Он бы гордился. Старик был на редкость себялюбив.
— Не так себялюбив, как ты.
Мы засмеялись, но вдруг Курион опустил голову и принялся ожесточенно тереть запястье.
— Я хочу, чтобы ты сам все увидел.
— Что? У тебя что страшная новая шлюха? Такая крокодилица, что нужно к этому зрелищу особенно готовиться? Слушай, я прямиком из Галлии, там есть два типа женщин: крокодилицы и мертвые крокодилицы. Если она не мертвая, я ее трахну, не парься.
Курион толкнул меня локтем в бок.
— Все, прекрати, Антоний. Я серьезно. И она очень красивая. Просто, она…
— Мертвая?
— Это-то ты с чего взял?
— Не знаю, что-то в тебе есть сейчас такое недоброе.
Наконец, Курион быстро посмотрел на меня. Взгляд был виноватый.
— Все, друг мой, никаких разговоров. Если захочешь уйти — уходи. Уходи, и я все пойму.
— Я тут по делу, — сказал я. — Так что сразу не уйду.
— Если захочешь убить меня, я…
— Все поймешь?
— Нет, я трибун. Ты просто не можешь этого сделать. Я неприкосновенен.
— Спасибо, что напомнил.
Не буду тебе врать, милый друг, я изрядный тугодум, так ничего и не понял. Потом мы зашли в дом, и я увидел Фульвию. Она была беременна и непрестанно поглаживала живот в этой своей небрежной манере, о чем-то разговаривая с рабыней.
Когда мы вошли, Фульвия сказала, как ни в чем не бывало:
— О, привет, Антоний!
Курион прокашлялся.
— Словом, она теперь моя жена. Да, Фульвия. Моя жена. Интересно-то как жизнь складывается, а?
Я повернулся к нему. Должно быть, он вспомнил многочисленные рассказы о том, как я с мечом в руках бегал за Клодием по Форуму.
Курион почесал голову, тяжело вздохнул.
— Да. Мы, кстати, счастливы вместе. Она беременна.
— Я заметил, — ответил я.
— Ну, — сказала Курион. — Давай уже. Разозлись.
А я стоял и думал, почему мне не так больно, как должно было быть? Наверное, от меня ожидали, что я кинусь в драку или буду орать, или крушить вещи, все это было вполне в моем стиле. Но я стоял и улыбался.
И почему-то мне на самом деле, если и было больно, то только чуть-чуть. Безо всякого подлинного великого чувства.
Я столько лет любил Фульвию, и весь Рим был проклят для меня из-за нее. А теперь она беременна от моего лучшего друга, она его жена. И я — что? Ничего.
Я сказал:
— Счастья вам.
— Что? — спросил Курион. Фульвия вскочила и быстро, как для ее положения, оказалась между нами.
— И все? — спросила она.
— А чего еще-то? — пожал я плечами. — Ну, можем втроем потрахаться. Хотите?
Они переглянулись. И, я отметил, очень ладно, как супруги, которые во всем друг друга понимают.
Я сказал:
— А у тебя, Фульвия, страсть к народным трибунам.
— Выходит, что так, — ответила она.
Мы еще помолчали. Из светового люка падал на Фульвию прекрасный золотой свет, она казалась богиней. Но этой богине я более не поклонялся.
Курион спросил:
— И это правда все?
— Выходит, что так, — повторил я слова Фульвии. — Ну что, поужинаем? За столом?
— Нет, — сказал Курион. — Фульвия уже поела, пойдем поговорим о делах, перекусим и выпьем вина.
Фульвия сказала:
— Рада видеть тебя в добром здравии, Антоний. В самом деле. Я беспокоилась за тебя.
— Да, — сказал я. — Причины у тебя были. Как-нибудь расскажу отличных историй, от которых волосы встают дыбом везде.
— Ты все такой же дурак.
— Я — да. А вот Курион, он умный. Я с ним должен поговорить, как дурак с человеком умным. Надеюсь, потом ты к нам присоединишься.
Я думал, что в какой-то момент все-таки испытаю страшную ярость, и не хотел, чтобы Фульвия это видела. Не в том она положении, чтобы смотреть, как я дам в морду ее мужу, второй раз в жизни совершив одно и то же святотатство.
— Одному трибуну я уже ебнул, — сказал я задумчиво.
— Что? — спросил Курион. Я засмеялся.
— Смотри-ка, напрягся! Да ты ж не Клодий, ты на меня стуканешь.
Некоторое время мы возлежали в триклинии молча. Я смотрел в густую красноту своего вина, а Курион нервно ел виноград, когда виноградины падали, их тут же поднимал старый раб и прятал в сухой кулачок. Я вот глядел на старого раба, а на Куриона старался не смотреть.
Но все-таки выходило так, что тревога оказалась ложной. Я не злился на него, и все на этом. Ну, был раздражен, может, обижен, но меня не корежило от ярости.
Наконец, я сказал:
— Цезарь велел передать тебе кое-что, чего ты очень ждал.
— Правда? — спросил Курион.
— Да, — сказал я. — Он бы хотел видеть народного трибуна на своей стороне. Тем более, что справедливость — его главная забота.
— Хотел бы? — спросил Курион так рассеянно, что я даже стал сомневаться, а был ли у нас какой-либо разговор об этом прежде.
— Да, — сказал я. — Твоя обязанность — защищать простой народ от посягательств богачей, Цезарь поддерживает твою священную миссию, полагает тебя талантливым и предлагает тебе дружбу.
— Надо же, — сказал Курион. — Как интересно.
Он подбросил виноградину и поймал ее ртом.
— Не подавись, — сказал я. Курион тут же смутился, приняв эту простую фразу за свидетельство моей злости.
— Ты, наверное, очень голоден, — сказал Курион. — Мы тебя не ждали, но обед скоро подадут.
— Жду и не могу дождаться, — сказал я. — И Цезарь тоже ждет и надеется дождаться твоего ответа в самое ближайшее время. Он щедр, когда дело касается его друзей, в скупости его не упрекнет и злейший враг. И более всего он щедр, когда друзья приходят ему на помощь вовремя. Потом он щедр тоже, но уже не так.
Курион помолчал, потом лицо его просияло, улыбка была радостной и жадной.
— Я же говорил! — сказал он. — А был бы я на его стороне с самого начала, не вставлял бы ему палки в колеса…
Он осекся:
— То есть, о какой сумме идет речь?
Я потянулся к нему и прошептал цифру. Глаза Куриона загорелись.
— Твою ма-а-ать, — протянул он. — Ну вот видишь! Таких бы денег я точно не получил! Быть раскаявшимся врагом выгоднее, чем верным другом.
Я сказал:
— А еще тебя могли убить.
— Цезарь? Нет. Он не того сорта человек. Страх — не его оружие.
Курион перевернулся на кушетке, потянулся, жутко довольный собой.
— Как по нотам, — сказал Курион. — Да и тебе Цезарь поставит в заслугу мою податливость. Вроде как, это ты склонил меня на правую сторону. Ах, какой молодец…
— Этот великолепный Марк Антоний, — закончил я, и мы засмеялись. Тогда я понял, как скучал по Куриону.
— Ну, — сказал Курион. — За то, как хорошо все обернулось. Считай, мы теперь с тобой в одной команде.
— Радость-то какая, — сказал я.
И вдруг почувствовал, что да, радость. Что бы там ни было, а я скучал.
Через пару кубков неразбавленного вина, я сказал Куриону доверительно.
— Я очень виноват перед нашим другом Клодием. Правда. И я ужасно теперь стыжусь. Я не заслуживаю Фульвии, а ты — будь счастлив. Как ты полюбил ее?
Тут Курион густо покраснел.
— Незадолго до отъезда в…
— Понятно, — сказал я. — Значит, и ты предатель. Хороши дружки, да?
— Это все она.
— Ну да, конечно, — сказал я. — Бессердечная соблазнительница схватила тебя за яйца.
Курион потупился. Он сказал:
— Ну да. Ты прав. Говно мы с тобой, а не люди.
— Да уж, — сказал я.
— Но тебе, наверное, хуже. Ты пытался его убить.
— Спасибо, что напомнил.
Мы снова засмеялись, на этот раз горько. Но было в этом своего рода облегчение, наша боль, поделенная на двоих, и наша вина, поделенная на двоих, все оказалось переносимым.
В общем, мы приятно так посидели, повспоминали старое, повспоминали Клодия.
Курион предложил мне остаться на ночь, но я покачал пальцем перед его носом.
— Глупый Курион. Клодий тоже как-то предложил.
— Я помню эту историю, — сказал Курион. — Но я верю, что ты так со мной не поступишь, друг.
— Ну, — сказал я. — Предупрежден, значит вооружен.
Но заснуть я все равно не мог. Как-то стало муторно от вина, да и настроение так же быстро и внезапно испортилось, как и повысилось.
Я вышел в сад, лег на скамейку под звездами и стал смотреть на серп луны. Я дорисовывал его пальцем, пока не вышло воображаемое полнолуние.
О этот глупый Марк Антоний, он ничего не понимает даже в самом себе. И почему он злится, ему непонятно, и почему не злится — непонятно тоже.
Я лежал там и знал, каким-то особым чувством, которое люди используют в основном в театре, знал, что она выйдет. Чувство сцены, да? Чувство истории.
И Фульвия вышла. Она была босая, в одной ночной тунике.
— Не простудись, — сказал ей я. И она пообещала, что не сделает этого.
— Почему не спишь? — спросил я.
— Мелкий Курион не желает спать ночью, — сказала Фульвия. — Потрогать хочешь?
— Да не особенно, — сказал я. — Я трогал у первой жены живот, когда там был мой ребенок. А потом она умерла.
— Ненавидишь меня? — деловито спросила Фульвия. — Поэтому так и говоришь?
— Ничуточки, — ответил я честно. — Просто боюсь трогать.
Фульвия подошла ко мне, поглядела на меня сверху вниз.
— Я люблю Куриона, — сказала она. — Пока тебя не было, многое успело перемениться.
— Да, — сказал я. — Сколько лет прошло. Но ты еще красивая.
— Еще? — Фульвия вскинула рыжую бровь. В странном свете ночи она казалась мне красной.
Я сказал:
— И, наверное, всегда будешь красивой.
— А у тебя глаза такого орехового цвета, мне это всегда нравилось. Понимаешь?
Я покачал головой.
— Теплый взгляд, — сказала она. — Добрый, нежный. Ну да ладно. Ты тоже не особенно изменился. В этом и твоя проблема.
— Ну-ка, удиви меня.
Фульвия пожала плечами.
— А ты сам, я уверена, все знаешь. Я становлюсь старше, а ты нет.
— Это хорошо или плохо? — спросил я, привстав на скамейке.
— Так просто есть, — ответила мне Фульвия. — И поэтому мы не будем вместе.
Мы помолчали. Что-то осталось, но это так мало, не искра даже, а так, легкий всполох света, которого, может, и нет вовсе.
Я спросил:
— А ты любила Клодия?
И Фульвия сказала:
— Конечно. Я бы никогда не родила ребенка человеку, которого не люблю, а тем более — двоих.
— Значит, и Куриона любишь.
— Люблю, — сказала Фульвия, рассматривая свои ноготки с блестящим в лунном свете лимонным лаком.
— Знаешь, — сказала Фульвия. — Что я делаю, когда он не может заснуть? Мелкий Курион, я имею в виду.
— Без понятия, — ответил я.
— Выхожу сюда и делаю вот так вот.
Она принялась легонько, осторожно кружиться, ее маленькие босые ножки быстро переступали по земле.
Я сказал:
— Должно быть, у него кружится башка.
Фульвия не обращала внимания. Она кружилась и кружилась, и я видел, как капли росы срываются с травинок и падают на ее ступни. Наконец, она остановилась, приложила руку ко лбу и упала бы, может, если бы я не вскочил со скамейки и не подхватил ее.
Она сонно улыбнулась мне.
— Спасибо, Антоний. Я справилась бы и сама.
Я посмотрел на ее живот. Интересно, подумал я, девчонка там или мальчик, как Фульвия и думает?
Маленькая жизнь.
Мы на пару минут замерли так, а потом я ее отпустил.
— Он успокоился, — сказал Фульвия. — Это его развлечение, и оно его умотало. Только тебя не выбивают из сил развлечения, Антоний.
И она пошла в дом, а я остался сидеть в саду. Напоследок я сказал ей:
— Будь счастлива, правда.
И Фульвия сказала, совершенно так, как сказал бы Клодий:
— Да не вопрос вообще.
И ушла, а я остался с тем, что почувствовал и увидел.
Когда я вернулся к Цезарю, он сказал мне:
— Прекрасная работа, Антоний. Поддержка Куриона нам очень важна. Он, как трибун, может многое сделать для нашего дела. Да и вообще, это очень талантливый человек. Я искренне им восхищаюсь.
— Да ладно, — проворчал я. — Курион совсем не идейный. Это все деньги.
Цезарь очень внимательно посмотрел на меня и улыбнулся.
— Важна сила, с которой ты способен на действие, а не его причина. Во всяком случае, для меня. Человек, совершающий невозможное исключительно ради денег мне куда милее верного соратника, не способного на большой поступок. Курион, как я понимаю, человек первой категории.
Сперва я помолчал, не вполне уловив его ход мыслей.
— То есть, тебя восхищают мерзавцы? — спросил я, наконец.
— Если они достаточно страстно делают мерзости, то, пожалуй, так. Таковы некоторые женщины, и в таких я влюблялся наиболее страстно.
Этот разговор был неожиданно для Цезаря развязным, и я не упустил случая спросить:
— А я к какому типу людей отношусь по-твоему?
— Именно к такому, к которому я питаю уважение. Ты способен на большие поступки просто из прихоти. А чем незначительнее причина, тем больше кажется поступок.
Я почувствовал огромную радость от его слов, и еще долго повторял их про себя.
Судя по всему, милый друг, Фульвия и вправду очень любит народных трибунов. Смотри как интересно получается: Клодий побыл трибуном, побыл им и Курион, потом я, а потом ты, вот такая вот история, и со всеми нами она крутила любовь. Интересный у тетки фетиш, а?
И все-таки, сколько бы ни смеялся я над ней и не ругался — никуда мне от Фульвии не деться.
Ну да ладно, ближе к тому, как я был трибуном. Скажу тебе так: должность эта, хоть она и почетная, меня особенно не привлекала. Очень здорово быть трибуном, но удовольствия от этого куда меньше, чем, к примеру, от бытия консулом.
Да и все происходившее в сенате казалось мне сущим хаосом.
Знаешь, что я помню из тех времен лучше всего? На заседаниях сената, когда все эти озлобленные деды (не только, но допустим небольшое преувеличение для комического эффекта) начинали друг на друга орать, я старался незаметно развернуть шоколадный батончик, его яркая упаковка хрустела и блестела, а шоколад пах так замечательно. Кроме того, можешь себе представить мой ужасный голод.
Но стоило мне откусить кусочек, как все взгляды вдруг, как на зло, обращались ко мне.
— Что? — спрашивал я.
Очень неловко. Курион говорил мне:
— Если ничего не понимаешь, а ты ничего не поймешь, просто кричи: вето! Всякий раз, когда слышишь слово "Цезарь"!
— А если говорят, не знаю, о Луции Цезаре?
— Да кому он нужен?
Выборы были самой приятной частью всей этой истории, я купался в народной любви, обещал, улыбался, красовался, словом, делал все, что я люблю. Конечно, я был уверен, что меня изберут. Все-таки Цезарь купил для меня эту должность. Суровая правда жизни такова, Луций, тебя тоже любили, ты тоже что-то обещал, но трибуном ты стал благодаря мне.
Ну да ладно, и какой из меня вышел трибун? Какой великолепный защитник слабых этот Марк Антоний, он не даст и мыши проскользнуть без его ведома.
Единственное, что неподвластно ему в политическом смысле — это проклятый шоколадный батончик, который шуршит так громко и привлекает к нему всеобщее внимание.
Сама римская политическая жизнь мне нравилась. Дерущиеся деды, всеобщее напряжение, горячие споры по поводу всего на свете от акведуков до Помпея.
Конечно, я предпочел бы, чтобы старички проявляли больше уважения, или перерыв на обед, или чтобы они говорили помедленнее. Вообще были в моем трибунате некоторые загадки. Я прекрасно понимал, почему меня выберут: ну как меня такого не выбрать, я так обаятелен, доброжелателен и прекрасен, а кроме того, отлично говорю. Ну, и должность уже куплена.
Однако после выборов начиналась настоящая работа, к которой я, вечно голодный, невнимательный, несдержанный, недальновидный был приспособлен мягко говоря не слишком хорошо.
Теперь я думаю, что именно такой я и был нужен Цезарю, не кто-нибудь поприличнее, а я, я, я и еще раз я, красноречивый и недальновидный, способный развести много шума из ничего, раздражающий и привлекающий внимание.
Такой я отлично подходил для начала вечеринки, которую задумал Цезарь. Это и обидно и весело, не знаю, во всяком случае, я рад, что со мной такое случалось. И что я, убивавший людей направо и налево несколько лет подряд, все еще мог быть смешным.
Цицерон частенько говорил что-нибудь в этом роде:
— А наш народный трибун Марк Антоний, имеются ли в его голове какие-либо мысли на этот счет?
И вообще какие-либо мысли? Это, как я понимаю, подразумевалось.
— Да, — говорил я в том же тоне. — Великую мудрость скажу я вам, я за все предложения, которые мне нравятся, и против тех, которые не нравятся мне.
Цицерон вообще частенько меня дразнил. Мне, милый друг, так хотелось врезать этой скотине да посильнее, что сводило зубы, и кулаки сжимались против воли. Но я терпел и улыбался. Отдельно это было обидно потому, что сенаторы могли устроить шумную драку по-любому поводу, включая ремонт акведуков или реставрацию фронтона какого-нибудь храма. Причем момент, когда горячий спор переходил в форменный беспорядок, я всегда упускал. Эти степенные мужи вдруг начинали кидаться друг на друга, словно свора диких псов, и слышались лишь отдельные возгласы среди которых акведукам, уверяю тебя, отводилась очень незначительная роль.
Я бы с радостью поучаствовал в такой свалке, развлечение для великолепного Марка Антония, но Цезарь, а затем и Курион велели мне вести себя максимально дружелюбно. Я справлялся. Даже когда Цицерон в лицо сказал мне, цитирую: если бы твой талантливый отчим, Марк Антоний, так же часто забивал себе рот едой, как ты, может быть, его судьба сложилась бы не так печально.
Сказал мне это Цицерон после заседания, и никто не слышал нас. Я подумал: что мне стоит сейчас, паскуда, наклониться и откусить тебе нос. Что касается Цицерона, у меня всегда были насчет него каннибалистические метафоры, уж не знаю, почему. Может, вражда у меня к нему такая первобытная, кровная вражда, какая только может быть к убийце твоего отца? Как думаешь?
Но, если ты считаешь, что моей главной задачей во время заседания сената всякий раз было незаметно развернуть шоколадку, то ты прав, но не совсем.
Голова у меня работала как надо, я вел себя еще более бестолково, чем от меня ожидали, и очень скоро сенаторы перестали воспринимать меня всерьез. Я, между тем, все слушал очень внимательно и передавал подробные отчеты Цезарю.
Как-то раз я разворачивал свою шоколадку с нугой и орехами, и вдруг, представляешь, услышал предложение консула Марцелла направить новенькое, свежеиспеченное, только что сформированное войско Помпею. Быстренько оценив перспективы такого решения, я сказал:
— При всем уважении в консулу Марцеллу, — и спрятал початый батончик под складки тоги, улыбнулся. — Не нужнее ли эти свежие силы военачальнику Бибулу, который как раз сейчас отстаивает интересы нашего государства в войне с парфянами? Насколько я понимаю, ситуация на фронте сложилась непростая, и подкрепление бы не помешало.
Сенат сколь угодно долго и цветисто можно называть собранием старых дураков и педерастов, однако в чем им не откажешь, так это в патриотической ненависти к парфянам. Мое предложение было встречено весьма громким одобрением. Я улыбнулся и вытянул затекшие ноги.
— Да, — сказал я. — Как защитник народа, я думаю о том, чего чает народ, о победе над парфянами, возвращении наших орлов, утерянных Крассом, и расширении нашего влияния.
Очень хотелось побегать. Я вообще-то подвижный, ты знаешь, и мне тяжело давались заседания в сенате. Потому что побегать там можно было только от ответственности.
После заседания ко мне подошел Цицерон.
— Думаю, — сказал он. — Антоний, тебе кто-то подсказал это решение.
— Нет, — сказал я просто так, смеху ради. — Я был осведомлен заранее, что все получится именно так, и две недели без отдыха думал, как же мне поступить. Наконец, когда я протрезвел, в моей голове зародилось патриотическое решение, которое, как я полагаю, одобряешь и ты.
Цицерон нервно махнул рукой (он весь был такой степенный до первого же импульса, заставлявшего его дергаться, лебезить, расхаживать по комнате), потом приобнял меня за плечо.
— Антоний, — сказал он. — Ты в некотором роде исключение из правил.
И все, он не добавил более ничего. Братец, я долго ломал голову над тем, что Цицерон имел в виду. Теперь я думаю, что наш дружок подразумевал неприкосновенность трибунов, которая в моем случае может оказаться не такой уж надежной.
Сам титул трибуна мне ужасно нравился. Я полагал себя защитником римского народа в самом что ни на есть реальном смысле. Я защищал римский народ на войне, и я защищал интересы Цезаря, который, уж куда лучше меня, позаботится о римском народе.
Скажу тебе так, милый друг, смерть Цезаря — величайшая трагедия нашего времени. Ни я, ни Октавиан, ни кто либо другой уже не дадим того, что не успел Цезарь, этот человек, действительно способный реформировать прогнивший старый мир. И Октавиан и я хороши лишь тем, что оставил нам Цезарь, его мыслями, его идеями.
Что касается меня, я желаю лишь быть Новым Дионисом, Подателем Радости. Быть щедрым, этого достаточно. Больше я ничего не умею.
Ну так вот, с тех пор, как я отлично симпровизировал про Бибула, ушки я старался держать на макушке и внес еще пару дельных предложений. Вдруг выяснилось, что я не только неусидчив и прожорлив, но и обаятелен, и красноречив, и, временами, очень сообразителен.
Кое-кому я понравился, и мне даже удалось привлечь нескольких людей на сторону Цезаря.
Затем Цезарь написал мне примерно следующее:
"Дорогой мой Антоний, я в тебе не ошибся. Ты в равной степени подходишь и не подходишь для роли, которую я отвел тебе, а ведь только такой человек может добиться нужного нам эффекта. Я благодарю тебя за верную поддержку и аплодирую твоему ходу с Бибулом. У меня будет к тебе просьба, дорогой друг, прошу тебя, пользуясь твоим положением, прочесть мои письма. Тебя будут перебивать, но я знаю тебя, как страшного упрямца, прояви это качество и теперь. Читай, что бы ни случилось, даже если сам Юпитер примется метать свои жестокие молнии. И дочитай до конца. С этим письмом посылаю тебе ящик отменного шоколада. Конечно, все обертки очень шуршат.
Будь здоров!
Твой друг,
Гай Юлий Цезарь."
Я чувствовал себя польщенным. Цезарь это умел, знаешь ли, заставить тебя ощутить себя нужным, дать тебе ощущение, что даже хрустишь обертками от шоколада ты в своей жизни не зря. Это очень важно, и это то, что сделало его великим, и что неустанно придавало сил его сторонникам.
Разумеется, я тут же удвоил свои силы и принялся слушать все-все, что говорят, даже самые скучные и нудные сводки о строительстве. А когда Курион привез мне письма Цезаря, которые необходимо было зачитать, я чувствовал себя едва ли не Меркурием, посланником богов. Это было нелегко, мне пришлось весьма постараться, чтобы меня выслушали.
— Уважаемые сенаторы, — сказал я. — Всякий раз я слышу столько горьких упреков и открытой ненависти по отношению к проконсулу Галлии. На мой взгляд, эта ненависть несправедлива, но я вряд ли могу переубедить столь мудрых и опытных мужей. Однако Цезарь не чета мне, он умен и дальновиден, и справедлив. Многие его противники, возможно, таковыми являются из-за недостатка сведений о его истинной позиции, которая далека от того, что рисуют ненавистники.
И все такое, милый друг, и все в этом духе. Я предварил выступление столь смиренными словами, что эта воинственная шваль, преисполнившись достоинства и милости, согласилась послушать меня.
Скажу тебе честно, выдвигаемые Цезарем требования были вполне справедливы.
— Разве? — писал он. — Не минимальны мои желания по сравнению с тем, что я сделал для Рима и его безопасности. Разве заочные выборы не будут честным компромиссом, который откроет истинные желания народа? И разве не готов я уступить большую часть своего войска ради мира и безопасности, и ради того, чтобы потушить страхи мои оппонентов? Я знаком с ужасом гражданской войны, и больше всего на свете я хотел бы ее избежать, добиваясь разумного компромисса. Однако разумный компромисс не чета лживой уступке или унижению. Как человек, искренне служащий Риму, я требую лишь соблюдения своего права быть избранным. На моих же оппонентов я не держу зла, ими руководит страх, который, в свете нашей бурной истории, вполне ожидаем. Я понимаю и уважаю эти патриотические чувства, продиктованные страхом за судьбу своей страны, однако не желаю думать, что страх не может быть развеян логичными и последовательными доводами, которые я готов предоставить.
Читал это все, конечно, я с присущей мне страстностью. Из уст Цезаря все звучало бы спокойнее и рассудительнее. Я же испереживался за судьбу Цезаря, за все те несправедливости, что ему приходилось претерпевать от сената, и речь вышла слишком горячая, даже осуждающая.
Сначала я думал, что все запорол, но после заседания многие люди подошли ко мне и выразили свою симпатию Цезарю. Я и это посчитал своей величайшей победой, хотя никакого официального ответа на это вполне мирное письмо мне не дали. Пусть автором писем являлся непревзойденный Цезарь, мой артистический гений донес его слова до некоторых не слишком черствых сердец.
Впрочем, несмотря на это, снова возникло предложение о принудительном разоружении Цезаря. Не в первый, надо сказать, раз. Курион сталкивался с той же самой проблемой. И у него было отличное решение, которое не сработало. Курион предложил разоружиться и Цезарю и Помпею, однако в сенате царил такой хаос, что дальше выяснения отношений дело тогда не пошло, и голосование (с большим перевесом в сторону Куриона) не было официально учтено.
Я решил воспользоваться прекрасной идеей, правда, пришлось ее несколько доработать. В основном, громкостью голоса и стуком по скамье.
— Уважаемые! — кричал я. — Я все понимаю, разоружение Цезаря звучит как справедливое требование! Но не в одном ли положении находились когда-то Цезарь и Помпей, и не представляет ли Помпей такую же опасность, оставаясь вооруженным. Волка вы поставили защищать вас от волка, но кто гарантирует, что, разобравшись с противником, он не обернется против своих кормильцев? Может быть, разумнее было бы разоружиться всем. Таковым и стало бы торжество законности и Республики, где главенствует не сила оружия, но сила слова, и где лучшие люди страны не вынуждены прятаться за спинами военачальников для того, чтобы вести честную политическую жизнь и не бояться гражданских войн. Именно разоружение обеих сторон будет шагом к верховенству права, шагом к Республике, которую задумал когда-то Брут, и которую шлифовали и оттачивали многие поколения до нас.
— Антоний! Антоний!
И восхваляли мой политический ум, между прочим.
Курион, чье, точно такое же, предложение когда-то не было услышано был от зависти потом весьма зеленый. Народ требовал немедленно дать моему проекту официальный ход и начать голосование, однако его заблокировали консулы.
Суки вы, думал я, а я так старался. Однако, вместо этого я выкрикнул, что все еще считаю и буду настаивать, как народный защитник, что именно для народа лучше всего будет обоюдное разоружение.
Между тем, весьма благосклонный к Цезарю, мой народ писал на стенах "никогого мира и взоимных уступок". Орфография моих подопечных сохранена, как ты понимаешь, в полной мере.
Сенаторы, и это их большая проблема, живут в вакууме среди себе подобных, и думают, что могут распространить свои элитарные настроения на весь мир. А это неправда. На улицах все уже давно было решено, только в сенате об этом не знали, потому что из носилок плоховато видно, что люди на заборах пишут.
Но, наконец, произошло то, чего мы с Курионом ждали с самого начала. Мразотный этот мужик Катон, образец тупорылого благочестия и упрямой злобы, все-таки провел чрезвычайный закон. Я и мой соратник Лонгин, тоже трибун, и тоже верный друг Цезаря, пытались наложить вето, но кто бы нас слушал?
Согласно этому закону Помпей наделялся чрезвычайными полномочиями для уничтожения мятежника Цезаря.
Нет, ты представь. Они сами наделили Помпея чрезвычайными полномочиями. Повернись история чуточку по-другому, и им пришлось бы наплакаться, их решение еще долго отдавалось бы в старых костях большой болью.
Угадай, кто дал нам жесткий ответ?
Да-да, это он, герой дня, Катон. Великий стоик, готовый сражаться за свою Республику, пока седые муди не отпадут с концами.
Он сказал, и сказал это именно так:
— Пусть трибунат и священен, но его представители, купленные мятежником Цезарем, заслуживают немедленной расправы. Эти люди позорят саму должность, которую занимают, большим святотатством будет позволить им и дальше вылизывать пятки Цезаря, чем скинуть обоих с Тарпейской скалы.
Тут мы обалдели с этим парнем Лонгином не на шутку. Он, вроде как, перетрусил, а я заорал:
— Чего ты, блядь, сказал сейчас, мудозвон?! Я не понял, ты посягаешь на священную неприкосновенность народного защитника? Да тебя самого с Тарпейской скалы нужно скинуть, и выблядков твоих всех туда же, и выблядков их выблядков, чтоб, не дай то Юнона, род ваш паскудный не восстановился ненароком!
Лонгин прижал руку ко рту, глаза Куриона расширились, одними губами он сказал:
— Еб твою мать, Антоний.
Я плюнул Катону под ноги, а он уже набрал было воздуха в грудь, чтобы ответить мне яростной отповедью (видимо, предваряющей мою передачу под стражу), как Курион схватил меня за руку.
— Валим отсюда! — прошептал он.
— Да я его голыми руками сейчас задушу! — орал я. — Ебал я твою мать, Катон, и твоих наебышей, и жен твоих наебышей, а твою сестру ебал сам Гай Юлий Цезарь!
— Антоний! — заорал Курион, и я, оценив обстановку, понял, что действительно пережал. Тогда мы побежали.
Впрочем, я считаю, что это был лучший мой день в сенате. Терять нам резко стало нечего, и на бегу я кричал, что убью Катона, убью Цицерона, убью всех их подсосков, а потом буду трахать их симпатичных дочек и страшных жен.
Признаю, Луций, выглядело это менее внушительно, чем если бы я стоял на месте.
Лонгин чуть ли чувств не лишался, Курион шептал ругательства, а я все продолжал неистовствовать, пока Курион не схватил на бегу чашку с горячей водой с лимоном, которую продавал какой-то мужик, и не вылил ее содержимое мне в лицо.
— Очнись, идиот тупорылый! — заорал Курион.
— Весьма печально, — сказал Лонгин. Ты его, наверное, помнишь, длинный, похожий на призрака, всегда грустный и нервный человек с язвой желудка.
Так вот, он сказал, задыхаясь:
— Весьма печально. А я хотел в Байи съездить. Теперь не съезжу.
До ночи мы прятались у Лонгина. Его мать, такая же длинная призрачная женщина, все время приносила нам что-нибудь поесть в надежде подслушать наши разговоры.
Но, на самом деле, они были не очень-то примечательные.
В основном, Курион обхватывал голову руками:
— Все было очень плохо, но ты, мать твою, ты сделал все еще хуже! Поздравляю!
Лонгин молча ел пульс, на что угодно другое, кроме этой нехитрой каши, у него не хватало желудка. Когда я спросил его:
— А ты что думаешь?
Он повторил:
— Весьма, весьма печально.
Помолчав, он добавил:
— Но что уж теперь делать?
— Да, — сказала его мать. — Что вам делать, Квинт? Надо подумать. Прошу прощения, друзья, я лишь проверяю, достаточно ли у вас всего.
Я широко улыбнулся ей.
— Спасибо за твою заботу. Мы очень признательны.
— Я бы на твоем месте был бы так вежлив с Катоном, — сказал Курион.
— С этим…
— Тише, — сказал Лонгин. — Не при маме.
— Но, друзья, нам действительно нужно уезжать, — сказал Курион. — Сегодня же ночью.
— Если мне будет позволено высказаться, — осторожно начала мать Лонгина. — Вам необходимо переодеться во что-нибудь неброское.
Она вздохнула.
— Вроде рабского платья.
— Отличная идея! — сказал Курион. — От этой женщины больше пользы, чем от вас обоих, народные защитники.
Я сказал:
— Не зли меня, Курион. Мне не хватает сегодня крови.
— Откусишь голову Катону при следующей встрече, — сказал Курион. — Это тебя изрядно взбодрит, дружочек.
Он поднялся на ноги:
— Решено, обрядимся в рабов и поедем к Цезарю. Пусть он знает, что эти скоты объявили ему войну.
Лонгин сказал:
— Как бы нас не выудили отсюда до заката.
— Не, — сказал я. — Кишка тонка.
— Так вот в чем причина твоей самоубийственной тупости, — сказал Курион. — У них, оказывается, кишка тонка.
— А ты, умник, что ж ты молчал?
— Я понимал, к чему все идет. Я понимал, что они выдадут Помпею чрезвычайные полномочия, и вы с этим сделать ничего не сможете. Я был трибуном до тебя, если помнишь. И я знаю, как это работает.
— Знаток, тогда почему ты был таким хреновым трибуном?
— Я не был хреновым трибуном.
— О, нет, ты был. Ты был самым хреновым трибуном после…после…
— Вот! Ты плохо знаешь историю! Назови хоть одного трибуна, кроме себя, меня, Клодия и Лонгина!
— Гракх!
— Ну, и еще! Это все знают!
— Брат Гракха, второй Гракх!
— Ребята, — сказал Лонгин тихо. — Давайте не будем ссориться. Нам и без того пришлось весьма нелегко. И еще придется.
— Ты так пессимистично настроен, — сказал я. — Прошу прощения, мама Лонгина, а у тебя есть что-нибудь кроме еды? Выпить, там?
Мать Лонгина скрылась на кухне, а я откинулся на ложе.
— Боги небесные, как же нам теперь сказать все Цезарю!
— Ты, должно быть, решил объесть Лонгина, потому что переживаешь о грядущих лишениях? — спросил меня Курион.
Я хлопнул рукой по столу, так что тяжелые металлические кубки подскочили.
Лонгин вздохнул.
— Ну, объесть — не слишком подходящее слово. Я всегда рад угостить друзей.
— Все, Лонгин, — сказал я. — Мои поздравления, теперь ты мой лучший друг. Думаю, мы с тобой проживем, может, и не долгую, но счастливую жизнь, и у нас будет полное взаимопонимание.
— Вперед, — сказал Курион. — Аж от сердца отлегло.
Примерно в этом духе все и продолжалось, пока мы, переодевшись в рабские одежды, не покинули город и не отправились прямиком к Цезарю в дрянной, дряхлой повозке. Три дня мы тряслись в этой старой, скрипучей повозке, дрожали от холода и делали знаешь что?
Мы ругались.
Путь до Равенны был неблизкий, а сидеть приходилось тесно, чтобы не замерзнуть окончательно. Думаю, в жизни Лонгина это было одно из самых неприятных путешествий.
— Ты идиот, — говорил Курион. — Идиот, идиот, идиот ты, нахрен, такой идиот, даже слов у меня нет. Зачем я связался с этим идиотом?
Я некоторое время молчал, а потом пытался выкинуть Куриона из повозки, она качалась, Лонгин старался оттащить меня от Куриона, а возница, спокойнейший человек, которого я видел в этой бурной жизни, продолжал свой путь.
Потом я сказал:
— А ты трахнул любовь всей моей жизни. Ты женился на ней, хотя прекрасно знал, как я люблю Фульвию.
— Ах вот что? Так в этом все дело, да? Ты все-таки злишься, но ты мне не говорил, да? Ты решил всех нас подвергнуть опасности, чтобы отомстить мне?
Лонгин сказал:
— Справедливости ради, Катон угрожал скинуть нас с Тарпейской скалы до того, как Антоний сорвался.
— Справедливости ради, — передразнил его Курион. — Этот придурок не следил за языком никогда.
— Еще раз назовешь меня придурком, и я серьезно за себя не отвечаю.
— А когда ты за себя отвечал?
— А ты за себя отвечал, когда трахал жену Клодия?
— О, да, более чем. И, кстати говоря, я не лицемерил. Ах, я не вставляю в нее член. Невероятный Марк Антоний, он наконец-то не вставил в кого-то свой член.
— Во всяком случае, мне хотя бы было стыдно перед Клодием.
— Так стыдно, что ты пытался его убить! Хорош стыд! Потрясающий ты человек! Душевный!
Представляешь, какая это была прекрасная поездка для Лонгина? А я, наконец-то, понял, что на Куриона все-таки злюсь. Просто злость эта до поры до времени скрывалась и таилась, но вот она, гляди.
И до сих пор, веришь ли, пишу это и ужасно злюсь, мол, как так можно было.
Но вспоминаю, в то же время, не без удовольствия, как мы с ним пререкались.
В Равенну мы прибыли на закате. Знал бы ты, какой это был красивый закат. Небо — как алое полотно, светится и сияет, будто металл, плавящийся в огне. Я вдохнул свежий воздух местных просторов, холодный и дикий. Да, думал я, с вероятностью мы умрем.
Но, друг мой, что с этим поделать? Умер бы я тогда, и ничего бы сейчас не рвало мне сердце.
Теперь, по прошествии времени, я думаю, что, может быть, так было бы даже лучше. Я имею в виду, тогда великолепный Марк Антоний еще не сделал множества глупых или плохих вещей. И его имя вошло бы в историю, как имя героя с некоторыми дурными привычками, а вовсе не как имя кровожадного пропойцы.
Чем дольше живешь, тем больше у людей поводов, чтобы тебя осудить. Одни младенцы умирают чистыми от людской молвы.
Ну да ладно, верю, что есть те, кто любит меня, как я себя любил.
И вот, опять он отвлекся на свои печали, этот унылый Марк Антоний.
В Равенне нас встретил Цезарь. Гонец, отосланный вперед нас, уже доставил ему краткое изложение событий. Я только надеялся, что Курион не упомянул, что именно я сказал Катону. Письмо он мне не показал, что я припоминал ему всю дорогу.
— Друзья! — сказал Цезарь. — Как бесчестно с вами поступили!
Он увидел синяки на лице Куриона.
— Неужели…
— Нет, — проворчал я. — Это внутренняя потасовка.
— Да, — сказал Курион. — Но все уже в порядке.
Цезарь легонько улыбнулся, это значило, что он не собирается больше об этом разговаривать, и, приобняв нас с Лонгином, сказал:
— За ваше унижение эти люди заплатят высокую цену. Но не будем горевать о том, что уже произошло. Наше дело, тем не менее, от этого только выиграло.
— Да? — спросил я. Курион шел за нами, я обернулся к нему и скорчил гримасу.
— Да, — сказал Цезарь спокойно. — Это все избавило нас от сомнений, от мучительных мыслей о том, как поступить правильно. У нас больше нет возможности думать. Иногда это хорошо. Сколь много чудесных человеческих начинаний сгубили именно сомнения. Теперь места для них не осталось, и мы можем действовать.
Я почувствовал огромное облегчение. Больше никаких политических игр, мутных и сложных. Только то, что я люблю и умею делать — война.
Я был готов пойти вслед за Цезарем и умереть. Уж во всяком случае, погибнуть, показав, на что я способен. Я был хорош, я успел многому научиться у Цезаря, и мой талант, который я проявил на службе у Габиния, воссиял в полной мере. Я знал, что делать с армией, но не с озлобленными стариками.
Меня наполнила бурная, свободная радость. Больше никаких хитростей, я снова оказался в мире, где все очень просто.
Цезарь увидел мою радость и кивнул.
— Да, Антоний, в этот раз все выйдет по-твоему.
А если бы он не хотел, чтобы вышло по-моему, пожалуй, он и не стал бы посылать меня в Рим. Этот человек ничего не делал просто так.
Цезарь произнес перед солдатами яркую речь, которая лично мне запомнилась очень хорошо. Наверное, потому что она была про меня. Я стоял рядом с ним, как был, в рабской одежде, растрепанный, уставший, а рядом со мной стоял Лонгин, выглядевший, за счет своей болезненности, еще хуже.
Да уж, те еще оборванцы предстали перед солдатами. Но стыдно мне не стало. Это жизнь, и вот такого вот меня им тоже полезно было увидеть.
Цезарь сказал:
— Посмотрите на них. Марк Антоний, ваш командир, которому вы преданно служили, и который заботился о вас, вынужден был бежать из города Рима. Его выпроводили с заседания сената, и ему угрожали.
Такого, безусловно, не было. Никто меня ниоткуда не выпроваживал, кроме, разве что, Куриона.
— Сам консул Лентул велел ему покинуть заседание, — сказал Цезарь. — Почему? Потому что он говорил правду о нас. О ветеранах, нуждающихся в земле. О войне, которую мы вели. О крови, которую мы проливали. О том, что все это куплено дорогой ценой, которую господа сенаторы отказываются уплатить. Антоний и Лонгин долгое время пытались решить это дело миром. Честные военные, они привыкли ставить понятные условия и рассчитывать на их выполнение. Однако сенат, науськанный Помпеем, не желает слушать нас, не желает признавать за нами право на нашу кровь, нашу храбрость, наши труды. Скотство, охватившее высшие круги Рима, достигло теперь невиданных высот. Они покусились на священных защитников народа — на народных трибунов. Разве можно допустить, чтобы пошатнулись сами основы Рима? Народ едва не остался без своих ближайших друзей, едва не осиротел из-за жадности и жестокости тех, кто сейчас наверняка насмехается над нами. Нас объявили мятежниками. Что ж, если власть такова, то мятежник становится благодетелем. Великие боги видят, что мы до последнего пытались договориться с этими людьми. И они отвергали нас раз за разом. Они нанесли оскорбление народным трибунам и, кроме того, угрожали им смертью. Разве мы дадим в обиду тех, кто защищает нас? Разве не праведен мятеж, цель которого — защита народа? Если они называют это мятежом, я тоже поступлю так. Да, мы мятежники. Потому что мы не позволим угрожать защитникам народа. Да, мы мятежники, потому что мы не позволим нарушать наши права. Да, мы мятежники, потому что мы прошли сквозь горести и страдания ради нашей Родины, и теперь у нас хотят отобрать право называться ее солдатами. Горькую обиду нанесли нам в Риме, и нашему терпению положен предел. Ответьте мне, друзья, готовы ли вы защитить от обид меня, наших народных трибунов, наших римских друзей, наши семьи?
И громкие, радостные крики солдат, засидевшихся без дела, солдат, истово любящих своего полководца.
Прекрасная речь. Цезарь умел говорить с солдатами просто и ясно. Это несколько отличалось от его обычной манеры, наедине он становился мягче, рассудительнее и холоднее, но я бы не сказал, что, разговаривая с солдатами, он надевал маску.
Скорее такова была часть его натуры, в обычном, личном общении дремлющая. Мне сложно судить, я всегда один и тот же, что с солдатами, что с друзьями, что с родной матерью. Цезарь — натура куда более многогранная.
Так вот, несмотря на то, что речь его была куда проще, куда однозначнее, чем то, что я услышал у Рубикона, она мне понравилась.
В ней имелась вся нужная энергия, готовность победить, без которой обречено на провал казалось бы самое беспроигрышное дело. С ней же любое упадочное предприятие приобретает священный ореол и оканчивается победой.
Только человеческая воля решает все на самом деле.
Так вот, я жаждал действия. И я понимал, что силы не равны, что за Помпеем — Рим, а за нами только мы сами. Но я знал, что умру за дело прекрасного человека, который, я искренне так считаю, прав, и что рядом будут мои друзья, и ребята, о которых я заботился, и с которыми мы прошли через столь многое.
Я знал, что сделаю все от меня зависящее, ну а большего мне и не нужно. Вот такая простая правда, от которой я позже отвык.
Меня охватило радостное чувство, предвкушение, ощущение биения самой жизни, и я сказал Куриону:
— Дорогой мой друг, я был к тебе несправедлив.
Курион был настроен куда более мрачно.
— Теперь мы умрем, — сказал он. — Так что нет смысла ссориться, Антоний. Я рад, что мы были друзьями.
— И есть друзья, — сказал я. — Мое предложение Лонгину было фальшивкой. Я не собирался быть его другом. То есть, мы друзья, но не…
— Я понял, это же так тупо прозвучало, — сказал Курион. — Я имею в виду, я влюбился в Фульвию, вот и все. Тебя не было рядом, и я не думал, что, когда ты вернешься, ты захочешь ее.
— Думал, — сказал я. — Или почему ты так переживал, когда я пришел к вам домой?
— И то верно, — ответил Курион. — Ты меня подловил. Думал. И стыдился. Но я ее любил, и мне было тяжело без нее, и я не выдержал. Все получилось как-то само собой. Меньше всего я размышлял о том, что будет дальше.
— Спасибо за честность.
— Ну вот, — сказал Курион. — Ты опять. Началось.
— Не, — я махнул рукой. — Не началось. Правда спасибо и правда — за честность. Я не имею права злиться, потому что если б я был на твоем месте, то поступил бы точно так же. Да и что теперь ругаться, если мы, может быть, умрем так скоро? Важно, как мы веселились, а не как мы грустили.
И Курион улыбнулся, продемонстрировав мне свои кривые зубы.
— Да, — сказал он. — Чего у нас не отнять!
— Бухали, как скотины.
— Это точно. Так никто не бухал.
— Из молодых, по крайней мере.
— А старым уже и здоровье не позволяло.
Мы засмеялись, и я обрадовался, что, вот, мы помирились. Не хочу уходить, досадив кому-то. А я весьма многим испортил жизнь. Но я не хочу вот так все оставлять, Луций, великолепное Солнце, я теперь перед всеми извиняюсь и стараюсь загладить дурное, хотя бы добрым словом, если уже ничего не исправишь. Близость смерти учит нас этому. Когда жизнь быстра и бесконечна, мы просто не замечаем, как причиняем друг другу боль.
С легким сердцем я подходил к Рубикону. Конь подо мною был спокоен и ласков, он по мне соскучился. Я ехал рядом с Цезарем, и Цезарь сказал мне:
— Антоний, не так часто человеку достается честь принимать решения, которые изменят судьбы народов.
— Да, — сказал я. — Обычно такие решения остаются за богами.
— Но если боги доверяют их нам, — сказал Цезарь. — То необходимо быть смелыми.
— Это точно, — сказал я. — Красиво сказано.
— Красиво сказано у Менандра. Как там? "Жребий брошен"?
А я думал о Гае. Он тогда, стремясь завоевать свою Квинтилию, решил стать героем, помнишь? Он воевал в Иллирии вместе с Доллабеллой, и я думал, как он справится.
Думал я и о тебе, Луций, ты тогда еще оставался в Азии после окончания твоей квестуры. И о маме думал, о том, как она меня ждет, или уже не ждет.
Момент был, конечно, красивый — звездная ночь, черная вода, сочный кусок луны, близящийся к своему завершению. Лицо Цезаря было светлым, почти серебристым. Он выглядел очень величественно, божественно даже.
Какое прекрасное лицо, подумал я, как удивительно оно в сегодняшнюю ночь. Жаль, что с нами нет художника или скульптора, чтобы его запечатлеть.
Я знал, мне подсказывало какое-то странное, неведомое чутье, что таким лицо Цезаря не будет уже никогда.
И сколько ни пытались потом ваятели и художники, нет, они не могли воспроизвести того человека, который собирался перейти Рубикон.
Один мужик говорил мне, что в каждой жизни есть хотя бы минута, когда боги смотрят на человека с неусыпным вниманием и думают: а не равен ли он нам?
Звучит как богохульство, я понимаю.
Но, думаю, именно Рубикон стал для Цезаря таким моментом. Вечная смелость, которую не забудут в веках. Смелость и волюнтаризм, но почему бы и нет?
Вода была черной-черной, и иногда в ней мелькало что-то белое. Я думал, это рыба. Рыбьи брюшки. Вот о какой нелепости я размышлял, совершая едва ли не самый важный переход в истории.
Рыба или не рыба?
Наверное, все-таки рыба.
Нет, ты можешь себе представить? Это сейчас я осознаю, сколь многое изменилось (и, боюсь, я — лишь последнее препятствие на пути окончательной смены эпох), а тогда думал обо всяких мелочах. О моих близких, о рыбе, о луне, о том, как выглядит сейчас Цезарь, и вот бы ему художника, вспоминались какие-то смешные (именно смешные!) моменты из моего трибуната.
Река была такой холодной, оно и понятно. Из-под копыт моего коня летели брызги, они попадали мне на нос, совершенно ледяные, и заставляли чихать.
Курион, помню, отшатнулся от меня, наверное, мой резкий чих вырвал его из каких-то собственных мыслей. Я уверен, они были такими же простыми: о Фульвии, о сыне, а, может быть, он тоже видел этих бледных рыб в черной воде.
Вот так. А хочется написать, что я, великолепный Марк Антоний, размышлял о грядущей победе или хотя бы о славной смерти, о поражении, которое самого себя стоит.
Но нет, милый друг, перейти Рубикон было очень просто.
Наверное, я тебя совсем замучил, опять он занудный, правда?
Хотел бы я, Луций, чтобы и ты написал мне в ответ, какие мысли мучают тебя сейчас.
Ну да ладно, однажды я подробно расспрошу тебя обо всем, будем надеяться.
Будь здоров!
Марк Антоний, твой брат, который до сих пор вспоминает странных белых рыбин в Рубиконе, хотя, ха-ха, сколько воды утекло.
После написанного: А над Александрией сейчас полная луна. Очень красиво.
Послание двенадцатое: Медея и я
Марк Антоний, брату своему, Луцию, без надежды на то, что он все это прочитает.
И не только, милый друг, потому что ты мертв. Думаю, даже в царстве Плутона тебе не настолько скучно, чтобы погрузиться во все эти мои душевные терзания. Тем более, что многое из того, о чем я говорю, ты уже знаешь, даже если забыл какие-то детали.
Не знаю, милый друг, кому я на самом деле пишу. Может быть, самому себе, чтобы упорядочить все, что случилось со мной. И ведь получается стройно! Чем дольше пишу, тем ярче и отчетливее понимаю, что со мной произошло только то, что я сам заслужил. Если, конечно, не брать совсем раннее детство. По жизни мне выпадали и "Венеры" и "собаки", с каждым броском костей становилось все интереснее. Но вовсе нет вопроса, почему именно я, именно здесь, именно сейчас, почему заканчиваю свою жизнь, почему делаю это так.
И мне нравится это чувство, Луций, потому что оно делает все правильным. Жизнь складывается, будто хорошее стихотворение, строчка цепляет строчку, и оказывается, что есть какой-то высший замысел во всем, и что одного без другого не бывает. Порядок побеждает. Я ощущаю большое облегчение от того, что жизнь не есть набор несвязанных друг с другом событий, которые происходят просто потому, что не могли не произойти. Чувствуешь себя сильным. Может, глупым или смешным по сравнению с громадиной, которой не можешь противостоять, но при всем при этом — не слабым.
Кажется, будто события наслаиваются друг на друга, и ты теряешь всякое управление, будто снежный ком растет и стремится туда, к земле, вниз. А ты, подхваченный его инерцией, несешься все быстрее и быстрее, так что дух захватывает. Знакомо ли тебе это чувство? Я полагаю, оно знакомо каждому человеческому существу.
Так вот, это ощущение и правдиво и нет. С одной стороны, безусловно, все так. Со временем груз твоего прошлого становится так велик, что остается только катиться с горы вниз и наблюдать за проносящимися мимо пейзажами.
С другой стороны, на самом деле ты просто продолжаешь действовать в той же логике, что и всегда. События становятся все менее управляемыми, но, по сути, это ты действуешь механически, не в силах свернуть с дороги, которая кажется твоей.
Получилось глупо и противоречиво, милый друг, я не знаю, поймешь ли ты меня. Я потерял управление и несусь все быстрее и быстрее, но я хотя бы знаю, куда.
И теперь вопрос, которым я задаюсь, прежде всего таков: когда все случилось именно так?
Сначала я был дурацким смешным ребенком, любящим убегать от своих проблем, потом беспутным юношей, затем талантливым воином, потом скандальным политиком, и так далее, и тому подобное, и ни одно из этих состояний, проявившись, уже не исчезало.
Но когда груз этих состояний стал невыносимым и повернул мою судьбу? С самого начала? С того момента, как я стал много пить? Когда я уехал с Габинием? Когда я стал народным трибуном?
Мне кажется, что чуточку позже последнего, во время гражданской войны, когда я остался в Риме, а Цезарь отправился в Испанию. Очень недальновидное решение, я понимал это даже тогда. Я страстно желал отправиться за Цезарем и зубами вырвать для него победу, я мог это сделать, у меня были талант и смелость, и боевой опыт. Дома же, в Риме, меня не любили сенаторы, и обо мне уже давно ходила дурная слава. Я прекрасно понимал, что мне будет нелегко и, в первую очередь, из-за скуки.
В мои обязанности входили такие невероятные, завораживающие и остросюжетные вещи, как: хлебные поставки, организация флота, поддержание правопорядка, и так далее и тому подобное. Можешь себе представить, в каком я был восторге?
Но, милый друг, политика есть политика. Мне уже хотелось власти, я вкусил ее и не мог теперь без нее жить. Я был не слишком к ней готов, но страстно желал ее. И, если мои обязанности казались мне скучными и утомительными, то само назначение льстило. Хоть я и предпочел бы стяжать славу на поле брани, мне нравилось наслаждаться своим важным положением.
И в этом Цезарь не прогадал. Теперь, будучи чуть старше, чем Цезарь был тогда, я уже понимаю, почему был назначен именно я. Помимо чисто стратегических причин (Цезарю важна была возможность освежить свое войско в нужный момент), имелись причины политические. К примеру, я, с моим отвязным образом жизни, вряд ли мог бы стать достаточно надежным и востребованным человеком в городе, чтобы потом претендовать на власть. И в то же время, я был очарователен и популярен среди солдат, а значит, обладал возможностями поддерживать порядок на улицах и мог рассчитывать на подчинение.
Милый друг, наверное, ты думаешь, что я идеализирую Цезаря. Но такова правда о нем, он никогда не принимал пустых решений. И даже минимально обоснованных решений он тоже не принимал. Все, что делал Цезарь, имело далеко идущие последствия. Он знал, как заставить мир крутиться в нужную ему сторону.
Этим качеством отчасти не обделен и Октавиан, хотя ему никогда не достичь такого же совершенства.
Так или иначе, первым делом, без совета Цезаря, а по своему собственному почину, я решил проявить благородство души и объявил амнистию изгнанным и ограбленным. От тех, чьих родителей лишили прав еще при седых мудях Суллы и до свеженьких врагов Помпея, еще не успевших толком привыкнуть к своим маленьким каменистым островкам.
Всем свободы! Пусть Рим знает, что милосердие Цезаря не знает границ, и заручится новыми полезными людьми, лично обязанными нашей доброте и участию.
Знаешь, кого я при этом забыл? Конечно, знаешь. Дядьку. Причина крайне проста: я прогулял все приданное Антонии, данное мне на хранение. И хотя теперь я был при деньгах, отдавать нажитое непосильным разбоем мне не хотелось. Я предполагал, что с дядькой по части денег в любом случае возникнут проблемы.
Так что, когда мы с Лонгином составляли списки, это он сказал:
— Что насчет Гая Антония Гибриды?
— А? — сказал я. — Нет! Это неисправимый мудак! Пусть сидит на своем островке и думает над своим поведением.
Лонгин так характерно, по-лонгиновски приподнял бровь, но ничего не сказал.
В защиту меня стоит сказать, что дядька жил на своей Кефалонии неплохо, даже хорошо, устроил там свои порядки и в ус не дул. Конечно, старый мудак был бы не против вернуться в Рим и хорошенько здесь покутить, но и без этого излишества жил полной жизнью.
Так что вот так. Помню наш с тобой разговор по этому поводу.
Ты недавно вернулся из Азии, и мы возлежали с тобой у меня дома, в соседней комнате надрывно плакала моя дочка, что-то ей там не понравилось, и я слышал бормотание раздраженной Антонии.
— Бедный малыш, — сказал я и крикнул. — Эй, потише там!
— Кормилица заболела! — крикнула Антония. — А меня эта девчонка вообще не воспринимает!
— Вся в меня! — крикнул я.
Ты засмеялся, а я сказал:
— Ну так что ты хотел?
— Дядька, — сказал ты. — Возвращаются изгнанники, а как же дядька?
— Ну, — сказал я, подливая себе еще вина. — Дядька как дядька. Сам знаешь.
— Не знаю, — сказал ты. — Ты что, оставил его там?
Я помолчал.
— Хочешь ослятины? — спросил я через некоторое время. — Очень хорошая ослятина. Повар так ее приготовил, словно сам родился ослом.
— Марк, ты серьезно? Каким бы он ни был, он наш родич. Я тоже его ненавижу, ты сам знаешь, но он — наш родич, и на этом все.
И вдруг я как-то в один момент понял, что ты повзрослел. Что вот он сидит передо мной, взрослый человек со своими надеждами и чаяниями, но главное — со своими принципами и убеждениями.
Я чуть не расплакался, честное слово. Мой маленький братик, самый младший, самый слабый, вырос и стал честным человеком.
Удивительно, конечно, каким образом, но факт остается фактом. Я так тобой гордился. Смотрел и видел, что окончательно исчезли твои конвульсивные подергивания, а веснушки стали светлее. И вот ты просил меня вернуть человека, которого ты на самом-то деле любил куда меньше меня.
Ты просил меня, потому что считал это правильным.
И я, восхищаясь тобой невероятно сильно, тебе отказал.
Я сказал:
— Дядька реально преступник. Грабитель с большой дороги. Сюда его возвращать, чтобы он снова начал свои темные дела?
Ты сказал:
— Разве он единственный из тех, кто был изгнан за дело? Ты возвращаешь других.
— Ну, я для начала стараюсь ознакомиться с делом, — ответил я уклончиво.
— Ты не хочешь возвращать его из-за Антонии, так?
— Антонии, кстати, плевать на него. Она так и сказала. Плевала она на него и на всех других Антониев, живых и мертвых, вплоть до десятого колена.
Ты понизил голос и подался вперед.
— Ты знаешь, о чем я.
— О деньгах, — сказал я ему, протягивая золотую тарелку с козлятиной. — Но дело не в этом. Я, понимаешь ли, делаю то, что велит Цезарь. Он бы не вернул Гибриду, потому что он, ну, знаешь, такой Гибрида. Вот и все. На поешь.
Ты нахмурился.
— Цезарь имеет к этому какое-то отношение?
— А то! — сказал я. — Ты думаешь, он доверил бы мне такое важное дело? Нет уж, сначала дела досматриваю я, а потом он. Посылаю с отчетами о проведенных мероприятиях. Ты уж извини, но дядька человек своеобразный. Это понимают все.
— Ты тоже своеобразный человек.
— Двоих таких просто не нужно.
Ты смотрел на меня пытливо, как в детстве, когда старался угадать, в каком кулаке я зажал камушек. Я пожал плечами.
— Расклады пока такие. Но все может измениться. В конце концов, я еще за него попрошу.
— Ты не выглядишь расстроенным.
— Естественно, я не в восторге от дядьки.
— Ты его обожал.
— И ты его когда-то обожал. Но мы оба знаем, что он такая мразь!
— Я только надеюсь, что ты не такая мразь.
— Да я добрейший человек из тех, что есть сейчас в Риме.
Думаю, у меня не получилось тебя убедить. Но взамен я предложил тебе, раз уж тебя так волнуют бедняки, заняться вместе со мной хлебными поставками.
— Работа не пыльная, — сказал я. — Только скучная, зато очень полезная. Ты мне поможешь, милый брат, но, главное, поможешь людям.
Какое счастье, что моя лень сочетается с грамотной способность к делегированию обязательств. Насколько я знаю, ты был крайне увлечен поставками зерна своим беднякам, и с этим у нас никаких проблем не возникло.
За остальные свои обязанности я перво-наперво взялся весьма горячо. Мне хотелось доказать, что я чего-то стою. И, так обычно со мной и бывает, когда я брался за что-то с желанием, у меня получалось.
Флот я приготовил и содержал в порядке, разгула криминала, как это частенько бывает в эпоху политической нестабильности, не допустил тоже, не все вопросы, которые я получал от просителей, были мне под силу, но я находил, кому их передать.
Первое время я яростно работал на благо Рима, не спал ночами, стараясь въехать во все эти хитросплетения торговых и деловых отношений, обиженных и обидчиков, вражды между богатыми и бедными и во все прочее.
Многое мне приходилось постигать собственным умом, многое объясняли мне Лепид или Лонгин, в любом случае, помню из тех времен, что спал я мало, и все время надиктовывал что-то Эроту, он отсылал письмо за письмом, а у меня уже в голове рябило от слов, и язык ворочался как бы сам по себе, без участия в этом деле мозга.
Потом резко, буквально в один день, мне это все надоело. И тогда я стал много времени проводить на Марсовом поле в компании солдат, простых ребят, с которыми мы друг друга понимали отлично. Если у меня появлялись лишние деньги (то есть, если я отщипнул себе что-либо из государственных расходов), мне в первую очередь хотелось сделать подарки им. Они вызывали у меня острую жалость. Будто рыбы, вынутые из воды, они страдали от вынужденного простоя, от того, что задержались не на своем месте. Большинство из них были идейными, они любили Цезаря и желали ему помочь. Ребята тосковали, и мне хотелось порадовать их.
Я следил, чтобы они выполняли упражнения (и делал это вместе с ними), потому как знал, что солдат не только всегда должен находиться в хорошей форме, но и расходовать лишнюю энергию, а то не миновать погромов.
Частенько я приглашал кого-то из солдат домой, кормил, выслушивал и пытался помочь по мере своих сил. Это было куда более посильной задачей, чем решение абстрактных проблем целого города.
И, главное, это приносило быструю радость, а не одну сплошную усталость. Общение с солдатами отнимало много сил, но дарило добрые, сильные чувства, тогда как бюрократическая работа была скучна и делалась во благо чего-то от меня очень далекого.
Некоторое время я мог управляться и с тем и с тем, хотя спать перестал практически совсем. Какое-то время этот бешеный ритм даже казался мне комфортным, но в некий момент я обнаружил себя трясущим за плечи Антонию.
— Где, я тебя спрашиваю, деньги?! Куда деваются деньги?
— Да, — сказала Антония. — Я тоже хотела это у тебя спросить. А теперь можно я спать пойду?
Все, подумал я, приехали. Выгружаемся.
В тот день я устроил пирушку и хорошенько нажрался с моими новыми знакомцами. Я называл их друзьями, но на самом деле ни один из них не достоин отдельного упоминания. Это были льстецы, готовые пить за мой счет и пользоваться привилегиями, которые давало общение со мной. Впрочем, не буду врать, мне весело в таких компания.
По пьяни я купил у кого-то за бешеные деньги львиную шкуру и носил ее потом вместо плаща, потому что и по трезвости это показалось мне очень экстравагантным. Как сказал однажды Красавчик Клодий:
— Геркулес, епты.
Так вот, теперь у меня были львиная шкура и зверское похмелье, но не было энтузиазма. С этого-то и началась вся история.
Во-первых, теперь я запросто мог быть мертвецки пьян, выслушивая всякого рода просителей. Во-вторых, когда я не был пьян, меня мучило похмелье. Кутеж по ночам весьма плохо отражался на рабочем процессе утром. Я бродил, будто живой мертвец, и все мои душевные силы уходили на то, чтобы не перерезать глотку кому-нибудь, у кого, к несчастью, оказывался слишком громкий голос. За мной всегда носили чашу (я настоял, чтобы она была золотая), и я умывался благовонной водой, надеясь избавиться от тошноты и немного прийти в себя.
Через некоторое время я решил, что так не пойдет и стал спать до обеда. Тем более, что, когда я просыпался, половина проблем бывала уже решена безо всякого моего участия. Очень удобно.
Уразумев, что так бывает, я решил и в полдень никуда не спешить, собирал друзей, и мы неторопливо завтракали где-нибудь в живописном месте, наслаждаясь музыкой или выступлениями артистов.
Множество денег тратил я на организацию этих завтраков. Люди говорили мне столько хорошего, и мне хотелось угостить их получше, совершенно искренне.
Естественно, если у меня получалось помочь им, я это делал. И частенько конфискованное жилье или дома тех, кто бежал из города за Помпеем, доставались именно моим тогдашним друзьям. Я искренне желал помочь каждому, кто пытался мне понравиться, и одарил тогда как многих проходимцев, так и многих хороших, честных людей, нашедших в себе смелость обратиться ко мне напрямую.
Мой дом мне наскучил, и я оккупировал виллу Помпея в пригороде. Разумеется, я не собирался за нее платить, так как Помпей, на мой взгляд, был не жилец, а имущество его должно было перейти государству.
Так как в тот момент я и был государством, во всяком случае, его частью, то вовсе не собирался отказывать себе в улучшении жилищных условий. Прекрасный вид, замечательная планировка, художественная отделка — достоинства этого дома сложно было переоценить. В конце концов, Помпей тоже отгрохал его не на милостивые подаяния, а на государственные деньги.
И, конечно, мне было приятно ходить по дому такого великого человека. Разве не прекрасно, прикасаясь к стене или к столу, прикасаться к череде великих побед?
И грядущих поражений, конечно.
Мне нравилось таскать в дом Помпея потаскух и разбойников. Нравилось, так сказать, осквернять его жилище своим присутствием. Я даже чувствовал при этом что-то трогательно-магическое, будто я так помогаю Цезарю, деморализуя недвижимость противника, ха!
Очень скоро мои пирушки из множества маленьких переросли в одну бесконечную, и я перестал ясно помнить, как проходят мои дни.
Вроде бы я очень веселился, милый друг. Но я, скорее, хотел бы некоторых сведений по поводу моего тогдашнего времяпрепровождения от тебя. Снова жаль, что я тебя не спросил.
Ясно помнится мне лишь один вечер, тот самый, в который я увидел Кифериду. Помню, я пришел в театр со своими приятелями, на мне висла какая-то девица с выкрашенными в фиолетовый волосами и с пирсингом на языке. Я был такой пьяный, что не мог вспомнить, сосала ли она мне уже. Наконец, пришел к выводу, что этот металлический шарик, его прикосновение, я бы запомнил.
Мы устроились в амфитеатре, в первом ряду, и я спросил:
— А что показывают?
— А, — сказала мне девица. — Я без понятия.
Вообще, в театр я тогда ходил часто, и сам спонсировал многие представления. Возможно, и это тоже. Однако к моменту, когда актеры выходили на сцену, я частенько бывал уже так мертвецки пьян, что едва ли воспринимал происходящее и редко осознавал, что за сюжет играется, и кто его представляет.
Но вот она вдруг вырвала меня из тошнотворно-прекрасного опьянения, вознесла и бросила вниз, сделав мне больно.
Я помню, она играла Медею. Ее растрепанные волосы торчали в разные стороны, рот был искривлен в страдальческой гримасе, она рвала на себе одежду, и в дырах проявлялись весьма соблазнительные кусочки. Они запрокидывала голову к небу и кричала, проклиная неверного мужа, а ее руки тем временем скребли сцену, и я буквально чувствовал, как ломаются ее ногти, не мог это видеть, но знал, что так и есть, потому что настолько напряжены были ее руки, и настолько резко двигались ее пальцы. На шее выступила синяя жилка, из груди ее вырывались хрипы, и жилка вторила им в своем биении.
А потом она вдруг посмотрела прямо на меня. Клянусь, на меня и только, хотя у актеров полно таких уловок, я знаю. Ее нос кровоточил. Скажу тебе честно, меня это так впечатлило. В этой крови не было уловок, Медея просто была слишком напряжена, и эта страсть вырывалась и багровыми каплями падала вниз.
Ощутимое, явное, живое страдание, физическое страдание.
Я захотел слизать эту кровь, просто чтобы причаститься к высокому.
Под светом софитов, белым и ярким, она казалась бледной ведьмой, а ее кровь была почти черной. Эта женщина, прекрасная и ужасная Медея, медленно слизывала кровь, пока хор костерил ее на все лады. А потом она улыбнулась, и зубы были розовые от крови.
О Венера, какой прекрасной эта женщина показалась мне. Черты ее были совершенны, хоть и злы, красивые пальцы с переломанными ногтями скребли полную грудь, словно Медея задыхалась.
Я тоже задыхался. Честное слово, милый друг, я не мог дышать, пока не могла она.
После окончания трагедии, я подошел к ней и с удивлением увидел, что она не молода, не стройна, и даже не слишком красива. Черты ее были чуть расплывшимися и мягкими, вокруг губ уже залегла сеть морщинок, груди казались обвисшими, ноги пухлыми.
Словно бы я встретил совсем другого человека, не причастного к чудному и чудовищному зрелищу, захватившему мой разум и сердце.
Моя фиолетововолосая спутница со всех сторон была краше: моложе, ярче, гибче, но я не мог отвести глаз от актрисы.
Вдруг мне на ум пришло ее имя, весьма, кстати, известное.
— Киферида, — выдохнул я. О милостивая и безжалостная, Венера Прародительница, это имя прозвучало сладким выдохом.
Я видел все ее несовершенства, но на самом деле они были куда менее реальны, чем одно лишь воспоминание о крови, текущей из ее носа. Почему меня это так поразило? Неужели я мог быть уверен, что кровотечение — не простое совпадение, а проявление ее воли? Потому что именно это и восхищало меня так сильно. Медея, пустившая себе кровь сразу в двух смыслах — кровь своего тела и кровь своих детей.
Эта прекрасная черная страсть, что могло быть лучше и красивее нее? Перед этой страстью искаженных страданием и безумием черт отступала сама реальность.
Я сказал:
— Сам Дионис, пожалуй, спустился бы увидеть такую Медею.
— Дионис видел Медею сотни раз, и куда лучшую, чем я, — ответила Киферида. У нее были зеленые глаза. Яркие, с желтоватым оттенком, глаза хищницы, окруженные нежными лучиками морщинок. Ее несовершенства вдруг вызвали во мне нежность. Я видел, что этот талант, самый великий, быть может, из существовавших ныне, был подвержен старению, а значит и смерти.
Я сказал:
— Неправда. Не верю, что была лучшая Медея. И настоящая не сравнится с тобой ни красотой, ни безумием, ни злобой.
— В жизни я незлобива, — ответила Киферида тихонько. Она всегда берегла голос для сцены.
— Я хочу пригласить тебя ко мне на пир, — выдохнул я, отчаянно краснея, будто мальчишка. — Будь добра ко мне и не откажи. Если ты откажешь, я не смогу жить, я возьму меч и проткну свое сердце, потому что оно не нужно мне больше и не имеет ценности. Я увидел главную вещь в своей жизни, и не хочу жить дальше, если только ты не спасешь меня призраком того момента, что я видел на сцене.
— Какого именно? — спросила Киферида, пристально меня рассматривая. У нее, как и у всех женщин полусвета, был смелый, спокойный взгляд, которого не увидишь, ни у девушек ни у матрон. Взгляд свободный.
Я коснулся рукой своего носа.
— Когда пошла кровь, — сказал я, выдохнув. — Прости меня, если я смущаю тебя. К тебе, наверное, выстраивается очередь таких вот поклонников.
— Это и преимущество и недостаток моего ремесла, — сказала Киферида. — Ты молод и страстен, и я не хочу лишать тебя жизни, так что я приму твое приглашение.
Сердце мое ликовало от счастья, я едва не лишился чувств.
— Кстати! — крикнул я ей вдогонку, когда она ушла переодеваться. — Я — Марк Антоний!
— Я знаю, — ответила Киферида.
Мы отправились на виллу Помпея. И я, наконец, привнес в это место что-то возвышенное.
По-моему, мои гости впечатлились так же, как и я. С другой стороны, они всегда и во всем соглашались со мной. Киферида снова проделала этот свой трюк с кровью, текущей из носа, и я снова обмер. Как? Ну как же? При ней не было ничего, никаких хитроумных приспособлений и емкостей.
После того, как она закончила, я забрал ее с собой, и мы залезли на крышу.
— Хочу тебя украсть, — говорил я. — Даже больно, что тебя видит кто-то еще. Как ты это делаешь?
Я коснулся кончика носа.
Над губой у Кифериды еще оставалось розоватое пятнышко, я наклонился к ней и его слизал. Было пятнышко — и исчезло.
Киферида сказала:
— Еще маленькой девочкой я могла пускать кровь из носа по своему желанию. Это очень пугало моих подружек, а я веселилась.
— Но как?
Она мягко засмеялась и пожала плечами.
— А я не знаю. Просто вот так выходит. Я как бы напрягаю свою голову. Это нельзя объяснить. Один врач, мой хороший друг, все время пытался понять, но так и не разгадал эту загадку.
— Это потрясающе, — сказал я. — В тебе было такое страдание, такая боль, и вот ты уже — просто ты.
Киферида сказала:
— Таково мое искусство. У тебя ведь есть свои тайны.
— Да, — сказал я. — Умею здорово нажраться так, что никто и не заметит.
Киферида подхватила мою игру и спросила, безупречно скопировав мой тон:
— Но как?
— Это мое искусство, — сказал я важно.
Мы засмеялись. Она не была молода, но была спокойна, рассудительна и по-женски хитра. В ней не было граничащего с безумием ума моей детки, как не было и цепкой сообразительности Фульвии.
Киферида умела мягко добиваться своего. Еще в юности, будучи рабыней, она так понравилась хозяину, что он не только освободил ее, но и сделал своей женой, а потом отпустил, дал ей развод, и остался ее добрым другом. В череде ее блистательных любовников были и я, и Брут, и известные поэты и актеры своего времени. Киферида никогда не кичилась своей властью над мужчинами и не выглядела так, будто ей обладает. Но в ней присутствовало что-то поистине волшебное. Думаю, в ее роду точно затесалась сама Мельпомена. Магия ее была совсем иного сорта, чем магия других женщин: обволакивающая, мягкая, но неостановимая.
Я влюбился в нее страстно, и она видела и знала это, но не спешила показывать, что знает.
Я сказал:
— Разве это не чудо, что я увидел тебя? Я был чудовищно пьян, а теперь, сколько бы я ни пил, не могу напиться, ты держишь меня на земле.
— Главное, — сказала она. — Не упади с крыши. Во всем обвинят меня. Всегда во всем обвиняют актрис.
— Потому что вокруг вас вращаются мысли всех людей, — сказал я. — Ты любишь свое дело?
Она кивнула.
— Безумно. Как ничто другое.
— Большинство актрис, которых я знал, любили деньги.
— Значит, они не были актрисами, — сказала Киферида. — А ты любишь власть?
Я засмеялся.
— Я люблю есть. Спортик. Поболтать люблю. Поспать. Любовь.
Киферида смотрела на меня, склонив голову набок.
— И власть, — сказала она.
— На это похоже?
— Обычно такие люди любят власть.
Я засмеялся.
— Да, потому что на все хорошее в этом мире нужны деньги.
Киферида посмотрела на меня серьезно. Да, думаю она уже тогда все обо мне знала.
— Нет, — сказала она. — Потому что власть — это вид любви.
Я опешил. Мои тайные мыслишки на этот счет она прочитала в момент.
— А ты не только умеешь пускать из носа волшебную кровь, — сказал я. — Ты — пугающая женщина.
— А ты — пугающий мужчина, — ответила она.
Мы с Киферидой сидели на весьма приличном расстоянии друг от друга, и я не спешил придвигаться к ней. Для меня это было все равно, что нарушить покой богини.
Я сказал:
— Я могу дать тебе все, что ты захочешь. Честно.
— Нет, — сказала она спокойно, без упрека, без грусти, просто так, словно разглядывая что-то над моей головой. — Или ненадолго. Но это даже хорошо. Твои страсти вспыхивают и остывают, и ты не можешь это контролировать.
— Но откуда ты знаешь меня так хорошо? — спросил я. — Как это может быть, чтобы ты понимала такие вещи.
Киферида посмотрела на небо. Над нами были весьма романтические, черные в звездах, небеса.
Она сказала:
— Это видно по твоему лицу. Всегда все видно по лицу человека. Большинство людей не могут скрыть ничего, их выдает мимика, выражение глаз, улыбка.
Киферида помолчала, а потом протянула:
— Кроме того, о тебе сплетничают.
Я засмеялся.
— Вот оно что! Развела меня, как дурачка!
— Это тоже говорят.
— Кто говорит?
Киферида улыбнулась.
— А я не скажу.
— Да ладно, я незлобивый.
— И это говорят.
— Ну-ка?
— Тоже не скажу. Я не выдаю своих источников. Поэтому я многое знаю.
Я сказал:
— И используешь эти знания для…
— Для вдохновения, — ответила она. — Мне нравится понимать людей. Так проще играть. Чтобы сыграть Медею, нужно найти Медею в себе. А чтобы найти Медею в себе, нужно увидеть с десяток таких Медей.
— И много ты видела детоубийц? — спросил я. — Просто интересно, для статистики по городу, так сказать.
Киферида покачала головой.
— Не обязательно они детоубийцы. Ревнивые, готовые сорваться в безумие, ставящие любовь превыше добродетели, превращающие любовь в порок.
— А ты такая?
— И я такая, — ответила она. — Я всякая. И ты всякий. В других людях нет ничего такого, что отсутствует в нас самих.
Давным-давно, с отъезда Цезаря, я ни с кем так не разговаривал. Откровенно и интересно, и о делах духа, а не плоти. Мне давно не было так здорово кого-то слушать, и мой разум изголодался по пище.
Я сказал:
— Но тогда как мы умудряемся ненавидеть себе подобных?
— А разве мы так сильно любим себя? — спросила Киферида.
Вот, милый друг, в чем чудо. Мы сидели на крыше, а под нами, обалдевшие от вина люди пели песни, хохотали, судя по звукам, и дрались, или обжимались, кто знает. Рядом с нами был световой люк, но я не хотел в него заглядывать. Он стал золотым от света свечей, и оттуда доносились музыка и крики — этого было достаточно, чтобы не забыть, что ниже нас еще существует мир.
— Я люблю себя, — сказал я. — Просто обожаю. А ты?
— Тебя? Наверное, еще нет. Но полюблю, если ты себя любишь. Я легко покупаюсь на это.
— Нет, — сказал я. — Что ты полюбишь меня, я знаю абсолютно точно. По-другому и быть не может. Любишь ли ты себя?
Киферида посмотрела на меня зелеными, блестящими глазами.
— Бывает по-разному. Я люблю себя на сцене.
Она вытянула ноги, и я увидел на них сетку вен. Мне захотелось поцеловать эти синие линии, эти реки на карте ее тела. Столь несовершенна и столь прекрасна. Никогда в жизни, ни до, ни после не было у меня такого помешательства.
Луций, представь себе, я даже не хотел никогда увидеть ее молодой, хотя говорили, что она была божественно прекрасна. Она не приходила молодой ко мне во снах. Я любил ее печальную зрелость, потому что она была рассветом ее таланта.
Я сказал:
— А почему не любишь себя после?
Киферида посмотрела на меня. В свете луны желтый отблеск ее глаз казался золотым. Я почувствовал себя очень пьяным.
— Потому что я хорошо себя знаю, — сказала она. — И знаю все свои недостатки.
— Я тоже знаю все свои недостатки, — сказал я. — Я безответственный, эгоистичный, эгоцентричный, ленивый…
— Но ты настолько эгоистичен, — засмеялась Кифирида. — Что почитаешь их за достоинства. Раз говоришь мне все это сейчас.
— Я просто честный. Хочу, чтобы ты видела все. Если уж мы с тобой начинаем друг другу нравиться.
— Ты так уверен?
Я кивнул, а потом поцеловал ее. Губы Кифериды были горьковатыми на вкус.
Никогда еще мне не случалось целовать столь горькие губы. И после, наверное, тоже. Будто она провела по губам кисточкой, смоченной в перечной воде.
Я чувствовал невероятную радость от того, что мог прижать ее к себе, от того, что сейчас сливаюсь в поцелуе с тем, что видел на сцене. Я целовался с Медеей. Я целовался с Антигоной. Я целовался с Ниобой. Я целовался со всеми женщинами, чьи души она призывала в себя на сцене.
Я прошептал ей:
— Сделай это для меня, умоляю.
Она засмеялась тихонько, совсем как девчонка. Киферида вообще была очень смешлива.
— Сейчас, — сказала она. — Мне надо сосредоточиться.
Я погладил ее по щеке, нежно улыбнулся, а она крепко зажмурилась, и вдруг из ее носа закапала кровь. Я сцеловал черные капли.
Что это была за женщина, Луций! Как удивительна и прекрасна, как нежна и умела в постели, как вежлива и обходительна в обществе! Она мало пила и была крайне внимательна. Она действительно многое могла сказать о людях, и я часто водил ее с собой, чтобы она посмотрела для меня на кого-нибудь, будто она стала моим личным гаруспиком. Сама мысль о расставании с ней была для меня подобна смерти. Я целовал ее тело, я оставлял на ней укусы, надеясь отметить принадлежность этого воздушного, нежного существа мне. Я хотел быть с ней везде и всегда. С того момента, как я сцеловал черные и блестящие капли ее крови, я будто выпил любовное зелье, и страсть моя уже не могла утихнуть.
Я называл ее своей Медеей и ставил ей в укор то, что она приворожила меня.
А она нежно гладила меня по голове и говорила мне, как больному ребенку, что все пройдет.
Она знала, сколь недолговечна моя любовь, а я наслаждался ей, думая, как удержать ее, как не дать ей ускользнуть из моих рук.
Да, немолодая, да, уже некрасивая. Впрочем, что бы ни говорили, я не думаю, что и в молодости она была такой неудержимо прекрасной, какой осталась в людской молве.
В ней сверкала магия, обращавшая простоватость в невероятную красоту. Киферида более всех моих женщин, которых любил я когда-либо, случайных и тех, которые будут принадлежать мне вечность, утешила мою больную голову.
О прекрасная, сиятельная Киферида. Она сделала меня счастливым, но это мало помогало мне решать текущие государственные проблемы. От любви я пьянел еще сильнее, чем от вина. Но я был счастлив, что правда, то правда, и энергия моя удвоилась. Не всегда оно полезно.
Или, как сказал мне как-то Цицерон:
— Лучше бы Антоний не делал ничего вовсе, чем делал что-либо, не рассчитывая на результат.
Но откуда ему в самом деле было знать, что я там делал, и как я старался, учитывая, что этот прекраснодушный циник, как его называл Курион, сбежал подальше от Рима, под крыло Помпея.
Этот его поступок, впрочем, мне был вполне симпатичен. Во-первых, мне хотелось, чтобы Цицерон существовал, если уж ему было необходимо продолжать это делать, как можно дальше от меня. Во-вторых, разве не поступок настоящего друга он совершил? Цицерон никогда не верил, что Помпей выиграет войну, но он присоединился к нему, каким бы безнадежным ни казалось ему само предприятие.
Правда, бедняжка не довел дело до конца. В этом был он весь, Цицерон, разве нет? Прекрасные порывы его нервного сердца гасила суровая реальность. В конце концов, он струсил умереть вместе с Помпеем и приполз к Цезарю за прощением.
Но история-то, но поворот-то, это все красиво. Я ценю красивые жесты, так что и этот мне понравился.
В общем, к моему большому счастью этот нервный, болезненный, вечно суетящийся человек не мозолил мне глаза.
Но с сенаторами у меня все равно ничего путного не выходило. Киферида сказала:
— Ты для них слишком вульгарен. И всегда будет так. Они могут простить многое, даже бесчестность, но не безвкусицу.
— Да ладно? — сказал я. — Прощают же они Цицерону его речевки.
— Ты знаешь, что он прекрасный оратор, — сказала Киферида.
Честно говоря, эта мудрая женщина никогда не давала мне советов. Она давала мне информацию, проясняла кое-какие непонятные мне мотивы или указывала на недостатки моего собственного поведения, но никогда не говорила, что именно я должен делать.
В тот день, помню, мы лежали в постели, и я говорил ей:
— Моя голова разрывается.
— Это от вина, — мягко сказала она.
Но не сказала, как любая другая женщина на ее месте: тебе, Антоний, следовало бы меньше пить.
Нет, Киферида никогда не говорила мне ничего такого. Когда она заявляла, что голова у меня болит от вина, то просто констатировала факт.
— Не только, — говорил я. — Вообще ото всех этих дел. Как Цезарь справляется с такой работой?
— Он держит свой ум острым, — ответила Киферида. Я подался к ней, предлагая меня погладить, и она, поцеловав меня в макушку, принялась ощупывать мою голову, ее нервные, быстрые руки делали это так приятно, что я почти забылся во сне.
Сквозь сон, подступающую приятную, теплую тьму, я сказал:
— Я притворюсь не вульгарным. Стану вести строгий образ жизни.
— Ты по ошибке выпил благовонное масло в доме Лепида.
— Да, — сказал я. — Но Лепид ведь не наш враг. Его никуда не нужно переманивать.
— К счастью.
— Мне хочется, чтобы здесь был Курион, — сказал я. — Он всегда подсказывает мне, как поступить. И у него есть политическое чутье. Иногда, когда я совсем не понимаю, что делать, мне начинает казаться, что любой раб справился бы лучше меня.
— Не всякий, — сказала Киферида с мягким смехом. Мне нравилось, как она аккуратно колола меня, это никогда не было слишком обидно.
Я сказал:
— И всего так много, и все такое разное. Им нужен хлеб, Цезарю нужен флот, всем нужно, чтобы я из кожи вон лез, но понравился им.
— Тебе нравится нравиться, — сказала Киферида.
— Но мне не нравится, когда все меня ненавидят, — сказал я.
— Тебя любят солдаты. И народу ты нравился бы куда больше, если бы…
Тут она замолчала.
— Если бы что? — спросил я, подаваясь к ней и целуя ее. Но Киферида покачала головой.
— Это ты любишь нравиться, ты и думай.
Какие счастливые и томительные были эти часы, проведенные в успокоенной полудреме. Я не мог заснуть окончательно, и Киферида следовала за мной в моих ночных бдениях. Мы занимались любовью медленно, и всякий раз, когда я был слишком порывист, слишком груб, она мягко и ласково успокаивала меня.
Теперь я задаюсь вопросом, знал ли я Кифериду настоящей, и была ли она такой же, к примеру, с Брутом? Или для каждого она становилась той женщиной, в которой он нуждался?
Я хотел любви и нежности, чтобы она целовала мне виски и говорила мягким, успокаивающим голосом, чтобы говорила так, как журчат ручьи весной, и всякие хорошие вещи.
Она и говорила. И была той, которой я желал.
Я жалею вот о чем: Киферида стала той женщиной, в которой я нуждался, но я так и не узнал, какая она, когда никого нет рядом.
Эта женщина, будто вода: вода легко принимает любую форму, вбирает в себя любые примеси. Так и Киферида с легкостью становилась кем угодно. Если продолжить это сравнение, то я так и не испробовал чистой воды из озера, откуда она бралась, и не знаю ее вкус. Я пил ее с медом и вином, лил ее в лучшие амфоры, но никогда не знал, что она из себя представляет на самом деле.
Теперь я добрался бы до этой тайны, до самой сердцевины, но тогда я был моложе, и принимал ее изменчивость, легкую податливость, как данность.
И она была единственной женщиной, которой нравилось, когда я был с ней очень нежен, только нежен и томительно ласков. Вот это, думаю, настоящее.
У меня было множество женщин, но ни одна не любила нежность так же сильно, как Киферида. Однажды я спросил ее, почему так, почему страсть кажется ей таким горьким плодом.
Она ответила:
— Когда я была рабыней, я не могла попросить мужчину о мягкости. Считай, что я наслаждаюсь властью.
Но, думаю, отчасти она боялась мужчин, того, что они могут с ней сделать, если захотят — и в этом яснее всего проявлялось ее рабское прошлое. В остальном, Киферида выглядела и вела себя как свободнорожденная.
Так вот, тот раз, да, тот раз: мы снова занялись любовью, и я вел себя так осторожно, как только это возможно, словно Киферида была из стекла. Потом, когда мы лежали рядом, стараясь отдышаться, я спросил:
— Выгляжу нелепо, да?
— Весьма, — ответила она честно. — Как Геркулес, если бы он гладил кошку.
— У меня есть кошка, которую он гладил, — сказал я, подняв с пола свою львиную шкуру.
— Дурачок, — сказала Киферида. Я потянулся, зевнул и клацнул зубами.
— Все достало, — сказал я. — Не могу больше. Ходить в окружении ликторов круто, но быстро надоедает. А я думал, мне так понравится, вроде как, я такой важный.
Киферида сказала:
— Такое твое положение временно. Как и чье угодно положение в этом мире.
— И вилла Помпея надоела, — сказал я.
— Потому что ты превратил ее в лупанарий.
Я пожал плечами.
— Это не я.
— А кто же?
— А Помпей сам, — засмеялся я.
— Правда?
— Правда! Совесть — тысяча свидетелей.
И вдруг мне в голову, безо всякой связи с разговором, пришла прекрасная мысль.
— Думаю, мне надо отдохнуть.
Киферида приподняла тонкие темные брови.
— Правда? — спросила она. — Отдохнуть?
— Думаешь, я ошибся словом? Думаешь, я хотел сказать "поработать"?
Киферида засмеялась.
— Нет, Марк Антоний, не думаю.
— Надо отдохнуть, — пробормотал я. — От всего этого. Тогда моя голова заработает снова. Знаешь что, мне надо проветриться, вот и все. И тогда станет ясно, что делать, и как быть. Ты совершенно права!
— Я такого не говорила, — со вздохом сказала Киферида. — Совершенно точно.
— Но ты так подумала, верно?
После недолгой паузы она сказала:
— Нет. Я так не думала.
Но я уже был вдохновлен новой сияющей идеей.
— Мы с тобой поедем в Байи, ты и я, и никого больше. Будем с тобой трахаться и купаться, купаться и трахаться, и я вернусь отдохнувший, посвежевший, и все станет таким новым и прекрасным.
— Вижу, ты вдохновлен, — сказала мне Киферида. Она не сказала, нравится ли ей эта идея, но поехала со мной.
Вообще-то я не имел права устраивать себе отпуск, но Лепид, думаю, находившийся в беспримерном восторге от того, что я на какое-то время уеду, пообещал со всем разобраться.
И мы с Киферидой отправились в Байи.
Вообще, конечно, Байи славились своими лупанариями, роскошными и развращенными даже по меркам этих нескромных заведений, но меня вдруг туда не потянуло, у меня была моя Киферида, и я любил ее свежо и страстно.
Прекрасный город стройных кипарисов и синего моря, город, которому нет равных в удовольствиях. Даже в местных термополиях для омовения рук подавали воду с шафраном, все дышало беспредельным богатством и радостью жизни.
Но именно всего этого я наелся изрядно и дома, крошечные Байи устроил я себе на вилле Помпея, поэтому в местные роскошные заведения меня совершенно не тянуло.
Наоборот, я жаждал уединения, и мы с Киферидой поселились в большом, прекрасном доме на самой окраине города. Красивое, непомерное для человека здание — у этой виллы имелась даже собственная пристань, прекрасная дорожка, ведущая в никуда, в синее море без конца и без края. Рядом был живописный скалистый берег с узкими нишами, облизываемыми волнами острыми камнями, роскошными просторными гротами, вода в которых была столь чиста и целебна, что одно погружение в нее избавляло от похмелья.
Хозяйкой дома была одна богатая вдова, которая приходилась Кифериде близкой подругой. Это была красивая, чернокудрая женщина с печальными, опухшими глазами. За ней все время ходил мальчик лет этак шести, ее странный сынок.
Его звали Тит, и та женщина, Семпрония, очень любила мальчишку.
Ребенок был на редкость красивый, он унаследовал черные кудри матери и ее глубокий взгляд, однако лицо его было бледным, а нос длинным и ровным, и весь его вид выражал такое благородство, такую божественную, ничем не объяснимую аристократичность.
Впрочем, Тит оказался сумасшедший мальчонка. Она частенько повторял слова снова и снова и бил себя по голове. А дни предпочитал проводить, ходя хвостиком за матерью или, напротив, прячась где-нибудь и раскачиваясь.
Семпрония сказала:
— В тот год, когда умер мой муж, малыш Тит упал с лестницы. Его голова повредилась. Раньше он не был таким.
Мне было жаль эту красивую женщину, ее богатый дом с безупречными мозаиками и просторными анфиладами, с роскошной библиотекой и огромным садом, он не стоил тех лишений, которые она претерпевала, лишившись для начала мужа, а потом, по сути-то, и сына.
Тит, да, милый, смешной мальчонка, но сразу ясно, что у него никогда не будет жизни за пределами этой прекрасной виллы, он не станет мужчиной, не отправится на войну, не женится, не займется политикой. И смотреть на эту его красоту, которой суждено было расцвести и увянуть здесь, оказалось совершенно невыносимо.
Я старался быть добрым к мальчишке и часто дарил ему подарки, правда, он не применял их по назначению: сладости закапывал, а игрушки бросал в море. Не потому, что ему не нравился лично я, нет, он принимал подарки с благодарностью, но у Тита были свои представления о том, что с ними делать.
Я так и называл его Дурачок Тит.
Отдых у меня удался с самого начала. На вилле было все, в том числе и тренажерный зал, где я, хорошенько напиваясь прямо с утра, проводил полдня. В самый полуденный зной я прыгал в пахнущий хлоркой бассейн и чувствовал себя самым счастливым человеком на свете, изможденным физическим, мертвецки пьяным и наполненным каким-то волшебным смыслом всей жизни.
Не знаю, отчего мне было так хорошо напиваться в качалочке, а потом прыгать в бассейн и глотать хлорированную воду. Таков был мой особенный ритуал. Заниматься пьяным — удовольствия мало, кружится голова и тошнит, но в этом столь много запредельной свободы тела, свободы от ограничений, свободы от боли, что я будто исчезал из мира людей и на короткое время становился богом. Когда ты бухой, то сам не замечаешь, как получаешь травмы, тебе кажется, что ты можешь все, и ты не чувствуешь, что тебе больно, но и то и другое — обман. Похоже на мою жизнь, правда?
А в хлорированной синей воде бассейна я рождался заново.
Потом мы с Семпронией с восторгом смотрели выступления Кифериды, которая и здесь не забрасывала свои репетиции, и случался обед, плавно переходивший в ужин, а ночи мы с Киферидой проводили в море, где любили друг друга часами.
Пьяный, я часто беседовал с Дурачком Титом.
Я говорил ему:
— Надо тебе браться за голову, друг. Знаешь, не обязательно быть особенно умным, чтобы добиться всего в жизни. Ты вообще в курсе, кто я?
Дурачок Тит смотрел на меня большими темными глазами и повторял:
— Кто я, кто я, кто я, кто я.
Словно диковинная птичка.
— Зря дразнишься, — говорил я, приговаривая вино со специями. — Это тебе не на пользу.
— На пользу, — говорил Тит, словно пробуя слово на вкус, а потом пытался залезть пальцами мне в нос.
— Эй, иди на хер, — говорил я. — Меня сейчас стошнит.
В общем, хотя я считал Тита своим другом, он, пожалуй, склонялся к тому, что я нечто неодушевленное, и ему было интересно разве что тыкать пальцами мне в лицо.
— Друзья так не поступают, — говорил я.
Как-то Киферида заметила, что я неплохо общаюсь с Титом.
— Я бы не сказал, — ответил я. — Он пытается меня убить, как и моя дочь. Но ей я хотя бы отомщу однажды, выдав ее замуж.
— Наверное, малышка Антония скучает по тебе, — сказала Киферида.
— Какая из двух?
— Думаю, младшая.
У Кифериды не было детей, и она относилась к ним очень-очень нежно. Она никогда не брала их на руки, словно боялась уронить, и всегда им улыбалась, и голос ее менялся, становился более грудным, ласковым, будто сейчас она запоет колыбельную.
Но, в отличие от многих бездетных женщин, она не испытывала никакой зависти к матронам. Дети вызывали у нее только радость и восторг, и она любила наблюдать за ними. Однако, с Дурачком Титом не ладила даже Киферида. У него был интерес ко мне, и единственный этот интерес заключался в том, чтобы выколоть мне глаза.
Однажды, уже к концу нашего пребывания в Байях, Киферида подарила Титу маленького резинового динозаврика, очень яркого, фиолетово-зеленого, пищащего при нажиме. И этот подарок неожиданно его заинтересовал. Он даже сказал нечто осмысленное, что бывало с Титом не так уж часто. Он сказал:
— Ему нужен маленький домик.
Пару дней после этого я находил этого динозаврика в самых неожиданных местах. Однажды Тит положил его в жаркое из оленины.
— Он кушает? — спросила Тита Семпрония.
На что Тит ответил:
— Нет, он тут живет.
Вот так вот бывает, я тоже жил на вилле Помпея, и многим это казалось странным, так что динозаврика я вполне понимал.
Помню, Луций, одно чудесное утро. Я, пьяный больше обычного, оккупировал беговую дорожку, и, пока в глазах не начало двоиться, не слезал с нее. В итоге меня стошнило. Потом, разгоряченный, я упал в холодный бассейн и пошел ко дну.
Все стало синим. Надо мной была толща воды, и, хоть воздуха не хватало, мне было невероятно хорошо, в груди и в голове разлилась такая легкость. Я вдруг подумал: а ведь можно и не всплывать.
Нет, разумеется, лучше бы так не делать.
Просто есть и такой вариант. И, может, это не худший исход — умереть так: в наслаждении и любви, в ощущении своей неиссякаемой силы.
Синий мир надо мной вдруг стал ярче, засветился, а потом в него ворвалась Семпрония. Она наклонилась над водой и что-то кричала. Я с неохотой вынырнул.
Вода залилась в уши, и мне было уже не так хорошо и прекрасно, голову сжал обруч боли, из носа текло.
— А? — сказал я, пытаясь проморгаться. — Долбаная хлорка. Надо сказать этому рабу, пусть он добавляет…
Тут я увидел, что Семпрония плачет, ее всегда чуть покрасневшие, чуть припухшие веки выглядели теперь совсем воспаленными.
— Тит! — крикнула она. — Тит сейчас упадет!
— Что? Откуда упадет? Куда?
Я быстро вылез, быстро оделся, а Семпрония все это время причитала:
— Он забрался так высоко, так высоко! Как он забрался туда?
Я побежал за Семпронией, мне хотелось ее перегнать, но только она знала дорогу. На каменистом берегу стояла Киферида. Она прижала руки ко рту, глаза ее были широко раскрыты. От страха она полностью потеряла над собой контроль, и теперь я думаю, что если бы рассмотрел тогда ее лицо, то что-то понял бы о ней настоящей.
Тит стоял на высоком каменном островке в море, внизу торчали острые булыжники, а самого Тита едва было видно, он стоял в узкой темной нише и смотрел на нас оттуда. В руке у него был тот самый фиолетовый динозаврик — ярчайшее пятно на свете.
И как Тит туда поместился? Вот о чем я подумал первым делом. Уж очень узкая была расщелина.
А потом я кинулся в море и поплыл к этой высокой скале, всей в скользких выступах. Будучи уже на половине пути, я понял, что не снял кроссовки. Мои бедные белые кроссовки, очередное их воплощение погибло мучительной смертью.
Тит просто смотрел на берег, безучастно и вроде бы не испуганно. Вокруг него блестели от воды острые-острые камни, и он, только выйдя из своей надежной ниши, мог сорваться вниз в любой момент и разбить себе голову уже окончательно.
Впрочем, он ведь как-то туда добрался. Вот цепкий малец, правда?
Когда я вылез на камни, то рассудил, что, вылив воду из кроссовок, лучше снова их надеть, подошва поможет не скользить так сильно.
Я все еще был пьяный, и довольно сильно пьяный. Мне повезло не утонуть в море, а теперь должно было повезти еще больше. Я обернулся, чтобы посмотреть на берег. Киферида так и стояла, прижав руки ко рту. Семпрония опустилась на землю и плакала, будто уже случилось что-то ужасное. Думаю, ее накрыло неприятными воспоминаниями о роковом падении Тита.
Во всяком случае, у меня были очень благодарные зрители.
Камни поросли водорослями, что делало их еще более скользкими. Я запрокинул голову и посмотрел на Тита. Он стоял неподвижно, разве что сжимал в руках фиолетового динозаврика, и тот издавал писк.
Я не решился ничего ему говорить. Никто не мог предсказать, как Дурачок Тит отреагирует. И я молча полез вверх. Это было тяжело и муторно, я сорвал себе два ногтя, пытаясь уцепиться за такие ненадежные и короткие выступы. Меня грели лишь взгляды женщин на берегу, а в остальном — продувал холодный морской ветер.
Тит пищал своим фиолетовым динозавриком, и мне очень хотелось, чтобы это занимало его как можно дольше. В одну секунду я был максимально близок к гибели, когда выступ под моей ногой раскрошился, и я едва не слетел вниз, прямо к бесславной гибели с раздробленным позвоночником и проломленным черепом. Наконец, я оказался с Титом на одном уровне. Однако ниша, в которой он стоял, располагалась на совсем уж узком выступе, по которому я никак не мог пройти.
— Тит, — сказал я. — Парень, привет. Ты как вообще? Ух куда забрался!
Я старался говорить как можно более успокаивающим голосом, чтобы не спугнуть его.
— Слушай, друг, можешь мне помочь? Ты не хочешь отсюда уйти? Нет, не прямо вот так, для этого тебе нужен я. Ты должен сделать пару шагов вперед, и я смогу тебя перехватить.
Тит показал мне динозаврика.
— Он тут живет, — сказал Тит.
— Так оставь его здесь, обустраиваться, — ответил я.
— Он тут живет, — повторил Тит.
Я сказал:
— Но ты-то живешь дома, с мамой, правда? Он тут, а ты — там.
Тит покачал головой.
— Пожалуйста, друг, — сказал я. — Если захочешь, можешь ткнуть мне в глаз. Обещаю, я буду терпеть.
— Он тут живет.
— Твою мать, — сказал я в отчаянии. Надо добавить, я не против был бы его мать, красивая женщина все-таки. — Я прошу тебя, друг Тит, мне очень нужно чтобы ты сделал один маленький шажок ко мне.
Я подобрался к нему максимально близко, протянув руку, я мог бы подхватить его, если бы только Тит вылез из своей расщелины.
— Давай, мать твою, — сказал я ободряюще. — Ты уже большой мальчик, ты что это удумал? Давно прошли времена, когда ты в первый раз вылезал из такой вот штуки.
Что ты лепишь, Марк Антоний, подумал я. С другой стороны, главное было журчать ему хоть что-то. Я говорил мягко и ласково, и был, пожалуй, самым терпеливым человеком на свете.
Наконец, Тит посмотрел куда-то мимо меня, в глубокое, бурное море.
Я чуть не соскользнул вниз, сердце упало, но я удержался и посмотрел на свои грязные белые кроссовки.
— Тихо, — сказал я то ли Титу, то ли самому себе. — Тихо, друг.
— Только один шажок? — спросил Тит.
— Только один, — сказал я.
И он попытался залезть еще дальше в нишу.
— Нет, — сказал я, молясь Юноне, чтобы он не застрял. — Не туда. Обратно. Давай. Теперь два шажка.
Как только Дурачок Тит выступил из расщелины, я тут же схватил его и перетащил к себе, на более надежный, более широкий выступ. Тит не понял, что я желаю ему добра, и вообще вряд ли он осознавал степень опасности, в которой находился. Тит вцепился мне в волосы и принялся визжать.
— Вот паскуденыш, — сказал я. — Тихо, твою мать!
Я закачался, и мы оба едва не полетели вниз. Как-то я умудрился выхватить у него динозаврика и заорал:
— Все, прекрати орать! Я сделаю его мертвым, понял? Оторву ему голову!
Губы Тита задрожали, а я, схватив его, перекинул через плечо. Фиолетовый динозаврик остался моим заложником, я сжимал его в зубах. И главное мне было не уронить его в море, а то Тит мог бы угробить нас обоих.
Наконец, мы с ним спустились, я усадил его к себе на спину и поплыл к берегу. Пока динозаврик был у меня, Тит вел себя тихо.
Только один раз сказал:
— Он задыхается.
А я, мать твою, думаешь не задыхаюсь? Так я подумал, но сказал:
— У него хорошая дыхалка.
Когда мы оказались на берегу, я вернул игрушку Титу, а он кинулся на меня, наступил на ногу и стал колотить меня по рукам.
— Ну и не нужна мне твоя благодарность, — сказал я весело. — Мне нужна благодарность твоей мамаши.
Потом я глянул на Кифериду.
— Да и ее благодарность не нужна, — добавил я пристыженно. Киферида и Семпрония кинулись целовать Тита, а я наблюдал за этим с радостью и ощущением хорошо сделанной работы.
Семпрония рассыпалась в благодарностях и явно не знала, что делать: я был богат и обладал большой властью, и она ничем не могла мне отплатить.
Уже вечером Киферида сказала мне:
— Вот такого Антония народ полюбит. Не пьяницу, за которым носят золотые чаши с благовониями, и не проходимца, забравшегося в чужой дом. Антония можно полюбить за то, что он верный и смелый друг, который не бросит в беде.
Я сказал:
— Правда?
— Абсолютная.
Это был первый и последний совет, который Киферида мне дала. Кстати говоря, крайне полезный.
В последний вечер перед отъездом Тит, не разговаривавший со мной все это время, вдруг протянул мне динозаврика.
— Теперь он живет с тобой, — сказал Тит. Я так и не понял, дошло до Дурачка Тита, что я желал ему добра, или у него появилась новая прекрасная идея, куда поселить своего динозаврика — в неведомом городе Риме, где Тит вряд ли побывает.
В любом случае, Тит расстался с игрушкой без сожаления, а я привязался к ней почти так же сильно, как к своей львиной шкуре. Все таскал ее с собой, а когда кто-нибудь меня спрашивал, что это, собственно, за игрушка, я отвечал:
— Да так. Спас одного ребенка. Он мне и подарил.
А спустя некоторое время после возвращения в Рим, мне представился случай стать тем Антонием, про которого говорила Киферида.
Цезарь вызвал нас с Габинием в Македонию.
Помню, Габиний, прищурив свои длинные глаза, сказал мне:
— Зима — опасное время для такого рода путешествий. Мы можем больше потерять, чем найти. Нельзя двигаться по морю, хоть это и быстрее, нужно идти по суше кружным путем.
На его красных щеках появились уже совершенно алые звезды — признаки долгой внутренней болезни.
Да, подумал я, тебе лучше не рисковать. Ты теперь ранимый пухлячок, такой, каким бы не велел изобразить себя тогда на сирийских монетах.
— Нет, — сказал Габиний, видя мой скепсис. — Антоний, я вполне серьезен. Всякий, кто пускается в такое опасное путешествие, должен рассчитывать на гибель больше, чем на спасение.
Он предложил двигаться по суше, но это было слишком долго, а дела у Цезаря шли все хуже и хуже, ему нужно было подкрепление.
Я сказал Кифериде:
— Вот он я, тот Антоний, который верный друг и придет на помощь.
Я не собирался медлить, хотя оказалось, что флот у меня не слишком-то готов к решительным действиям, во всяком случае, все не так гладко, как я полагал.
Если нас уничтожит шторм, что ж, Цезарь не получит подкрепления, но если бы мы отправились кружным путем, Цезарь все равно не получил бы его вовремя.
В целом, тогда я был вполне готов погибнуть — путешествие намечалось опасное, да и Габиний настроил меня соответствующе.
Мне повезло не только разбить в море Либона, подосланного Помпеем остановить меня в гавани, но и захватить один из его кораблей.
Сам ветер был мне покорен, он остановил начатую за мной погоню и выбросил мои корабли вперед.
Однако здесь и случился главный кризис, который предсказал Габиний. Ненасытный, бурный ветер понес мои корабли к скалам, напоминающим ту, с которой я доставал Дурачка Тита, но много, много больше.
Осталось лишь молиться, потому как корабли, это известно, находятся в полной власти ветра, и человеческая воля не в силах ей противостоять.
Помню, я совсем потерял надежду, сильный ветер сопровождался дождем, хлеставшим меня по щекам. Корабль качало, и я едва держался на ногах. Мы неумолимо двигались к скалам, и я молил Нептуна даровать мне шанс быть выброшенным на берег и похороненным соответственно обычаям.
Чтобы справиться с нервозностью, я все мял в руках фиолетового динозаврика. Писка игрушки почти не было слышно за криками и шумом дождя. Я приложил ее к уху, и вдруг мне послышался голос Дурачка Тита:
— Он теперь будет жить здесь.
Повинуясь странному желанию, я сбросил игрушку в море, будто принес жертву Нептуну.
Ну, подумал я, в конце концов, у него тоже есть детки, и они поиграют.
И тут же решил себе врезать за богохульство. Но внезапно, веришь ты или нет, Луций, ветер сменился.
Увидев берег, я не поверил своим глазам. Вражеские корабли лежали, будто древние поверженные звери, люди молили о помощи. Пленники, уцелевший провиант, оружие и прочие трофеи, все это невероятно нас усилило. Беда вдруг обернулась невиданным счастьем. Без труда захватив город Лисс, я двинулся навстречу Цезарю, будучи не обескровлен, но оснащен лучше прежнего.
Так за фиолетового динозаврика я получил великую добычу, которая была тем ценнее, что нашлась в нужный момент. Вдвойне дает тот, кто дает быстро.
Можешь мне не верить, но я думаю, что Дурачок Тит умудрился отплатить мне за мою смелость таким хитрым образом.
Не зря ведь говорят, что безумцы связаны с богами. Может, пока он стоял в той расщелине, глядя на прекрасное синее море, Нептун сказал ему что-то важное о своих планах.
Во всяком случае, я иногда думаю, как он там, Дурачок Тит, и где он там, его динозаврик? На дне морском или, может быть, его выбросило куда-то, и он стал добычей ребятишек из прибрежных поселений.
Теперь я думаю: море и любило меня и ненавидело.
Но, когда я проявляю безрассудную смелость, мне обычно везет.
Ну, дорогой, будь здоров!
Твой брат, Марк Антоний.
После написанного: какая все-таки чудная штука жизнь, правда? Дергаешь вдруг вслепую за одну нить, а отзывается твое движение совсем в другом месте. Никогда ничего не угадаешь.
Во всяком случае, я ничего не угадал.
Послание тринадцатое: Полет и падение
Марк Антоний, брату своему, Луцию, без сомнения уже во всем разобравшемуся.
Милый друг, только сейчас я понимаю, что в смерти и во всем, что ее касается, нет скверны, и скорбь по умершему почище многих других чувств, которые мы испытываем, которые испытывал я.
Нет скверны, нет страха, нет отвращения.
Я всю жизнь старался избегать напоминания о смерти, я старался быть жизнью воплощенной, погружался в удовольствия, ей присущие, и бежал от того, что люди смертны. Очень долго я не посещал места захоронения моих любимых людей, потому что боялся, что их смерть, как болезнь перекинется на меня. Я тосковал внутри, и думал, и вспоминал, но я не ходил туда, где нашел покой их пепел.
Теперь я бы все отдал, чтобы побывать у них снова. Я знаю, зачем это нужно, и почему люди делают именно так — не развеивают пепел над реками и морями, чтобы все исчезло и не осталось ничего, а помещают его в специальные места.
Теперь я бы все отдал, чтобы просто поговорить: с тобой, с Гаем, с Публием, с Клодием, с Курионом, с Фульвией, с Цезарем. Просто посидеть с вами рядом и, может быть, почувствовать, что часть вас все еще находится здесь и никогда никуда не уйдет. Может, я хотел бы что-то рассказать, как рассказываю тебе.
Будь я там, где нашли приют твои кости, да, я сидел бы с тобой день и ночь, и выговаривался бы.
Я всю жизнь бежал от смерти, я хотел жизни и любви, а теперь вижу, что любовь была везде, вижу и скучаю. Скучаю по тебе и еще по многим людям, и надеюсь, что кто-то будет скучать так же по мне.
Умереть не страшно, страшно, что тебя не будут любить и заботиться о тебе, и все забудут, что ты был на свете.
А в остальном не страшно, нет. Вот какие вещи волнуют меня теперь, брат мой, Луций, вот к чему я пришел. Вгрызаясь с таким удовольствием в жизнь, невозможно не прогрызть ее до небытия, до обратной стороны.
Я столького не понимал о том, как это, умереть. Люди уходили, а я не прощался, хранил их в сердце, как живых, мстил за их смерть, просил их о чем-то, но не прощался.
Знаешь, во что еще я верю? Духи наших предков (и даже более того, всех, любимых нами людей) продолжают существовать в качестве этой жизненной субстанции, в качестве какой-то любви и защиты, предоставленной нам небом. Я считаю, что в моей жизни было достаточно любви и защиты, и ни о чем не жалею.
Иногда, когда я думаю, что ты видишь меня, мне становится так тепло. Хотя смотреть тут не на что, но, послушай, мне все равно хорошо оттого, что ты рядом, и ты меня не оставил.
Когда я умру, я хочу присоединиться к вам и быть рядом уже навсегда. В мире много добра, в жизни много добра, любви, но ее не бывает без жестокости и крови. Точно так же и в смерти много зла и ненависти, но ее не может быть без любви.
Сегодня душно, но очень красиво. Моя детка по очереди назвала все созвездия (ее это убаюкивает), и я надеюсь, ты слушал. Это очень интересно.
Я опять говорю о смерти, будто нет других тем, но это ведь неправда. Есть другая тема — моя жизнь, и в ней, о, ты знаешь это, есть и было все. Я пишу потому, что вспомнил о Курионе. Терять друзей нелегко, и даже спустя годы носишь это в сердце, как камень. Кажется, к гибели родственников готовишься всю жизнь, боишься этого, отчаянно желаешь отдалить мгновение расставания, но их смерть уже заключена в тебе. Когда умирает друг, ты не веришь, потому что история о его смерти не записана в твоей семье, в твоем детском уме, такая смерть приходит из ниоткуда.
Но, как говорил мне когда-то Публий, все в жизни надо принимать так, как оно есть. Вроде как отряхиваться и идти дальше. Я делал это всю жизнь, потому что так меня учил Публий, а теперь, когда дальше идти некуда, и можно уже не отряхиваться, приходит понимание. Но приходит оно не с разрывающей сердце болью, как я ожидал, а с правильной печалью.
И я в очередной раз убеждаюсь, что Публий все знал.
Так вот, после моего блистательного присоединения к Цезарю, Фортуна хорошенько взялась за меня. Сражение шло за сражением, и я демонстрировал Цезарю не только похвальную смелость и ловкость, но и хитрость, способность выступить в нужный момент, взаимопонимание с солдатами, в общем, все, чем я был так славен.
Цезарь видел меня исключительно с хорошей стороны. И хотя до него, безусловно, доходили слухи о моем поведении в Риме, в бою я отличался такой радостью и страстью, без которых не бывает победы, и Цезарь только хвалил меня.
Я был настолько в ударе, что со своей кавалерией дважды пресекал бегство солдат Цезаря и заставлял их приложить немножко (много!) усилий и добыть нам победу.
— Давайте! — кричал я. — Я не боюсь смерти, и вы не бойтесь! Какая разница, лишитесь вы головы так или этак! Разворачивайтесь и сражайтесь!
И, пару минут спустя, я сам кидался в сражение, в кипучее, пахнущее кровью варево войны.
Я не боялся ничего, даже если бы на стороне Помпея сам Плутон командовал подземным войском, я с криком ринулся бы на него. Все, что в мирной жизни приносило мне боль, все, что было неудобным, как слишком тесная обувь — ногам, на войне вдруг становилось моим достоинством, и я терял себя грамотно, а потом всегда находил.
Мне не за что винить Фортуну, ее нежные руки обнимали меня всякий раз, когда я брался за меч.
Однако, есть у меня одна печаль из тех времен. В битве при Фарсале, решающей битве, главной битве всей войны, я командовал левым крылом, и мое влияние на итоговый результат было незначительно.
Я мог бы прославить свое имя еще сильнее, и долго корил судьбу за то, что не успел хорошенько надавать всем люлей на вверенной мне территории. О, жестокая судьба, думал я, почему я не стяжал больше славы в этой великолепной битве.
Узнаешь меня? Мне всегда мало.
Цезарь, благодарный мне за мое удачное прибытие и верную, храбрую службу, сделал меня вторым человеком в государстве. А, поскольку он снова погнался за Помпеем, теперь уже разбитым и разгромленным, скрывшимся на Востоке, я и вовсе стал самым главным человеком в Риме.
И снова оговорюсь, Луций. Ты прекрасно знаешь, почему Цезарь обличил властью именно меня, я не был достаточно умен для того, чтобы пустить в Риме корни. Я вообще никогда и нигде не способен был пустить корни, слишком бестолково и хаотично складывалась моя жизнь.
Но разве тогда я это понял? Нет, я рассудил, что Цезарь доверил мне управление жемчужиной мира, его величайшим сердцем. Я был на вершине, и меня переполняли гордость и счастье.
Великой ошибкой того времени было для меня отождествление власти и славы военной и реальной политики. Разумеется, меня встретили как героя, потому что я был силой. Я был ненасытен, горделив, радостен и совершенно кровожаден. Думаю, это улавливалось.
Даже Цицерон, получивший прощение Цезаря, не спешил со мной ругаться. Этот нервный, но ловкий человечек понимал, что я собой представляю. Он приберег свои обвинения и плевки в мою сторону до более подходящего времени.
Думаю, в конце концов, все бы скатилось к тем же беспорядкам, что уже были, и их пришлось бы купировать грамотным управленцам вроде Лепида. Не сомневаюсь даже, у меня много иллюзий по поводу великолепного Марка Антония, но не на этот счет.
Однако, стоило мне вернуться домой, как меня настигла весть о смерти Куриона.
Помню, мне сказал это сам Лепид. Степенный, скучный и спокойный мужик, весть о смерти от него выслушивать было все равно, что прочесть письмо.
— То есть, как умер? — спросил я. — Как так умер?
И Лепид подробно объяснил мне, как он умер, и что голову его преподнесли нумидийскому царю, как трофей, что касается тела, оно не было ни найдено, ни погребено, ни сожжено.
— Вот ты отморозок, — сказал я Лепиду и ушел.
Начался дождь, и я бродил по пустому Форуму в окружении ликторов, которых это явно не радовало, они промокли и замерзли, но ничего не говорили. Дождь был такой сильный, словно его заранее задумали для этого момента. Смешно, что такие вещи все равно радуют, будто боги смотрят на тебя и устраивают все, как нужно.
Есть ощущение присутствия чего-то или кого-то, кто спланировал сцену и знает лучше.
Первым делом я ощутил именно это: какой чудный дождь, будто сам день как-то связан со мной, с моим внутренним состоянием. Но мое внутреннее состояние при этом было отнюдь не такое трагическое, как ожидается. Я подумал: как здорово, что мы с Курионом успели помириться еще тогда, перед тем, как Цезарь перешел Рубикон. И подумал, что не злюсь на него ни за что, даже тени злости нет.
Но как эта умная голова могла быть принесена какому-то нумидийском царьку, если еще недавно она шутила и смеялась, вот эта самая голова.
И вино, которое мы оба любили в равной мере, Курион заливал именно в эту голову.
Разум не мог принять этот простой факт: то была уже мертвая голова, серая голова, синяя голова. Она не могла говорить, смеяться, и вино выливалось бы из нее, потому что она не соединена с шеей.
Довольно очевидно, правда? Но я не мог себе представить, что голова Куриона могла быть отделена от тела. Думаю, сходные ощущения моя детка, видевшая все прекрасно, испытывала, когда лишили головы Беренику.
Нумидийский царь, думал я, рассматривал эту голову, не знаю, подкидывал ее на коленке, залезал пальцами в рот. А эта голова была неподвижна, и она не сказала:
— Попрошу без фамильярностей, положи-ка меня на место и налей мне выпить.
Нет-нет, голоса Куриона уже не существовало, когда его голова оказалась на золотой тарелке африканского царька.
Лепид сказал, что у Куриона была шанс сбежать, но он устыдился проигранной битвы и не хотел быть трусом.
А я думал: нет, ты не был лучшим воином, и этого стоило ожидать.
Но Курион не был и трусом. И умер он, как человек смелый, как человек, которого не испугаешь. Он ушел правильно, не отступая, не соглашаясь на полумеры.
Мог ли я на его месте поступить так же? Я, привыкший ко всеобщей любви и боящийся поражений, как огня? Да, мог бы. И это моя голова лежала бы на тарелке, а тело осталось быть гнить на жаре.
А Курион недоумевал бы, как так вышло, и почему я не сказал:
— Мужик, положи мою башку на место. Кстати, я есть хочу, дай-ка мне чего-нибудь африканского!
Голова отдельная от тела всегда удивительна. Сколько я видел таких — нельзя пересчитать. Всегда странно от того, как разбивается что-то цельное, и исчезает тело, как некоторая совокупность частей.
Когда человека обезглавили, стоит грустить по телу или по голове?
Я думаю, что по голове. На голове глаза и рот, главное, что участвует в общении. Так что, тело может остаться гнить на жаре, оно вполне анонимно. Лишь голова ценна.
Я только надеялся, что этот дикий нумидийский царек не содрал с головы моего друга Куриона мясо и не съел его. Хотя Курион, конечно, будь он жив потешался бы над такой дикостью.
Но все-таки мне не верилось, скорее, даже не в его смерть (смерть на войне, ее принимаешь в себя и не отпускаешь уже никогда). Не верилось в отдельность его головы и тела, и в то, что он никогда не будет сожжен. Это ведь грустно, что он никогда не будет сожжен.
Душа его не найдет покоя, и будет скитаться по тем жарким краям, по тем мерзким местам.
Наконец, вымокнув до нитки и дрожа, я пошел к Кифериде, чему была крайне рада моя охрана.
Там, может быть, вдохновленный ее театральными подвигами, я пал к ней в ноги и разрыдался.
— Курион! — сказал я. — Друг мой Курион!
Киферида раздела меня и отогрела. Она все привыкла делать сама, ведь когда-то была рабыней. Омывая меня горячей водой, она говорила:
— Такова судьба воина. Это достойная смерть.
А я плакал, как ребенок. Потому что я знал, что да, это крайне достойная смерть. Лучше не бывает. Но она забрала у меня лучшего на свете друга.
— Ты думаешь? — спросил я.
— Я знаю, — ответила Киферида. — Это будет геройство, которое однажды воспоют.
Но я знал, что никто не будет воспевать поражение, если только от него не зависела судьба целого мира. Поражение забудут, голова Куриона пополнит коллекцию нумидийского царя и истлеет там, а я стану жить дальше.
— Киферида, — спросил я. — Почему так?
Она ответила, что так случается, и лишь боги знают, зачем.
— Все задумано ими, — сказала Киферида. — Смертный не может понять их, и поэтому скорбит. Но кто уходит, уходит вовремя.
Она верила, что нет ранней, неправильной смерти. Наверное, это в чем-то ей помогало.
И тогда я, весь в слезах, завывающий, как зверь, вдруг сделал ей больно. Я сказал:
— А почему же ты тогда так переживала за Дурачка Тита? Кто уходит, уходит вовремя.
Киферида открыла было рот, но заговорила не сразу.
— Потому что я слаба и смертна, — сказала она, наконец. — Тебе больно, Антоний, но это пройдет.
Я обхватил голову руками, а Киферида полила мою спину горячей водой.
— Я так проклят, так проклят, — бормотал я. — Почему я проклят, моя милая Киферида, и все умирают вокруг меня?
— Все мы прокляты, — сказала Киферида. — Я потеряла не меньше людей, чем ты. Но всякий одинок в своей скорби.
Она поцеловала меня в лоб.
— Бедный мой Антоний, — сказала она.
— Но мое сердце разрывается.
— Всякое сердце разрывается, кроме мертвого.
И я зарыдал пуще прежнего — мертвое сердце в мертвом теле, в теле, которое гниет в африканской пустыне.
— Почему так? Почему так? — спрашивал я. — Не могу думать о том, что у него не будет могилы, не будет места, которое он мог бы…
И я чуть не сказал "назвать домом". Но Куриону больше не придется ничего называть.
Я сказал:
— И все мои победы, я бы отдал их, чтобы мои друзья были живы, и чтобы Фадия была жива, и чтобы мой отчим — тоже.
— Не отдал бы, — сказала Киферида. — Такова история твоей жизни. Ты не можешь быть тем, кто ты есть в данный момент, без своих побед и поражений. И ты не можешь быть тем, кто ты есть, без своих смертей. Тебя бы не было, вот и все, и какой-то другой Антоний хотел бы чего-то другого.
А я, Неос Дионис, жажду утвердить вечную жизнь, в которой не будет этой боли, когда голова разлучается с телом.
Я сказал:
— Я должен успокоиться, да?
Киферида сказала, что я никому ничего не должен, и я почувствовал себя очень одиноко.
В мире, где никто никому ничего не должен, даже успокоиться, я остался вторым после Цезаря, но больше не чувствовал радости.
Оказалось, что все равно, на вершине ты или в самом низу, все это одинаково больно. Когда мы потеряли отчима, наша опозоренная семья пребывала на дне, и вот я так далеко от того дня и так высоко, но ощущения все те же, даже хуже. Чем старше становишься, тем горше смерть. Ребенок гадает: любил, не любил, страшно, не страшно. Взрослый точно знает, что любил, и что страшно.
Ночью я лежал без сна. Рядом сопела Киферида. Она спала, подложив руки под голову, и улыбалась во сне. Должно быть, она пребывала в хорошем месте.
Я смотрел на нее и любовался. Не красотой, нет, каким-то внутренним светом и спокойствием, которого никогда не было у меня.
Я был беспокоен и метался по жизни, а Киферида шла вперед по своей, только ей известной, дороге и не сбивалась с нее никогда. В тот момент я так ей позавидовал: спокойствию ее души, силе ее сердца.
И я подумал, что мы не должны быть вместе, потому что я гнию внутри и горю снаружи, а она просто живет, и ей надо просто жить.
Я поцеловал ее в лоб, встал и призвал рабов одеть меня.
Я еще не знал, куда я пойду, но знал, что с Киферидой больше не буду. Этот великолепный Марк Антоний только жег ей руки и ни для чего не был нужен. Киферида не тщеславна, не бедна и никогда не хотела власти ни над одним человеком.
Я вышел без ликторов. Дождь закончился, и все было пустым и почти зловещим. Лунный свет разлился на влажных улицах, редко где горел хоть крошечный огонечек. Город, напуганный войной, был тихим.
Я побрел вперед, думая о том, что я до странного не хочу напиться. В небе не было ни единой звезды, хотя луна казалась очень яркой. А какое оно, думал я, небо над Африкой?
Воздух там, как говорят, очень горячий и влажный, и сам по себе ядовит, от него все время случается лихорадка, которая может в три дня сгубить человека слабого.
В Африке водилось много львов, еще там были пантеры, и жирафы, и слоны с их огромными бивнями. В детстве я думал, что все эти звери ходят там просто так, как ходят по нашим городам собаки и кошки.
Видел ли Курион какой-нибудь чудное животное из тех, что привозят для травли?
Шкура льва на мне вымокла и была не красивей кошачьей. Но я все равно ее надел, хотя бы для того, чтобы быть ближе к Африке.
Дорога ложилась под ноги так легко, я долго шел безо всякого труда и удивился, обнаружив, что стою у дома Куриона.
Там горел свет.
Я кликнул привратника, и он пропустил меня сразу, не предупреждая Фульвию. Вот такой важной персоной я теперь был. Я слышал далекий рев ветра, но было как будто вполне спокойно.
Фульвия не вышла меня встречать, и атрий был пуст, если не считать траурных кипарисовых венков, всюду развешанных. Как тени сновали туда-сюда рабы, которые не в силах были заснуть от воя Фульвии. То, что я принял за рев ветра, оказалось ревом Фульвии. Не встречая никаких препятствий на своем пути, я поднялся на второй этаж и вошел в спальню Куриона. Фульвия металась по комнате и рвала на себе волосы, лак на ее ногтях был черный, пальцы, однако, казались измазанными в красной краске. Она разодрала себе шею и грудь, и кровь пропитала ее черное платье.
Фульвия кричала, запрокидывала голову, выла, будто волчица. Она сошла с ума.
Я стоял и смотрел, как она выдирает свои прекрасные рыжие волосы, отдельно от нее пряди казались еще более золотыми. На полу валялась погребальная урна, в которую нечего было положить.
Фульвия принялась совать в урну свои рыжие пряди, в нее капала кровь. Кровь, но не слезы. Фульвия не умела плакать, ты знаешь.
Она завыла снова, вцепилась себе в лицо, сломала ноготь, и сломанный (черный с кусочком настоящего белого) ноготь сунула в урну тоже.
— Где ты, Гай, там я, Гайя, — бормотала она. Я подошел к ней и поднял ее на ноги.
— Ты вся в крови, — сказал я. — Дай-ка я тебе помогу.
Я крикнул рабу принести мне мягкую ткань и воду. Фульвия забилась в моих руках.
— Я любила его! Я любила его! Ты не веришь мне, а я любила! И мне даже нечего похоронить! Я никогда его не похороню!
Я осторожно поцеловал ее в шею, почувствовав вкус крови. В этом поцелуе не было ничего сексуального, я просто хотел прикоснуться к Фульвии еще как-нибудь, а руки уже были заняты ею.
— Бедная моя девочка, — сказал я. — Бедная моя Фульвия.
— Шлюха со своим выводком! — выкрикнула она. — О Плутон, забери мою жизнь, и верни ее моему Гаю! Пусть он живет, пусть я умру!
Прежде я не слышал, чтобы Фульвия называла его Гаем.
Да и вообще сильнейшие эмоции к своим мужьям Фульвия проявляла на похоронах. Я еще помнил ее крики отчаяния и попытки взобраться на погребальный костер Клодия.
Раб принес мне чашу с мятной водой и мягкую ткань. Я силой усадил Фульвию на пол и принялся утирать ей шею.
— Бедная-бедная моя девочка, — снова сказал я. Странное дело, жалеть ее мне было легче и сподручнее, чем страдать самому. Если бы ночь тогда вывела меня к вам, думаю, я бы плакал и причитал. Но на самом деле больше всего в тот момент я хотел заботиться о другом существе.
О таком существе, которому тоже небезразличен мой друг.
Фульвия сначала завыла пуще прежнего, а потом захлопнула рот и смотрела на меня большими зелеными глазами.
— Ты должен поехать туда, — сказала она. — И найти его тело, и найти его голову.
Я попытался прополоскать тряпку в воде, но Фульвия посмотрела на нее столь ревниво, что я все понял без слов. Изо всех сил я выжал ее над урной.
Фульвия сказала:
— Он трахал меня, трогал меня и гладил по волосам. Пусть это все будет вместо него.
Я сказал:
— Пусть. Цезарь говорит, что люди, которые уходят, остаются в нас. Их отражения. Отпечатки.
— Будь проклят Цезарь, за которого он умер! — завизжала Фульвия, и я мягко зажал ей рот.
— Тише, тише, милая девочка, — сказал я. — Я тоже так по нему скучаю.
Она принялась тереть глаза. Снаружи ее ногти были черными, а изнутри — розовыми от крови.
— Ну как же так? — спросила Фульвия. — Как так, что даже нечего будет сжигать? А как же его тело? Душа душой, но как же тело?
Слово "тело" она выделила так сильно, что я сразу же понял и о жарких ночах, которые она провела с Курионом, и о том, как ей хочется просто взять его за руку. Что она, может быть, делала это не так часто, как ей бы хотелось.
Фульвия сказала:
— Я так устала, Антоний.
А потом она сказала:
— Он был такой умный и талантливый. Он мог бы стать кем угодно, даже кем-то вроде…
Тут она снова зарыдала.
— Нет, ну я так устала. Нет, Антоний, нет, я просто очень устала.
— Я знаю, бедная моя девочка, я все знаю, и что ты устала, и как тебе плохо.
Я прижал Фульвию к себе, и она снова закровоточила, но слезы ее ненадолго иссякли.
— Ненавижу, когда они умирают, — сказала Фульвия.
Так мы и сидели, обнявшись, и ее острые коленки упирались в меня, это было неудобно, но на удивление приятно.
Потом я сказал:
— Если и вправду люди остаются в наших сердцах, то ты все делаешь правильно. Только очень грубо.
Я подозвал раба, велел ему принести нож и аккуратно срезал несколько рыжих прядей Фульвии. Она смотрела на меня так беззащитно и трогательно, смешно, по-детски нахмурив брови.
Я опустил ее волосы в урну, а потом порезал свою руку и сжал кулак над горлышком. Кровь закапала внутрь. Фульвия смотрела на это и улыбалась.
— Кровь, — сказала она. — Это жизнь.
— Так говорят евреи, — ответил я. — В крови они содержат свои души.
— Он там, далеко.
— Но это уже не важно, — сказал я.
И еще некоторое время мы молчали. Потом я поднялся.
— Я приду завтра? — спросил я. Фульвия кивнула. Она была слишком слаба, и я помог ей подняться тоже. Мы постояли друг напротив друга.
Фульвия сказала:
— Да. Приди завтра. Я хочу, чтобы у него были похороны. Как полагается.
— Да, — сказал я. — Это будет правильно.
— А знаешь, что еще будет правильно? — спросила Фульвия. И я поцеловал ее, одним движением прижав к стене и коленом раздвинув ей ноги. Мы вгрызлись друг в друга, как дикие звери, и дали друг другу то, что могут дать только дикие звери, обменявшись синяками и царапинами. В этом не было ничего от любви, только отчаяние.
После наших нежных ночей, я никогда не представлял с ней любовь на полу, ожесточенную любовь рядом с пустой погребальной урной.
Не пустой. В ней уже смешались мы с Фульвией, горечью смерти, а теперь и пламенем жизни.
Потом мы долго сидели голые перед телевизором и смотрели видеозапись со свадьбы Фульвии и Куриона. Фульвия плакала, а я глядел на Куриона, такого счастливого, на то, как внимательно и с волнением смотрит он на гаруспика, слушает его предсказания.
Фульвия на собственной свадьбе была так поразительно спокойна, только скалилась иногда, по привычке, перенятой от Клодия. Показывала острые белые зубки и покровительственно смотрела на Куриона.
А вот теперь она плакала, и волосы ее были распущены, и неровно подрезаны. То и дело она проводила пальцем себе по шее, там, куда должен был приходиться надрез.
— Раз, — говорила она. — И нет. Раз, и нет его больше.
Ее свободную руку держал в своей большой руке я. Свадьба, кстати говоря, была просто прелесть. Фульвия любила красивые праздники.
Потом была похоронная процессия, в которой все я устроил так, как надо. Будто не моя кровь и волосы Фульвии остались в погребальный урне. Словно нам было, что хоронить.
В безликой череде предков Куриона, их посмертных масок, надетых на живых, я все смотрел на маску его отца. Изумительно похожи, если уж на то пошло. Можно представить, что это маска самого Куриона.
Большое облегчение мне принесла мысль о том, что отец гордился бы Курионом.
Отец его ценил мужество, смелость и преданность. Курион не всегда обладал этими качествами, во всяком случае, не в юности. И я не вполне понимал его поступок, хотя с моей точки зрения он был правильный.
А вот, глядя на его отца, вернее, на человека, игравшего роль Куриона-старшего, ставшего остовом для его посмертной маски, я все понял.
Курион не Цезаря боялся, он хотел, наконец, впечатлить отца. По-настоящему впечатлить.
И, если только есть справедливость в подземном мире, Плутон должен был дать знать Куриону-старшему о том, как закончил жизнь его сын.
Но, думаю, Курион-старший не стал бы от этого счастливее. Мне вообще казалось, что он бы расплакался. Трагическая история: и отец и сын любили друг друга больше, чем сами о себе подозревали.
Но к другим событиям этого необычайно плодородного периода. Вместе с Долабеллой вернулся в Рим Гай. Как ты знаешь, в Иллирии дело для него обернулось плохо, но я выкупил его из плена.
Удача никогда не была на стороне Гая, ты знаешь. И он сделался еще более хмурым, еще более мрачным, еще более озлобленным на весь мир. Мои радости его раздражали, так что при нем я старался о своих победах не упоминать, хотя ты-то любил о них послушать.
Помню, в тот вечер мы с тобой говорили о Фульвии. Мама пошла спать, а мы возлежали и пили вино.
Ты спросил:
— Марк, а ты женишься на ней?
В этом вопросе снова мелькнуло что-то такое детское и забавное. Женюсь ли я? Я не знал. Киферида отпустила меня легко, будто мы были совершенно случайные люди, но вот Антония — Антония оставалась моей женой и матерью моего ребенка.
Я пожал плечами.
— У Фульвии не закончен еще траур.
Да и мои чувства к Антонии не были так уж просты. Я любил ее, хоть и очень по-своему, странно, но то было живое, двигающееся, пищащее, настоящее чувство, и его нелегко было убить, оно извивалось, как крошечное животное.
Я сказал:
— Лучше бы ты спросил, что будет, когда вернется Цезарь?
— А что будет? — спросил ты. — Говорят, у него есть множество идей, как сделать мир лучше!
Я кивнул.
— Я, конечно, особенно не вникал.
— Как же ты пошел за ним?
— Ну, — сказал я. — Так вышло. Однако, я знаю его как человека умного. И он понимает, что происходит в Риме. Правда понимает. Он даст людям работу, дома и хлеб. Все, как ты любишь.
— А ты, Марк, смотрю, крайне осведомлен, — засмеялся ты.
— Еще бы. Информация из первых уст. Цезарь сделает всем хорошо, как я понимаю.
— А ты не хочешь сделать всем хорошо?
— Только самым красивым женщинам, — сказал я. — Начну с малого.
Я зевнул.
— Да и в любом случае, я мало что в этом понимаю. Хотя я хотел бы счастья всем. Я раздаю много подарков, подарки нравятся людям, и их легко делать.
Ты со мной согласился и тоже зевнул. Забавно, как люди заражаются друг от друга зевотой, да? По-моему, именно так я и сказал. И вдруг мы услышали, как хлопнула дверь. Ворвался Гай, он пронесся мимо нас стремительно, и мы засмеялись.
— Смотрите какой важный, да?
— Ух! Лютый!
Мы смеялись и смеялись, но что-то заставило нас смотреть ему вслед, не отрываясь. Думаю, мы оба увидели кровь на его руках. Просто не сразу это сообразили, и какое-то время еще смеялись, но образ уже засел в голове.
Потом мы переглянулись и кинулись за Гаем. Он стоял в триклинии, опустив руки в чашу для умывания. Гай держал их под водой так, словно они были отдельными от него существами, которых он хотел утопить.
— Гай! — крикнул ты. Гай отскочил от чаши, руки его были белыми и чистыми, и я на секунду испытал облегчение, но от резкого движения чаша опрокинулась, и нам под ноги полилась красно-розовая вода.
— Это чего? — спросил я.
— Ты с кем-то подрался? — спросил ты. — Гай, все нормально?
Но на нем не было ни единого синяка, ни ссадины, только длинная, тонкая царапина на шее.
— Да, — сказал Гай. — Подрался.
Взгляд у него был темный, почти черный.
— Из-за чего?
— Да один парень, с которым я выпил, плохо отозвался о Цезаре, — сказал Гай. Хотя, я знал, на Цезаря ему всегда было плевать. Он отправился воевать ради того, чтобы впечатлить ту девушку, Квинтилию (я видел ее лишь раз и мельком, она даже не показалась мне симпатичной), а сторону выбрал сообразно моим предпочтениям.
Я сделал шаг назад, чтобы розовая вода не достигла подошв моих белых кроссовок. А потом рванулся к Гаю прямо по ней.
— Ах ты сука, мерзавец, твою мать!
Я ударил его, он повалился на пол, я пнул его, и Гай стукнулся о чашу для умывания. Он не говорил ни слова. Ты пытался оттащить меня и спрашивал, что случилось, а я рявкнул:
— Он угандошил ту бабу! Ты посмотри на него! Он угандошил эту бабу, я тебе говорю!
— Да какую бабу?
— Квинтилию! Его Квинтилию!
Я все пинал его, а потом и вовсе бросился вниз, мы с Гаем возились в кровавой воде, помню, он пытался выдавить мне глаза, а я душил его.
Вдруг ты ударил меня по голове, довольно сильно, в глазах потемнело, и я выпустил шею Гая, свалился на него, потом откатился. Все было мокрым, моя белая с красной каймой тога стала грязно-розовой.
— Тварь ты, — сказал я. — Ты представляешь, что со мной будет?
— С тобой? — спросил ты, а Гай засмеялся.
— Ну да, — выдавил он из себя сквозь смех и кашель. — Именно с тобой!
— Ты вообще помнишь историю про Виргинию? Из-за одной девчонки подняли целое восстание! Твоя Квинтилия вполне может стать этой девчонкой!
— Ну да, ну да, — говорил Гай, хватая воздух.
— И девочку жалко, — сказал я. Ты стоял растерянный, разочарованный и во мне и в Гае. Я сказал:
— Ты, сука, завтра же отправляешься в Кампанию. Там сейчас расквартированы солдаты, поставлю тебя к ним. Не можешь делать ничего полезного, так хоть не мешайся. И чтобы в Риме я тебя больше не видел.
Как ты знаешь, я направил Гая именно туда, где солдаты потом устроили очень несвоевременный бунт.
— Твою мать, — сказал я. — Ну твою мать, Гай, как только можно было?
— Легко, — сказал он. — Это очень легко, она же слабая женщина.
И добавил сквозь зубы:
— А тебе, я смотрю, не очень страшно и не очень жалко.
И я подумал: да, не очень страшно и не очень жалко.
Следующим же утром я отправил его в Кампанию, с глаз моих долой.
На похоронах этой девочки, Квинтилии, я не был, но помню, как ее тело выставили для прощания. Она была совсем молодая, лет на десять моложе Гая. Спеленутая, она выглядела, как муха в коконе, жертва паука.
Убийцу так и не нашли, но, по счастью, отец Квинтилии оказался в своих поисках не очень принципиален.
А Гай есть Гай, сам знаешь.
Больше меня поразил я сам, подумавший вдруг не об этой маленькой мушке (лишь потом мне стало ее мучительно жалко, когда я увидел тело), не о безнравственности Гая, а о том, как все это отразится на моей политической состоятельности.
Вернее, лучше назвать ее несостоятельностью, правда?
Да и стоило ли о ней думать, если я сам делал множество вещей просто потому, что возвращение с войны и известие о смерти Куриона сильно подкосили мой самоконтроль. Хотя разве мог я стать еще хуже прежнего?
О, я мог. Я все могу. Я просто волшебник.
Так вот, по-моему, я вовсе перестал делать вид, что я приличный человек или, по крайней мере, намереваюсь когда-либо им стать.
Победы вскружили мне голову, как и милость Цезаря, а смерть Куриона сделала меня нечувствительным к завтрашнему дню. Будущее представлялось туманным. Если его голова, в конце концов, оказалась в таком дурном месте, то разве стоит переживать и беспокоиться за мою бедную голову?
Все дни слились в один и очень беспокойный. Я легко отнимал имущество у одних и отдавал его другим, разъезжал в колеснице, запряженной тремя львами. Эти кошки как-то, совершенно не слушаясь возницу, чуть не увезли меня из города, чему все были несказанно рады. А я, завернутый в шкуру их брата, разлегся в колеснице и храпел, выставив на всеобщее обозрение ноги в белых кроссовках и подложив под голову военный плащ.
— Вперед, котята! — говорил я иногда сквозь сон. — Вперед!
Милые звери, если честно. Не очень смирные и послушные, зато поистине впечатляющие.
Сон и реальность слиплись в один нелепый и вязкий ком, и я не ручаюсь ни за что из того, что рассказываю тебе об этом периоде. Может, все это приснилось мне, кто знает, что приходит в голову к тому, кто, как писали тогда на стенах, бухает фалернское через ноздри.
О, мудрость народа, который видит тебя насквозь.
Но разве меня нельзя понять? Облеченный властью, я оказался совершенно к ней не готов, и, кроме того, как и всегда, был озабочен лишь своими горестями и своими радостями.
Я все не мог до конца поверить, что Куриона нет, ведь и тела его не было, мы его не похоронили, я его не видел, и он не представлялся мне мертвым. Даже его голова, отдельная от тела, в моих снах и представлениях всякий раз заговаривала со мной.
И в то же время, как я грустил о том, что нечего было хоронить. Почему так чувствительны мы к погребению? Боги, конечно, заботятся о тех, кто похоронен правильно, но, думаю, они не забудут и хорошего человека, сгинувшего в морской пучине или в глухом лесу.
Если судить о богах, как о мудрых и величественных существах, разве должна быть им присуща такая мелочность?
Но есть и другое — ощущение тоски и бездомности, ощущение беззащитности и ранимости мертвого тела, которое некому хоронить. Это откуда-то очень издалека, оттуда, где сами мертвые чем-то похожи на плоды внутри материнского чрева.
Ты меня спросишь, дорогой друг, почему я рассказываю тебе о том, как я дико бухал, и как я грустил, и мои сомнительные мысли о том, почему непогребенные мертвые так мучительно беззащитны? Почему сейчас меня занимают не победы и поражения, не мои великие битвы, а то, что думал я, когда узнал, как умер мой друг?
А я тебе отвечу: это все достояние истории, мои сражения, мои победы и поражения, и их расставит по местам беспристрастнейший из судей — время. Все это останется после меня. Но как же я? Некоторая сумма меня, которая есть и помимо моих дел? Что я за человек? Этого не знает даже сам Антоний.
И с точки зрения того, что за человек этот великолепный Марк Антоний, куда важнее, как он блевал однажды на Форуме, чем как он разбивал сильнейшие армии. Сомнительная мудрость, правда?
Так вот, сны, реальность, я смотрел на мир, как на набор цветных осколков, которые еще не сложились в мозаику, и рисунок — он был лишь в проекте, я не знал даже задумки.
Снились какие-то люди, а потом я встречал их в реальности, мы разговаривали во сне и в настоящем — тоже, и я не мог точно различить, где я сейчас нахожусь. Во снах, разве что, я не всегда вполне осознавал жив ли я. Впрочем, я не был и мертвым. Где-то между, не то и не то, словно Публий, если он тогда (его дух) действительно пытался зайти к нам в дом.
После попоек, на которых я ликовал, возбужденный, пьяный, сытый и голосистый, вдруг нападала на меня тоска, безысходное уныние, с которым я не мог справиться. И, то ли во сне, то ли в реальности, я бродил по вилле Помпея, натыкаясь на раскрашенных полуголых женщин и израненных мужчин, хватал ртом воздух, который не усваивали мои легкие.
Люди казались мне то красивыми, то уродливыми. Когда я смотрел на себя в зеркало, то видел синяки под глазами, такие темные и набухшие, что казалось, будто меня избили. Я хотел взять иглу, проткнуть их и выпустить кровь. По-моему, однажды я так и сделал. Я выдавливал кровь по капле, и казалось, будто это такие вот странные красные слезы.
Какая-то девушка попросила меня этого не делать, а потом отсосала мне, это я тоже помню, но не знаю, сон оно все или одна из правдивых историй о моих развлечениях?
Однажды я, по совету (а народ плохого не посоветует) неизвестного уличного художника, даже пробовал бухать через ноздри — чуть не захлебнулся вином, принимая ванну из него. Даже моих львов я пристрастил к вину. Кошечки пили его с удовольствием, я заставил одного раба лакать вино вместе с ними, парень чудом остался жив.
Мне снилось яркое солнце, и я брел под ним, и мне казалось, что плоть начинает разлагаться, и я смотрел на свои руки, а с них кусками слезало мясо. Предположу, что это был сон.
Тем более, что в том сне мне приходила Береника вместе с Курионом. Они перекидывали друг другу свои головы, будто в хитроумной игре с двумя мячами.
Я крикнул им:
— Не перепутайте!
Головы засмеялись.
Луций, милый друг, я не хотел бы быть обезглавленным или удушенным, и то и то — ужасные смерти. Почти что угодно другое, включая позорную казнь — быть сброшенным с Тарпейской скалы, подобно мерзкому предателю.
Но не хотел бы я умереть смертью Публия и не хотел бы я умереть смертью Куриона. Слишком уж я хорошо их представлял, эти способы попрощаться со всем вокруг.
Ну да ладно, хватит смерти, давай поговорим о том, что я сделал для вечности. Так вот, однажды меня стошнило на Форуме.
Дело было после свадьбы Гиппия, одного из моих любимых мимов. Артист он был страшно талантливый, близкий друг Кифериды, но ценил я его больше за то, что он любил приложиться к выпивке так же сильно, как и я. О, свадьбы артистов сами по себе зрелище не для слабонервных, и не для тех, кто напивается до потери ориентации в реальности — точно. Гримасничающие люди, странно одетые, странно двигающиеся, накрашенные женщины, разрисованные мужчины, хохот и плач, и кто-то все время цитирует Гомера. Я мог бы выдержать все, но Гомер — он нагонял на меня ужас.
Помню, я выпил так много, что расплакался в постели с милой девушкой, которую, кажется, видел рядом с Гиппием.
— Твою мать, — сказал я. — Я трахнул невесту.
И расплакался.
— Нет, — говорила она, гладя меня по голове. — Я не невеста, Антоний, я ее сестра.
— Близнец? — спросил я.
— Двоюродная.
— Хорошо, а то Гиппий ведь такой мой хороший друг!
На самом деле, конечно, он не был моим другом, просто пользовался моей благосклонностью. Учитывая, что всю пирушку оплачивал я, и она была золоченной, перченой и роскошной, думаю, Гиппий бы потерпел, пока я пялю его невесту. Но я оказался порядочным человеком, представляешь?
Так вот, а утром, когда мне удалось задремать в объятиях кузины невесты, меня подняли и повели на Форум. Предполагалось, что я решу какой-то вопрос, но я не понимаю, почему так предполагалось, учитывая, что я даже не помню, какой.
Голова моя разрывалась от похмелья, живот болел от пряных блюд, которые я без счету поглощал ночью, все перед глазами кружилось. Рассвет, Форум переполнен, небо розово-голубое, а люди черные, глазастые, будто какие-то странные существа из сна. Их лица показались мне совершенно чужими, иноземными или даже лицами каких-то иных, чем люди, существ. На небе еще висел светящийся серп луны, и было видно единственную звезду.
Я поднялся на трибуну, и тут в глазах помутилось, а в горле поднялся кислый ком. Друг мой, за свою жизнь я постиг одну единственную мудрость: если ты подумал, что тебя сейчас стошнит, значит, без разговоров, это случится, и бессмысленно надеяться, что тебя обойдет эта беда, и ты сможешь жить как прежде.
Вот и меня стошнило. Желудок сводило жуткими спазмами, и все, нажитое вчерашней ночью, покинуло меня безвозвратно. Повезло, что кто-то из моей свиты подставил свой плащ, а то осквернил бы я ораторскую трибуну, с которой выступали величайшие люди Рима. А так осквернил только святую дружбу.
Впрочем, я не постыдился и, кажется, даже что-то сказал, правда, не уверен, что по делу. Утирая рот, я говорил о судьбе Рима, который будет процветать при Цезаре, чье скорое возвращение неизбежно, и тогда, да, я сказал вот что:
— И тогда, ребята, друзья мои, вы все забудете меня, как страшный сон! Цезарь вернется, и вы меня больше не увидите.
Тут-то мне и зааплодировали.
А я люблю даже такую любовь.
Как-то Антония сказала мне:
— Глупый муженек, скажи мне, почему ты никогда не учишься на своих ошибках?
— Благодари Юпитера за то, что поставил мне такую глупую голову, а то ходила бы в девках, — сказал ей я.
Но и в самом деле — вопрос был задан правильный, в самую точку. Почему же я не учился на своих ошибках? Меня ненавидели, я уехал на войну, и меня снова полюбили, приняли в городе, как героя, а я всего лишь остался собой, и вот я уже блюю на Форуме.
— Ты — печальное зрелище, — сказала Антония.
— Я — веселое зрелище, — ответил я.
— Но не для тех, кто тебя любит.
— А для тебя?
— А для меня — веселое.
Так вот, но ты прекрасно знаешь, к чему все идет, к Долабелле, из-за которого мы поссорились. Впрочем, с кем я только не поссорился из-за Долабеллы. В списке ты, Антония, Цезарь и сам народ.
На случай, если ты не помнишь из-за чего весь сыр-бор, Долабелла был прежде всего моим другом, а уж потом — твоим кумиром, народным трибуном того года. Помнишь ли ты эту бандитскую рожу?
Он был очень низкорослый, по сравнению со мной, так просто карлик, но удивительно: его это никак не портило, все в нем смотрелось на редкость пропорционально и правильно. Совсем еще молодой человек, на редкость глумливый, несдержанный и шумный. Это импонировало мне в нем с самого начала. У него было лицо обаятельного мерзавца, это усугублялось его привычкой зализывать волосы, набриолиненный, он выглядел совершенным подонком, и многим это нравилось. Улыбался он всегда широко и искренне, но хитрым был, словно Меркурий, и легко менял стороны, воюя всегда лишь за самого себя, и ни за кого другого.
Мне нравилась его молодая задорная наглость, думаю, чем-то он даже напомнил мне Куриона, еще совсем юного. Не знаю, чем именно, они не были похожи внешне (симпатичному, но нелепому Куриону далеко было до обаятельнейшего подонка Долабеллы), не были похожи по манере общения. Скорее, какая-то общая энергия, бунтарское желание натянуть весь мир, и жить по-своему — это было общим.
Кроме того, Долабелла был зятем Цицерона, и через него я пытался склонить Цицерона на свою сторону, когда он-таки вернулся в Рим, потому что со старой паскудой, как-никак, приходилось считаться.
Правда, у Долабеллы были не слишком хорошие отношения с Туллией, дочерью Цицерона, которой Долабелла без конца изменял, и я знал об этом очень хорошо, и, более того, стремился узнать побольше о его любовных похождениях, потому как эти сведения казались мне полезными, так, для будущего, возможно, благодаря им я мог бы выведать что-нибудь у Туллии.
Впрочем, они оказались бесполезными.
Нет, друг мой, вру, не совсем уж и бесполезными: я узнал всех оставшихся матрон Рима, к которым еще мог подкатить.
Все, что ни делается, все к лучшему.
Так вот, на самом деле к Долабелле я испытывал самые прекрасные чувства, он был человеком моего типа: простым, веселым разбойником. И пусть на него нельзя было положиться, я все равно привязался к нему очень сильно. В какой-то момент даже считал его своим лучшим другом, потому как мне нужен был кто-то, кто хотя бы немного заменит мне Куриона. Курион общался с ним когда-то куда больше меня, и я надеялся, что Долабелла что-то от него перенял.
Кроме того, у Долабеллы при всей мерзости его души (а, я тебе говорю, был он по натуре предатель и трус) было определенное желание помогать людям, снискать любовь и изменить этот непростой мир.
Насколько оно было искренним? Я скажу тебе так, мой друг, этот маленький подонок еще в совсем нежном возрасте был обвинен в убийстве и, думаю, небеспочвенно, определенно, он был дурным плодом.
Но, как ты знаешь, еще один дурной плод, Клодий Пульхр, был искренней всего мира в своих добрых намерениях. Поэтому я верю, что Долабелла стал не просто, как Милон, еще одним угодником черни, но и в самом деле интересовался трудностями простой жизни.
А, может, я просто хочу найти в нем то Клодия, то Куриона попеременно. Нет, все-таки мне хочется думать о том, что у Долабеллы были добрые намерения, несмотря на то, что я их все разрушил.
Он частенько захаживал ко мне в дом. Наглый, он держался везде так, словно ему принадлежали все дома, все улицы, все реки и озера. И когда он приходил ко мне, то приказывал моим рабам, словно это были его рабы. Что, кстати, очень не нравилось Эроту.
— Это плохой человек, — сказал мне как-то Эрот. — Не жди от него добра, господин.
— А я и не жду, — сказал я просто. — И помни, что он тебе не господин, и я тебе не господин. Ты свободный человек, Эрот.
На самом деле я ждал от Долабеллы добра, хотя и сам этого не осознавал. Я доверял ему, потому что я вообще слишком легко доверяюсь людям, хоть и стараюсь этого не делать.
Так вот, вообще-то общались мы хорошо. Оба любили покутить, и знали в этом толк, частенько вместе участвовали в попойках, оба любили простецкие приключения в Субуре и мечтали о хорошем или, по крайней мере, лучшем мире.
Да, я тоже. Я не всегда умел этого достичь и, пожалуй, был куда более падким на яркие удовольствия, чем на прекрасные идеи, но я правда жалел людей. Просто мне все время не хватало на них времени, ведь я бухал через ноздри.
А Долабелла, по молодости и перспективности, успевал и то и это.
Кстати говоря, в двадцать с небольшим этот парень был народным трибуном. Тебе нужно напоминать, кем я был в двадцать с небольшим?
Однако, вернемся к прекраснодушным планам этого мерзавца. Как-то он заявился ко мне посреди ночи, буквально вытащил меня из постели, сказав, что у него есть сиятельная идея.
— Послушай, Антоний! — сказал он. — Нет, ты только послушай! Мне кажется, я придумал, как решить все проблемы!
— О, да ладно, — проворчал я, щурясь на свет принесенной Эротом лампы.
— Пойдем выпьем, — сказал Долабелла. — Я тебе все примерно расскажу.
— Я уже выпил и даже уже сплю.
— Нет, Антоний, я умоляю тебя, ты должен, ты обязан меня выслушать! Ради всего мира!
Помню, в ту ночь послушать Долабеллу вышла Антония. Надо было уже тогда что-то заподозрить, но я велел слуге принести ей стул и налить вина (у меня в доме женщинам пить не воспрещалось, и я считал и считаю порицания женщин за вино старомодными и глупыми).
— Так вот, — сказал Долабелла. — Друг Антоний, я думаю, я знаю, как поднять обществу настроение!
— Правда? Скормишь им меня? — спросил я, влив в себя побольше вина, чтобы пробудить свои чувства к жизни.
— Только если ты будешь мне мешать! — сказал он честно. О, замечательный ведь ублюдок, правда?
— Я думаю, — продолжал Долабелла, бросив короткий взгляд на мою жену, который я вспомнил лишь спустя долгое время. — Нам нужно провести отпуск долгов. Полное погашение всех долгов, что бы по этому поводу ни говорили арендаторы. Да, включая долги по жилью.
Мне резко вспомнился заговор Катилины, Публий, мелькнуло перед глазами его сине-фиолетовое от удушья лицо, а потом обычное, нормальное лицо с этой вечной дружелюбной улыбкой, и я почувствовал тоску — я все еще скучал.
Долги, долги, долги! Камень преткновения, о который Республика спотыкается раз за разом на пути к величию или хотя бы к существованию. Все всегда хотят, чтобы им выплатили долги, но отпустили долги.
Я и сам побывал в роли должника. Всем должникам должника! И идея Долабеллы мне импонировала. Да, она была радикальной, но разве не этого хотел когда-то Публий?
Вру, конечно. Публий хотел власти. Но разве не это было одной из его уловок для ее достижения? Что тоже важно, без сомнений.
— Люди оценят этот ход, — говорил Долабелла, размахивая кубком так, что капли вина летели во все стороны. Пара капель попала на щеку Антонии, и она осторожно прикоснулась к ней, словно бы во сне.
— Да! — сказал я. — Все оценят, кроме богачей.
— Ну и хрен с ними, — сказал Долабелла. — Цезарь все равно их всех истребит!
— Ты не знаешь Цезаря. Цезарь простит всех и каждого, кто не будет выпендриваться слишком долго, — сказал я. — А они тебе все припомнят.
Долабелла посмотрел на меня, прищурившись. У него были удивительно синие глаза, яркие-яркие, и в свете свечей они опасно блеснули.
— Нет проблем, с которыми нельзя разобраться! — сказал Долабелла. — Народ — моя главная забота. Я — трибун, меня не волнует, что будет с богачами. Пусть кусают друг друга, пусть продают свои бесконечные имения, что угодно!
То, что он говорил, мне понравилось и показалось соблазнительным.
Я сказал:
— Давай подумаем об этом, хорошо?
Но счастье и добро, все будут любить нас, долги отпущены, свобода и радость царят, наконец, вокруг. А я после этого смогу блевать хоть в храме Юпитера Капитолийского.
— А что думать? — спросил Долабелла. — Я сделаю это, Антоний, с тобой или без тебя. Но мы друзья, и я хочу, чтобы ты мне помог. Мы разделим с тобой славу вместе.
Проговорили мы почти до утра, и Долабелла все расписывал мне свой дивный прекрасный мир, где никто никому ничего не должен. Мне такой мир нравился.
Но уже на следующий день, в более приличное время, ко мне пришел Луций Требеллий, коллега-трибун и противник Долабеллы. Требеллий тоже был моим товарищем, хотя я и относился к нему куда более спокойно, чем к Долабелле. Он был скучным и спокойным человеком с постным, но добрым лицом. В основном, мне нравилось его лицо — приятно смотреть на хороших людей. Даже если внутри они не такие — добрые глаза подкупают.
Так вот, Требеллий сказал мне, что все предложения Долабеллы, которые он, Требеллий уже не сомневался, сделал — это экономическое самоубийство.
— Антоний, — говорил он. — Если простить людям все долги, арендаторы не дополучат деньги. А значит, их недополучим мы. Антоний, ты и сам потрепал богачей, пощипал их состояния, и теперь, если мы их добьем, они никогда не поддержат Цезаря.
— Ну и пусть, — сказал я. — Кого вообще волнуют судьбы богатых людей? Бедные — вот что главное. Эти люди — земледельцы, эти люди — армия, эти люди — ремесленники. А кто такие богатые? Кучка прохвостов, умудрившихся проглотить все достояние Республики?
Требеллий вздохнул.
— Все не так просто, Антоний.
— Ты хочешь еще спаржи?
— Да, пожалуйста. Антоний, послушай меня, это важно.
— Просто я хочу еще спаржи.
— Не сомневаюсь. Послушай, все непросто. Мы должны поддерживать баланс. Во всяком случае, до возвращения Цезаря. Богачи — это сенат.
— И что? — сказал я. — Цезарь диктатор, полномочия всех этих ребят урезаны.
— Временно! Но их нельзя урезать навсегда.
— Это еще почему? Может, Цезарь хочет построить новый мир.
— Может, но он не прислал нам его чертежей. Долабелла молод и глуп, но ты…
— Не моложе, зато еще глупее?
Требеллий пропустил мои слова мимо ушей.
— Ты должен понимать, что меньше всего нам нужен экономический коллапс. Я знаю, сейчас непростые времена, и мы постараемся смягчить долговые обязательства. Но мы не можем действовать резко. Справедливость существует лишь в вакууме, жизнь же диктует нам правила, которым мы не можем не подчиниться. То, что хочет сделать Долабелла — безумие.
И все в таком духе. Требеллий ходил ко мне каждый день, и все зудел и зудел одно и то же. А я рассказал тебе о планах Долабеллы, и ты вскричал, что это здорово.
— Этого же хотел Публий! — сказал ты.
— Думаешь о том же, о чем и я!
— И этого хотел Клодий!
— Да мне похер, чего он там хотел.
Тут я слукавил, а ты скривился. Потом ты бросился обнять меня.
— Брат, будь добр, ты должен поддержать его. Бремя долгов тягостно для народа в эти страшные времена. Люди могут остаться без дома, без денег, их семьи будут голодать! Ты можешь стать спасителем.
Хорошо, когда в тебя верит какой-то хрен с горы с мразотной мордой, однако еще лучше, когда в тебя верит твой собственный младший брат.
Словом, все было уже практически решено, но, как ты знаешь, не все политические решения продиктовываются политическими мотивами.
Я вдруг стал замечать, что Антония повеселела. Обычное ее равнодушие ко всему и скепсис по отношению к мирозданию сменились смешливым, озорным настроем. Она прихорашивалась, часами вертелась у зеркала, часто улыбалась.
И стала отказывать мне в постели.
А как-то раз, вернувшись поздно ночью, я не застал Антонию дома. Хорош я, правда? Сам набрался и трахнул свою Фульвию, а не найдя дома законную жену пришел в ярость.
Стыдно тебе за меня? И мне, и весьма.
Так вот, когда она попыталась тайно вернуться домой, я перехватил ее.
— Где это ты была, любимая? — спросил я.
— Не твое дело, любимый, — ответила она в привычном тоне. Но потом вдруг увидела, что я действительно зол.
— Что? — в темноте ее глаза блестели. — Я думала ты не вернешься. Трахала Эрота.
— Я серьезно.
Она нахмурилась, потерла щеку, и мне вспомнилось, как она сделала так, когда Долабелла плеснул на нее вином. Это не доказательство, правда? Но мне мгновенно вспомнились все взгляды, которыми они обменивались, когда Долабелла бывал у нас дома.
— Ах ты шлюха, — сказал я задумчиво. — Ни хера себе ты шлюха! Вот это да!
Даже с восхищением сказал.
Антония попыталась прошмыгнуть у меня под рукой, но я поймал ее за ворот столы и вернул на место.
— Стоять, — сказал я. — Ты трахалась с Долабеллой, да?
О, смешно же играют с нами боги. Вот и я почувствовал себя на месте Клодия. Правда, вряд ли Долабелла был так же целомудрен с моей женой, как я с женой Клодия.
Впрочем, я ведь вернулся от Фульвии, и от меня все еще пахло ею.
Хорошая мы парочка.
Антония смотрела меня спокойно, как и всегда, словно бы ей все равно. И я думал, что так и будет, мы снова поиграем в нашу любимую игру, она скажет:
— Да, конечно, я трахалась с Долабеллой, я всех твоих друзей перетрахала. Даже мертвых.
И я пойму, по одной этой интонации, что ходила она куда угодно, хоть за зельем к старухе, но не к Долабелле. Ее взгляд говорил об этом, но — всего секунду.
Антония расплакалась впервые на моей памяти и ударила меня.
У нее получалось не очень хорошо, во всяком случае, неярко — из глаз потекли слезы, а выражение лица почти не изменилось. И вдруг она крикнула:
— А ты думал, мне все равно?!
Я опешил:
— Что?
— Ты думал, мне все равно? Ты думал, я слепая? Ты думал, я какая-то уродка, да? Я любила, тебя, Антоний, а ты трахал кого хотел! Я любила тебя, я родила тебе дочь!
Это было настолько непохоже на нее, что я и не знал, что сказать. Не так я представлял себе этот разговор.
— Больше всех на свете я любила тебя с самого детства, а ты плевать на меня хотел! Только в постели с тобой я была счастлива. А ты трахал меня, потому что нет дыры, в которую ты не захочешь присунуть!
— Чего? — спросил я. За наш короткий разговор я стал абсолютно трезв, клянусь тебе, один из немногих таких моментов, но вдруг мне показалось, что я мгновенно опьянел снова.
— Какой же ты идиот! Ты думал, можешь делать мне больно бесконечно?!
И вдруг она мне врезала еще раз, пощечина была такая звонкая, что, мне показалось, звук добрался до самой луны.
— А мне не больно, — сказала Антония. — Я свободна, а теперь и ты — отпусти меня. Я люблю Долабеллу.
И так как я ничего не мог сказать, она залепила мне вторую пощечину, с другой стороны.
А ничего не мог сказать я потому, что передо мной вдруг возникла совсем другая, незнакомая мне женщина. Она мало чем напоминала мою Антонию — даже лицо ее изменилось, исказилось эмоциями.
И я не понимал, что я могу предъявить этой совершенно незнакомой женщине. Почему я должен злиться на нее за измену, если эта женщина не имеет ко мне никакого отношения?
Почему она говорит, что я делал ей больно, если я вижу ее в первый раз?
Это живое, резкое, приятное лицо — оно не было лицом моей жены. Я не привык к нему и не знал его.
Поэтому я не злился на нее и не понимал, почему она злится на меня.
Зато я злился на Долабеллу, забравшего у меня эту маленькую яркую женщину.
И злился на себя за то, что я ее упустил.
Тогда я сказал:
— Понятно.
Развернулся и пошел к Долабелле в гости.
Я думал, кинусь на него с порога, но он сразу же завопил:
— Эй! Одумайся! Я народный трибун! Я неприкосновенен!
И мне вдруг снова вспомнилось, как Клодий бросился на меня, и как мы подрались. Я уже как-то раз нарушил святую неприкосновенность народных трибунов.
Но сейчас слова Долабеллы заставили меня одуматься. Он не был Клодием, как бы я этого ни желал. И стоило мне ударить его, как я оказался бы как минимум в пожизненном изгнании. Я прорычал:
— Ты трахал мою жену!
В точности так же, как Клодий когда-то. Разве что, я его жену начал трахать только недавно.
Долабелла отступил, пропуская меня в дом. На его лице играла скользкая наглая ухмылочка. Он знал, что я для него не опасен.
О нет, дружок, думал я. Я так опасен для тебя, ты себе и не представляешь.
Я сказал:
— Какого хрена?
Долабелла пожал плечами.
— А какого хрена ты трахаешь чужих жен? Просто нравится.
Он смотрел мне в глаза и смеялся надо мной. Я глядел на него сверху вниз и думал, что могу свернуть ему шею легко и просто. Этот низкорослый маленький утырок трахал мою жену.
Потому что я был для нее плохим мужем.
Ну да. Разве это не справедливо?
Я сказал:
— Долабелла, всему конец.
И ушел, потому что говорить больше было не о чем.
Дома меня ждала Антония. Я сказал:
— Я даю тебе развод, ты свободна. Пусть дочь остается с тобой, я плохой отец и плохой человек.
И она сказала:
— Спасибо, Антоний.
В ту ночь я спал в холодной постели, а утром Антония ушла, пока я еще не проснулся.
Стоит ли говорить тебе, что Долабелла так на ней и не женился? Впрочем, Антония никогда не жалела о разводе со мной. Во всяком случае, я так думаю.
Зачем жалеть о человеке, который и не подозревал, как больно делал тебе каждый день?
Через пару дней Долабелла заявился ко мне, как ни в чем не бывало.
— Антоний, мне нужна помощь, чтобы сладить с Требеллием, — сказал он. — У меня есть люди, но их недостаточно.
Я сказал:
— А, ты из тех, кому кажется, что дела — отдельно, а личная жизнь — отдельно.
И выгнал его. Напряжение на улицах тем временем росло, начались беспорядки, сторонники Требеллия и сторонники Долабеллы схватились за оружие.
Мне требовалось сделать что-то, и я, не собираясь нянчиться ни с одним, ни с другим ввел войска. Впрочем, я шепнул кому надо о том, что Требеллия не стоит прессовать слишком уж сильно, а все силы нужно бросить на подавление Долабеллы.
Теперь ночи со мной проводила Фульвия, хотя я любил ее так сильно, мне было тоскливо без Антонии и странно оттого, что в нашей постели спит другая.
Фульвия, впрочем, говорила:
— Теперь мы можем пожениться, Антоний.
Она отдавалась мне яростно, а потом сворачивалась на мне клубочком и устало гладила по голове. Все это было так непохоже на нас с Антонией, и я удивлялся, как быстро запах Антонии исчез из этой комнаты, сменившись острым, сладким ароматом Фульвии.
— Да, — сказал я. — Мы можем.
Я ведь об этом мечтал.
— Все это к лучшему, — говорила Фульвия с присущей ей жесткостью. — И эта шлюха, Антония, хорошо сыграла свою роль. Теперь она не мешает.
А я, так долго мечтавший о Фульвии, вдруг тосковал при мысли о новой свадьбе.
— А Долабелла? — спросил я.
Фульвия пожала плечами.
— Плевать на него. Он — никто. Раздави его.
— Он — трибун.
— Плевать на его трибунат, — говорила Фульвия. — Ты второй человек в Риме. Без Цезаря — первый.
В этом вся она. Узнаешь? Думаю, похожими словами она уговаривала действовать уже тебя.
— Нет, — говорил я ей. — Я буду осторожным. Цезарь не хотел бы, чтобы я устроил тут заварушку, пока его нет.
Фульвия, задумчиво накручивая на палец золотые волосы, столь стремительно отраставшие, говорила:
— А если этого он и хочет? Заварушки? Чтобы прийти и всех спасти?
— Глупости, женщина.
— Цезарь не дурак.
— Конечно, не дурак. Только дурак не оседлает хаос.
Но я ее и слушать не желал, хотя больше всего на свете мне хотелось стереть с лица Долабеллы его самодовольную ухмылочку.
Вдруг ко всем моим проблемам добавилась еще одна: бунт в Кампании. Солдаты устали ждать свободы и денег, кроме того, среди них распространилась весть о гибели Цезаря. Я срочно выехал в Кампанию для подавления восстания.
Конечно, отправляясь туда, я думал, что легко со всем разберусь. Солдаты меня всегда любили. Правда, в Кампании были расквартированы ребята, никакого отношения ко мне не имевшие, но мы ведь с ними друг друга поймем, правда?
Короче говоря, этот великолепный Марк Антоний решил толкнуть речь, как и всегда. Естественно, я обещал им деньги, и обещал роспуск, и обещал землю, и вообще я им столько пообещал, что впору было съесть собственный язык.
Однако, парни оказались упрямые, они мне не верили и требовали Цезаря, если Цезарь жив, или немедленного исполнения условий, если Цезарь мертв.
Впрочем, это и хорошо. Если бы ребята согласились, мне бы пришлось все выполнять, правда?
Так вот, на этот раз мое красноречие не помогло, да и я, поглощенный мыслями о мести Долабелле, не могу сказать, что выложился на все сто. Большую часть времени я витал в облаках и раздавал дурацкие обещания, которые эти люди слышат ото всех и каждый день.
Да, деньги, да, роспуск, да, земли.
Теперь я думаю, надо было толкнуть им хорошую речь о Цезаре, о том, как скоро он вернется, и как он не забудет верность и храбрость своих ветеранов, которые никогда еще его не подводили, не подведут и теперь.
Впрочем, мне еще повезло, что бунт не распространился. Парни так и стояли на своем, не сдвигаясь ни на шаг. Вечером я велел привести к мою палатку Гая. Я серьезно подозревал его в подогревании бунта (у него были причины затаить на меня злость). Но, как только я увидел его, эти сомнения рассеялись.
Он выглядел посвежевшим, глаза были ясные. Я смотрел на него, а Гай смотрел на меня. И я думал, что все еще злюсь на него, а оказалось, что нет.
Я обнял его, и Гай положил голову мне на плечо.
— Дела у тебя идут не очень, большой брат? — спросил он.
— Не очень, — сказал я, крепко прижимая его к себе. — Я так злился на тебя, но так скучал. Брат, прости меня. Я думал, ты подогревал этот бунт.
Гай пожал плечами.
— Я ему не препятствовал. Солдаты правы.
— Сядь со мной, расскажи мне, что происходит, кто здесь главные зачинщики?
И вдруг Гай сказал кое-что, что меня очень порадовало. Он сказал:
— Это мои товарищи. Я не стану их выдавать.
И хотя он мне никак не помог, я вдруг почувствовал, что в Гае пробудилось нечто человеческое. Мы проговорили всю ночь. Лишь один раз я спросил про Квинтилию.
Гай ответил коротко:
— Потому что ее собирались выдать замуж.
— Сказал бы мне, я важный человек, я бы устроил ее тебе.
— Это была бы ложь, — ответил Гай, пожав плечами. В палатке было душно, и он все время зевал.
— А ты хотел правды?
— Да.
— Правда в том, что никто не полюбит тебя, если ты будешь держать в голове мысль об убийстве. По крайней мере, об убийстве той, которую хочешь получить.
— Бесценный совет, брат.
Мы засмеялись.
К рассвету я был неожиданно свеж и готов к новому этап переговоров.
— Как ты думаешь, брат, что мне им сказать?
Гай слабо улыбнулся.
— Скажи им правду. Даже если ничего не получится, это будет хорошее начало диалога.
— Я так обычно диалоги не начинаю.
— Так попробуй, если ситуация отчаянная.
И я обнял его, и почувствовал, что не так в моей жизни все и плохо. Когда миришься с кем-то, душа так легчает и радуется.
Стоило мне выйти из палатки, как в меня врезался гонец.
— Эй! — крикнул я. — Поосторожнее можно?
— Марк Антоний, господин! Твое присутствие необходимо! В городе столкновения!
— В городе всегда какие-нибудь столкновения! Как же дядюшка Луций Цезарь, я оставил его за старшего.
— Требуется твое немедленное присутствие! Сенат принял закон о чрезвычайном положении, ты должен подавить бунт.
Звучало не очень радостно. И я, побросав свои дела в Кампании, метнулся домой, в Рим. Но стоило мне только вернуться, как Долабелла занял Форум вместе со своими вооруженными до зубов додиками, одним из которых был ты.
Помнишь этот день? Пасмурный, серый, очень контрастный — все черное выделялось, а остальное терялось в белой дымке.
Долабелла, оберегая Форум от нападок людей Требеллия, собирался принять все свои утопические, прекрасные законопроекты. Всю ночь вы ждали нападения, но было тихо. А на рассвете, когда Долабелла собрался было начать чтения, я, знающий все о том, как выбрать нужный момент, ворвался на Форум во главе внушительной кавалерии.
— Без жалости, ребята! — кричал я. — Не трогать трибуна, но в остальном — без жалости! Убейте всех! Убейте само его дело! Убейте мятеж!
Помнишь это? Ты помнишь, я уверен. Помнишь ты и мостовые, красные от крови, и то, как яростно я рубил и резал. Я, уставший от проблем, воспринимал это как отдых. И, наконец, я мог отомстить Долабелле, выпустив кишки его дружкам.
В тот день мы положили столько народу. Я не считал, скольких убил я, зато получил колоссальное удовольствие от самого процесса. Все у меня перед глазами было красным до того, как я занес меч над тобой.
Ты смотрел на меня упрямо, оружие было выбито у тебя из рук (не исключено, что мной).
— Твою мать, Луций! — зарычал я. Я спрыгнул с коня, поскользнулся на крови и повалился назад, а ты машинально поймал меня за руку.
— Ты что делаешь? — спросил ты.
А я не знал. Я мстил Долабелле за то, что он спал с моей женой. Идеи его мне вполне нравились. Мы с тобой смотрели друг на друга, все вокруг стихло, слышались лишь стоны раненных и хлюпала кровь.
Какими алыми были камни, правда? Какой удивительный цвет на этом белом, пасмурном утре. Красным был и мой плащ.
Солдаты схватили Долабеллу и его ближайших союзников, а я сказал тебе:
— Вали отсюда, понял? Я тебя здесь не видел.
А ты ударил меня, Луций. И я, пьяный от крови и вне себя от ярости, пинками погнал тебя с Форума.
— Идиот! — говорил я. — Ты мог погибнуть!
Выживших сторонников Долабеллы, из тех, кто был посерьезнее, скинули с Тарпейской скалы, а ты в это время сидел дома. Но могло выйти и по-другому, правда? Ты мог умереть там гораздо раньше, умереть в самом начале резни. И это мучило меня еще долго.
Потом я пошел к Долабелле.
Я сказал:
— Молодец, Долабелла. Отличная работа.
На что Долабелла с улыбкой ответил.
— Я трибун.
— А кто тебе сказал, что я собираюсь тебя убить?
После этого я сжал город в тисках военных патрулей. И, когда вернулся Цезарь, Рим представлял из себя жалкое зрелище. Перед возвращением Цезарь посетил бунтовщиков Кампании и легко и просто, своим удивительным волшебством, околдовал их, они стали ласковые и послушные, как телята. В Рим он прибыл уже весьма недовольный мною. Я попытался объяснить Цезарю, что Долабелла затевал мятеж, Требеллий говорил о своих любимых экономических аспектах, но Цезарь и слушать ничего не хотел.
Он вывел Долабеллу к народу и сказал:
— Вот человек, защищавший ваши интересы и не побоявшийся ничего. Истинная смелость многого стоит. Проблема долгов будет решена, но не таким радикальным путем. В силу юности этот человек допустил ошибку, однако он руководствовался своими представлениями о том, что правильно. И заслуживает прощения. Не заслуживает прощения та жестокость, с которой Антоний подавил этот мятеж молодых и смелых, словно сам не был когда-то таким.
Это Цезарь намекал на мою юность, проведенную в компании Красавчика Клодия и его Радикальных Ребят.
Я стоял красный и злой, скрежетал зубами.
Цезарь проявил к Долабелле милость, а со мной даже не поговорил толком, только бросил мне:
— Не всякий, кто хорош на войне, демонстрирует эти качества в мирной жизни.
Не стану спорить.
И тогда спорить я тоже не стал, потому что был вне себя от стыда.
Что касается Фульвии, знаешь, что она сказала?
— Ну теперь-то мы можем пожениться, Антоний?
А что касается Долабеллы, то повторю свои слова, сказанные Цезарю, когда Цезарь собирался назначить Долабеллу консулом на пару со мной.
Я сказал:
— Охуеть, я в полном восторге. Опиздинительная перспектива что-либо делать на пару с этой карликовой хуйней делает меня невероятно счастливым. Я сделаю так, как ты скажешь и то, что ты скажешь, но не уверен, что смогу сдержаться и не оторвать ему хер во время важных общественных работ.
Цезарь тогда вышел из курии и заседание сената было сорвано. Правда, потом, уже наедине со мной, Цезарь очень над этим случаем смеялся. Настоящая дерзость всегда его радовала.
Наверное, ты злишься на меня. Да, я помирился с Гаем и тут же поссорился с тобой. Как Солнце и Луна сменяют друг друга на небе, так и я всегда могу быть в мире лишь с одним из братьев, правда?
Кстати, будь здоров.
Твой брат, Марк Антоний.
После написанного: мне так жаль.
Послание четырнадцатое: Раны
Марк Антоний брату своему, Луцию, дабы в очередной раз говорить о себе и только о себе.
Здравствуй, братец! Никогда не могу удержаться от соблазна написать тебе что-нибудь, будто живому. И сейчас спрошу: как ты? И выражу надежду, что ты здоров. И хотя я знаю, что это неправда, мне становится легче, когда я думаю о тебе так.
Я пытаюсь разобраться, что я за человек. Моя детка проявляет к этой затее изрядную долю скепсиса. Она вовсе не верит, что кто-либо может с достаточной точностью ответить на этот вопрос.
Он сложный, признаю, но я вовсе не считаю, что решение найти невозможно. Однако согласен: поиск ответа сопряжен с некоторыми трудностями.
Проиллюстрирую тебе одним примером. Когда я был в гостях у моей детки в самый первый раз, мы отправились на охоту. Я умирал от любопытства, мне хотелось поглядеть, как загоняют гиппопотамов и крокодилов.
Было жарко, и после знатного зрелища мы лежали на берегу Нила, тогда моя детка, чтобы развлечь меня, разморенного солнцем и вином, предложила некоторый разговор. Она спросила меня, каким человеком я себя считаю. Я перечислил ей несколько характеристик, которые полагал весьма примечательными и мне присущими. Среди них проскользнуло и слово "нежный" или "ласковый", я уже не помню.
— Что ты имеешь в виду? — спросила она.
Я сказал, что говорю о своем отношении к женщинам. Моя детка вскинула брови и с улыбкой продемонстрировала мне синяки на своих запястьях.
— Свидетельства нашей ночи, — сказала моя детка.
Потом она бесстыдно приподняла подол платья, чем изрядно возбудила меня, и показала синяки на бедрах. Последовал час любви, а после него моя детка вернулась к начатой теме.
— Видишь, — сказала она. — Представления человека о себе часто бывают неверными. Ты стремишься быть нежным, но плохо контролируешь силу и слишком порывист. Выдаешь желаемое за действительное. Я могла бы опровергнуть все черты характера, которые ты приписал самому себе, Антоний, хотя я знаю тебя не так долго.
— Но почему? — спросил я, требуя себе вина и подставляя лицо нагоняемому слугами с опахалами воздуху.
— Наши представления о себе связаны с нашими желаниями и страхами, — сказала моя детка. — Но, в сущности, мы мало знаем о том, что мы за люди. Нам известно, чего мы боимся, и чего желаем, на этом все. Но мы не знакомы с сутью.
— Тогда ты, например, можешь сказать, что я за человек?
— Нет, я могу лишь подтвердить или опровергнуть что-либо. Но ты, как и всякий живущий, слишком изменчив и текуч. Постоянны лишь мертвые. Я могу сказать, у меня было достаточно времени, чтобы подумать над этим, что за человек мой отец. Нет, сказать — не то слово. Предположить. Не с точностью, но с некоторой уверенностью в том, что я уже не ошибусь. Впрочем, всегда могут открыться новые факты. Ты знаешь, что за человек был Цезарь?
О, она знала его прекрасно, и всю жизнь носила на себе отпечаток Цезаря. Сын — не все, что осталось ей от Цезаря, вся моя детка была пропитана им.
Она посмотрела на меня волшебными темными глазами, ее лицо безо всякого выражения, лицо богини с настенной росписи, вдруг озарила легкая, едва уловимая улыбка.
— Что за человек был Цезарь? — повторила она. — Прошу, удовлетвори мое любопытство, Антоний.
— Ты знаешь его, — ответил я растерянно. Она протянула руку и погладила меня по щеке.
— Мой милый и красивый бычок, — сказала она. — Я знала лишь Цезаря с Клеопатрой. Но ничего не знаю о Цезаре с Антонием. Просвети меня.
Прозвучало так, будто она снова предложила мне свое тело, хотя голос ее едва ли изменился: что-то другое, мимолетное движение губ, пристальный взгляд глаз, и вот — такое впечатление.
Я сглотнул слюну, снова желая ее любви, готовый для нее, но она отстранила меня, когда я подался к ней.
— Расскажи, — повторила она, снова улыбнувшись.
И я сказал ей:
— Цезарь был умным человеком. Умным, смелым, доблестным.
— Банальности, — сказала она. — Каким он был для тебя? Каким он не был больше ни с кем?
Я мог думать лишь о ее прекрасном теле и больше ни о чем. В египетской жаре мысли и без того медлительны и неповоротливы, а уж тем более сложно сосредоточиться, когда плоть берет верх над разумом.
Я некоторое время перекидывался пустыми словами с самим собой, пока не нашел нужного.
— Со мной Цезарь был очень мягким.
Я поспешно добавил:
— Это не значит, что он не был мягким с другими.
— Нет, — сказала моя детка. — Все правильно. Продолжай.
— Он многим прощал многое. Но со мной — со мной это было главным. То, сколь многое он позволял мне. Рядом с ним я чувствовал себя расшалившимися ребенком, избалованным, очень избалованным.
Тогда я ляпнул первое, что показалось мне достаточно точным, но теперь я думаю, что был, несомненно, более чем прав.
Да, Цезарь всегда был со мной мягок и прощал мне столь многое, что это всех вокруг злило, и возбуждало ненависть ко мне большую, чем даже мои собственные действия.
Однако, после эпизода с Долабеллой, да и моего, честно говоря, из рук вон плохого управления Римом в его отсутствие, мы отдалились. И в этом был виновен не Цезарь, а я.
Я испытал стыд, что не слишком мне свойственно, и стыд этот заставил меня надолго исчезнуть из общественной жизни. Цезарь не изъявлял такого желания, но и не препятствовал мне. Что, после некоторого попустительства, я принял за отвержение.
Цезарь не предложил мне участвовать ни в африканской, ни в испанской кампаниях, хотя там я мог послужить куда лучше, чем здесь, в Риме, и я, сгорая от стыда, решил, что более ему не нужен.
Я все время спрашивал Фульвию:
— Ты думаешь, он меня ненавидит? Ты думаешь, все меня ненавидят?
— Даже я тебя ненавижу, — говорила Фульвия. — У тебя был такой прекрасный повод взять власть в свои руки, а ты упустил его, глупец. Но это ничего, вам, Антониям, многое сходит с рук — такова ваша порода. Так что, я подожду. А пока мы должны пожениться.
Однако со свадьбой я тянул. Это мероприятие публичное, а публика в то время крайне меня не любила. Слава богине Роме, что вкусы толпы столь переменчивы. Я не смог бы протянуть так долго, если бы меня снова не полюбили.
Удалившись от дел я, как ты знаешь, ничем особым не занялся. Долгие периоды безделья, сменяющиеся бурной деятельностью — вот что для меня характерно. Не очень здоровая позиция, но я таков, каков есть.
Кроме того, я был грустный. Как говорила нам в детстве мама,"волчонок, опустивший ушки". Я чувствовал, что разочаровал людей, и Цезаря, и поплатился за свою ненасытность, глупость и кровожадность сполна, но все еще не мог контролировать три этих ключа к успеху.
Вскоре Фульвия забеременела. Тогда она сказала:
— Еб твою мать, Антоний, женись на мне, я ношу твоего ребенка, это уже пиздец, понял? Пиздец не жениться на мне — срочно женись.
Всякий раз, когда она сквернословила, мне вспоминался Красавчик Клодий, умевший ругаться лучше всех на свете, и я смеялся, но в то же время злился.
А тут вдруг не разозлился и не засмеялся, а удивился и обрадовался. Я прижался щекой к ее плоскому еще животу, пытаясь угадать, услышать эту новую жизнь, плод нашей любви.
Всякий раз это случается по-разному. Я боялся, когда забеременела Фадия, когда забеременела Антония это, как и любое чудо творения жизни, удивило меня, но сам факт того, что у нас будет ребенок, казался мне естественным. С Фульвией все было по-другому, то, что она могла подарить мне, было облеченной в плоть нашей с ней любовью, тем, что свяжет нас навсегда.
И мы поженились. Я устроил ей максимально красивую свадьбу из возможных, и Фульвия, чей живот к тому времени чуть округлился, выбрала такое платье, чтобы его скрыть и хорошенько повеселилась.
В нашу первую брачную ночь, мы, взмокшие и обнаженные, лежали в постели, в которой любили друг друга сотни раз, но теперь все было по закону, правильно с точки зрения богов и людей. Я чувствовал удовлетворение и радость. Фульвия положила голову мне на плечо, и ее мягкие рыжие волосы разметались по моей груди.
— Только не умри раньше меня, Антоний, — прошептала она. — Я больше этого не выдержу. Я сейчас так люблю тебя. Я чувствую нашего сына, он проснулся.
— Меня всегда это так удивляет, — сказал я. — Живой человек живет в другом человеке. Как так-то? И с чего ты взяла, что это будет сын? Может, дочка?
— Все мужчины хотят сына.
Я пожал плечами.
— Моя первая жена, Фадия, родила мне полумертвого мальчика. Теперь у меня плохие ассоциации с сыновьями.
— А будут хорошие, — сказала Фульвия просто и снова взялась за свое. — Нет, ты меня не слушаешь, Антоний. Я умоляю тебя: не умри раньше меня.
— Да как я могу это контролировать? — засмеялся я.
— Ты не можешь оставить меня, Антоний!
— Ты можешь называть меня Марком, — сказал я. — Мы теперь семья.
— Я привыкла по-другому. Пообещай мне, что не умрешь.
— Ладно, — сказал я, чтобы она отвязалась. — Обещаю, я тебя переживу. Теперь ты довольна?
— Да, — сказала Фульвия серьезно. — Нет, подожди. Клянись!
— Клянусь Юпитером, что переживу тебя. Ну теперь-то ты точно довольна?
— Теперь я довольна, — сказала Фульвия и поцеловала меня. — Обещаю, наш сын сделает тебя счастливым. Это будем мы с тобой, только лучше.
Так или иначе, свое обещание я выполнил. Но не думаю, что теперь Фульвия довольна. В любом случае, о боги, как я любил ее тогда. Мы все время проводили вместе, и я радовался ей, а потом и нашему старшему сыну, Марку Антонию Антиллу. Я дал ему свое имя и свою любовь. Мой мальчик и сейчас здесь, со мной, и сердце мое болит за его судьбу. Я предпочел бы, чтобы он уехал, но Антилл уже почти мужчина и не хочет покидать меня. Я много возил его с собой, и все, что он видел в жизни — это война. Он готов, я сам сделал его готовым. А теперь мне кажется, что он такой малыш. Но он куда лучше меня в его возрасте, правда.
Фульвия говорила, что сын похож на меня, а я все искал в нем ее любимые черты. Я всегда так гордился им, и горжусь, он такой умный мальчик, и я всегда ему это говорил. Но в одном он ошибается. Думает, он готов умереть.
А я вижу: не готов. Все бы отдал, чтобы посмотреть, каким он вырастет и кем станет.
Теперь я вижу, что он в равной мере походит и на меня, и на Фульвию. В отличие от Юла — моей полной копии, Антилл, как и обещала мне Фульвия, стал воплощением нашей с ней любви, совместным творением.
И хотя я злюсь на Фульвию, я люблю ее в нашем сыне.
Ладно, милый друг, тебе, наверное, приятно было бы посмотреть на племянника. Жаль, что это теперь невозможно.
Вот так вот жили мы, и кто знает, как бы все повернулось, если бы однажды (некоторое время спустя после того, как родился Антилл), мне не пришло письмо от Цезаря.
Помню, стояла прекрасная, свежая, уже зеленая весна. Я лежал тогда в саду, разморенный дремой, и сквозь нее наблюдал за приятной болью в животе, какая бывает от обжорства. Приятное состояние сытого животного, я никогда не находился в покое долго, и доступен он мне был только в самой своей грубой и звериной форме.
Фульвия играла со своим выводком (старшему, Клодию, было на тот момент тринадцать, и он гордо сидел в стороне), детский писк одновременно раздражал и радовал меня. Я с любовью различал в нем редкие мурлыканья, издаваемые Антиллом. Да и к остальным детям Фульвии я относился с добротой и любовью, поскольку они были детьми моих друзей (во всяком случае, Клодий когда-то тоже был моим другом, и изжить из себя полностью эту дружбу я не могу, как видишь, до сих пор) и всем, что от них осталось.
Фульвия сама встретила гонца, она знала, что после обеда меня не стоит будить без веского повода. Однако, повод нашелся самый подходящий. Фульвия села на кушетку рядом со мной.
— Антоний, любовь моя, — сказала она. — Письмо от Цезаря!
Я вскочил, едва не опрокинув кушетку, малыши столпились вокруг нас, не вполне понимая, что происходит, но заметив, как волнуются родители. Даже Антилл, которого Фульвия передала рабыне, протянул руки к письму.
Я взглянул на печать и узнал ее мгновенно. Да, это было письмо от Цезаря. Сорвав печать, я развернул его и принялся жадно читать, Фульвия тесно прижалась щекой к моей щеке, и шепотом проговаривала все написанное.
Письмо это я до сих пор помню наизусть и привожу тебе его не приблизительно, сохраняя смысл и основные акценты, но абсолютно честно цитирую.
"Здравствуй, Антоний. Рад поздравить тебя, хоть и запоздало, с женитьбой. Счастье быть мужем любящей тебя и любимой тобой женщины сложно переоценить. Пусть и впредь твой дом процветает, и этот брак, всячески мною одобряемый, поможет тебе остепениться. Насколько я знаю, он уже в некотором смысле повлиял на тебя, и исключительно в положительном смысле. Ты спросишь, откуда я это знаю, и нет ли у меня других дел? Безусловно, я справляюсь о твоей судьбе, потому как ценю тебя и переживаю за тебя, Антоний. Что касается других дел: они есть и в достатке, в решении этих дел мне очень тебя не хватает, хотя я пока и не готов вызвать тебя. Однако я непростительно долго откладывал важный разговор с тобой. Ты знаешь, что я не одобряю твоего поведения: это очевидно, и это та правда, которую необходимо сказать для того, чтобы отношения между нами оставались честными и открытыми.
Однако же ты, Антоний, наделен талантами, которые нельзя игнорировать, и я ценю твою верную дружбу, открытость и непосредственность (так причудливо иногда сочетающиеся с твоей животной хитростью). Мы разные люди с разными представлениями о том, как правильно жить эту жизнь, и это, как я тебе всегда говорил, я ценю больше всего. Возможность постичь чужой опыт, столь отличающийся от моего собственного, бесценна, и я не хочу ее терять. Надеюсь, ты со своей стороны в достаточной степени ценишь нашу дружбу для того, чтобы вести со мной небольшую переписку. Я хотел бы знать, как у тебя дела, и, более того, узнавать это из первых рук. К сожалению, я не могу поделиться с тобой своими актуальными проблемами (в которых ты бы безусловно разобрался, эти проблемы как раз по твоей части), однако хочу знать о том, как живешь ты. Думаю, в этом нынче ничего секретного нет.
Читать твои письма мне будет приятно, они здорово отвлекут меня и насытят такими нужными сейчас впечатлениями. Я хочу мира, и хочу знать, какая сейчас весна в Риме.
Будь здоров!
Твой друг, Гай Юлий Цезарь.
После написанного: друг мой, я прекрасно знаю, что ты хотел бы выехать немедленно и принять участие в текущей кампании. Таким будет твой первый позыв. Однако, этого не будет, я не желаю видеть тебя там не из неприязни и не из сомнения в твоей компетентности, а потому, что хочу, чтобы ты сохранил свой покой. Он будет недолог, научись ценить то, что имеешь сейчас. Нас еще ждут большие и важные дела, и ты будешь жалеть об этих прекрасных деньках. И не представляешь, как быстро они пролетят. Я старше тебя на семнадцать лет, и я знаю, о чем говорю."
И правда, первое, о чем я подумал, прочитав письмо Цезаря — нужно немедленно отправиться к нему. Однако, перечитав, я вновь наткнулся на несколько прямых запретов и расстроился.
Фульвия сказала:
— Это хороший знак, Антоний. Цезарь не может сбросить тебя со счетов.
— Цезарь любит меня!
Фульвия зло засмеялась.
— Дело не в этом, тебя любят солдаты, и ты хороший военачальник. Кроме того, ему нужна одиозная персона вроде тебя. Это иногда полезно, когда нужно отвлечь народ от чего-то важного. Или дать ему распробовать что-нибудь, что может народу не понравиться.
Что ж, тогда я думал, что Фульвия говорит глупости. Но чуть позже, конечно, я пригодился Цезарю именно так: дал народу распробовать одну вкусность, которой Цезарь собирался его потчевать. Ты знаешь, о чем я говорю. Теперь я уверен, что народ получит эту вкусность в полном объеме, не от меня, так от Октавиана. Мы хотим одного и того же, но Октавиан умел и осторожен, а я груб.
И все-таки, думаю, мы вполне угадали желания Цезаря, и они совпали с нашими собственными.
Так вот, я тут же сел писать ответ.
"Дорогой друг, поздравляю тебя со знаменательной победой при Тапсе. Она особенно важна для меня, учитывая безрадостную и болезненную судьбу Куриона. Теперь мой лучший друг полностью отмщен, и смерть нумидийского царя заставила мое сердце весьма возрадоваться. Я знаю, ты не любишь во мне моей кровожадности, но здесь повод не дает мне сдержать себя в полной мере. Надеюсь, я не разочаровал тебя первыми же строками письма.
Я хочу заверить тебя в моей любви и дружбе, и в том, что я испытываю стыд за свое поведение. Я повел себя безответственно, как это со мной часто бывает, и подвел тебя, что заставляет меня сокрушаться до сих пор. Но, думаю, ты хочешь от меня вовсе не моих извинений. Расскажу тебе, как мои дела, разреши, однако, уточнить, не могу ли я помочь тебе в чем либо, я был бы рад выехать, тем более, до меня дошли слухи, что сыновья Помпея сбежали в Испанию и, без сомнения, продолжат доставлять тебе головную боль.
Теперь к делам ныне творящимся: у великолепного Марка Антония все хорошо. У меня родился сын, это ты знаешь. Я крайне волновался, но все прошло успешно: мальчик здоров, бодр и, судя по всему, весьма общителен. В целом, супружеская жизнь в ее виде, изначально задуманном, оказалось не такой скучной, как я предполагал. Наверное, дело в любви. У нас здесь хорошо, свежо, тепло и приятно — весна разгорается жаркая. В саду поют птицы, я знаю, ты любишь эти звуки и скучаешь по ним на чужбине. Римские птицы, возвещу тебе, вполне в голосе, услышав их, ты не разочаруешься. Купили новую повариху, она жарит молоко с мукой и медом, получается странно, но вкусно, кроме того, она, наконец, умеет готовить легкие, а это умение редко среди людей столь же, сколь и умение быть честным.
Сама моя жизнь вертится вокруг стола и ложа, однако вино почти исключено из уравнения. Вместо того, чтобы напиваться, я много тренируюсь и много сплю. Не скажу, что эта жизнь мне подходит, однако должны быть и такие периоды. Благодаря им мы больше ценим приключения и радости службы. Не могу написать много, слишком не терпится отправить тебе письмо и получить ответ. В следующий раз напишу куда больше и скучнее.
Твой друг,
Марк Антоний."
Вот так вот, брат мой, Луций. Вернувшись в столицу после африканской компании, Цезарь не нашел для меня достаточно времени, чтобы поговорить лично, у него было весьма много мороки с грандиозными триумфами (разумеется, не по поводу победы над римлянами, нет, выходило, что Цезарь воевал против всех других, но не против римлян), а вскоре он выехал в Испанию, тоже без меня.
Я было расстроился, подумал, что вновь оказался в немилости, однако Цезарь продолжал со мной активную дружескую переписку. Меня не оставляло ощущение, что Цезарь наблюдает за мной, что на самом деле он рядом и смотрит за каждым моим шагом. Может, ждет чего-то, а, может, просто хочет меня изучить.
Но правда была и в том, что я просто скучал по нему. Многие говорят, что я стоял за неудачным покушением на Цезаря, я, обиженный и оскорбленный, попавший в немилость. Это неправда, и я клянусь в этом всеми богами, имена которых знаю, и теми, что пребывают под пологом неизвестности. Уверяю тебя, я искренне любил Цезаря даже тогда, когда он был во мне разочарован. А возможно тогда я любил его особенно.
Может, Цезарь пытался выяснить степень моей причастности к тому случаю, однако я так не думаю. Больше я склоняюсь к мысли о том, что он с самого начала знал о моей непричастности, потому что в этой жизни он знал почти все, а меня, натуру не слишком сложную, и вовсе читал как открытую книгу.
Так вот, что бы ни желал выяснить обо мне Цезарь, он выяснил это к концу испанской компании, потому как последнее его письмо было таково:
"Марк Антоний, дорогой друг, я хотел бы, чтобы ты выехал мне навстречу заранее. С нетерпением жду шанса рассказать тебе, наконец, обо всем, что творилось в Испании, это была интересная и яркая кампания. Кроме того, мне хотелось бы, чтобы ты присоединился ко мне во время моего проезда по Италии. Я хочу, чтобы ты сидел в колеснице рядом со мной в знак многих твоих побед и моей признательности тебе.
Твой друг,
Гай Юлий Цезарь."
Кстати говоря, Октавиан тоже сидел в той колеснице, позади нас. Знал ли Цезарь уже тогда, кому он оставит свое имя и дело? Думаю, да.
Но не суть, главное, что я немедленно выдвинулся Цезарю навстречу. С этим связан один забавный случай. Стоило только выехать, как прошел слух о смерти Цезаря, и о том, что мы мчимся прямиком к гибели от руки Секста Помпея.
Разумеется, меньше всего на свете я хотел вот так вот встретиться с Секстом Помпеем, виллу которого я так безбожно эксплуатировал. Со мной у него, пожалуй, были особые счеты. Будучи неподготовленными дать отпор врагу, мы, сторонники Цезаря, повернули обратно. Уже вблизи Рима нас застала новая весть — слухи о приближении Секста Помпея неверны, Цезарь жив и ожидает нас. Однако, перед тем, как двинуться обратно, я решил заскочить домой.
Раз уж я поклялся пережить Фульвию, мне захотелось узнать, будет ли она горевать о великолепном Марке Антонии так же сильно, как о его друзьях. Переодевшись в раба и закрывши голову капюшоном, я подговорил привратника подыграть мне и сказать Фульвии, что ей пришло письмо от ее любимого и великолепного мужа (не употребляя эти эпитеты, конечно, а то все сразу стало бы ясным, как день).
Было темно, и Фульвия вышла, закутавшись в платок, она выхватила у меня письмо, даже не взглянув в мою сторону (Фульвия никогда не удостаивала рабов вниманием, на то и был расчет).
В письме, разумеется, были заверения в моей искренней любви и сообщение о тяжелом ранении, которое я получил, и, если Фульвия читает это письмо, значит все закончилось для меня неблагополучно.
Я стоял, в надежде увидеть то, что хотят увидеть все дети на свете: как родные будут скорбеть о них и лить горькие слезы.
Моя детская мечта исполнилась вполне, и я не разочаровался, даже наоборот, испугался столь бурной реакции. Хотя, по правде говоря, ее стоило ожидать.
Фульвия запрокинула голову и заорала, словно фурия, в самое темное небо, издала она вой столь истошный, что сонные птицы слетели с ветвей. Вопль был совершенно звериный, я даже удивился, как он такой сумел вырваться из вполне человеческой глотки моей возлюбленной.
— Фульвия! Фульвия!
Я притянул ее к себе и поцеловал. Сначала она опешила, не сообразив, что происходит, потом сдернула капюшон с моей головы и заверещала:
— Ах ты урод, блядь, гондон ебаный, ты оборзел, урод, я тебе кишки выгрызу, уебок!
Она принялась колотить меня своими маленькими, слабыми, бледными ручками в веснушках, а я прижимал ее к себе и пытался заткнуть ей рот.
— Да успокойся, успокойся! Это шутка!
— За такие шутки я тебе ночью голову разобью, когда ты заснешь! Мозгов у тебя все равно ноль, хоть посмотрю, что в черепной коробке у тебя, мразь ты и паскуда, Антоний!
— Какая ты буйная!
Фульвия больно наступила мне на ногу.
— Ты зато тихий. Психопат ты нахуй, Антоний! Съебись отсюда, не могу тебя видеть!
Глаза у нее были сухие, но яркие, Фульвия никогда не плакала, только выла и верещала, но тут глаза ее блестели от обиды.
Долго же я не мог с ней помириться. И до сих пор так стыдно, Луций, ты не представляешь.
Но приятно. Все бы отдал, чтобы посмотреть, как меня будут оплакивать. И останется ли хоть кто-нибудь, кто это сделает.
Ну все, семейные шутки в сторону, давай-ка перейдем к вкусностям. Фульвия была абсолютно права, с помощь меня, несколько нелепого, открытого и очень неоднозначного, Цезарь опробовал кое-какую важную политическую мысль.
Незадолго до Луперкалий Цезарь пригласил меня к себе. Он все время был занят, и на столь личную аудиенцию с ним я не мог и рассчитывать. Обычно Цезарь приглашал меня вместе с кем-нибудь еще, минимум три человека, максимум пятеро, всегда из одного круга, всегда знающие ровно одинаковое количество важных вещей.
Так Цезарь экономил время, разделяя своих сторонников на кружки, в каждом из которых звучали свои темы и преобладали свои волнения.
Я понимал эту его особенность и знал, что она вызвана недостатком времени (мало кто любил так обстоятельно пообщаться, как Цезарь, и он вынужден был отказывать себе в этом удовольствии), но все равно скучал по Галлии и по разговорам, которые мы вели там, посреди огня войны, столь спокойным и ясным, что эти разговоры до сих пор кажутся мне самым правильным, что я сотворил в своей жизни.
А тут вот, представляешь, милый друг, он пригласил меня, и мы были вдвоем, после простого и вкусного ужина Цезарь налил мне вина и спросил:
— Антоний, как по-твоему, что такое история?
— Ну, — сказал я. — История это последовательность определенных событий. Их цепь. Цепь событий, которые привели к настоящему моменту. В ней есть причины, почему настоящий момент именно такой.
— Да, — сказал Цезарь. — Безусловно. А что в истории ценно?
Он очень следил за тем, сколько я пью вина, и под этим взглядом я отставил кубок.
— Победы, — сказал я. — Победители.
Цезарь засмеялся. Добродушно, как он умел, и в то же время прохладно. Всегда казалось, будто подул свежий, но северный ветерок.
— Победители, — задумчиво повторил Цезарь. — Многих привлекают победители. Это очень просто. Но проигравших, я так думаю, во всяком случае, надо ценить не меньше, чем победителей. Проигравшие дают нам уроки. Не только уроки милосердия, но и возможность извлечь знания из их падения. Победитель, что ж, он победил не без причины. Но куда интереснее и полезнее знать, почему проиграл проигравший. Что было фатальным? Какую он допустил ошибку? Только милосердный и чуткий взгляд на проигравших может позволить нам это понять.
— В смысле, милосердный и чуткий? — спросил я.
Цезарь охотно объяснил:
— Обычно мы смотрим на проигравших с презрением, расчеловечиваем их, делая вместилищами всех пороков. Но мы должны смотреть на них с трепетом, как на живых человеческих существ, которые пытались победить. И даже — как на потенциальных победителей. Полезнее соотносить себя с проигравшими, чем с победителями. Смотря на них с сочувствием, мы учимся видеть их настоящие промахи и слышать поступь судьбы.
А я-то думал ко мне этот разговор никак не относится, ха-ха.
И вот теперь я тот проигравший, на которого ты, уж пожалуйста, гляди с сочувствием.
Я слушал внимательно, кивал и, в общем-то, даже позабыл о недопитом вине в кубке. Цезарь всегда говорил интересно.
Потом он спросил:
— Что ты думаешь о Тарквинии Гордом?
— Дурацкий царь, — сказал я. — Настолько дурацкий, что после него вообще царей не было.
Цезарь засмеялся:
— Люблю твою непосредственность, Антоний. Именно, Тарквиний Гордый оказался последним царем Рима, после него Рим превратился в Республику. Но был ли он так плох?
Я пожал плечами, мол, история есть история, кто ее разберет.
— И в чем его ошибка? — спросил Цезарь. — Я полагаю, что в самонадеянности. Он считал, что царь может делать все, что угодно. Но правда в том, что царь остается царем только пока в это верят его подданные.
Я сказал:
— Ну да. Царем быть непросто. Это я еще по Египту понял.
— Я тоже понял кое-что в Египте, Антоний.
Цезарь облизнул узкие губы, быстро, украдкой, одна из немногих его нервных привычек.
— Риму не нужна Республика, мы говорили об этом много раз. Но нужен ли Риму царь? Я имею в виду, готов ли Рим к пришествию новой эпохи?
— А какая разница? — спросил я. — Эпоха наступит, хочет кто-то этого или нет. Тут слишком много вещей, которые нельзя остановить.
— Да, — сказал Цезарь. — Колесо делает оборот, и процессы, происходящие в обществе, не могут быть остановлены. Но любое колесо можно затормозить. Временно. Например, кучей мертвых тел. Оно перемолет и их, потому как неостановимо. Но пройдут годы. Мы же этого не хотим, правда?
— Мертвых тел или терять время? — засмеялся я.
— Я не хочу ни того, ни другого, — со смехом ответил Цезарь. — А ты, наверное, не хочешь терять время.
Я украдкой взял кубок и сделал глоток.
— Я примерно понял твою мысль. И что делать будем? С колесом, с теми, кто пытается его остановить, со всем этим?
— Мы будем действовать осторожно, расчищая нашему колесу дорогу, — сказал Цезарь. — И для начала мы узнаем, что люди думают сейчас о власти, которая им нужна.
— А если они ее не желают? — спросил я.
— Значит, они желают человека, который от нее откажется. Это, в сущности, одно и то же, если правильно обставить дело. Так вот, Антоний, ты мне необходим, чтобы сделать самый осторожный шаг.
Когда Цезарь рассказал мне, чего хочет от меня, я спросил:
— Слушай, а они не просекут? Ну, как все обстоит на самом деле.
Цезарь развел руками.
— Антоний, это неважно. Важно, что в первый момент они будут искренними. И, исходя из этой реакции, мы будем строить нашу политику.
Он говорил нашу, хотя политика с недавних пор принадлежала исключительно ему. Но мне нравилось слышать, что она наша.
Точно так же с царством и Республикой. Людям нравится, что политика принадлежит им, хотя это лишь слова.
И вот наступили Луперкалии. Ты знаешь, как я их люблю, это праздник вечно продолжающейся жизни, и он прекрасен. Всякий раз во время Луперкалий я приходил в совершенно эйфорическое состояние (хотя с огнем того первого раза оно не могло сравниться, но было прекрасным тем не менее).
Лишь в тот раз я ужасно волновался и не мог сосредоточиться, не мог впасть в блаженное дикое забвение. Я был напряжен, мысли мои были слишком близки к делам земным, и тот, кто живет в пещере, думаю, это понял, во всяком случае, мне послышалось недовольное ворчание.
Так или иначе, я был в отличной форме и замечательно пробежал пару кругов по Палатину. Наконец, я завернул за угол, где меня должен был ждать Эрот. Он протянул мне увитую лавровыми листьями диадему, я взвесил ее на руке — серьезная вещь. Предусмотрительный Эрот также сунул мне в руки спортивную бутылку, которую я обычно брал на пробежку. Бутылка была красная, на ней снова появилась наклейка с милой зверушкой (лисичкой на этот раз), их упрямо клеила моя падчерица Клодия. Половину воды я выпил, половину выплеснул себе на лицо, потом сказал:
— Ну, поехали!
Эрот сказал:
— Удачи.
Он в успехе предприятия сомневался. Впрочем, такие упаднические настроения ему были свойственны.
Когда я спустился к Форуму, где на ораторском возвышении сидел Цезарь, весь такой степенный и в пурпуре, к которому очень подошла бы диадема, в руках у меня было будущее Рима.
Хотелось сделать все красиво. Я пощелкал пальцами молодым ребятам-луперкам, с которыми договорился заранее (не посвящая их, впрочем, в суть того, что буду делать дальше), и они легко и артистично (мы тренировались) подняли меня, я оказался с Цезарем, сидящим так высоко, на одном уровне. Народ, любивший такие фокусы, взревел. А я любил покрасоваться, что красивым телом, что атлетическими навыками, и подумал, что кое-что от этой ситуации все-таки выиграю. В первую-то секунду.
Наши с Цезарем взгляды встретились. Он не показал, что знает, а я не показал, что знаю, что он знает. Искренне, с радостью, я протянул диадему к его голове, собираясь короновать Цезаря.
Все смолкло. Казалось, будто толпа, собравшаяся вокруг нас, растворилась, исчезла без следа. Прошла секунда тишины, потом раздались крики радости, их было немного, но они были.
Что за крики, как ты думаешь? Кричали из страха перед Цезарем или от восторга перед ним же? Половина на половину, я полагаю. Да и восторга без страха не бывает, поверь, да и наоборот — не бывает тоже.
Цезарь, ничем не показав, как ему результат, отстранился, подался назад и нахмурил брови. Толпа взревела от восторга, пораженная скромностью этого человека и его любовью к свободе.
Мы договорились проделать это три раза. Три раза я подносил диадему, и три раза Цезарь негодующе от нее отказывался, всякий раз люди ликовали все громче.
Так ликует человек, чей страх не подтверждается, и он отныне освобождается от него.
Так ликуют люди, которым кажется, будто они смертельно больны, но вдруг — первые признаки выздоровления.
Вот как ликовал народ, когда Цезарь отверг диадему.
Я принял его решение и, ловко приподнявшись, водрузил диадему на одну из статуй Цезаря, того же это привело в притворную ярость. Он спустился, обнажил шею и крикнул:
— Если таким видит меня народ, если он видит меня царем и деспотом, то я жду своего убийцу! Пусть всякий, кто видит во мне угрозу свободе Рима, проткнет мое горло ножом!
Разумеется, ход был шикарный. Римляне в полной мере одобрили скромность и самоотверженную приверженность Цезаря идеям Республики.
Что касается великолепного Марка Антония, он достаточно красив и артистичен, чтобы делать грязную и непопулярную работу, и он прекрасно знает, что его возненавидят, а потом полюбят еще и еще, что бы он ни делал.
Потом, в приватной беседе, Цезарь искренне поблагодарил меня. Он обнял меня и прошептал:
— Марк Антоний, друг мой, всякий готов сделать почетную работу, результат которой всем понравится. Но ты готов ради меня на большее, и я не забуду этого никогда.
Вот так вот. Народ — один, Цезарь — ноль, но это так только кажется.
Думаю, исходя из этого Цезарь построил некоторую стратегию, но мы так и не увидели ее в действии. Цезарь умер слишком рано, чтобы показать, стоила ли его игра свеч. Я уверен — стоила.
Что касается смерти Цезаря, говорить о ней нелегко и печально. Тем более, что отчасти я считаю себя в ней виноватым.
Цицерон как-то обвинил меня в том, что я знал о заговоре и ничего не сказал о его существовании Цезарю. Это и так и не так. Причина в высшей степени постыдная, но весьма для меня стандартная.
Когда мы ехали встречать Цезаря после испанского похода, я весьма долго путешествовал вместе с одним из будущих заговорщиков, Гаем Требонием. Этот мужик не особенно мне нравился, в его обществе я скучал, поэтому мало отвечал на его реплики, в основном, только кивал или отделывался общими фразами. Так вот, этот дебил как-то начал прощупывать почву, мол, а ведь Цезарь со мной так дурно обошелся, а ведь Цезарь, может быть, не самый мудрый человек в мире, и не заслуживает такой чести, как править Римом, дескать, Цезарю мешает честолюбие, и дальше оно будет только расти.
Дело было уже вечером, в палатке, куда я зашел после обильных возлияний, чтобы поспать. Честно говоря, я на ногах едва стоял. Я принял все эти разговоры за типичные жалобы на власть имущего и кивал, как болванчик. Под это дело я решил догнаться и выпить еще, а дальше — ничего не помню.
Цицерон утверждал в личном разговоре со мной, что Гай Требоний предлагал мне убить Цезаря, причем, вроде как, практически немедленно, по пути домой.
Не знаю, так ли это. Цицерон говорил, что я все выслушал, идею не поддержал, но и о заговоре не сказал.
Может быть. Во всяком случае, для меня та ночь — сплошное черное пятно, никакого заговора я не помню, да и сомневаюсь в его существовании. Что Требоний был одним из недовольных и, согласно своей брюзгливой натуре, спешил пожаловаться всем на все мне было известно давно, слова его я всерьез не принял, а остаток ночи выветрился у меня из головы, как дымок прогоревшего костра.
И в этом смысле я невинен, как дитя. Требоний с тем же успехом мог поведать свою тайну сосуду с вином или яблоку, и получил бы тот же самый отклик.
Однако, когда я думаю о том, что мог устранить хотя бы одного из будущих заговорщиков заранее, мне делается тоскливо.
Люди говорят, что я плох и омерзителен. Во многом это правда. Но я никогда бы не предал Цезаря, я всегда ценил его, и был благодарен ему за предоставленный мне в жизни шанс. Я какой угодно, во мне достаточно поводов для насмешек и злословия, но только я не предавал Цезаря.
Да и вообще, так ли я жесток? Когда мудачок Долабелла сложился о меч собственного телохранителя, я не очень обрадовался. Может, не такой уж я и конченный человек? С чего я вспомнил об этой карликовой хуйне? Да с того, что он и замочил Требония в Смирне. Как мы друг друга грызли! Никто не жрал себе подобных с таким упоением, как мы, правда?
Но говорю тебе честно, да, я повинен во многом, в том числе и в предательствах, однако никогда я не предавал Цезаря, и не думал о том, чтобы предать его, и совесть моя чиста, может, перед этим единственным человеком и только перед ним.
Помню наш последний разговор с Цезарем.
Он сказал мне:
— Антоний, мы не будем спешить. Станем действовать осторожно, будто у нас есть все время мира.
Даже не помню, о чем он тогда говорил. Не о царской власти точно. Что-то о реформах, у него было море планов на этот счет — он хотел построить совершенно новое государство.
Так вот, я сказал:
— Ладно, не спешить, так не спешить. Хотя я плохо тебя понимаю. Я всегда стараюсь сделать и получить все как можно быстрее.
— А почему? — спросил Цезарь. — Даже если подождав, ты бы получил в два раза больше?
— Да, — сказал я. — Даже если бы и так. В детстве у меня был страх, что все исчезнет. Если я не съем пирог, он исчезнет, если я не получу игрушку, она исчезнет. Вот такой страх пустоты. Ненавижу все пустое.
Цезарь улыбнулся и кивнул.
— Я тебя понимаю. Это очень глубинный страх.
Я смутился. Мне всегда было приятно рассказывать Цезарю о моей душе. Никто больше слушать об этом не хотел, а Цезарю было интересно, или он хорошо делал вид. Я люблю поговорить о себе, ты знаешь.
Но стоило, пожалуй, тогда поговорить о нем. Спросить, почему он полагает, что у него есть все время мира? Что заставило его так думать?
Может, его бы это отрезвило, хотя и вряд ли. При всех своих достоинствах, Цезарь на самом деле не умел следовать советам. Он раздавал их направо и налево, но никогда не следовал им сам.
Да и последовал бы он моему совету? Я, как ты понимаешь, далеко не гений.
Мартовские иды. Символично, что раньше, давным-давно, именно в этот день вступали в должность консулы. Меня смешит, что заговорщики, случайно или намеренно, выбрали такую дату. Думаю, что намеренно. Это были очень претенциозные ребята.
Никто никогда не приставал к нему с пожеланием уберечься от мартовских ид, правда. Во всяком случае, я такого не слышал, и Цезарь не говорил мне об этом ничего.
Так что день был приятный и вполне обычный. Я, почти что не похмельный, следовал за Цезарем в курию и зевал, Цезарь, как всегда, читал на ходу какие-то письма. Я, будучи в то время консулом, старался включать голову чаще и совсем уж плохим на заседания сената не ходить. Правда, от меня требовалось очень немногое, учитывая, что все дела в Риме решал Цезарь. Так вот, письма. Только одно он отдал рабу нераспечатанным, сказав, что прочтет его завтра.
Есть байка, что в этом письме было предупреждение о заговоре. Я вполне в нее верю — судьба играет такие шутки.
Так вот, тот же самый Требоний задержал меня перед входом в курию.
— Антоний! — окликнул он меня. Я закатил глаза. О нет, подумал я, скучный мужик пришел. Еще на твое лицо унылое мне посмотреть на хватало. Я зевнул и сказал:
— Слушай, а после заседания не поговорим?
— Прошу тебя, Антоний, ты мне нужен. Ты мне нужен, как консул!
Вот это что-то новое. Я мало кому был нужен, как консул.
— Ну выкладывай, — ответил я, остановившись. Цезарь двинулся дальше в окружении своей свиты: похожих на кучку жирных гусей сенаторов и статных ликторов, которых он, увы, оставил при входе. Не полагается, понимаешь ли, бояться чего-либо на собрании свободных и уважаемых людей.
Не полагалось.
Ох уж эти свободные и уважаемые люди, правда?
Так вот, Требоний сказал:
— Не здесь. Давай отойдем.
— Ну, давай отойдем.
Словом, я всем своим видом выражал недовольство сложившейся ситуацией. Гай Требоний вздохнул. У него были тяжелые веки и очень тонкие губы. Он напоминал мне грустную лягушку.
— Так что у тебя за проблема?
Мы отошли чуть в сторону, и я сел на капот чьей-то желтой машины. Хороший цвет, подумал я, просто отличный, хочу такую же.
Я смотрел на носки своих кроссовок, а Требоний вся мялся. Наконец, я почувствовал раздражение:
— Выкладывай уже.
Ручеек сенаторов в белых с красной каймой тогах, тянувшийся к курии, почти иссяк, и я с тоской думал, что опоздаю. Требоний стоял передо мной и кусал свои тонкие губы. Обескровленные и тонкие, они казались почти несуществующими, рот Требония выглядел просто уродливо.
Этим ртом он сказал мне:
— Если говорить начистоту, Цезарь должен быть устранен. Это просто неизбежно, Антоний. Я предлагаю тебе принять участие в этом. В ближайшее время.
Ах Требоний, ах зараза, вот это ход. С одной стороны Требоний встревожил меня, а с другой — успокоил. Я думал, что заговор находится в процессе подготовки, и мне не терпелось рассказать все Цезарю. Я засмеялся:
— Ты ебанутый? — спросил я.
Требония бросило в краску. Он не любил, когда при нем выражались, и частенько наказывал солдат за брань.
Я сказал:
— А что? Не так, что ли?
Я возил ногами по земле, поднимая пыль, и смотрел в сторону курии Театра Помпея. Все было пусто и спокойно. Я подумал: как Цезарь будет ценить меня впредь, когда я расскажу ему обо всем.
Требоний взял меня за плечи.
— Антоний, ты должен действовать в интересах своего времени. Другого шанса не будет. Соглашайся, потому что это случится так или иначе, рано или поздно.
— Рано или поздно, — сказал я, крайне довольный собой. — Так или иначе, умрут все. С гарантией. Но ты правда думаешь, что я могу вот так вот предать Цезаря? Я идиот? Или я конченная мразь?
Я видел, что Требоний хочет ответить что-то вроде:
— И то и другое.
Но он сказал:
— Однако ты не выдал меня Цезарю. После нашего разговора на пути к нему.
— Чего? — спросил я. — Какого разговора?
Требоний, судя по всему, растерялся. Он не ожидал, что я этого разговора не помню. Он метнул быстрый взгляд в сторону курии, я его заметил, и оценил неправильно. Я подумал, что Требоний боится меня отпускать. Думает, я немедленно расскажу Цезарю. И он был прав.
Я встал.
— Ладно, дружок, вот ты и допрыгался. Пойду просвещу всех причастных.
Тут я услышал шум, будто бы внезапно взволновалось море, а следом за этим шумом из курии повалил народ, люди бежали, кто-то кричал:
— Цезарь убит!
Я не поверил ни глазам, ни ушам, однако смятение и ужас, творившиеся вокруг, подхватили и меня.
Я повернулся к Требонию и увидел, как его тонкие губы разошлись в ухмылке. Я схватил его за волосы и хорошенько приложил о желтый, блестящий капот машины. Требоний заверещал, а на капоте осталось пятно крови.
Что касается меня, я побежал, потому что я не понимал, что делать, потому что я хотел жить, и потому что на мне были очень удобные кроссовки.
Денек был такой погожий, солнечный, на деревьях набухли почки, пели птички, маленькие лужицы блестели от света.
И в этот день он должен был умереть. Я бежал, и вся эта красота как-то пропитывала меня, проникала в меня вместе с ужасом.
Все изменилось. Насколько моя жизнь и само государство оказались завязаны на одного человека. Я совершенно не понимал, что теперь будет, без Цезаря все потеряло смысл, жизнь лежала в руинах.
Ворвавшись в свой собственный дом, я задвинул засов, развернулся и прижался спиной к двери. Собрались рабы, выбежали дети, наконец, спустилась Фульвия.
— Антоний, что…
— Цезарь! Его убили! — крикнул я.
Фульвия прижала руку к сердцу.
— О, Юнона Заступница, началось! Антоний, возьми свой меч и перережь мне горло!
Все было таким ярким, словно в глаза мне выплеснули краски. Я стоял у двери и кусал губы.
Фульвия принесла мне меч, я взял его, вытащил из ножен и взглянул на свое отражение. И вправду, это выход. Раз все, что я делал в последние годы, было так связано с Цезарем, и раз с политической точки зрения я все равно не жилец, к чему откладывать неизбежное?
Фульвия сказала рабам увести детей.
— Малыши будут жить с твоей матерью, — сказала она. — Они справятся. Жаль только Антилла. Он почти не будет помнить родителей.
Я проверил пальцами остроту меча. На подушечках выступила кровь, но боли я не почувствовал.
— Сперва убей меня. Ты клялся, Антоний! Ты мне клялся!
Вдруг я почувствовал удар воздуха в груди. То был холодный, чистый и отрезвляющий воздух.
— Тихо, — сказал я. — Тихо, женщина, дай мне подумать.
Фульвия крепко сжала мою руку. Она смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Ей было страшно, губы у нее дрожали. Вдруг вся спесь, которую она приобрела, будучи консульской женой, с нее сошла. Это была маленькая девочка, и она была в ужасе от идеи отправиться в темную комнату.
Я сказал:
— Дело нехитрое. Это-то мы с тобой успеем, не вопрос.
— Не вопрос, — повторила она эхом. В соседней комнате хором рыдали дети, которых увели рабыни.
— Тихо вы там! — крикнула Фульвия. — Клодий, успокой сестру и братьев, если бездарные няньки не в состоянии это сделать!
Я рявкнул на Фульвию:
— Тихо, женщина, говорю же! Нам нужно подумать!
Я отбросил меч.
— Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
— Нас убьют!
— Народ любит Цезаря.
— Любовь народа непостоянна! Страх побудит их любить убийц Цезаря!
Убийц Цезаря. А я даже и не знал, кто они такие, эти убийцы Цезаря. Ну, кроме Требония, разумеется. Хотя Требоний как раз-таки не участвовал в самом убийстве, так что его нельзя было назвать и убийцей. Вот такое смятение царило у меня в голове.
Я сказал:
— Нет, подожди. Им самим страшно. Они это сделали, и теперь дрожат от страха. Как и все люди, предпринявшие нечто столь решительное.
И ужасное.
Я говорил о смерти Цезаря, но смерти Цезаря самой по себе еще не существовало. Я не видел тела.
О боги, неужто он так и лежит там, думал я, неужто он там совсем один, покрытый кровью. Сколько их было? Сколько ран на его теле? Как он умер, быстро или мучительно, или неистово, словно разрываемый вакханками бык?
Я ударил себя по лицу.
— Тихо, Антоний, — сказал я. — Пойди сходи к невнятному пацанчику.
— А невнятный пацанчик у нас кто? — спросила Фульвия, неожиданно засмеявшись.
— А невнятный пацанчик у нас все, — сказал я. — Теперь-то.
Я отодвинул засов, Фульвия, успокоившаяся на секунду, вцепилась в меня.
— Нет, куда ты, Антоний, куда ты?!
— К Лепиду, — сказал я. — Он командует войсками в городе. Значит, мне нужен он.
— Нет! — сказала Фульвия. — Не выходи, не надо! Они убьют тебя! А если Лепид — один из них?!
— Если я не выйду, все решится без меня!
— Подожди хоть немного!
Мы с Фульвией кричали друг на друга, ругались, я все время порывался идти, а Фульвия вцеплялась мне в руки, царапалась и верещала. Так что, когда вошел Эрот, я даже не заметил.
— В городе тихо, господин, — сказал он.
О, умница Эрот. Узнав о беде, он тут же пошел разведать обстановку.
— Что народ? Лепид с заговорщиками?
— В страхе, господин. Лепида среди заговорщиков нет. Заговорщики собрались на Капитолийском холме. Они ждут чествований, но тщетно.
О да, подумал я, ждут не дождутся. Я устрою им чествования. Незабвенные, потрясающие, невероятные.
— Подготовь защиту дома, — сказал я. — Собери людей.
— Антоний, не уходи!
— Да успокойся ты, Фульвия! Все тихо!
— Пока что! Сейчас начнется!
О, как в нашу кровь, в нашу плоть въелось представление о терроре.
Мы с Фульвией так и ругались, когда меня известили о том, что пришел Лепид. Невнятный пацанчик был как нельзя кстати. Никогда я не любил его больше, чем в тот час. Я сжал его в объятиях, и мы с ним коротко, но горько расплакались.
— Значит, это правда? — спросил я в отчаянии.
— Правда, — ответил Лепид. — Каска, Кассий, Брут…
— Брут?!
Лепид кивнул. Его степенное, всегда спокойное лицо искажала болезненная гримаса, словно у него болел зуб.
— Где они?! — выкрикнул я, хоть и знал ответ.
— Укрепились на Капитолийском холме.
— Бляди.
Этот холм можно было держать много дней, даже месяцы. Мне вспомнилась старая история о том, как во времена нашествия галлов, горстка римлян полгода сидела в осаде на Капитолии.
Лепид сказал:
— Предлагаю начинать штурм. Чем раньше, тем меньше будет у них возможностей укрепиться там окончательно.
— О, я тебя уверяю, ребята уже пустили там корни, — сказал я задумчиво.
Фульвия велела принести нам вина, но Лепид отказался, а я, что неудивительно, выпил. Я был в растерянности, не знал, что делать. А потом вдруг случилось то же самое, что когда-то помогло мне сохранить спокойствие после гибели Публия. Помнишь?
Мне показалось, что я способен думать, как Цезарь. Конечно, это было пустой игрой мозга, забавным чувством, не более. Я по природе своей не способен был думать, как Цезарь.
Но все же я почувствовал в себе силы поразмыслить над ситуацией с такой позиции: а чего хотел бы он?
Как бы Цезарь действовал в случае собственного убийства? Абсурд? Абсурд, еще какой.
Я выпил еще и сказал Лепиду то, чего сам от себя никак не ожидал. Это было решение Цезаря, вернее, решение моего внутреннего представления о нем.
— Не стоит превращать Рим в поле боя, — сказал я. — Это затянется, и мы окончательно уничтожим все, что Цезарь сумел построить. И сотворим мучеников. Мученик у нас один. Это Цезарь.
Лепид нахмурился. Я постучал себя кулаком по лбу.
— Будем думать головой. Насколько возможно.
В тот момент я еще не размышлял о собственных выгодах. Чуть позже, да — уже прикинул. Но в тот момент я был одержим лишь одним. Действовать так, чтобы Цезарь гордился мною. Я был консулом чисто номинально, для проформы, все решал Цезарь.
Но вот пришел момент действовать по-взрослому.
Мы с Лепидом обмозговали ситуацию, и я созвал экстренное заседание сената в Храме Земли. Там не было Цезаря, никогда не лежало его тело, он был убит в курии Театра Помпея. Но нашел я на полу красное пятнышко, похожее на кровь. Одно единственное пятнышко, на которое я и смотрел не отрываясь все заседание. Словно в нем и сосредоточился весь Цезарь, добрый друг, поддержавший однажды еще очень маленького Марка Антония, так страдавшего от смерти своего отчима.
Это, по прошествии времени, кажется мне самым главным.
Так вот, я неотрывно смотрел на это пятно и говорил:
— Чего ждут эти люди? Они ждут нашего решения, гадают, как мы отнесемся к ним. Я знаю о том, что многие из вас втайне поддерживают их.
По залу пронесся шепоток, я поднял руку и все стихло.
— И знаю, что многие из вас хранят верность Цезарю и скорбят сейчас так же, как я. Цезарь хотел процветания Рима, но его убийство может уничтожить все, что было создано еще Ромулом, и каждый из здесь сидящих понимает это. Каждый из вас испытывает разные чувства: боль, радость, облегчение, страх. Но мы должны отрешиться от этих чувств, ото всех от них. Я желаю найти компромисс, потому что я не хочу бойни. Я не хочу бойни, потому что Цезарь не хотел бы ее. Предположим, он был тираном. И что нам сделать? Объявить Брута и его сообщников тираноубийцами? Брута, наследника того самого Брута, что избавил нас от первого тирана много лет назад? Справедливо, скажете вы. Но в таком случае должны быть отменены все законы и назначения Цезаря. Все его полезные реформы, все, что он сделал, все пропадет бесследно, словно и не было никакого Цезаря. Задайте себе вопрос: со всем ли вы не согласны, что делал Цезарь?
Конечно, речь шла не о реформах, сколь бы полезными они ни были. Говоря о реформах, я говорил на самом деле о назначениях. О том, что многие люди, сидевшие там, в Храме Земли, как бы они ни относились к Цезарю, получили от него свои должности и не хотели их терять.
— Но как же обойтись с тираноубийцами? Справедливо, скажете вы. Но разве одобрю это я, и другие друзья Цезаря, разве смогут смотреть они, как чествуют его убийц? Разве одобрит это народ, любивший Цезаря? Начнется резня, которую сложно будет остановить. Что мы можем сделать в сложившейся ситуации? Всякий ход кажется неправильным. Я знаю лишь одного человека, умевшего мастерски выходить из подобных ситуаций. К сожалению, он не может присутствовать сейчас здесь по причине внезапной смерти. Но, сдается мне, он предложил бы компромисс. Цезарь не любил прошлое и видел в нем источник конфликтов. Он желал начать историю с чистого листа. И, я полагаю, именно это и будет правильнее всего. Мы не осудим и не одобрим, мы не казним и не помилуем. Мы продолжим политику Цезаря, без сомнения, в тех аспектах, которые кажутся нам здравыми, но вернемся к основам Республики. Убийц мы удалим из Рима для их же блага, однако обеспечим им высокие должности, соответствующие статусу, который, напомню еще раз, обеспечил им именно Цезарь.
Я замолчал. Сенаторы смотрели на меня, словно глупые животные, затем разнесся шепоток, думаю, от меня не ожидали столь взвешенного и мудрого подхода. Я улыбнулся, и зал разразился аплодисментами.
— Слава Антонию, спасителю отечества! — кричали они. — Да будет так!
Меня снова любили. Я принес мир.
Ты же понимаешь, милый друг, я вовсе не имел в виду мира с убийцами нашего славного Цезаря. Никогда. Душа моя горела, и я клялся отомстить, каждую секунду клялся, и шептал про себя, что от всякого, кто забаррикадировался сейчас на Капитолии, я не оставлю мокрого места.
Успокаивали меня лишь слова Цезаря, которыми он наградил меня в последний наш разговор:
— Антоний, мы не будем спешить. Станем действовать осторожно, будто у нас есть все время мира.
И хотя жизнь показала, что Цезарь не прав, эта мысль, эта реплика все равно успокаивала меня как ничто другое.
Пятно на полу, не кровь, просто краска, да. Какая боль, должно быть, пришлась на его долю, а меня не было рядом, и последнее, что он увидел — это не верный друг, сражающийся за него, а глупые, трусливые сенаторы, бегущие из курии вон. Но я заставлю их туда вернуться, да, еще как.
Я сказал:
— Я в первую очередь — воин, и признаю, что моя политика была ошибочной и дилетантской долгое время. Однако теперь я одержим лишь одной мыслью: я должен принести нам мир. Это входит в противоречие со всем, во что я верю, но душа моя жаждет процветания Рима более, чем крови врагов.
И снова крики радости, аплодисменты, славословия. В этот момент я почувствовал себя не мальчиком, играющим в скучноватую игру под названием политика, но действительным консулом, который сейчас должен решить один из страшнейших и острейших вопросов в истории.
Вернувшись домой, я крикнул Фульвии:
— Спускайся, милая!
Когда я рассказал ей, что произошло, она поцеловала меня и обняла.
— Я знала, что снова вышла замуж за перспективного политика, — сказала она. — Просто не могло быть по-другому.
А я смотрел на нее и думал, как люблю ее, и как счастлив с ней, и как дорого мне все, что с Фульвией связано, и о нашем двухлетнем сынишке.
Потом я сказал:
— Мне нужен Антилл.
Фульвия отстранилась от меня.
— Что?
Я повторил:
— Мне нужен Антилл.
Выступление в сенате забрало все мое красноречие, и я не понимал, как объяснить ей.
— Он станет заложником, — сказал я. — Для переговоров.
Вполне распространенная практика, и приемлемая для любой матери, когда дело касается не ее ребенка. Фульвия, вдруг потерявшая всю резкость и злость, упала мне в ноги, принялась целовать колени.
— Нет, не Антилл, мой повелитель, я умоляю тебя, не Антилл! Возьми меня вместо него! Умоляю!
— Фульвия, я должен дать им гарантии, — сказал я. — Это ненадолго. Я знаю Брута, как достойного человека.
Я так устал. Голос мой был совершенно лишен интонаций, и я его не узнавал. Я так устал, а работы было еще много. Луций, брат мой, я повзрослел в тот день окончательно, а ведь мне было уже тридцать девять лет.
Я сказал:
— Фульвия, я не могу с тобой спорить.
— Отправь меня с ним! — закричала она. — Прошу тебя, отправь меня вместе с ним. Если мы умрем, то вместе!
— Никто не умрет, Фульвия, — сказал я. — И с ним отправится Эрот. Им нужны гарантии. Что гарантирует им безопасность лучше, чем мой единственный сын? Никто не умрет.
Фульвия тогда уже носила под сердцем моего второго сына, Юла, но мы еще не знали об этом. Думаю, беспокойное сердце Юла берет свое начало из того страшного дня. Он всегда был очень нервным ребенком.
Фульвия обнимала мои колени и плакала, а я стоял и ждал. Потом я резко поднял ее на ноги и отряхнул.
— Ты хотела, чтобы я был политиком? Теперь я политик.
Фульвия вроде бы покорилась, но как только рабыня вывела Антилла, кинулась к нему и, когда я оттащил ее, лишилась чувств у меня на руках.
Я сказал Эроту:
— Защищай его до последней капли крови, если что-то пойдет не так.
Эрот сказал:
— Буду, господин.
Я уложил Фульвию на кушетку, принял из рук рабыни Антилла и поцеловал его.
Как разрывалось мое сердце, Луций! Меня всего трясло, но я должен был унять эту дрожь. Для этого я, разумеется, выпил.
Мы с Лепидом встретились у подножья Капитолия. Он вел за руку своего восьмилетнего сына. Они смотрелись очень комично: Лепид и крошка Лепид, совершенно одинаковые. У маленького Лепида даже морщинка между бровей, хмурая и серьезная, была точно такая же, и говорили они совершенно одинаково.
Лепид сказал:
— Ты знаешь, что делать, сынок.
— Безусловно, я знаю, отец. Я тебя не подведу.
Крошка Лепид отсалютовал отцу, словно маленький солдатик.
Я поцеловал Антилла и прошептал ему на ухо:
— Папа знает, что делает, малыш.
— Папа, — повторил Антилл и притронулся маленькой ручкой к моему носу. Я поцеловал эту ручку и сказал:
— Ты отправишься в небольшое путешествие с Эротом. Эрот тебя любит и не даст в обиду, сам это знаешь.
Как больно мне было расставаться с сыном, милый друг, и сейчас хочется обнять его и просить прощения, хотя я знаю, что все закончилось хорошо.
Когда рабы увели наших детей вверх по дорожке к вершине Капитолия, мы с Лепидом переглянулись.
— Думаешь, мы поступили правильно? — спросил я.
Лепид сказал.
— Разумно. Не правильно. Но разумно.
И в этот момент он мне был ближе всех на свете. Как отцы и как политики мы понимали друг друга идеально.
Вместе с нашими заложниками Эрот передал письмо с краткими тезисами того, что я говорил в сенате и предложением переговоров. В знак нашей доброй воли мы передавали им в заложники наших детей, вместе с которыми они могли безопасно покинуть Капитолий и вернуться к себе домой.
Не знаю точно, сколько они там совещались, но мне показалось, что очень долго. Сердце мое болело, мне хотелось выть, потому что я, хоть и надеялся на их благоразумие, как политик, не мог быть уверен в нем, как отец.
Наконец, они спустились. Мы встретились где-то на середине дороги. Мой сын был на руках у Кассия, но за ним неотступно следовал Эрот.
Я прикрыл глаза.
Кассий, желтокожий, болезненный, тощий и злой, как бездомный пес, никогда мне не нравился. У него был резкий характер, и он казался мне куда более вероломным, чем Брут. Но крошка Лепид уверенно семенил рядом с Брутом, и все было решено.
Мы пожали друг другу руки. Я — Кассию, Брут — Лепиду.
Я украдкой взглянул на Антилла. Он выглядел удивленным и заинтересованным, но не испуганным. Мой бедный малыш, он ничего не понимал, и все ему было интересно. Крошечное доверчивое существо.
Кассий сказал мне:
— Если это правда, Антоний, ты проявил редкое для тебя благоразумие.
— Если бы это было неправдой, я бы не позволил тебе держать на руках моего сына, — ответил я. Кассий моим ответом был вполне удовлетворен.
В целом заговорщики выглядели плохо. Бледные, осунувшиеся, с руками в запекшейся крови (они омыли руки в крови Цезаря, стремясь подражать греческим тираноубийцам).
Этими кровавыми руками Кассий обнимал моего сынишку. Впрочем, мужчина должен привыкать к крови с детства.
Да и, чего уж там, я обрадовался, увидев кровь Цезаря — его частицу на этой земле. Мне почему-то казалось, что весь он исчез из мира. Кровь, кровь, кровь, сколько раз уже написал я это простое слово?
— Идите домой спокойно, — сказал я. — Умойтесь, отдохните и поешьте. Никто не тронет вас. Когда вы отдохнете, мы обсудим все дела лично.
В качестве жеста доброй воли я пригласил на ужин Кассия, а Лепид — Брута (повезло ему). Брут держался проще, не так настороженно. Когда заговорщики пошли вниз, прихватив с собой наших детей, я шепнул Лепиду:
— Брут слишком доверчив для предателя.
Лепид хмыкнул, и мы тоже пошли вниз.
К ужину Фульвия не вышла, и мы с Кассием поели в тесной компании. Кассий пришел с моим ребенком, как мы и договорились.
— Благодарю тебя, — сказал он. — Твой сын помог мне добраться до моего дома. Надеюсь, выйти из твоего дома я смогу в такой же безопасности.
— Не сомневайся, — ответил я. — Это уже решено.
Пока мы с ним возлежали за ужином, я неотрывно смотрел на руки Кассия. Теперь, когда эти руки не были покрыты запекшейся кровью, я хорошо различал длинные порезы на его ладонях. Какой же должен был быть хаос, что заговорщики резали друг друга, сталкивались кинжалами.
Я все хотел спросить Кассия, как это было, что он видел, когда убивал Цезаря, было это быстро или нет, кричал ли Цезарь. Как он там?
Но, конечно, мы разговаривали о делах. Я снова пообещал заговорщикам провинции и безопасность, снова заверил их в том, что не хочу войны.
Кассий показал частокол мелких острых зубов.
— Марк Антоний и не хочет войны?
— Марк Антоний тоже не любит войны, в которых может проиграть, — ответил я. Лесть приятна всем и действует как масло, которое поможет надеть самое тугое кольцо.
Странное чувство, ломать хлеб с человеком, который убил твоего друга. Пить с ним вино. Говорить с ним так, словно ничего не случилось.
Кассий охотно поддерживал эту игру.
— Прошлое, — повторял я. — Прошло. Теперь нам нужно учиться жить в мире без Цезаря. Я имею в виду, и вам, и нам. Вы ведь тоже несколько растеряны, правда?
Кассий хмыкнул.
— Отчасти, — сказал он. — Но у нас есть достойный образец будущего.
— Это образец прошлого, — сказал я, не удержавшись. — Но это ваше дело. Боритесь за него. Мой консулат подойдет к концу, и, если будет на то воля сената и народа, вы вернетесь и сделаете будущее прошлым.
— Ты сладко говоришь, — сказал Кассий, и по его взгляду я видел: он жалеет, что не убил меня.
Я пожал плечами:
— Кто я такой, чтобы спорить с судьбой? Мои стенания не вернут Цезаря, как и моя ярость.
Кассий склонил голову, рассматривая меня. Думаю, мне сыграл на руку образ, который создался вокруг меня, еще более гротескный, чем этот удивительный Марк Антоний во плоти. О моей несдержанности, открытости и глупости ходили легенды. Думаю, Кассий решил, что я не слишком скорблю о Цезаре, может быть, даже хотел его смерти.
Кассий полагал, что я опасен им как честолюбец, не как мститель.
Только перед его уходом меня одолело страшное желание ударить Кассия по голове тяжелым кубком и закончить весь этот фарс. Я представлял, с каким треском кубок пробьет ему череп.
Улыбнувшись, я сказал:
— Благодарю тебя за доверие, Кассий.
— А я тебя — за гостеприимство.
Ночью в постели моя Фульвия была непривычно тихой и пока я любил ее и после этого.
— Я так испугалась, — сказала Фульвия, когда мне показалось, что она уже уснула. — Но ты справился так прекрасно. Ты сохранил хрупкий баланс. И теперь власть — твоя, только возьми ее. А главное, ты избежал войны.
— Нет, — сказал я. — Я не собираюсь избегать войны. Я убью их самым жестоким образом.
Конечно, я уже знал, что я попытаюсь сделать вскоре.
— А потом начнется война. Просто она будет не здесь. И не сейчас. А там и тогда, где мне будет удобно.
Фульвия посмотрела на меня, как на сумасшедшего.
— Но ты же принес мир! В этом твоя заслуга.
Я сказал:
— Как сильно я люблю тебя, Фульвия. Ты и не представляешь, как сильно.
В ближайшие дни было обговорено все по поводу похорон и решена участь заговорщиков (некоторые из них, как я уже упоминал, получили целые провинции в награду за свое злодеяние). Ты помнишь, я приходил к тебе и жаловался на все эти хлопоты. Разумеется, честь держать слово над мертвым принадлежала мне.
Я пришел к Кальпурнии, жене Цезаре, которая всегда относилась ко мне по-доброму и попросил ее об одном маленьком одолжении. Только об одном.
Она, не вполне понимая, зачем мне это нужно, отдала мне окровавленную тогу Цезаря.
В ночь перед похоронами я сидел и считал дыры в ткани. Их было двадцать три. Я, не такой уж и дурак, справился с первого раза, но повторял счет снова и снова.
Заснуть мне удалось лишь под утро. Мне приснилось тело Цезаря. Он лежал в каком-то очень темном месте, где единственный тонкий луч света откуда-то сверху освещал только его тело и больше ничего. На нем была простая туника, такая, какие носят дети. Лицо безмятежно и прекрасно, и тоже вроде бы моложе.
Но я видел раны, их было двадцать три. Я стоял над телом Цезаря и снова считал их. Только теперь передо мной были не безликие дыры в ткани, а кровавые отверстия в его теле, оставленные кинжалами. Сердце мое трепетало.
— О отец! — воскликнул я. — Отец мой!
Не знаю, почему во сне я назвал Цезаря именно так. В этот момент раны вдруг разверзлись и закровоточили. И я увидел в них зубы и языки. Это были кровоточащие рты, и они оглушительно закричали.
Я проснулся в поту.
Тело Цезаря я впервые увидел на похоронах. Он выглядел не таким безмятежным, как в моем сне, но и никаких кровавых ртов на его теле.
На лице его отражалось скорее удивление, оно не было спокойным, но не было и напуганным.
Я знаю Цезаря, и, думаю, последняя мысль промелькнула у него примерно такая: в планы теперь придется внести некоторые изменения. Думаю, он не осознал, что умирает. Этого не было видно. Ни покоя, ни гнева, ни боли — только удивление.
Первым надгробную речь держал Брут, в качестве должностного лица, разумеется, но было крайне иронично. Убийца говорит об убитом. Почти сразу после завершения речи Брут удалился, видимо, смущенный этой иронией.
Все было готово для погребального костра. Обычно сожжение мертвого проводилось за пределами города, но я настоял на том, чтобы для Цезаря сделали исключение, и все произошло на Форуме. Я взял канистру с бензином и взвесил ее в руке. Люди ждали моих слов, но я смотрел на канистру. Она была красная с черной крышкой.
Я открутил крышку, понюхал ее, в нос ударил резкий, яркий запах бензина. Среди людей пронесся шепот:
— Что с Антонием?
— Почему он не говорит?
Я закрутил крышку и поднял голову к небу.
— О Юпитер, — сказал я. — Как бы я желал, чтобы ты вырвал этот день из течения времени, но это невозможно. О Цезарь, потомок царей, не пожелавший стать царем, где же ты теперь, когда тело твое здесь, перед нами?
И, разумеется, я принялся перечислять все государственные и военные заслуги Цезаря, которые народ уже слышал от Брута. Люди были недовольны, они заскучали. Но я и хотел, чтобы они заскучали, хотя бы слегка.
Вдруг я прервал свою речь и вскрикнул:
— Да разве это важно? Важно, что Цезарь был мне словно отец! Как хороший отец, он мог быть строг со мной, но он всегда был справедлив ко мне. Вот кого я теряю: не военачальника, не главу моего государства, я теряю моего отца. Он сделал для меня столь многое, что сердце мое не верит в его отсутствие. Этот человек когда-то помог мне принять неизбежное, а потом научил меня менять мир к лучшему. Он научил меня побеждать. Он научил меня быть справедливым. Он научил меня прощать. Я неидеален, напротив, я плох, и я был еще хуже до встречи с ним. Но он разглядел во мне что-то, и неустанно помогал мне, когда я ошибался, прощал меня, если я признавал свои ошибки, радовался моим успехам. Я не верю, что этот человек мертв, и моя жизнь разрушена, как разрушена жизнь ребенка, лишенного отца. Но Цезарь был отцом не только для меня. Нас таких много. Честолюбец? Властолюбец? Лишь настолько, насколько каждый из вас в своей собственной семье. Но семьей Цезаря был Рим. Он мечтал дать нам всем будущее, он мечтал охранить нас от бед, накормить голодных, дать землю тем, кто лишен ее, подарить жизнь достойную и честную. Не об этом ли мечтает отец, глядя на своих детей? Когда он сражался в Галлии, он сражался за очаги и за алтари, за тот мир, в котором римляне больше не убивают римлян, за мир, в котором варвары не посягают на наши границы, а наша страна процветает от края и до края. Лишь одно неусыпно волновало его — вы. Даже в его завещании он позаботился прежде всего о вас, ссудив вам по триста сестерциев каждому, и свои прекрасные сады, чтобы ваши дети гуляли и играли там, и чувствовали себя так же привольно и спокойно, как дети богачей. Цезарю хотелось не стяжать славу, не стать властителем мира и даже не оставить после себя долгую память. Цезарь мечтал о мире для вас. О том, что когда-нибудь, лишенные предрассудков, мы встанем бок о бок и будем строить наше новое будущее. Тогда всякий сад будет принадлежать детям, всякие деньги будут принадлежать нуждающимся, как всякое лекарство должно принадлежать больному. Как и любой отец, Цезарь мечтал о том, что вы будете однажды жить в мире лучшем, чем он. Разве не помните вы, что не нужна была ему диадема, которую я, по глупости своей, предлагал? Он нуждался лишь в вас. И частенько он говорил мне, что нет Рима без римлян, Рим — это не стены, Рим — это вы, каждый из вас, ценный и необходимый, как ребенок необходим своей семье, поскольку он наследует отцу. Да если бы он мог, если бы только мог, Цезарь пришел бы в каждую семью и утешил страдающих, и возрадовался бы с ликующими. Но он не может. Нем этот рот, что неустанно говорил в нашу защиту в сенате. Слепы эти глаза, что видели все творившиеся несправедливости. Глухи эти уши, слышавшие ваши мольбы. Пуста эта голова, думавшая о том, как найти для вас покой и радость в этой нелегкой жизни. Руки, с мечом защищавшие вас, недвижны. Сердце, болевшее за вас, не бьется. Дыхание жизни ушло! Я умираю, когда думаю об этом. Никто не в силах заменить его. Убийцы слепы. Они говорили, что убивают властолюбца. Но не свой ли собственный порок видели они в Цезаре, чьи мысли были далеки от власти. Убийцы не в силах оказались понять, что на самом деле движет Цезарем. Разве они не вечно ущемленные аристократы и богачи, стремящиеся захватить все больше и больше, отбирая у голодного хлеб, а у сильного — работу? Это собственное властолюбие они увидели, и оно поразило и ужаснуло их настолько, что убийцы обрушились на Цезаря и забрали его жизнь! Нет, не могу!
Я махнул рукой Эроту, и он передал мне черный блестящий пакет для мусора. Я вытащил из него окровавленную тогу.
— Смотрите! Вот эти раны! Вот эта кровь! Вот кровь человека, что стремился к вам всем сердцем! Это сердце пусто и обескровлено теперь, в нем нет больше ни любви, ни огня. И разве не сироты мы после этого? Я осиротел, мартовские иды забрали у меня заступника, и лишь его кровь остается мне, как доказательство жизни, которая билась в этом теле.
Я поцеловал тогу Цезаря, ощутив запах крови. О боги, в тот момент я вспомнил и своего родного отца, и Публия, и Цезаря. Три горестных волны накрыли меня одна за другой, и я понял, как я одинок, как крошечен во Вселенной.
Я горько заплакал, и слезы мои смешались с кровью Цезаря.
— Как одиноки мы, — вскричал я. — Теперь мы лишены любви и покровительства, и можем лишь, гуляя по общественным садам, вспоминать, что когда-то о нас заботились. Отец Отечества ушел! Другого отца не будет! Безжалостная смерть забрала у нас наше небо, и теперь, поднимая голову, я смотрю в такую темноту, какой прежде и не представлял. Как бы я хотел спросить Цезаря, что делать с вами, мои друзья, мои ягнята! В мудрости своей Цезарь оставил множество поручений и законов, которые еще необходимо принять. Но разве бездушные буквы, пусть и складывающиеся в самые мудрые слова, могут заменить нам живого Цезаря, думающего о нас неустанно. Нет! Мы в мире одиночества и пустоты!
Я бросил тогу в толпу и открутил крышку от канистры с бензином.
— Больше нет смысла ни в чем! — сказал я. — Пусть горит это тело, потому что оно безмолвно и безлюбовно.
Я принялся обливать кипарисовые ветви и деревяшки в остове будущего погребального костра бензином. Потом облил и тело Цезаря.
— Пусть горит! — кричал я. — Что они сотворили! Пусть оно теперь горит! Властолюбцы, убийцы отца, сердце мое не станет величать их друзьями народа! Убийца отца — вечный враг детей, так почему же убийцы Цезаря разгуливают по городу, который он оставил вам?
Я взял у Эрота факел и поджег погребальный костер в разных местах, обойдя его по кругу и окинув взглядом людей.
Сначала моя речь была такой громкой в тишине, но постепенно тонула в воплях согласия и горечи. Люди плакали и стонали, кричали, просили Цезаря простить их и вернуться. Костер Цезаря занялся, и люди принялись кидать ему пищу. Как и тогда, с Клодием, это были скамьи, оконные рамы, выломанные наспех, столы термополиев.
Я всему учился у Клодия. Обессиленный, я запрокинул голову и заплакал. Тут-то я и осознал свое горе в полной мере. До того, поглощенный собственной речью, я играл, но теперь силы покинули меня.
Впрочем, мои безмолвные слезы возбудили толпу еще больше.
Последний костер Цезаря горел все ярче и стремился все выше, мне казалось, он достал почти до неба, и рос еще и еще. А вместе с ним росла ярость толпы. В конце концов, люди, соорудив себе на скорую руку факелы, которые зажгли от погребального костра, ринулись в разные стороны, к домам заговорщиков.
— Смерть им! Смерть убийцам! Смерть убийцам, да здравствует Цезарь!
Что касается меня, я вдруг почувствовал себя так плохо, что осел на землю.
Разом вспомнились мне все, кого я потерял, и встала передо мной плотная пелена бессилия перед смертью.
Но в остальном я был всесилен, поверь мне.
Именно ты подал мне руку, и я ухватился за нее, помнишь?
Толпа изрядно испугала заговорщиков, они в спешке бежали в Анций, дома некоторых из них были сожжены. Единственной жертвой толпы стал Цинна, однофамилец одного из заговорщиков и неплохой поэт.
Разумеется, я мечтал, чтобы их сожгли, разорвали, раскололи им кости, раздавили все хрящики.
Но этого не случилось, и я не удивился. Я хотел выгнать их из города, Луций, и направить против них гнев народа, чтобы оправдать будущую войну.
Теперь Рим был моим.
Ах, да, что касается завещания, мы прочли его до похорон. В нем Цезарь объявлял об усыновлении Октавиана, и я, конечно, пришел в сильную ярость.
Мне было обидно, но, и это главное, не удивительно.
Помнишь, я говорил, что у меня было ощущение, будто я сдаю Цезарю экзамен? Так вот, я его завалил. Думаю, довольно давно. Даже до того, как я понял, что сдаю этот проклятый экзамен.
Я первый почти во всем, но учеба никогда не была моей сильной стороной.
Рука устала писать, хватит на этом, пожалуй.
Твой брат, неистовый Марк Антоний.
После написанного: я вдруг задумался, почему пишу тебе, моему мертвому брату, а не, допустим, моему живому сыну Юлу? Почему так? Мне кажется, я не могу больше общаться с живыми.
Послание пятнадцатое: Друг Цезаря
Марк Антоний брату своему, Луцию, нигде более не проживающему.
Привет, мой родной! Сегодня я в необъяснимо хорошем настроении, кажется, будто все еще будет хорошо. Не знаю, может, я что-то начинаю понимать по поводу жизни и смерти, что-то полезное и важное.
В любом случае, Октавиан совсем рядом, а я вдруг понял, что могу легко о нем написать.
Твоя ненависть к нему сильна так же, а, может быть, и сильнее моей, но, прошу тебя, выслушай. Отчасти я выступлю защитником моего непримиримого врага. Он умен и талантлив, очень рационален, по-своему даже смел. Но главное — он прекрасный актер.
Ты хорошо его помнишь? Светлые волосы, приятные, чуть болезненные черты. Фульвия, впрочем, говорила, что он вызывает скорее материнские чувства, но, может, она не хотела меня расстраивать. Объективно Октавиан — симпатичный и дельный человек. Что бы я к нему ни испытывал, такова правда. И можно лишь порадоваться за мою страну, за то, что властвую в ней не я и властвуешь в ней не ты.
Разве мы с тобой достаточно рациональны для этого? Теперь я ясно вижу, что все делается к лучшему. Нет ненависти, ее нет.
Впрочем, ладно, мы еще дойдем до Октавиана, правда? Это мы точно успеем. Помни: у нас есть все время мира.
Кем я стал после смерти Цезаря? Ну, для начала я стал взрослым. Волей-неволей мне пришлось принимать свои решения, не всегда правильные, еще реже осмотрительные.
Глубина моей скорби о Цезаре весьма велика, милый друг, и до сих пор в часы отчаяния, перед рассветом, она накатывает на меня, как холодная волна.
Но когда все случилось, мне кажется, я пережил смерть Цезаря легче, чем должен был. Вдруг оказалось, что у меня множество дел, что вся жизнь из них состоит, и мне было просто некогда думать о том, что я одинок и лишился доброго друга и советчика.
Да, я отвлекался, и голова моя была забита, однако как грустно было думать: надо спросить у Цезаря. И понимать, что никакого Цезаря уже нет. Спросить было не у кого, приходилось копаться в глубинах памяти и, как завещал Цезарь, обращаться к его образу.
Не всегда я следовал тем советам, которые Цезарь давал мне в моей голове. Но я всегда ощущал тепло от того, что мне все-таки отвечают, что разум мой способен извернуться так, будто ответ и вправду исходит не от меня, а от кого-то другого.
И чувство одиночества от невозможности ни к кому обратиться вдруг проходило.
Первым делом я очаровал жену Цезаря, Кальпурнию. В общем-то, она всегда относилась ко мне неплохо, вряд ли она была в меня влюблена, слишком уж набожна и благопристойна эта женщина, и слишком любила она Цезаря. Однако, думаю, я напоминал ей сына, которого у нее никогда не было, и которого она страстно желала.
Это смешно, потому что Кальпурния младше меня. Но, клянусь тебе, в ее улыбках всегда было что-то материнское.
Кальпурния была красивая женщина. А эти ее волнистые волосы, всегда мечтал их потрогать, думаю, на ощупь они нежные-нежные! Впрочем, я никогда не предпринимал попыток ее окрутить, хоть это и могло быть полезным. В конце концов, и до тех пор меня мучили злость и вина по отношению к Клодию, умершему много лет назад (мучают и сейчас), и я не хотел позорить память Цезаря интрижкой с его женой.
Да и скажу по-честному, даже если бы я приложил все силы, вряд ли она бы согласилась — ее отличала от других женщин исключительная строгость нравов.
Так или иначе, все, что мне было от нее нужно, я получил: переписку Цезаря, его дневники, заметки о будущих законопроектах. Макулатуры осталось много. Цезарь извел больше папируса, чем кто бы то ни было в мире, я так думаю. Моя детка, зная о его страсти к письму, привезла ему в подарок огромное, просто невероятное количество прекрасного, качественного папируса, который он, о ужас, сумел практически извести.
— Письмо, — говорил Цезарь. — Моя страсть. Не так важно, что ты пишешь, само это действо облагораживает, приводит в порядок разум и успокаивает чувства.
Так вот, все это богатство теперь принадлежало мне. Не буду тебе лгать, я не прочел и половины.
И теперь мне жаль. Окажись у меня его записи сейчас, может быть, я бы читал, чтобы лучше понять его. Но тогда времени просто не было.
Что касается письма, только теперь я могу оценить его воздействие в полной мере. Письмо и вправду успокаивает сердце и облагораживает ум.
Кроме того, мне удалось убедить Кальпурнию, что деньги Цезаря у меня пребудут в сохранности. Зная о республиканских настроениях в сенате, и о том, что у Цезаря не так много друзей, как кажется, Кальпурния согласилась, и огромная сумма перешла под мой бдительный надзор.
Получение денег и бумаг Цезаря сделало меня его полноценным представителем, теперь я располагал знаниями и средствами, чтобы превращать эти знания в законопроекты и назначения.
Изгнание заговорщиков из города превратило меня в самого важного человека в государстве.
Фульвия была вне себя от радости. Я поручил ей поддерживать хорошие отношения с Кальпурнией, чего бы это ни стоило, и мягко направлять ее настроения в нужную сторону, за что Фульвия взялась без разговоров.
Она сказала мне:
— О Юпитер, Антоний, мы на вершине мира. Посмотри на нас, какая мы пара.
Она поцеловала меня, приподнявшись на цыпочки, а потом, подпрыгнув, забралась мне на руки.
— Не могу поверить! Я так счастлива, Антоний!
Фульвия засмеялась по-девчоночьи громко и задорно.
— Прекрасно! — сказала она. — Прекрасно и удивительно, что будет дальше!
Нежно поцеловав меня в щеку, Фульвия прошептала мне на ухо:
— Только не проебись.
Да. Мне предстояло очень хорошо поработать, чтобы этого не сделать. Единственное, что меня огорчало по части моей политической жизни — это назначение Долабеллы моим со-консулом.
Впрочем, довольно скоро я справился и с этой проблемой.
Однажды я пригласил Долабеллу в гости (предварительно отослав Фульвию к Кальпурнии), мы здорово выпили, и я сказал ему:
— Я тебя ненавижу.
Долабелла легко ответил:
— А я помню.
— Ты знаешь, мы с тобой взрослые люди. Вроде как коллеги. Так у нас получается формальное общение. Но как только я думаю о тебе, мне хочется взять что-нибудь очень тяжелое и сломать тебе башку. Я представляю это так часто, что такие мысли начинают меня пугать. Представляешь?
— Это угроза, уважаемый со-консул? — спросил Долабелла, широко улыбнувшись.
Я хлопнул в ладоши и улыбнулся тоже.
— Нет, — сказал я. — Просто жалуюсь. Наоборот, дружок, у меня есть к тебе предложение самого деликатного свойства. Такое хорошее предложение, что ты вряд ли откажешься. Хочешь его послушать?
— Ну, если оно не включает ничего тяжелого, то, пожалуй, да.
— Я сделаю тебя наместником Сирии. Там хорошо, богатый вкусный Восток.
— Ты замечаешь, Антоний, у тебя все время такие оральные метафоры. Съесть, вкусный, попробовать, укусить. Постоянно.
— Чего?
— В детстве, наверное, все тянул в рот. Да и сейчас. Орально организованный человек, так сказать.
— Как орально организованный человек я съем твои глаза, — сказал я и взял тяжелую золотую тарелку, смахнул с нее остатки фруктов. Долабелла напрягся, а я принялся смотреться в полированную тарелку, как в зеркало.
— Так вот, — сказал я. — Долабелла, я не хочу ссориться, мне не нужны проблемы. Я очень несдержанный человек, со мной всегда случается одно и то же, я что-то сделаю, а потом я жалею. Так вот, сейчас я должен быть серьезным политиком, правда?
— Так, слушай, не угрожай мне, я…
Я приложил палец к губам.
— Ты тшшш. Послушай, я дам тебе возможность нажиться на богатой провинции в обмен только на одно. Ты отсюда сваливаешь. Пакуешь свои манатки и, не дожидаясь окончания своего консульства, становишься наместником Сирии. И тогда тебе будет хорошо. И мне будет хорошо. Нам обоим будет хорошо. Считай, я предлагаю тебе взятку. Вот сколько стоит для меня возможность не видеть твою мерзкую рожу.
Долабелла прищурился:
— Правда? В таком случае, неплохо быть мной. Хороший способ заработать.
— Да, — сказал я. — Просто исчез откуда-нибудь, и ты уже богат.
— Но как же тогда власть? — сказал он, снова раздвинув губы в очаровательной и мерзкой улыбке.
— Оппа! Вот мы и дошли до самого интересного. А власть это теперь я. У меня деньги, у меня армия, у меня плебс. Я как Красс, Помпей и Цезарь в одном флаконе.
— Ты перегибаешь палку, — сказал Долабелла. — Это-то тебя и погубит.
Я пожал плечами.
— Уверен, ты обрадуешься, когда это случится. Тем более, что ты будешь далеко, и весь замес не причинит тебе ни малейшего вреда. Для тебя все кончится приятно.
— А с чего тебе хотеть, чтобы для меня все кончилось приятно? — спросил Долабелла. Я швырнул тарелку в стену.
— С того, — сказал я. — Что я очень хочу быть хорошим. Можешь себе представить? Я любил Цезаря и хочу продолжить его дело. Ты мне не нужен. Ты — уезжай.
Долабелла сказал:
— Знаешь, почему я уеду?
— Потому что хочешь денег, — сказал я. — Уж я-то тебя знаю.
— Нет, дружок, — сказал Долабелла, старательно скопировав мою интонацию. — Я уеду, потому что в отсутствии врага ты сам себя дискредитируешь еще быстрее. Не окажу тебе милости и не буду держать тебя в тонусе, кроме того, на кого же ты скинешь печальные итоги твоего правления?
Но я видел: он боится меня. Долабелла хорошо держался, продолжая улыбаться, демонстрируя болтливость и энергичность, но все-таки боялся.
И в этот момент я ощутил свою силу сполна.
Так или иначе, Долабелла согласился отплыть в Сирию, и я избавился от со-консула.
Думаю, особенно на Долабеллу подействовал недавний разгон компашки Лже-Мария. Сам все прекрасно помнишь. То был один из немногих возмутителей черни, к которым ты не присоединился, уж не знаю, почему.
Он выдавал себя за внука Гая Мария и близкого родственника Цезаря и призывал чернь к бунту. Я, недолго думая, арестовал его и приказал удавить безо всякого суда, а сторонников этого молодца разогнал самыми жесткими методами, прекрасно знакомыми Долабелле.
Только тут вдруг мне за это ничего не было.
Почему я это сделал? Тем более, что Лже-Марий призывал отомстить за Цезаря, о чем я мечтал и сам. Потому что я пытался удержать страну от немедленного сползания в войну и смуту. Легко быть внизу, легко кричать о своей любви к Клодию или к Цезарю, или еще к кому-то, не думая о том, что готовит день завтрашний.
Оказавшись наверху, волей-неволей обозреваешь виды. И, уловив картину в целом, вдруг начинаешь видеть мало веселого в бунтах и революциях.
Во мне не было никакой ненависти к этому авантюристу, я его во многом даже понимал. Но мне необходимо было делать свое дело, а он стоял на пути моей колесницы.
Знаешь что, я даже поговорил с ним. Спустился к нему в темницу и спросил:
— Слушай, парень, зачем ты это все делал?
Он, действительно слегка похожий на Цезаря внешне, во всяком случае, с теми же его светлыми глазами, сказал:
— А ты зачем это все делаешь?
— Цезарь любил такого роду софистику, — сказал я. — Можно подумать, вы и впрямь родственники.
Лже-Марий засмеялся.
— Тогда я не зря старался.
— Ну, если ты так думаешь, — сказал я.
Я шел его пристыдить. Хотелось сказать, что бунт его не приведет ни к чему хорошему, что ресурсов для войны у него нет, умений тоже, что он не знает, что делать с властью, что благодаря его беспорядкам в городе хаос, что бунтарские настроения распространились на Остию, и это вызвало перебои с поставками зерна.
А потом я подумал: какого хрена? Я все равно собираюсь его убить.
И я сказал:
— Люди от тебя в восторге. Это очень-очень-очень хорошее представление. Тебе надо было стать актером.
— Спасибо, — сказал он. — Так когда суд?
Очень уверенный в себе человек.
Я сказал:
— Завтра. Приготовь речь в свою защиту, дружок.
Потом я вышел и велел удавить его на рассвете. Всегда хорошо, когда это происходит внезапно. Во всяком случае, я вспомнил Беренику, ее печали и вопросы. Лучше, когда этих вопросов нет.
Вот так вот. После этого я весьма усилил собственную охрану, опасаясь народного возмездия. Но его не последовало. Люди меня боялись. Я хотел стать Цезарем, а стал Суллой.
Но я не лгал Долабелле, я действительно желал быть хорошим. Просто оказалось, что это сложно.
Когда Долабелла уехал, я смог сосредоточиться на том, что хотел сделать. Ты еще при жизни Цезаря стал народным трибуном, о чем всегда мечтал, а Гая я сделал претором вместо сбежавшего Брута. Помнишь, как мы с ним об этом говорили. Я еще спросил, верен ли он Цезарю.
Гай сказал:
— Мне все равно, я воевал за него, потому что хотел воевать.
И я сказал:
— О боги, какое же ты говно, Гай, я не буду давать тебе должность.
Он сказал:
— А кому ты еще ее дашь?
О, этот мрачный, но крайне прозорливый парень. И вправду, кто, кроме родного брата, мог справиться с поддержкой великолепного Марка Антония, и с кем можно было говорить так откровенно?
Я сказал:
— Отлично, тощая мразь, ты принят.
Мы засмеялись, но, уже уходя домой, я сказал Гаю:
— Только попробуй облажаться, братишка.
Гай вдруг улыбнулся, совсем как в детстве, и ответил, что ничего не обещает, но все-таки постарается. И я ему поверил, поверил ему не зря. Был лишь один спорный случай, ты помнишь.
Что касается тебя, ты кроме своей аграрной реформы ничего вокруг не замечал. И она принесла спелые, сочные плоды. Люди любили тебя, приветствовали, тебе ставили памятники, как истинному защитнику народа. Скажу тебе честно, я бы без страха предоставил тебе заниматься твоим делом, если бы не боялся, что ты пойдешь по той же дорожке, что и Клодий.
Так что мне пришлось создать комиссию по распределению земель, куда входили и ты и я. Однако проблемы с твоим обостренным чувством справедливости пришли оттуда, откуда я их совершенно не ждал — именно ты разрешил Октавиану выступить перед народом официально, и тем самым доставил мне множество неудобств.
Но ты считал, что это справедливо. И я люблю тебя за такую твою справедливость, она куда правильнее, куда чище моей.
Цицерон, кстати говоря, орал, что ты угрожал мне, когда я искал примирения с сенатом, причем угрожал чуть ли не зарезать меня. Сущие глупости, мужик слышит звон, но не знает, где он, а то и совсем поехал на старости лет.
Однако мы, да, шумно ссорились, потому что ты по любому вопросу имел свое мнение и, конечно, считал, что никаких компромиссов с сенатом, трусливым сборищем богачей и эгоистов, быть не может. Ты стал куда более последовательным цезарианцем, чем я.
Гай в этом плане был мне гораздо удобнее, он на политику плевать хотел, его даже деньги не интересовали. А что его интересовало после убийства Квинтилии? Ты знаешь? Я — нет.
Ладно, пойми меня правильно, я радовался, когда ты радовался. И радовался тому, что эти общественные поля, как и хотел Цезарь, уйдут людям, которые действительно нуждаются в земле.
А частица любви, которую народ питал к тебе за эти дары, перешла и ко мне.
Ну да ладно, теперь к моей деятельности. Оказалось, что законы, которые Цезарь собирался претворить в жизнь, не дописаны, более того, не ясны. И мне пришлось дорабатывать их самостоятельно. Некоторые получились очень даже ничего, и я ими горжусь: возможность апелляции преступников к народному собранию, например, моя заслуга — в память о Публии. Да и новые колонии вышли весьма и весьма приличными, я старался. Некоторые я дописал на скорую руку и даже упоминать о них не хочу. Кое-что я провел за деньги, в основном это касалось назначений.
Словом, то, что оставил Цезарь, представляло собой весьма туманное руководство к действию и, парадокс, как ни много этого было — этого было мало.
Доволен ли я собой? Отчасти. Я не разворовал все, что мог, зарабатывая, в основном, на продаже должностей, и постарался сохранить и даже приумножить государственные деньги, чтобы помочь нуждающимся.
Мне не были безразличны бедные, что бы ты ни думал на этот счет. Я никогда не бывал таким сентиментальным в отношении нищеты, как ты, но я хотел кому-то помочь. Не сильно напрягаясь, конечно, и по мере сил.
В любом случае, все шло куда лучше, чем когда Цезарь оставил меня в Риме во время гражданской войны. Не однозначно хорошо, но — лучше. И я часто мечтал о том, что Цезарь посмотрит на плоды моих трудов и увидит, как я изменился, стал серьезнее и ответственнее.
Меньше выпивки, больше дела. Меньше воровства, больше законов. Марк Антоний — великий молодец, можно говорить о нем, что угодно, но одно абсолютно нерушимо — он превзошел сам себя. Ему это было не сложно, учитывая, что, находясь у власти в прошлый раз, он дико набухивался и лез в колесницу, запряженную львами.
А потом вернулся из Греции приятный молодой человек. Звали его тогда Гай Октавий Фурин, у него было весьма скромное происхождение и не менее скромное финансовое положение.
Я уже видел Октавиана прежде, но никогда с ним особенно не общался, он меня не интересовал, слишком уж был юн, я и не представлял, что мне когда-нибудь придется с ним столкнуться, хотя Цезарь явно видел в нем что-то с самого начала.
А Цезарь, как ты знаешь, ошибся лишь один раз, и это привело к его смерти. В остальном он неизменно оказывался прав.
Октавиан прибыл в Рим вместе со своей группой поддержки, двумя мальчишками, один из которых, Марк Агриппа, в конце концов, разобьет меня на море. Чудной он, этот мир, правда?
Так вот, Октавиан все жаждал со мной встретиться, и я оказал ему эту честь не сразу, хотя и довольно скоро.
Принял я его вполне официально и, помню, подумал еще: чего мне бояться восемнадцатилетнего юнца, пусть он и наследник Цезаря по завещанию, разве в силах он распорядиться всем этим, если даже я не могу?
Помню, как он вошел. На лице его были еще следы недомогания (он всегда отличался слабым здоровьем), он был очень бледен, руки дрожали, но не от волнения, скорее, от слабости. На лице его пробивалась куцая борода, которую он отрастил до совершеннейшего неприличия, демонстрируя всем желающим и нет свой траур по Цезарю.
А я сидел чисто выбритый и почти трезвый, и думал, что мое положение совершенно нерушимо.
Я зевнул, потом сказал:
— Что ж, Октавий, рад тебя видеть. Как дела, наследничек?
— Приветствую тебя, Марк Антоний, — ответил он с осторожной, спокойной улыбкой. Я ему не нравился. Отчасти благодаря Цицерону, отчасти потому, что его всегда раздражала моя шумливость и претенциозность.
Октавиан был человеком простым и скромным, во всяком случае, с виду.
— Не Октавий, — добавил он. — Теперь мое имя Гай Юлий Цезарь. Я прошу называть меня так.
— Гай Юлий Цезарь Октавиан, — сказал я, напомнив ему, что, по правилам, первая фамилия, в слегка измененном виде, сохраняется за человеком, не давая забыть о его происхождении.
— Да, если быть точным, — ответил он, впрочем, не выразив видимого недовольства. — Если тебе это удобно, можешь называть меня полным именем.
Вот это гонор, подумал я и засмеялся.
— Ну хорошо, дружок, — сказал я. — Гай Юлий Цезарь Октавиан, с чем ты ко мне пришел?
Он улыбнулся снова, хотя глаза стали печальны.
— Повод невеселый, Антоний. Мое наследство…
— О, — сказал я. — Да, конечно. Причудливый выбор!
— Безусловно, — согласился Октавиан. — Я этого не ожидал. Но моему дяде виднее, не правда ли?
Вот сейчас пишу и думаю: какая зараза. Но на самом деле Октавиан не пытался меня задеть. Он говорил очень доброжелательно. Почти всегда он говорил очень доброжелательно. Его нервную натуру выдавали лишь движения. Он часто смотрел на часы.
Да, часы на его запястье: электронные, толстые, ярко-синие, а на ремешке — звезды и белые лошади. Детские часы на детской еще руке. В темноте лошади и звезды светились. Октавиан не расставался с этими часами никогда, разве что приходилось менять батарейки.
Так вот, когда в очередной раз Октавиан поднес запястье к самому носу и глянул на циферблат, я спросил его раздраженно:
— Куда-то спешишь?
— Вовсе нет, просто привык контролировать время, — ответил Октавиан. Мы одновременно глянули в окно. Погода стояла хорошая, по-настоящему майская, приятная жара, и все уже зелено. Мне захотелось прогуляться, и Октавиан стал для меня еще более нестерпимой мукой.
— Послушай, — сказал я. — Когда Цезарь составлял это завещание, он явно не рассчитывал на скорую смерть. Пойми, Октавиан…
— Цезарь, если можно.
— Пойми, Гай Юлий Цезарь Октавиан, — фыркнул я. Меня вдруг затошнило от него. Этот приятный молодой человек пользовался именем моего друга с такой беспардонностью, словно у него никогда не было собственного.
— Так вот, — продолжил Октавиан. — По поводу завещания. Безусловно, мой дядя не думал о том, что судьба заберет его у нас слишком рано. Но он допускал такую возможность. Именно поэтому он вообще оставил это завещание. Предположу, что он рассчитывал умереть нескоро, и в таком случае я был бы вполне зрелым к моменту вступления в свои права. Однако дядя не мог упустить из виду вероятность внезапной смерти. И если в его завещании наследником называюсь именно я, значит он предполагал, что я должен вступить в свои права, сколько бы лет мне ни было на момент печального известия.
Я сжал зубы.
— М-м-м.
— Я здесь не ради себя. У меня нет страсти к деньгам. Однако же, я обязан народу.
— Чем же ты обязан народу, щенуля? — пробормотал я. Октавиан вскинул брови, покачал головой, но сначала ничего не сказал. Небольшая пауза, и он, как ни в чем не бывало, продолжил:
— Как ты знаешь, мой дядя завещал каждому римлянину по триста сестерциев. Мне нужно вступить в свои права наследника, чтобы выплатить эти деньги.
Я захохотал.
— Да что ты говоришь? Завещал! Как же! Ты, дурачок, мы не можем разбазаривать деньги просто так. Государство, Гай Юлий Цезарь Октавиан, не работает таким образом. Я отдам тебе эти деньги, и что же? На что мы потом будем закупать хлеб?
Октавиан облизнул пересохшие губы.
— Дела Рима после смерти дядюшки так плохи? — спросил он.
И тут я понял, что попал в собственную ловушку. На самом деле, дела были вполне хороши, во всяком случае, финансово. Однако, говоря Октавиану, что нам следует подзатянуть пояса, я косвенно обвинял себя в растрате государственных денег.
— Нет, — сказал я неохотно. — Но заговорщики еще живы, кто знает, в какой момент нам понадобится кормить армию и обеспечивать ее передвижения. Ты в курсе, что это недешево?
— Да, — сказал Октавиан. — Если возникнет такая нужда, я готов отложить выплаты и использовать свое наследство для войны с убийцами дяди. Однако, я хотел бы для начала его получить.
— А где гарантия, что ты не скроешься с этими деньгами? — спросил я. — Юности свойственны такого рода поступки.
Я прочитал в его глазах что-то вроде: может быть, твоей юности. Однако, Октавиан сказал:
— Я связан обязательствами, наложенными на меня дядей. В конце концов, я его официальный наследник.
Сколько бы я себе ни твердил, что вполне нормально для Цезаря выбрать в наследники родственника (хотя мы с Цезарем тоже были родственниками, хоть и более дальними), кроме того, человека спокойного и рассудительного, меня все равно брала злость.
Это я прошел с Цезарем огонь и воду, я выполнял его приказы в Галлии, я отстаивал его интересы в сенате, я, презрев опасность, когда он нуждался во мне, метнулся в море, едва не погубив себя. Все я, где здесь Октавиан?
Как бы я хотел увидеть Цезаря еще раз и спросить его: почему? Я знал ответ: ты великолепен, Марк Антоний, но ты просто не годишься.
Я даже представлял, что именно Цезарь сказал бы мне:
— Я ценю тебя, Антоний, за твои качества воина, за твою открытость, способность чувствовать и умение влиять на людей эмоционально. Однако, продолжать мое дело должен человек совсем другого сорта.
Все я знал, но мне хотелось услышать.
— О, ты связан обязательствами, — сказал я. — Еще какими. Но, послушай, как отнесется сенат к тому, что я выдам такую огромную сумму мальчишке?
— Поверь мне, Антоний, в сенате у меня есть надежные заступники.
Думаю, он имел в виду Цицерона.
— Семьсот миллионов сестерциев для восемнадцатилетнего! Ты вообще понимаешь, насколько это смешно? Да твои заступники просто шутники!
— Антоний, — сказал Октавиан. — Я не хочу ссориться, но, если ты не уступишь, нам придется поссориться.
— И что же ты сделаешь? — спросил я. — Кинешь в меня мячом? Может быть, пожалуешься маме?
Октавиан сказал, не выказав никакой злобы, спокойно и все еще доброжелательно.
— Я буду действовать согласно своим правам наследника, вот и все. Ты был другом и соратником моего дяди, он бы не хотел, чтобы мы ссорились. Он бы хотел, чтобы ты подчинился его воле.
— А я бы хотел, чтобы ты взялся за голову и подождал. Обещаю, все будет по воле Цезаря. Однако не сейчас. Подрасти, оперись, молодой орел, и, может быть, ты получишь то, чего так жаждешь.
Тогда Октавиан взглянул на свои наручные часы, потер звезды на ремешке, по очереди, одержимый этим навязчивым счетом. Я почти вывел его из себя, и он старался успокоиться.
— Тогда я возьму то, что мне нужно силой. Это мое право, не правда ли?
Он не повысил голос, да и спросил так, будто на самом деле интересуется моим мнением. Это панибратство разозлило меня просто невероятно. Я подался вперед, клацнул зубами прямо у его носа, и Октавиан вздрогнул, метнулся назад, едва не упав со стула. Я засмеялся.
— Щенуля, — сказал я. — Ты можешь называть себя как угодно. Назови себя хоть девственной весталкой и иди удовлетворять народ в лупанарии! Мне плевать! Вот только денег ты не получишь, ни медяка! Только через мой труп!
И, знаешь, Луций, он не сказал:
— Значит, через твой труп.
Октавиан был очень приятный и доброжелательный молодой человек.
Он сказал:
— Но Антоний, я вижу в твоей политике объективные недостатки.
— Какие это? — прорычал я.
Октавиан улыбнулся.
— От тебя пахнет вином.
— Что ж, но в моей политике есть и достоинства, по крайней мере, одно. Знаешь, какое? Я не прикрываюсь чужим именем!
Тогда Октавиан сказал:
— Я понял тебя.
И внезапно добавил почти по-детски:
— Ты не собираешься со мной дружить.
Я передразнил его.
— О, бедняжка, Марк Антоний не хочет с ним дружить!
— Тем хуже для нас обоих, — сказал Октавиан смиренно.
— Проваливай, бородатый ребенок, и больше не возвращайся.
— Я не бреюсь из-за траура, — сказал Октавиан. — И я не ребенок. Но я понял тебя, Антоний. И я благодарю тебя за то, что ты уделил мне время.
Я едва удержался, но я смог, я не приложил этого недоноска головой об стол.
А вот теперь думаю: это я был ребенком, ревнивым, обиженным ребенком. Октавиан же пришел ко мне человеком вполне взрослым. Его ошибка состояла как раз в том, что он беседовал со мной, как со взрослым.
Это я в тридцать девять лет лишь недавно вышел из мальчишеского возраста и теперь как раз и стал тем самым недальновидным и порывистым юношей.
Октавиан же к тому времени как раз был зрелым сорокалетним мужчиной, способным выдерживать сколь угодно сильную фрустрацию.
— Я не буду больше наносить визиты, однако не прекращу требовать с тебя того, что принадлежит мне, — сказал Октавиан.
— Иди отсюда, — я махнул рукой. — Видеть тебя не могу, щенуля.
— Хорошо, Антоний, до встречи.
С тем мы и расстались. Представляешь, каков, а? К тому моменту, как Октавиан, в последний раз взглянув на свои детские часы, пошел к двери, я уже прекрасно понимал: проблем с ним будет много.
И я не ошибся.
Он немедленно занялся агитацией.
Цицерон утверждал, что Октавиан снискал любовь народа благодаря его советам. Я же думаю, что это очередное пустое хвастовство, которое ему вообще свойственно.
Октавиан умница, что бы я о нем ни говорил, голова у него работает. И, думаю, план в более или менее приличном виде зрел у него уже пока мы ругались (я ругался).
Народ любит убогих, этого не отнять. Он любит жертв, любит прижать к сердцу того, кого обидели несправедливо. Всем нравится чувствовать себя хорошими. И, конечно, препятствия, которые я ставил на пути Октавиана, делали его лишь сильнее.
И ослабляли меня. Это я обижал усыновленного Цезарем малыша, стремившегося лишь облагодетельствовать народ, следуя последней воле своего приемного отца.
Какая история!
Прекрасный пример успешной пропаганды.
Собственно, именно потому, что я всячески мешал ему вступить в законные права наследника, и отчасти понимал, как это выглядит, я позволил Октавиану провести игры в честь Цезаря.
Я хотел показать, что не притесняю наследника Цезаря, а также мечтал (просто спал и видел!), что Октавиан сильно потратится на эти игры и исчерпает свой денежный ресурс.
Игры действительно получились отменные, однако во время колесничных бегов народ увидел огромную комету, столь яркую и необычайную, какая давно не посещала наши небеса.
Появление кометы на небе традиционно считается весьма неблагоприятным, и я обрадовался. Во-первых, верное послание народу, такой недвусмысленный предвестник грядущей неудачи. А во-вторых, я, конечно, предположил, что сами боги не хотят видеть Октавиана наследником Цезаря.
Однако, умник смог и это свидетельство грядущей неудачи повернуть в свою пользу.
Уже на следующий день по городу поползли слухи, что эта необычайная комета — гений Цезаря, вознесшийся на небо.
Прекрасно, не правда ли?
Следующий шаг Октавиана и вовсе гениален. Умный человек, как любил говорить Цезарь, не боится рисковать. Октавиан начал распродавать собственное имущество с единственной целью: выплатить римским гражданам обещанные Цезарем деньги, которые я, такой подлец, зажал.
Разумеется, подобное великодушие не могло остаться незамеченным, как и моя ненасытная жадность.
При этом, милый друг, я клянусь тебе, что удерживал эти деньги не только из жадности, не только из злости, но и из страха перед государственным банкротством в неспокойные времена. Отчасти то, что я говорил Октавиану, было правдой — этим деньгам можно было найти лучшее применение.
Одновременно с тем, как Октавиан завоевывал любовь простого народа, я усугублял свой конфликт с сенатом, продолжая настраивать их против себя самого весьма волюнтаристской политикой.
Когда Октавиан собрался стать народным трибуном, я принялся чинить ему всяческие препятствия, и своей борьбой с ним изрядно запугал и утомил сенаторов.
Однажды я даже крикнул Октавиану, что если он не прекратит свою вот эту прекрасную деятельность, дело кончится для него плохо. Что, конечно, не добавило мне популярности ни в чьих глаза, кроме, может быть нашего с тобой любимого брата Гая. Гай любил всякую ублюдочность, этого не отнять.
Тощая мразь, кстати, тоже не упустила случая меня подставить.
Брут на тех же июльских играх должен был ставить спектакль. Он, конечно, намеревался воплотить на сцене трагедию про своего великого предка, изгнавшего царя Тарквиния. Но, по причине отсутствия Брута, я поручил организацию спектакля Гаю. Он заменил пьесу, однако представил на сцене нечто настолько кровавое, что оно выглядело, в конечном итоге, сатирой на мою жестокость.
Вот так вот. Мне во всем не везло, и я ничего не понимал. Чем больше правильных ходов делал Октавиан, тем больше я терялся и ошибался. Он вывел меня из хрупкого равновесия.
Фульвия говорила:
— Убей мальчишку и все дела.
Я отвечал, что делать это нужно было сразу. Но почему я не решился? Пожалел бородатого ребенка?
Отчасти, но не только. Я просто не воспринял его достаточно серьезно.
Октавиан был осторожной маленькой сволочью. Единственная правда о нем — вот эта нервозность. Из-за нее, из-за этой патологической осторожности, все свои речи он сначала читал по записям. Над ним смеялись, и он стал заучивать свои речи. Он никогда не импровизировал. Каждое его слово было продуманно.
Я же мог ляпнуть что угодно, а потом еще полгода разгребать последствия. Октавиан был полной моей противоположностью.
Разве это не здорово, Луций?
Нет, безусловно, весьма печальная участь быть противоположностью этого великолепного Марка Антония.
В конце концов, к Октавиану начали стекаться ветераны. Я решил было заканчивать этот цирк с конями, но Фульвия неожиданно стала просить меня помириться с Октавианом.
— Надо было раньше мочить наебыша, — сказала она. — Теперь уже поздно. Против тебя все ополчатся.
— И так уже ополчились, — пробормотал я. — Чего теперь? Ты была права, надо было ему сразу шею свернуть.
— Я была права, — с удовольствием повторила Фульвия. — Я и теперь права. Помирись с наебышем, я тебе говорю. Кстати, я беременна.
Я поцеловал ее, и Фульвия укусила меня.
— Как это все не вовремя, — сказала она. — Этот твой Октавиан.
— Мой Октавиан?
— А чья он проблема по-твоему?
Помню, мы лежали на кровати, и Фульвия велела привести ей Антилла.
— Да малыш? — говорила она. — Скоро у тебя будет братик.
— Может, сестричка, — сказал я, уткнувшись носом в макушку Антилла.
— Братик, — ответила Фульвия. — Уж я-то знаю. Наконец-то можно будет нормально назвать ребенка.
— Да, — сказал я, забрав у Фульвии Антилла, которого наши с ней разговоры всегда очень интересовали и смешили. — Твоего брата мы назовем в честь Цезаря, великого человека, друга твоего отца.
— Гай? — спросила Фульвия. — Неплохо.
— О нет! Избавь Юпитер мою семью еще от одного Гая! Ты вообще брата моего видела? Он монстр! Дядя Гай монстр, правда, Антилл? А дядю моего видела? Даже не знаю, который из них хуже. Однозначно проклятое имя в нашей семье. Нет, давай назовем, чтобы прямо очевидно было, что это в честь Цезаря. Юл, например!
— Его будут дразнить! Нельзя давать детям редкие времена.
— Весь Рим так помешан на Цезаре, что с ним будет бегать десяток Юлов, — сказал я. — Уверен в этом.
Фульвия потянулась к Антиллу и поцеловала его.
— Ты будешь дразнить своего брата, правда, Антилл? Такой смешной ребенок, — сказала Фульвия, когда Антилл заулыбался. — И пустоголовый, прямо как его папочка.
— Ты, главное, умница, — сказал я мрачно. — Помириться с Октавианом? А, может, ты ему еще и отсосешь?
— Вряд ли это поможет, — сказала Фульвия. — Он то ли педик, то ли просто крайне благочестив.
— Глупости, просто хорошо скрывает своих шлюшек, — сказал я. — Не может парень в восемнадцать лет ни к кому не лазить.
— Да какая разница? Антоний, важно то, что теперь с ним нужно считаться. Люди любят его.
— А меня?
— Люди любят тебя, когда ты выполняешь свои обещания и не залезаешь к ним в карманы, — вздохнула Фульвия. — Но ты таков, каков есть, что уж теперь поделаешь. Сделай то же, что и обычно — обаяй всех, чтобы они забыли, какой ты на самом деле конченный мудак.
— С тобой работает, — сказал я, и Фульвия положила голову мне на плечо.
— Я тебя люблю, — сказала она. — Но я боюсь того, что может сделать с нами маленький придурок. Он умен и опасен, и ты не должен с ним считаться. Ах, как жаль, что ты не убил его с самого начала.
— Он наследник Цезаря, как я по-твоему мог его убить?
— Точно так же, как ты все время всех убиваешь и не паришься об этом, — пожала плечами Фульвия.
— Какая ты аморальная, даже удивительно.
— Я жена своего мужа, Марка Антония, и его достойная пара.
Мы засмеялись, я подтянул к себе Антилла и поцеловал его в щеку.
— А ты, малыш, ты достойный сын своих родителей? Сможешь вонзить ножичек Октавиану в глаз.
И Антилл сказал:
— Смогу, папа!
Довольно внятно сказал для его-то возраста.
— Умница, — сказала Фульвия, и мы засмеялись. Семейная идиллия, правда, Луций? Фульвия всегда подходила мне идеально.
Я все сомневался насчет ее совета, но, в конце концов, напряжение в городе росло, и я решил, что мириться с Октавианом — наилучший выход из сложной ситуации.
Знаешь, что стало последней каплей?
Однажды я спросил Цицерона, отчего же давненько я не слышал колкостей в свой адрес, и не копит ли он злость в себе.
— Это крайне вредно, — сказал я. — Закончится тем, что тебе вырежут желчный пузырь.
Цицерон нервно и быстро улыбнулся, чуть склонил голову набок, прищурил глаза.
— Антоний, — сказал он. — К сожалению, у меня нет времени на пререкания с тобой. Я пишу некоторую, если можно так сказать, историческую работу.
— Рад, что ты занят, — ответил я. — Наконец-то пристроил язык, куда надо.
— Безусловно, — ответил Цицерон. — Но в связи с моей исторической работой у меня возникли некоторые к тебе вопросы.
Я глянул на него. Разумеется, я понимал, что сейчас будет очередная колкость в его стиле, однако я обалдел, когда услышал:
— Какой идиот давал тебе кредиты, и как твоя достойная мать умудрилась родить такую пагубу?
Я сказал ему:
— Ты труп.
Цицерон сказал:
— Вот, теперь мы оба перешли границы дозволенного. Что ж, если позволишь, я вернусь к своим коллегам. Кстати говоря, я собираюсь уехать из Рима на некоторое время. Дела, знаешь ли, домашние дела зовут.
Я так и остался стоять, только когда Цицерон уже почти скрылся из виду, крикнул ему:
— Осторожнее с актуальной историей, дружок!
Одно было абсолютно очевидно: Цицерон больше меня не боялся. Этот язык мог усмирить только дикий животный страх. По счастью, Цицерон был трусоват по своей природе, и чаще всего, несмотря на то, что мы ненавидели друг друга люто, вел себя относительно прилично.
И вдруг он заявляет мне такое. Да, я напрямую угрожал ему в ответ. Ситуация изменилась катастрофически и вышла из-под моего контроля. А у Цицерона, должно быть, были веские причины чувствовать себя в безопасности.
Именно это безрассудное поведение обычно осторожного и трусливого человека, наконец, привело меня к мысли о том, что мириться с Октавианом придется так или иначе.
Мы встретились на Капитолии. Борода Октавиана к тому времени была просто по-гречески неприлична. С другой стороны я понял ее тайное назначение — она действительно заставляла этого хрупкого и болезненного юношу выглядеть старше и серьезнее.
— На твоем месте я бы ее не сбривал, — сказал я. — Тебе очень идет.
— Благодарю, Антоний, — приветливо ответил Октавиан. — Я рад, что ты позвал меня.
— А я рад, что ты пришел, — сказал я с улыбкой. — Я был груб с тобой неоправданно и чинил тебе препятствия совершенно зря. Я был ослеплен своим горем и действовал неадекватно.
— Я все понимаю, Антоний. Я так же был несколько выбит из колеи, иначе непременно попытался бы найти способы примирения.
Он выглядел вполне искренним. Всегда этот приятный молодой человек выглядел простым и искренним, такая у него была прекрасная способность. Сердцем я не мог заподозрить в нем фальши, но умом понимал, что у Октавиана есть все причины ненавидеть меня и желать мне гибели.
Октавиан, впрочем, вздохнул, словно сама наша ссора причиняла ему боль, и вот теперь, наконец, наступило облегчение.
— Я рад, Антоний, что ты пойдешь мне навстречу. В таком случае, я могу рассчитывать и на твою помощь, ведь правда? Кто поможет наследнику Цезаря, кроме его ближайшего соратника?
Я сказал:
— Очевидно, кандидатов много.
Октавиан чуть вскинул брови, и я засмеялся.
— Да шутка! Сам знаешь, на язык я остер!
— Безусловно, — сказал Октавиан. — Это меня в тебе очень восхищает, Антоний, и не только это.
День был очень жаркий, вокруг нас уже собралась толпа народу, от которой сделалось еще более душно. Я сказал:
— Что ж, разумеется, Гай Юлий Цезарь Октавиан, я помогу тебе во всем. Мне приятно будет послужить делу справедливости, потому как именно этого хотел Цезарь. Я своим умом дошел до этого и впредь буду отстаивать твои права, если они нарушаются.
Я развел руками и засмеялся.
— Хотя кому их теперь нарушать?
Октавиан, впрочем, этот самоироничный пассаж пропустил мимо ушей.
— Безусловно, у нас найдутся общие враги. Брут и Кассий собирают армию и называют себя освободителями.
— Странно, что кто-то сумел перепутать два таких разных слова: освободители и отцеубийцы.
— Да, — сказал Октавиан. — Но факт остается фактом.
Народ слушал нас с интересом. А я вдруг почувствовал, что язык движется будто на автомате, и я не вполне понимаю, что говорю. На жаре голова плавилась, и я больше всего на свете хотел холодного вина и свежего воздуха.
Октавиан продолжал:
— Такие преданные сторонники Цезаря, как мы с тобой, должны держаться вместе, чтобы не допустить победы людей, которые уничтожат все достижения моего отца.
Ах да, подумал я, уже и отца. Когда он приехал ко мне попрошайничать, Цезарь еще был его дядей, хотя громкое имя Октавиан уже украл.
— Хорошо, — сказал я. — Мне вполне понятно, что Цезарь выбрал достойного человека, хоть и не по крови, но по духу близкого ему.
Укол удался. Я увидел как едва заметно уголок губ Октавиана дернулся. Впрочем, думаю, это заметил только я.
— Спасибо за понимание, Антоний, я рад, что теперь мы заодно.
Ветераны и собравшийся вокруг плебс принялись аплодировать.
Вечером Фульвия сказала:
— Прекрасно! Теперь у тебя будет время обдумать свое положение. Может быть, еще можно что-нибудь придумать, чтобы не допустить наебыша к власти.
Я ответил, что очень устал. Фульвия положила голову мне на грудь и принялась слушать сердце.
— Бьется так быстро, — сказала она. — Неудивительно, что ты устал.
Я и вправду чувствовал себя плохо.
— Только не заболей, пожалуйста, — сказала Фульвия. — Любимый, мне кажется, ты болеешь всегда от тоски.
Я сказал:
— А все-таки почему не я?
— А почему не Лепид? Не Долабелла?
— Я был ему ближе, чем Лепид, чем Долабелла!
Фульвия принялась гладить меня.
— Или ты так думал. Цезарь умел создать нужное впечатление, сам знаешь.
Я сказал:
— Он был искренним человеком. Если он говорил, что верит в меня, значит он верил.
— Ты мой обиженный мальчишка, — сказала Фульвия и поцеловала меня. — А Октавиан — скучный взрослый дядька.
Я ответил на поцелуй и усадил Фульвию на себя. Она склонилась надо мной, щекоча меня рыжими волосами. Ее зеленые кошачьи глаза блестели.
— Скоро мой консульский срок подойдет к концу, — сказал я. — Надо обезопасить себя. Взять какую-нибудь хорошую провинцию. Цизальпийскую Галлию, я думаю.
— О, — сказала Фульвия. — Стратегически выгодно, твоя армия всегда будет близка к столице. Да и Цезарю сопутствовала удача в Галлии, это хорошее место для тебя. А как она для того, чтобы растить детей?
— Приемлемо, — сказал я и, помолчав, добавил. — Если ты не в большом восторге от своих детей.
Фульвия потянулась, и я почувствовал, как стремительно растет мое возбуждение — прекрасная женщина, даже после стольких лет вместе и порознь, что прошли с нашей встречи, она единственным движением умела пробудить во мне огонь.
А ночью мне вдруг приснился кошмар. Я шел по какому-то бескрайнему странному полю, покрытому колосьями, похожими на пшеницу, но однозначно ею не являвшимися. Не знаю, откуда я это взял, просто знал и все — это не зерно и не жизнь, а нечто другое, противоположное ей. Нигде не было ни единого деревца, никакого даже самого захудалого кустика и, тем более, ни одного здания. Негде спрятаться, негде укрыться. Я был как на ладони, отовсюду меня можно было увидеть. Взглянув на небо, я понял, что звезды желтоватые, будто глаза каких-то зверей, и мне показалось, что они-то и смотрят на меня, и их было много-много-много.
Я не рассказывал тебе, Луций, этого сна, а он был очень важен. Он, может быть, определил мою судьбу и стал самоисполняющимся пророчеством.
Меня испугали эти взгляды из ниоткуда. Испугало странное поле, на котором росло нечто на самом деле лишь похожее на то, что мне знакомо. Испугало, что всему этому: небу, полю не было ни конца ни края. Я остался совсем один, никого рядом.
Мне не свойственны такие сны. Даже в моих кошмарах обычно всегда находятся люди или хотя бы стремление к ним. А здесь — здесь мне было холодно, и я ощущал приближение дождя. Но не мог представить себе, каким здесь будет дождь. Что польется с такого странного неба?
Вдруг все звезды одновременно моргнули. Я поежился, но продолжил идти, как ни в чем не бывало. Знаешь, что самое странное, Луций? Самое дикое и пугающее. Я, честно говоря, понимал, что я сплю. Понимал, что на самом деле Марк Антоний дрыхнет сейчас у себя дома, на своей широкой кровати, обнимая свою теплую беременную Фульвию, и в окно к ним заглядывает полная белая луна.
Но в то же время часть меня оказалась в столь странном месте, и я не мог проснуться, как ни старался, хотя сознание было ясным, оно не владело сном.
Вдруг я испугался, что останусь здесь навсегда. Может, подумал я, мне случилось умереть во сне, и в реальности мое тело холодеет, а это — царство Плутона, мой личный его уголок, столь бесконечный, что я никогда и никуда отсюда не выйду.
Сердце забилось сильно и яростно, но не пробудило меня. Я все шел и шел, не чувствуя усталости, и вдруг небо разразилось дождем, и дождь был кровью. Почему-то это напугало меня куда меньше всего другого и показалось ожидаемым, даже в чем-то реальным.
Вдруг небо просияло от молнии, и я увидел, что эти звезды — не единственные глаза, все было усеяно ими. И я, так мечтавший о том, чтобы на меня смотрели, оробел, как ребенок.
Небо пронзила еще одна молния, и вдруг, зародившись где-то далеко, она устремилась ко мне и пронзила мне правую руку. Я почувствовал острую боль, будто тысяча иголок одновременно не то вонзилась, не то наоборот вырвалась из моей ладони.
Тогда-то я и проснулся. Рука моя была повернута как-то неудобно, я, видимо, ее отлежал, но это теперь думать об этом легко, и вывод кажется логичным. А тогда я был полон мистического ужаса перед гневом богов.
Я крепче сжал Фульвию, и она промурлыкала что-то, не просыпаясь. За окном было еще темно. Мне стало душно, я прижался носом к сладко пахнущим волосам Фульвии и попытался отвлечься.
На смену страху перед гневом богов пришел другой страх, еще хуже первого.
Я подумал об Октавиане. Стоило мне примириться с ним, как боги послали мне этот сон. Может быть, он был не свидетельством гнева, а, напротив, предупреждением.
Октавиан, с этой его добродушной бородатой мордяйкой, вполне мог замышлять против меня что-нибудь недоброе. И, может быть, очень радикальное. Я попортил ему достаточно крови, не правда ли?
Не было бы так уж удивительно, если бы Октавиан желал мне гибели.
Я разбудил Фульвию.
— Ну что такое? — спросила она. — Ты опять хочешь? Так давай, я присоединюсь к тебе, когда вставишь.
— Фульвия, мне был ужасный сон.
— Да? — спросила она, прижавшись ко мне теснее, и снова засопела.
— Фульвия!
С трудом мне удалось ее разбудить. Рассказав ей свой сон, я понял, что не могу успокоиться. Легче, как это обычно бывало со мной после того, как страшный сон облекался в слова, не стало.
— Это просто сон, Антоний, — сказала Фульвия. — В нем нет ничего страшного, потому что он не настоящий.
— Разве не ты орала, что мы все умрем, когда в имплювий упала змея?
— Это плохая примета.
— А это что по-твоему хорошая?
— Это сон, мой милый Антоний, — сказала Фульвия, зевнув. — Они бывают хорошие и плохие. Но обычно ни к чему не ведут. Таков мой опыт. А когда с крыши дома моей матери упала змея, ее отец, мой дед, через месяц умер!
— Октавиан хочет меня убить.
— Это возможно, — сказала Фульвия. — Но разве ты не хочешь его убить?
— Это другое.
— Ну конечно!
Она тихонько рассмеялась и положила мою руку себе на живот.
— Вот. Успокойся, подумай о своем будущем сыне, ты должен быть благоразумным ради его будущего. А теперь надо спать, Антоний. Отдыхай и набирайся сил. Однажды ты ему покажешь, но не сейчас.
Ей удалось привести меня в более или менее адекватное состояние, я даже, хоть и беспокойно, проспал еще пару часов.
К утру, после более удачного пробуждения, сон несколько забылся, и я занялся своими делами.
Однако, через пару дней до меня дошли слухи, что Октавиан хочет моей смерти и собирается добиться у сената признания меня врагом народа.
Ух ты, подумал я, спасибо тебе, чудной и чудный сон.
Как ты думаешь, Луций, собирался ли он сделать это уже тогда, и действительно ли я в таком случае видел вещий сон? А, может, именно мои действия привели к тому, что Октавиан решил поступить именно так?
В любом случае, убедившись в своей правоте, я забыл о нашем перемирии, не отвечал на письма Октавиана и снова начал чинить ему всяческие препятствия. Октавиан добивался встречи со мной, и лишь один раз я поговорил с ним, когда он заявился ко мне рано утром, в рабочее время, а мое похмелье было слишком сильным, чтобы я смог сопротивляться.
— Антоний! — сказал он, вертя на запястье свои смешные часы. — Я не понимаю, что случилось! Мне казалось, мы с тобой пришли к соглашению! Почему ты игнорируешь меня?
Я, с похмелья еще злее, чем предполагал, прорычал.
— С того, что ты, щенуля, собираешься от меня избавиться, не правда ли? Разумеется, мое существование тебе абсолютно невыгодно. Я всегда буду перетягивать внимание на себя, правда? Потому что это я! Я! Я! Я был с Цезарем во время его великих побед, а ты, при всей своей щедрости и честности, еще никто. Ты сделал хоть что-то значимое?
— О боги, Антоний, что на тебя нашло?
Казалось, Октавиан искренне удивлен и раздосадован.
Я сказал:
— Думаешь, я не понимаю, чего ты добиваешься? Втереться мне в доверие! А потом ударить меня в спину!
— Ты правда считаешь, что я на это способен?
Я смотрел на него, стараясь понять, правда ли я так считаю.
Все-таки у него было очень детское, очаровательное лицо. И он умел пользоваться этим фактом. Но меня не проведешь, правда?
Неправда. Многие люди проводили меня и не по одному разу. Но ты знаешь своего брата, и если что-то пришло в его пустую голову, оно не покинет его просто так.
Октавиан долго пытался убедить меня в том, что я неправ, и мои подозрения — козни наших общих врагов.
— Неужели наши общие враги забрались так высоко, что посылают мне сны?
Октавиан вскинул брови и глянул на свои часы, будто гадая, сколько еще будет длиться мое безумие.
А я увидел звезды на синем ремешке и вскричал.
— Эти звезды! Точно такие же, как в моем сне! Звезды, что наблюдали за мной! Это твои проклятые звезды!
Тут уже не выдержал даже Октавиан. Он подался назад, посмотрел на меня, как на сумасшедшего.
— Ты пьян, Антоний!
— Я не пьян!
— Значит, ты безумен!
На том мы и расстались.
И, думаю, с тех пор я действительно стал врагом Октавиана. Он испугался, что я безумен. И Октавиан не мог допустить, чтобы безумец оставался у власти.
Вот такой вот патриот. Почему я вообще пишу о нем столько хорошего? Октавиан — мальчишка, Октавиан — щенуля. Но сложно спорить с правдой.
Все последующие дни я был сам не свой. И хотя я настойчиво старался подумать о проблемах города и страны, к примеру, о регулярно обваливавшихся инсулах, которыми ты так хотел меня заинтересовать, или о том, что заговорщики, которым по моему распределению достались провинции, собирали силы, чтобы вернуться в столицу.
Проблем было достаточно, и разве не ими стоило заниматься?
Вместо этого я думал о глазах-звездах, и о молнии, впившейся в мою правую руку.
О, милый друг, в детстве твой брат был так гармоничен, так правилен, но со временем, когда выпитого им вина и пущенной им крови становилось все больше и больше, он растерял эту гармоничность, эту правильность, и остался раздерганный, раскоординированный, не способный себя контролировать, все худшее в нем усилилось, а лучшее ослабело.
Но, слава богам, он все еще оставался великолепным, и ты увидишь, насколько.
Ну да ладно, до великолепия еще далеко, пока оценим глубину падения.
Так вот, злой и не слишком разумный зверь, я не умел думать ни о чем, кроме паскудной подлости Октавиана, и ненависть моя к нему все росла.
Впрочем, объективно, милый друг, скажи мне, в чем пока что была такая уж паскудная его подлость? В том, что он заявился ко мне заполучить то, что ему причиталось? А то бы я не заявился? И заявился бы и получил.
В любом случае, первым делом я решил заново подружиться с сенатом.
— Друзья, понимаю, — сказал я. — Не всегда у нас с вами складывались отношения, более того, частенько мы стоим на разных позициях, однако я со своей стороны готов к сближению, и я хочу от вас того же. В конце концов, разве у нас есть другая задача, кроме как избежать новой опустошительной гражданской войны? Я готов пойти на уступки, мы с вами не должны враждовать, и я знаю, что у этого мира есть цена.
Не лучшая моя речь, а если добавить к этому то, что она не слишком доброжелательно звучала, становится и вовсе весело.
Однако, неожиданно в городе снова появился Цицерон, и многие утверждали, будто он хочет вести со мной переговоры от имени сената. Мне это, понятное дело, не добавляло оптимизма.
Помнишь, мы сидели с тобой в саду, и я смотрел в небо и кидал в него камни.
Я говорил:
— Луций, я запутался.
А ты говорил, что мы справимся.
— Я в тебя всегда верю, — сказал Луций. — Даже когда никто больше не верит. Ты выкрутишься снова. Всегда так бывало.
Я сказал:
— И правда, как мама умудрилась родить такую пагубу? Ты же у нее получился.
Ты нервно дернул плечом.
— Не совсем.
— Но в общем и целом.
— Марк, — сказал ты. — Неудивительно, что ты запутался. И я запутался. Знаешь, в чем я уверен целиком и полностью?
— В том, что я сам виноват и опять облажался?
Ты покачал головой.
— Цицерон тоже запутался. И Октавиан. И даже Брут с Кассием запутались тоже.
— Да, — сказал я. — Цезарь оставил нам всем задачку.
Ты цокнул языком и сказал.
— Но есть штука, которая мне помогает, когда я чувствую себя запутавшимся.
— Я ее знаю. Это бухло.
Ты засмеялся, как в детстве, и хлопнул меня по плечу.
— Это справедливость, Марк. Когда я не понимаю, что мне делать, я стараюсь поступать по справедливости. Быть человечным — вот что помогает.
— А что было бы человечным в этой ситуации? — спросил я. — Вот по-твоему?
Ты пожал плечами.
— Наверное, перестать охотиться за личной властью и стать тем, кто обеспечит мир.
— И как это по-твоему сделать?
— Уничтожь убийц Цезаря, ты же этого хочешь. Война будет справедливой. Те, кто не может жить в Риме Цезаря, уйдут.
— А как же те, кто не может жить в моем Риме? — спросил я.
— В твоем Риме действительно очень сложно жить, — осторожно сказал ты. — Но это не первый вопрос сейчас.
— Ты говоришь мне не допустить гражданской войны, и в то же время к ней призываешь, — сказал я.
Тогда ты развел руками и ответил мне совершенно пророческой фразой.
— А я о другой гражданской войне.
Камушки, лежавшие между нами на скамейке, закончились, и мне больше нечем было кинуть в небо.
Я сказал:
— Наверное, ты прав. Как думаешь, стоит отдавать Гаю Македонию?
— Если ты не хочешь, чтобы она существовала дальше, — засмеялся ты. — Тогда стоит, однозначно!
— Да ладно, Македония пережила одного Гая Антония, переживет и другого.
— Какая многострадальная страна.
Я сказал:
— Заговорщики все еще далеко от Рима. Если мы точечно прижмем их в их провинциях, все обернется хорошо. А я стану героем.
— Ты станешь героем. Снова.
— И люди будут меня любить.
— Они будут тебя обожать.
Мама позвала нас ужинать, и мы с тобой поспешили к ней с детской радостью, которая, как я думал, недавно оставила меня.
Ан нет! Чего из меня не изжить, так это любви к нашей сложной жизни.
Так вот, я собирался обсудить с сенатом будущее заговорщиков, до сей поры весьма неопределенное, а также назначить своих ставленников (их было меньше, чем я хотел, но достаточно, чтобы занять ими нужные провинции) наместниками разных стратегически важных точек.
В обмен на это, в общем-то, я был готов пойти на определенные уступки сенатской знати, почему нет?
В конце концов, мне нужна была война, с которой я вернусь героем, всенародно любимым и почитаемым снова.
Я волновался, как мальчишка. О, Луций, ты не представляешь себе, я был словно ребенок, враз растерял всю свою хваленую новоприобретенную взрослость и чувствовал себя так, словно мне предстояло сдать экзамен нелюбимому учителю.
Перед заседанием я даже нанес визит Цицерону. Он принял меня как полагается и, что удивительно, даже накормил. Когда трапеза дошла до своего финала, и подали яблоки, я сказал ему:
— Цицерон, мы с тобой никогда не смиримся с существованием друг друга, но ты любишь Рим так же, как люблю его я.
— Правда? — спросил Цицерон. — Мудрее было бы сказать, что я люблю Рим так же, как ты любишь римское вино и римских женщин.
— Я куда более космополитичен в выборе вина и женщин, — сказал я. — Но не суть.
Я отрезал от яблока кусок и долго разглядывал крепкую, белую, свежо пахнущую мякоть.
— Хорошие.
— Да, — сказал Цицерон. — Как раз поспели. Запах яблок напоминает мне о детстве.
Удивительно личное замечание, да? Не каждый скажет такое врагу. Но в тот день, мне кажется, Цицерон испытывал ко мне нечто вроде жалости.
И, конечно, из жалости решил мне поведать этот жутко интересный и захватывающий факт из своей жизни.
Я сказал:
— Так вот, ты любишь Рим. Республику, так? От диктатуры у тебя болят зубы.
— В этом есть доля правды, — сказал Цицерон. О этот нервный мелкий человечишка, только выступая, он обретал силу, а в остальное время — как жалок и слаб, и мелочен он был.
— Но ценишь ли ты римскую кровь? — спросил я. — Лучших людей твоей ненаглядной Республики. Лучших наших людей? Нравится ли тебе, когда римляне льют кровь римлян?
— Разве не свойственно людям бороться за то, во что они верят? — спросил Цицерон.
— Но не устали ли мы вцепляться друг в друга? Не мы с тобой, у нас-то хватит сил, я о людях в целом.
Цицерон взял еще одно яблоко, взвесил его в руке. Он сказал:
— Хочешь сказать ты пришел принести мир? — спросил меня Цицерон.
Я покачал головой.
— Нет. Но я предлагаю тебе войну далеко отсюда. Это много.
— Кровь при этом будет литься одинаковая. Тебе всегда сложно было строить длинные логические цепочки, Антоний.
И я согласился с ним.
Недавно прошел дождь, и в имплювий еще попадали редкие, стекавшие с крыши, капли.
— Тебе нечего мне предложить, — сказал Цицерон. — Потому что ты жесток и бесчестен. Я буду с тобой откровенен, вот и все. Ты не хочешь ничего хорошего.
Неправда, неправда, неправда. Я хочу, чтобы меня любили.
Но сказал я тогда вот что:
— Мы все равно покончим с заговорщиками, так или иначе.
— Ты отпустил их, и теперь ты же хочешь их убить. Ты непоследователен и редко думаешь хотя бы на шаг вперед.
— У меня были свои соображения на этот счет, — сказал я.
— Вероятно, они глупы.
— Вероятно.
Мы помолчали.
Я сказал:
— Ты убил моего отчима.
Вдруг я испытал странное чувство, легкость и невероятное желание сказать все, как есть. Высказать причину моей ненависти, которая лежала далеко-далеко от политических разногласий.
— Потому что он был изменником, — сказал Цицерон. — Но ты почему-то считаешь, что я имел в виду нечто личное.
— Разве это не нечто личное — задушить члена моей семьи?
— Еще одна твоя проблема состоит в том, что ты не отделяешь политику от течения твоей обыкновенной жизни.
— Моей необыкновенной жизни.
Цицерон издал резкий, неприятный смешок и показал мне ряд серых зубов, удивительно ровных.
Он сказал:
— Но ты ведь хочешь сделать важное заявление, так?
— Так, — сказал я. — Ну вот так вот. У меня нет никаких аргументов, почему ты должен прийти, кроме одного. Ты правда переживаешь и убиваешься из-за своей Республики.
— Из-за нашей Республики.
— Нет, — сказал я. — Из-за своей. Она у тебя в голове.
— В последнее время я думаю об этом все чаще.
Снова полил дождь, вода закапала в имплювий сквозь люк в крыше. Быстрые и тяжелые, капли разбивались о толщу воды и становились ее частью.
Я вдруг подумал, что это похоже на историю. Очень.
— Ты придешь? — спросил я.
Цицерон встал.
— Сами боги не хотят нашего разговора. Я приду и послушаю тебя, разумеется. И выскажу свое мнение. Оно будет честным. Это самая жалкая попытка меня уговорить, Антоний.
Я это понимал.
И я сказал:
— Ну ладно.
Проходя через переднюю, я посмотрел на статуи предков Цицерона — прослеживалось фамильное сходство, прежде всего у всех у них были тяжелые выступающие лбы.
— Уроды вы все, — сказал я. Но вдруг почувствовал, что почему-то, впервые за долгие годы, ненависть отпустила меня.
Совершенно зря, Луций, я так почувствовал.
На следующий день Цицерона на заседании не было. Этот кусок говна меня проигнорировал.
— Где он? — спрашивал я. — Где ваш проклятый Цицерон?
Никто не знал, что мне ответить, наконец, раздался хор нестройных оправданий, из которых я понял, что Цицерон нездоров.
— Правда? — спросил я.
Почему-то его отсутствие привело меня в полное отчаяние. Словно только он мог сделать заседание действительным. И тогда я сказал:
— Либо привести Цицерона, либо сжечь его дом.
И когда Цицерона мне не привели, сославшись на то, что здоровье его находится совсем уж в печальном состоянии, я сказал:
— Тогда почему я не вижу дыма на Палатине? Где мой пожар?
В общем, я так и не смог собраться, отсутствие Цицерона выбило меня из колеи. После заседания я пришел к тебе, и мы с тобой хорошенько нажрались.
Помнишь ли ты, как я говорил тебе, что я не политик, нет, не политик. Наверняка помнишь.
На следующий день заседание проигнорировал уже я, мое здоровье тоже находилось в печальном состоянии, я продолжал пить, лежа в постели моего детства.
Как ты знаешь, Цицерон произнес искрометнейшую речь, которая, я уверен, войдет в историю. Назвав ее "филиппикой", старый хвастун сравнил себя с самим Демосфеном. Впрочем, и меня он таким образом сравнил с отцом Александра Македонского.
Эта речь была вполне пристойной. Для разгону, так сказать. Сам знаешь, сколько всего он про меня наговорил после. Да и вам с Гаем досталось.
На заседании я не присутствовал, но ничего от этого не потерял — всякий мог мне пересказать, что там творилось, и что за речь произнес Цицерон, настолько запоминающейся и яркой она была.
Знаешь, какая моя любимая часть?
"Итак, сверни с этого пути, прошу тебя, взгляни на своих предков и правь государственным кораблем так, чтобы сограждане радовались тому, что ты рожден на свет, без чего вообще никто не может быть ни счастлив, ни славен, ни невредим."
Помню ее дословно, ровно такой, какой она была.
Разве не показывает это, насколько хорошо Цицерон меня знал? Здесь есть все, что когда-либо меня волновало. Я хотел, чтобы мне радовались, хотел быть счастливым, и я стремился к доброй славе, да и невредимым бы мне остаться не помешало.
Он знал, что я за человек. Это-то и разозлило меня сильнее всего. Сильнее даже, чем вторая филиппика, только что не наполненная площадной бранью.
Я, конечно, ответил Цицерону в сенате, как полагается, и речь придумывал долго, и вполне ею доволен.
Но все-таки эта фраза до сих пор не выходит у меня из головы, а значит — попала в цель. Превыше политических махинаций — способность больно ранить своего врага туда, куда политика не доходит.
Вот он, твой жалкий брат, Марк Антоний. С тех пор, он знал, дела у него пойдут плохо.
Ну, будь здоров!
После написанного: всегда так обижаюсь и расстраиваюсь, вспоминая об этом. Мне помогает помнить, что тогда все наладилось.
Послание шестнадцатое: Враг народа
Марк Антоний брату своему, Луцию, с пожеланиями и всем другим.
Здравствуй, родной мой, и удивись, сколь глубока моя печаль и до сих пор, когда я вспоминаю о тех днях. Они давно позади, но даже нынешнее мое положение в чем-то правильнее и приятнее.
Что касается меня тогда, я расстраивался и тосковал оттого, что не в силах был снискать любовь ни у кого: меня ненавидели все, кто вообще способен на это чувство. Я чувствовал себя покинутым. Не очень-то политически верные эмоции, правда?
Но, помимо печальных чувств, у меня было множество забот. Я не мог рассчитывать на то, что получу Цизальпийскую Галлию, которую я сам себе прекрасно назначил, без боя. Цицерон все активнее призывал к борьбе с этим великолепным Марком Антонием, и меня того и гляди могли объявить врагом народа. Официально этого так и не случилось, однако не солгу, если сообщу, что обращались со мной именно так.
В любом случае, мне нужно было собрать легионы, но теперь, отлученный от денег Цезаря, которыми завладел, наконец, Октавиан, я не мог предложить дельной суммы за службу.
Расскажу тебе о Брундизии, тем более, что ты многого не знаешь о том, что там произошло, во всяком случае, всего я тебе никогда не говорил. О, это не та история, которую я могу поведать всем, кому интересно. Но разве я не решил быть честным перед самим собой и тем самым хотя бы отчасти себя понять?
Нет, не Брундизий. Сначала Фульвия, и наша с ней последняя ночь перед моим отъездом. Я собирался сначала провести агитацию в Южной Италии, набрать людей, а затем отправиться в Цизальпийскую Галлию.
Странное дело, Луций, мы с Фульвией не говорили ни о чем важном, она не давала мне непрошеные советы, а я не жаловался на тяжкую судьбу великолепного Марка Антония, лишённого ныне главной ценности — любви человечества.
А если бы я сказал Фульвии это, разве не вправе была бы она ответить что-то вроде:
— Главная ценность этого великолепного Марка Антония, наверное, все-таки пить, пока не стошнит.
И это тоже правда.
Но нет, мы с Фульвией молчали о грядущем, оно страшило нас и в то же время казалось нелепым, неспособным произойти именно с нами. И вот мы, потные и уставшие от долгой любви, тяжело дышали и смеялись так, словно бы я никуда не уезжал.
Фульвия накручивала прядь моих волос на палец:
— Такой кудрявый, — говорила она. — Такой смешной. То ты каштановый, то вдруг рыжий. Как думаешь, может ли быть так, что все рыжие люди — родственники?
— В таком случае, мы с тобой все это время занимались, чем не следует.
— Я полюбила тебя за то, что ты такой кудрявый. Мне так надоело завивать волосы, подумала я, хочу от него кудрявых детей.
— Интересно, — сказал я. — На кого будет похож наш Юл?
Фульвия коснулась рукой живота, пальцы ее, ловкие, длинные, нелепые, описали полукруг.
— На тебя, — сказала она уверенно. — Я точно знаю.
Я засмеялся, а Фульвия спросила обиженно:
— Что? Не веришь мне?
— Почему же не верю. У тебя все дети на отцов похожи, это удобно.
— Да, — сказала Фульвия и вдруг задумчиво добавила. — Я любила Клодия. И Куриона. Правда. Может, я не самая милая девочка на свете, но любви во мне много.
— Какая ты девочка?
— Такая же, какой ты мальчик.
И ни слова о разлуке, ни слова о том, что нам предстоит.
Я сказал:
— Ты такая красивая у меня.
Она сказала:
— Самый некрасивый у меня был Курион.
И снова Фульвия принялась накручивать прядь моих волос.
— Кудрявенький, — сказала она. — Хорошенький.
— Жаль только, что ты больше не красишь ногти таким желтым лаком.
— Лимонным, — сказала она.
— Лимонным?
— Да. Такой цвет. Лимонный, как лимоны. Ну что ты в самом деле?
Ни слова ни об Октавиане, ни о Цицероне. Ни о ком, кроме нас и тех, кого с нами уже нет.
Я сказал:
— Слушай, а Клодий тебя любил?
— Проблема Клодия была в том, что он любил всех на свете. Он так любил людей, теперь это даже странно.
— Да, — сказал я. — Так любил людей, что устраивал резню на улицах.
— А это любовь, — сказала Фульвия. — Страсть. Страсть бывает очень темной, правда?
— А Курион? — спросил я.
— А он был таким самоуверенным и ранимым одновременно, — сказала Фульвия. — Кстати, и ты, кстати, и Клодий. Это мой тип мужчин. Почему даже когда я хочу быть нежной, я все равно такая злая. Даже когда я хочу проявлять свою любовь, понимаешь?
Мы пролежали без сна до рассвета, болтая обо всяких пустяках и целуясь. Когда небо за окном засветилось, и ночь превратилась в утро, я сказал:
— Прощай.
И Фульвия сказала:
— Прощай, любимый. Дай мне знать, если что-то будет идти не по-твоему. Но только очень серьезно не по-твоему. Тогда я убью себя.
— Ты все время хочешь себя убить, а как же Юл?
— Юл не обидится, — сказала Фульвия. — Думаю, ему не хотелось бы родиться сыном врага народа.
— Я еще не…
Фульвия приложила палец к моим губам.
— Я знаю. И не будешь.
Вот так. Ты ведь понимаешь, почему я ее любил? Кто-кто, а ты понимаешь меня наверняка. Она ведь и тебя этим взяла, этой отчаянной злостью и нежностью одновременно?
Так мы попрощались. Ничего важного не было сказано. Антилл утром верещал:
— Я хочу с папой!
И я пообещал когда-нибудь обязательно взять его с собой и показать ему, чем папа занимается на войне.
Слово "война", да, оно было произнесено, и как-то между делом. Вполне приятное слово, здорово встряхивает.
Так я уехал от своей семьи, вполне осознавая, что могу не вернуться. Вдруг мне стало понятно, что раньше всегда был Цезарь, а теперь я один, и все зависит от меня. Нет никого, кому нужна моя победа. И нет никого, чьи планы расстроит мое поражение.
Эта неведомая мне прежде свобода захватила меня с головой. И я, милый друг, не могу сказать, что была она неприятной или пугающей. Она была печальной, но в то же время мне дышалось легко.
Я не предам друга, если проиграю, и никого не подведу. Остался лишь я, а Цезаря больше нет. Как бы ни называл себя Октавиан, Цезаря больше не будет, и теперь его люди, о, его надежные друзья, ведут свою игру против его ненадежных друзей и против друг друга.
Но Брундизий. Можешь ты себе представить, как не хочу я рассказывать об этом?
Такой смешной, вспоминается мне сразу, то темный, то рыжий. Моя Фульвия в постели, запаха ее пота — все так просто и приятно.
Но Брундизий, после этого был Брундизий. Так вот, Луций, ты знаешь, я всеми силами старался создать большую и надежную армию, но у меня просто не было столько денег. Октавиан мог предложить больше, и будь я солдатом — сам бы, не задумываясь, умотал к Октавиану.
Там, где я предлагал всего четыреста сестерциев, Октавиан предлагал две тысячи. Можешь себе представить сложность этого морального вопроса: кому служить?
И что еще я мог сказать такого, чтобы они пошли за мной, что могло быть более сильным аргументом, чем деньги? У меня было множество красивых слов о том, что я, ближайший сподвижник Цезаря, отомщу его убийцам, о том, что я иду освобождать Цизальпийскую Галлию от Децима Брута, заговорщика и родича того самого Брута, чье участие в заговоре могло убить Цезаря еще мучительнее, чем его кинжал. О моих победах, о блистательной судьбе солдат, которые отомстят за Цезаря, и будут навеки вписаны в историю верности и доблести.
В общем-то, это были хорошие слова. Но они не компенсировали отсутствие денег.
Да и не скажу, что я был в такой уж хорошей форме: растерянный, озлобленный, всеми покинутый, я, конечно, старался развлекать всех по-старому, всегда улыбался и демонстрировал уверенность в своей победе, однако, думаю, нечто печальное и мучительное в моем облике присутствовало.
Скажу тебе так, Луций, я был уверен, что мы победим: на моей стороне опыт, на моей стороне смелость и на моей стороне всегда была удача. Дело не в победе, а в самой печали и в чувстве неприкаянности, которые одолевали меня.
Но, как это часто говорил Клодий, дай им съесть тебя заживо. Я должен был остаться интересным аттракционом, и я им оставался. Сам удивляюсь, как мне удалось набрать столь много преданных сторонников, готовых сражаться за меня хотя бы и бесплатно. Столь много — в поэтическом смысле, так сказать. Для моей ситуации, для практического применения — этих людей было маловато.
Так что случилось в Брундизии?
Там я выступал перед солдатами, окруженный верными сторонниками, и вроде бы был в ударе.
Тем более, среди ветеранов прошел слух, что Октавиан ведет их не на бой с заговорщиками, а на бой со мной, и этот расклад не слишком им нравился. Я же предлагал, во всяком случае пока, действительную месть.
— Мы, — говорил я. — Расправимся с Децимом Брутом и займем провинцию, которая когда-то сделала нашего друга и военачальника Цезаря, Отца нашего Отечества, великим. Разве можем мы допустить, чтобы мятежный наместник окопался там со своими прихвостнями и топтал места нашей с вами боевой славы? Разве позволим мы Дециму Бруту быть там, где мы лили кровь за Цезаря?
Некоторая неловкость заключалась в том, что я когда-то сам же и предложил временный компромисс с убийцами Цезаря. Это теперь вдруг меня стало что-то не устраивать. Но, как правильно сказал Цицерон, мелкие логические несостыковки волновали меня мало.
Люди думают сердцами, во всяком случае, большинство из них, и мне нужно было пробудить в этих сердцах ярость. До Брундизия это работало вполне.
— Так! — крикнул кто-то. — И это все за четыреста денариев!
Я сказал:
— Пока что. Галлия богата, вы сами прекрасно об этом знаете.
— Но ты не гарантируешь никакой оплаты? — спросил еще кто-то. — А Цезарь предлагает две тысячи!
— Две тысячи это деньги, чтобы умереть!
— Цезарь мертв, — рявкнул я. — Октавиан…
— Наследник Цезаря!
Тут была моя главная ошибка. Я втянулся в перепалку с солдатами. Обычно такая близость к народу и некоторое нарушение субординации мне помогали, но здесь они сыграли со мной злую шутку.
— Октавиан собирается воевать со мной!
— Неудивительно, — крикнул кто-то. — Что ты хочешь спасти свою жизнь. Удивительно, что ты хочешь сделать это за четыреста сестерциев на нос.
Эрот шепнул мне:
— Это агенты Октавиана, успокойся, господин. Они здесь мутят воду, это естественно.
Я больно толкнул его в бок и рявкнул:
— Кто это сказал? Выйди! Выйди и скажи мне это в лицо! Давай, солдат, будь смелее!
Молчание, а потом вдруг — смех. Я вообще-то люблю, когда надо мной смеются, я люблю развлекать людей. Но есть некоторая ощутимая разница между тем, чтобы развлечь солдат шуткой и быть посмешищем. В тот момент я ее почувствовал.
Никогда в жизни я не ощущал себя более дурацким, нелепым и недостойным. Я стоял, красный, потный и злой. Все вдруг закружилось и приобрело цветную, симпатичную, светящуюся кайму вокруг, предметы исказились.
Оправдываться мне вовсе не хотелось, да и чем я мог оправдаться? Смех звенел у меня в ушах, и хотя в рядах солдат он давно стих, мне все казалось, я слышу его, слышу и буду слышать, он останется со мной навсегда.
И хотя за мной было много преданных сторонников, которые тут же начали бранить солдат, я чувствовал себя крайне одиноким.
Но не беззащитным, нет. Я улыбнулся и сказал своим помощникам:
— Выявить зачинщиков бунта, а если их нет, то просто отрубите голову каждому десятому.
Помолчав, я добавил:
— Мы повысим плату оставшимся. Я здорово сэкономлю на мертвецах.
Около трехсот человек не пережили одной очень смешной шутки, зато оплата возросла — так нашлось решение.
Когда ты узнал об этом, то прислал мне гневное письмо.
Я помню его наизусть.
"Марк! Когда я узнал, разве мог я поверить сразу, что это ты, а не злой дух, что поселился в твоем теле?
Как мог ты пролить кровь солдат, которые так необходимы нам для войны с убийцами Цезаря? Ты не лучше их! Они пролили кровь Отца Народа, ты же льешь кровь самого народа! Ты удобрил ей землю Брундизия, но что дальше? Ты хочешь их любви, но откуда взяться любви к кровавому тирану, каковым ты стал?
Если они смеялись над моим Марком, он посмеялся бы вместе с ними.
Что случилось с братом, который всегда подавал мне пример?"
Это письмо я слушал, засыпая в своей палатке. Я был очень пьян, и в лагере еще пахло кровью.
Эрот зачитывал мне письмо, и я повторял отдельные слова.
— Что случилось с братом, который всегда подавал мне пример? — пробормотал я. — Эрот, что ты думаешь об этом?
Эрот сказал:
— Теперь я не осмелюсь поделиться с тобой этим, господин.
Я с трудом приподнялся и схватил Эрота за руку.
— Скажи, прошу.
Как пахло кровью. Вообще-то я люблю этот запах, но в ту ночь он почему-то был невыносим, может, по контрасту с ее прохладной свежестью.
Эрот сказал:
— Поспешное решение. Ты добился покорности, господин, покорности из страха, но не любви. К тебе достаточно уважения, и многие обожают тебя, но для этих солдат ты навсегда останешься врагом. Прошу, не доверяй им серьезных дел.
— Разве не проявил я похвальную твердость?
— Цезарь, которым так восхищается, мой господин, исповедовал политику милосердия.
— Он не потерпел бы смеха над собой.
— Но разве ты не любил смеяться вместе с солдатами? Они привыкли к тому, что ты смеешься и плачешь вместе с ними и обращаешься к ним, как друг. Зачинщики, агенты Октавиана, несомненно на это и рассчитывали. Солдаты поддержали их смех, потому что знают тебя, как добродушного человека и солдатского друга.
Я помолчал. Вдруг меня стошнило. Вытирая рот, я спросил:
— Эрот, ты знаешь меня с детства, кем я стал?
— Никем, кем не смог бы стать тот мальчик, которого я знал с детства.
Этот фокус с подавлением бунтов я проводил много раз, однако никогда прежде — с теми, кто мне верил. Мне было мучительно больно, и до сих пор, пожалуй, если бы я мог изменить что-то в своей жизни, я изменил бы Брундизий. Наверняка было другое решение. В стиле того Марка Антония, который смеялся и плакал вместе со своими солдатами.
Во всяком случае, слабое утешение, это меня кое-чему научило. С тех пор я старался не давать агентам Октавиана вывести меня из себя.
Однако, неожиданный плюс, молва о Брундизии разнеслась быстро, и с тех пор простые солдаты не особенно поддерживали провокации.
Ну, не без хороших сторон ситуация, и на том спасибо.
А все-таки это трагическое и позорное пятно, свидетельство того, насколько низко я пал. И Мутина, она была моим искуплением.
Ладно, к Мутине. Все предшествовавшее ты знаешь: я со своей армией двинулся в Галлию и осадил там Децима Брута, Цицерон продолжал полоскать мое имя в сенате, шли переговоры, и, наконец, Октавиан получил официальные полномочия для борьбы со мной и отправился вместе с двумя новоиспеченными консулами показать мне, где раки зимуют.
В конечном итоге, мне, такому самоуверенному, пришлось спасаться бегством. А ведь я был уверен в себе до самого конца, как ты помнишь. Особенно после того, как мне удалось устроить засаду легионам нового консула Пансы. О, как я ликовал, узнав о том, что тот, тяжело раненный, скончался вскоре после боя.
— Один — все, осталось двое! — кричал я. — Непобедимый, великолепный Марк Антоний!
Закончилось все весьма печально, и ты был тому свидетелем. Да, ты был рядом. Мы с тобой тогда разговаривали исключительно по делу, ты не мог простить мне Брундизий. Вот Гай бы очень обрадовался моему кровавому решению, но Гай был далеко, при попытке отобрать у Брута Македонию, он попал в плен (снова!). О, бездарная тощая мразь.
Я со своими верными солдатами ликовал, как мог, тут-то меня и застали, тоже врасплох. Пока ты продолжал осаду Мутины, надеясь выкурить оттуда Децима Брута, я получил феерических люлей от дружочка Пансы, второго консула Гирция. Октавиан в этом во всем участвовал мало, поэтому полагаю, что могу не считать, будто бы я ему тогда проиграл. В любом случае, я бежал, спасая остатки своей армии.
Но со вторым консулом разобрался ты, умница, хотя тебя из-под Мутины тоже выгнали, ты отомстил за меня вполне, и цена была высока.
В любом случае, мы с тобой отправились в бега, ты нагнал меня в пути, и мы решили сделать единственное, что нам доступно — отступить в Нарбонскую Галлию, уже совершенно чуждую римскому духу.
Знаешь, как легко они могли бы догнать и разбить нас? О, причудливая жизнь. Октавиан мог соединиться с Децимом Брутом, хоть его силы и были истощены, но он что-то значил, однако принципиальный приятный молодой человек отказался вести какие-либо переговоры с убийцей Цезаря.
И я его понимаю. Но сам факт — как близко мы были с тобой к смерти тогда.
Что касается Октавиана, у меня есть уверенность в том, что Октавиан, будучи прежде, чем человеком — политиком, просто подумал о долгоиграющих политических последствиях даже непрочного и краткого союза с кем-либо из заговорщиков. Он хотел выглядеть чище сенаторской тоги.
Октавиан, к его чести (я уже многое сказал к его чести, надо признать), был человеком крайне последовательным и очень хорошо соблюдал видимость.
А видимость превращается в действительность, если она построена грамотно и не нарушена нигде.
Так политика, которая традиционно губила меня, вдруг спасла великолепного Марка Антония от неминуемой гибели.
И вот, я проиграл.
Но, веришь ли, мне необходимо было проиграть. Еще никогда прежде я не терпел столь сокрушительного поражения. Я привык к тому, что мне все удается. Если уж политик из меня такой себе, то разве не прекрасный я военачальник?
И тут вдруг что-то идет не так. Кажется, конец света, всемирный потоп от горьких слез, готовьте корабли, и пусть спасется лучший. Я думал, что так и будет, боялся, но вдруг, отступая, почувствовал себя таким свободным.
Ты помнишь это чувство? Было ли оно у тебя? Мы ведь тогда, и еще некоторое время после, хранили наши мысли втайне друг от друга.
Это чувство сложно описать: теперь бегство стало реальностью, было так и больше никак. И я вдруг, вместо того, чтобы отчаяться, ощутил, что могу это выдержать.
Я потерпел поражение, причем весьма печальное и бесславное, а противниками моими были, на минуточку, девятнадцатилетний пиздюк и два неудачника, умудрившихся погибнуть в удачной войне.
Никакого уважения к себе я за такой проигрыш, конечно, не испытывал. Но, в то же время, милый друг, я ощущал иное: то, что должно было колоть, не колет. Октавиан, мой недавний соперник, одержал надо мной верх, и пусть ему помогли люди более опытные и более талантливые, дело обстояло именно так. Одержал верх, но не победил.
Я понял, что не стану, как это было со мной все последнее время, искать виноватых и злиться. Ни на себя, ни на кого другого я не держал зла.
Не жгло мне сердце и самолюбие, хотя этот вид смертельных мучений мне очень и очень присущ.
Оказалось, я могу существовать и в условиях бегства, более того, ничего ужасного со мной не произошло, я не превратился в монстра, не стал одержим злым духом, не ощутил желания провести еще одну чудесную децимацию.
Я жалел и любил моих солдат, сочувствовал им, попавшим в столь трудное положение.
И вдруг, совершенно неожиданно, Луций, я стал прежним собой. Человеком, который когда-то, в пустыне Синая, думал прежде всего о том, как его бедные ребята хотят домой и маются от жары.
Я будто пробудился от долгого сна, и это чувство было прекрасным.
Сколь часто бывает: мы хотим одного, а нужно нам совсем другое. Я хотел победить, но мне нужно было проиграть.
Не думаешь ли ты, что частенько мы так желаем получить нечто, но оказывается важным именно его отсутствие. Оно заставляет нас двигаться вперед, не замирая и не заплывая жирком.
Мои истинные чувства притупились, роскошная и праздная жизнь, политические игры, в которых выживает самый ловкий лжец (а лжецом я был весьма ловким, кстати говоря), все это измучило мое от природы весьма чувствительное сердце, изгваздало мои, в общем-то, не единственно низменные чувства.
Я совсем потерял хорошее, что некогда было во мне: потребность заботиться о ком-то, желание утешить тех, кому тяжело, возможность быть чьей-то опорой.
Да, справедливости ради, у этого великолепного Марка Антония не так много признанных достоинств, но внимание к людям и способность их понять — вот чем ему в самом деле стоит гордиться.
И использовать это, кстати говоря, не во зло.
Я думал, все это во мне умерло. Я был кровав и лишен совести, совершенно озверел, но, самое худшее, я был жалок в своем желании удержать власть, в своем желании вцепиться в жирный кусок и трепать его, пока он не развалится на лохмотья у меня в зубах.
И вот теперь я вел всех этих людей, которые пошли за мной, большинство из-за любви ко мне и к Цезарю, непонятно куда, и на мне снова лежала простая и ясная, не политическая, но человеческая ответственность за их завтрашний день.
Кстати говоря, мои солдаты были так злы на Октавиана, в котором видели врага, помешавшего им расквитаться с убийцей Цезаря, что у меня не возникло никаких проблем с их мотивацией.
Когда мы, наконец, остановились, чтобы сделать привал, я сказал:
— Друзья мои! Я прошу у вас прощения. Я был слишком самоуверен, и это привело нас к нынешнему печальному дню. Мое сердце разрывается, когда я смотрю на вас и думаю о том, что нам всем еще предстоит пережить вместе. Однако я хочу пообещать вам, что выведу вас из этого сложного положения, чего бы мне это ни стоило. Я сделаю все для того, чтобы мы с вами выжили, потому как теперь это главная цель, которую я преследую. Если вы захотите пойти за мной дальше, что ж, мы пойдем вместе. Если вы захотите уйти, я выплачу вам жалование и отпущу. Доверьтесь мне в последний раз, и давайте мне показать вам, что я способен позаботиться о нас с вами и найти верный выход из сложной ситуации. Я хочу попросить у вас прощения, да. Много где в последнее время я был жесток неоправданно. Теперь, вспоминая былые дни, когда мы, вместе со многими из вас, сражались здесь, в Галлии, под началом Цезаря, я понимаю, что дружба и милосердие все еще лучшее, что я могу предложить доблестным римским солдатам.
Моя речь была встречена бурными криками поддержки, и я вдруг почувствовал себя победителем. Это было смешно, учитывая, какой печальный конец нашли мои планы под Мутиной (и нам еще повезло избежать полного разгрома). Но мне было легко, и мне было радостно.
Я чувствовал, что снова могу дать миру больше, чем забрать у него.
Чего я действительно всегда желал, так это любви, не власти и силы, только любви. И вот я мог заслужить ее, своим достойным поведением и посильной заботой о тех, кто рядом.
Теперь я думаю, а, может, времена, когда мы подались в бега из-под Мутины незнамо куда были лучшими в моей жизни? Или хотя бы в числе лучших. Точно в числе лучших, Луций.
Ты наверняка другого мнения. Ты не нуждался в волшебных трансформациях для того, чтобы достойным быть человеком, который сам себя радует.
Ты помнишь, что мы ели, что мы пили, когда закончились припасы? Я честно распределил оставшийся провиант так, что нам с тобой и другим высокопоставленным молодцам досталось не больше, чем простым солдатам. Мы ели не сытнее и не вкуснее, пили не слаще. Вместе с другими я охотился, вместе с другими собирал подножный корм, помогал лечить тех, кто ранен или истощен.
Жить в первозданной звериной нищете было почти так же приятно, как купаться в роскоши.
Еще вчера на обед у меня в доме подавали павлинов, а сегодня я питался древесной корой (вторым ее слоем, как помнишь, он, кажется, называется заболонь) и жарил корни лопухов.
Вместо прекрасного фалерна я жадно пил воду, от которой меня тошнило почти тут же. Впрочем, здесь перемена была чисто символической — от прекрасного фалерна меня тошнило тоже. Ты скажешь, я полон самолюбования, но разве не заслуживаю я немножко похвалы за то, что смог презреть все, что прежде ценил, и за чем охотился ради дружбы и товарищества, ради солидарности со своими солдатами. Они, будучи вымуштрованными нашей весьма иерархичной военной системой, вполне поняли бы, если бы генерал жил лучше, чем они, и откусывал больший кусок от общих запасов и заботился о себе, но не за генеральский гонор меня любили, а за некоторую фамильярность и способность сочувствовать.
Самым тяжелым был переход через Альпы, непростой всегда, в голод он был практически неодолим.
Голод очищает и освобождает ум и сердце, особенно это касается обжор вроде меня. Мозг мой работал быстро и правильно, я молниеносно реагировал на все, и чутье мое обострилось. Я выбирал самые безопасные пути, а однажды лишь моя интуиция спасла нас от обвала на каменистой дороге. Я все время придумывал, что бы такое новое съесть.
В Галлии не осталось ничего такого, чего я не попробовал бы на зуб. Я обучил своих ребят есть червей, волков, даже стервятников. Перед последними стоило извиниться, мы частенько отбирали их добычу, да и сами их жизни — тоже.
Так, должно быть, чувствовали себя давнишние, совсем еще первобытные вожди. Они должны были кормить, поить и защищать своих, и это давало им невероятную силу. Вовсе не абстракция современной политики и не грубое превосходство в войне, нет — забота о своих.
Я кое-чему научился во времена своего позорного бегства. Октавиан никогда не знал этого чувства — выживать и помогать выжить другим в самых диких, звериных условиях. Это было сложно и, конечно, мучительно, но давало и ощущение причастности к собственной природе, к древним и нетронутым прежде ее частям.
Как-то раз ты сказал:
— Вот он, Марк, которого я знаю.
Я улыбнулся и ответил, что большему научился у тебя, чем ты у меня.
Это правда. Но теперь я думаю: ты ведь тоже был в кого-то такой сердобольный, да?
В меня, наверное. Или это я снова встал на дурацкую дорожку пустого хвастовства?
В конечном итоге я, наверное, никогда не чувствовал себя более свободным. Оказалось, внутри меня есть такая вольность и радость, такой запас сил, что на нем можно было и перевалить через Альпы, и собрать армию заново, и что угодно вообще.
Разве не чудно это? Сама возможность так воспрянуть духом после страшного поражения — дар, за который я благодарен богам. А, может, дело и не в этом, а только в том, что я вспомнил, кто я есть.
Не думай, оправдаться я не пытаюсь. Я и не собираюсь утверждать, что тот я, пьяный в колеснице, запряженной львами, это какой-то неправильный, ненастоящий я. Но у всего есть две стороны, и никогда не следует забывать ни об одной из них.
Жаль, что люди не рождаются цельными, и течение жизни редко сглаживает этот шов, соединяющий две половины — светлую и темную. Я хотел бы, чтобы все во мне смешалось до полной неразличимости, но я голодный, и я за столом — все еще очень разные люди.
Вот так.
Ладно, Луций, перейдем-ка мы с тобой к Лепиду, да? Честно говоря, я на него рассчитывал. Не скажу, что он был мне добрым другом, но после того, как мы с ним разделили ответственность за переговоры тогда, после убийства Цезаря, я несколько проникся к этому серьезному, унылому мужику. У меня появилась идея, что мы немножко друзья, тем более, что общался я с Лепидом с тех пор весьма и весьма неплохо.
У нас с ним совершенно не было общих тем, но имелись общие воспоминания и общие проблемы. Многое из того, что он говорил, казалось мне бредовым. Думаю, он тоже не то чтобы души во мне не чаял. Однако, наши жизни связались в крепкий узел, и я решил, что, если и могу обратиться к кому-то, то к Лепиду.
Собственно, и цель нашего сложного, долгого и героического пути, Нарбонская Галлия, была мне интересна прежде всего тем, что проконсулом этой провинции был Лепид.
Я собирался просить у него помощи. Но, как ты знаешь, гарантий у нас не было. Я не мог пообещать моим солдатам, что они найдут пищу и кров в прекрасной и живописной Нарбонской Галлии, и не мог пообещать тебе, что твоя голова останется на плечах в этом хорошем месте.
И все-таки, после некоторых раздумий, я решился.
Мы сделали привал у реки напротив строящегося лагеря Лепида. Не особенно таясь, мы, тем не менее, расположились так, чтобы с удобством дать деру, если что-то пойдет не так.
О, Луций, милый друг, я волновался. Я держался так хорошо все это время, а теперь мне нужно было сделать последний решительный шаг и спасти свое большое племя маленьких мальчиков. То есть, разумеется, многие из этих мальчиков были постарше меня самого, но мое отцовское чувство было так сильно, что я не отдавал себе в этом отчета.
Лепид мог как спасти меня, так и уничтожить окончательно. Все зависело от него. Я был в невыгодном положении, и, напади Лепид на меня, он с большой вероятностью мог победить. Впрочем, я был почти уверен, что найду выход из этой ситуации так же, как нашел в нее вход.
Я удачлив, даже слишком. Фортуна любит меня за то, что я истово верю в ее силу. Когда положиться, в общем-то, не на что, всегда остается хотя бы одна вещь на свете — везение. Можно положиться на то, что тебе повезет, и действовать, потому что действие всегда лучше его отсутствия.
Можно ли с этим поспорить? Непременно, но не со мной.
Голодные, истощенные, смертельно усталые, мы разбили лагерь.
Ты спросил:
— Но что мы будем делать, Марк? Если он не собирается нам помогать? Особенно если он не собирается драться?
— Да, — сказал я. — Это проблема.
И вдруг до меня дошло: вот какой худший исход. Вдруг Лепид не захочет ни дать нам, ослабевшим, бой, ни поговорить со мной. Что я тогда буду делать? Вести солдат в атаку на свежих и отдохнувших солдат Лепида? Это сущее самоубийство. Если, дождавшись нападения, я еще мог сыграть карту отступления или проявить необычайную, невероятную силу духа, то нападая самостоятельно я терял и это. Защищаются люди куда более страстно и отчаянно, чем нападают сами. Истощенный солдат может показать что-нибудь совершенно замечательное, если он защищает свою жизнь, тогда как нападение просто недостаточно его взбодрит.
Впрочем, не скажу, что я не рассуждал, как будет вернее, возникали и другие аргументы. Разве победа над голодом не станет нашей главной победой? Разве не будут солдаты с остервенением защищать свое право поужинать по-людски?
И все-таки, если Лепид проигнорирует нас, а я не решусь напасть, то куда нам идти, и что делать?
На этот счет у меня не было никаких идей, хотя тебе я говорил, что они были.
— Но я решу эту проблему, — сказал я. — У меня есть кое-какие варианты.
— Какие? — допытывался ты.
— Подожди, — сказал я. — Не хочу подавать к столу недопеченный пирог.
Ты облизнулся. Метафоры, касающиеся еды, меня к ним непреодолимо тянуло, а у тебя от них текли слюнки.
Все время я что-то такое говорил, помнишь? Уговаривал тебя: подождать прежде, чем мясо прожарится, не есть неочищенный фрукт, не ломать горячего хлеба, не грызть орех со скорлупой.
А когда я не употреблял метафор вроде этих, я вспоминал о еде из нашего с тобой детства. Мы вспоминали телячьи мозги в яичном желтке, миндальные орешки, которые привозил дядька, вкуснейшие на свете, мед, украденный с кухни, запеченного поросенка по рецепту прабабки Публия, куриные сердца, которые все время подавали в доме Куриона, потому что их любила его покойная мать.
Я и не знал, что еда так хорошо запоминается. Вдруг выяснилось, что у этих куриных сердец и у этих телячьих мозгов был смысл. Что я запомнил разговоры, которые велись за столом с давным-давно мертвыми теперь людьми, и запомнил вкус того, что жевал в тот момент, слушая что-то или отвечая.
Какие яблоки были в нашем саду! А какие вишни! И как все это горело на языке прекрасным огнем воспоминаний, разжигая голод и превращая сладкий сон в реальность.
Удивительные вещи делают с нами лишения. Никогда еще не была моя память такой чистой и ясной. Ты можешь сказать: о, великолепный Марк Антоний, дело всего лишь в отсутствии вина.
Но нет, милый друг, голод вывел из тьмы забвения все вкусности моей жизни, а за них, в общем-то случайно, зацепилась и сама эта жизнь.
Но не еда, а Лепид, вот о чем я, я о Лепиде и о его лагере напротив моего лагеря. Нас разделяла лишь тихая и чистая река, движение ее было мягким и таким спокойным, оно поразило меня. Природа оставалась прежней, словно и не решалась здесь моя судьба, все безмятежно: течет неторопливая речка, все огненней становятся от осени кроны деревьев, все крикливей птицы, все прозрачней небо. Красивый, безумно красивый пейзаж, лишенный всякой суеты. Природа нарисовала мне прекрасную картинку, и этой природе было плевать, буду ли я существовать дальше, буду ли смотреть на нее.
А я удивился: как я могу так страдать и претерпевать столько лишений, а мир вокруг меня при этом умудряется оставаться столь прекрасным и безразличным?
До того дурная погода мне казалась совершенно сообразной тяжким бедствиям великого меня. А тут вдруг — так атонально, так резко все изменилось.
И стало красиво. И спокойно. И даже счастливо.
Я глубоко вдыхал этот воздух и смотрел, как там, недалеко, кипит в лагере Лепида обычная жизнь, жизнь не знающая голода и холода. Я смотрел без зависти и даже без волнения.
Лепид не явил мне знаки своего внимания, он никак не показал, что заметил мое присутствие. Как же называлась эта река? Ты помнишь? Что-то такое на букву "А", если я не ошибаюсь. Или я все-таки ошибаюсь?
Ты спросил меня снова:
— Что мы будем делать?
Я понимал, что все на нервах, и нужно что-то решать. Разве мог я поступить иначе, чем поступил? Ты меня знаешь и, думаю, будь ты жив, ты ответил бы: нет, ты не мог поступить иначе.
Если бы ты, конечно, будь ты жив, стал бы меня слушать. Так что хватит путаться во всем, в чем только можно запутаться. Рассказывай яснее, Марк Антоний, о том, как ты переманил к себе целое войско.
Дело было так. Вполне понимая, что мне отсюда никуда не деться без Лепида или хотя бы без того, чем Лепид располагает, я вышел прямо к реке и совершенно один.
Раз мой дружочек Лепид, с которым мы вместе провожали наших детей на Капитолий, к заговорщикам, не решился ни напасть на меня, ни помочь мне, я предпочел действовать самостоятельно. Зрелище я представлял из себя то еще: страшно оброс и одичал, исхудал. Плащ на мне был темный, грязный и исходил от него аромат всех наших печальных приключений: пота, крови, земли, диких зверей и трав.
Народ любит мучеников, ты это знаешь. Он всегда поддерживает тех, кто страдает, и отвергает тех, кто ликует.
В таком виде я вечером, когда стемнело, переправился через реку. Намокшая лисица, вот как еще долго называл меня Лепид, за хитрость и безрадостный, жалкий внешний вид, который я тогда явил ему и его людям.
Я вышел к солдатам, подняв руки и откинув капюшон, беззащитно улыбаясь и вполне понимая, что они могут отвести меня к Лепиду немедленно. Вполне понимая, что меня могут казнить. Вполне понимая, что это может случиться быстро.
Я не мог не питать надежду на милосердие солдат, но разве не логичнее с их стороны было бы немедленно меня схватить?
И тем не менее, я решил довериться этим людям, иного выхода у меня не было, и я просто улыбнулся, как и наказал мне когда-то Публий: никогда не стоит терять лица, а лучшее оружие безоружного — безоружная же улыбка.
Я развел руками, мол, ничего поделать не могу, надо поговорить, а вы — делайте, что хотите.
— Привет, ребята! — сказал я. — Марк Антоний! Помните? Может, слышали? Уверен, даже видели! Мне кажется я помню вот тебя? Нет?
Помню их хорошо, всех восьмерых. Они дежурили у строящегося лагерного вала. Совсем молодые ребята, и их декан, командир контуберния, тоже человек молодой, приметный: яркий блондин с потемневшими на солнце веснушками. Он старался держаться серьезно, но смотрел с любопытством, глаза выдавали живой нрав и дружелюбие. Поэтому я и сказал ему, что его, кажется, помню. Не потому, что помнил: он мне просто понравился, я рассчитывал на него.
— Вы можете меня схватить, — сказал я. — Без вопросов. Я в тяжелом положении и отдаю себе в этот отчет. Но у меня там римские солдаты, они устали и оголодали, и они не виноваты в том, что крошка Октавиан хочет стать новым Цезарем.
Крошка Октавиан. Вырвалось само. Я не был уверен, что стоило говорить так именно при этих солдатах. Они напряглись, но слушали меня очень внимательно, ничего не говорили. Один держал руку на эфесе меча.
Я сказал:
— Ребята, все, чего я хочу — это дать моим солдатам наесться и отдохнуть, а потом пойти и уничтожить предателя Брута. Больше мне ничего не нужно. Пусть крошка Октавиан делает, что хочет, и Лепид тоже. Давайте, позовите Лепида, я пришел с миром и один, я безоружен и никого не собираюсь трогать. Дайте мне поговорить, вот и все.
Они оставили со мной двоих сторожей и принялись переговариваться, я это немножко слышал. Мелькнула у них такая мысль: Антоний — мастер засад, наверняка это одна из них.
Я стоял спокойно и ждал.
Наконец, декан контуберния, крошечного отряда моих помощников, подошел ко мне с хорошей новостью — меня решили проводить к Лепиду. К тому времени вокруг меня начали собираться солдаты, они охотно слушали меня.
Я сказал:
— Терплю лишения и не сдаюсь лишь потому, что не доверяю Октавиану достаточно. Моя жизнь — прах, пусть исчезну, но разве сможет моя душа успокоиться после, если Брут еще ходит по земле!
О да, лишения были буквально написаны у меня на лице.
Начались разговоры о том, что не нужно меня к Лепиду, солдаты стали за меня волноваться. Контраст моего жалкого вида и бодрой речи вселил в них уважение ко мне.
Я говорил:
— Прошу у вас лишь, чтобы Лепид выслушал меня, ребята. Больше не надо ничего, но будьте мне друзьями в этом ради Цезаря и ради солдат таких же, как вы — римлян, которые верно служили Отцу Отечества.
Солдаты принялись отговаривать меня.
— Кто знает, как поступит с тобой Лепид? — говорили они.
Ах, бедный доверчивый Антоний. Его пожалели. Я, заботливый командир и наивный малый, вызвал в их душах живое сочувствие.
Я все твердил свое:
— Ребята, надо быстрее сообщить вашему командиру, не хочу подвергать вас опасности!
Тут, наконец, кто-то, вроде бы тот светленький декан контуберния, сказал:
— Так, может, лучше не тебе идти к нам, а нам идти к тебе?
Я едва удержался от того, чтобы ему не подмигнуть. Умница ребенок, подумал я, правильный ход мыслей.
Но разве он казался ребенком? Нет, молодой, конечно, но вполне взрослый. Для меня, тем не менее, все они были детьми, которых необходимо увлечь.
Народу вокруг меня собиралось все больше, и, наконец, сам Лепид (он ко мне не вышел) среагировал на мое появление: он велел трубачам во всю мощь завести что-нибудь бодренькое (я полагаю, потому как они заиграли бодренько) и заглушить мою речь. Однако, голос мой, громкий от природы, было сложно затмить какими-то там дуделками. А попытки это сделать разве что раззадоривали меня и делали героем в глазах солдат. Через какие мучения и унижения приходилось проходить этому Марку Антонию, чтобы быть услышанным, а ведь он всего лишь хотел выкурить из-под Мутины одного из заговорщиков, убивших Цезаря. Ничего больше!
Чем сильнее раззадоривал солдат вой труб, тем более агрессивной становилась моя речь. Я кричал:
— Друзья мои! Разве есть на земле справедливость, если я не могу собственной рукой покарать тех, кто нанес вероломный удар по моему отечеству, тех, кто убил моего соратника, тех, кто разрушил мир и процветание, к которым мы стремились, и заменил его войной и междоусобицей! Я не хочу препятствий! Если вы желаете пойти со мной, то я буду ждать вас. Я всем рад, потому как цель моя требует только честности и смелости, ничего сверх того.
Еще я кричал кричал:
— Мне необходимо не ваше сочувствие, но ваша вера в дело Цезаря, в то, что убившие его, должны быть убиты!
И всякое другое я кричал, и мне было так хорошо, легко и сладко — слова сами шли на язык, собственная речь захватила меня с головой, словно я слышал ее со стороны.
Солдаты окружили меня, и до меня доносились особенно громкие возгласы, полные сочувствия и поддержки.
Наконец, я сказал:
— Что ж, если Лепид сам не хочет говорить со мной, я уйду и буду готовиться защищаться.
Меня проводили, и я переправился обратно. Чуть позже, в ночь, к нам проникли двое, один — мой старый знакомец, декан контуберния (его звали Лелий, как я потом выяснил), другой паренек мне был незнаком, как я понял, он и Лелий были друзьями.
Лепид ужесточил дисциплину, и за возможность послушать меня многие получили наказание. Однако это лишь ожесточило солдат против Лепида и склонило их ко мне.
Чтобы покинуть лагерь, Лелий и его друган были вынуждены переодеться в солдатских шлюшек, и мы посмеялись над этой ситуацией. Они принесли нам хлеба, и я разделил его между солдатами как можно более справедливо, но досталось далеко не всем, и поэтому сам я не съел ни кусочка.
Лелий сказал:
— Многие за тебя, Антоний, и ты не встретишь препятствий, если войдешь к нам и поведешь нас за собой, уверяю тебя.
Я сказал, что не могу добиться от Лепида никакого ответа.
Тут друг Лелия вдруг ответил резко:
— Забудь о Лепиде. Если прикажешь, мы убьем его. Если так надо ради Цезаря, ради мести за него, а Лепид нам мешает.
— Лепид нам не мешает, — сказал я спокойно. — Он сам не понимает, что делает. Надо с ним поговорить. Уверены ли вы, что сообщаете мне взвешенное решение большинства?
Мальчишки быстро закивали.
— В таком случае, мы должны поговорить с Лепидом, — сказал я. — И объяснить свою позицию.
Поговорить, конечно, с позиции силы, вот что я имел в виду.
Ты смотрел на меня с восхищением, а я знал, что твое присутствие (многие знали тебя, как народного трибуна) мне совершенно необходимо.
Лелий сказал:
— Мы просим тебя прийти к нам и поступить с Лепидом по своему усмотрению.
Я сказал:
— Ну, раз уж вы приглашаете, — и засмеялся. Помню, мне было очень смешно.
— Только не трогайте Лепида, — добавил я, отсмеявшись. — Друзья, он такой же соратник Цезаря, как и я.
Рано утром, когда воздух был мутный, с синеватым оттенком свежего молока, мы начали переправляться через реку. Я без страха вошел в холодную воду. А дальше — самая трогательная сцена в моей жизни, скажу тебе честно. Во всяком случае, одна из.
Я переправлялся на ту сторону реки, она была тихой и вполне посильной для переправы, но солдаты из лагеря Лепида тянули ко мне руки и выкрикивали приветствия, они хотели помочь мне выбраться на берег.
Как это трогательно, как приятно: незнакомые люди столь рады тебе и так заботятся о том, чтобы ты оказался рядом с ними. Смуглые, напоенные солнцем, сияющие лица в рассветной дымке, широкие улыбки, блестящие глаза. Много-много-много блестящих глаз.
Как же я люблю, когда люди смотрят на меня. Это заставляет мое сердце замирать.
Другие солдаты разрушали недостроенный еще лагерный вал, чтобы мои ребята могли беспрепятственно войти в лагерь. Мне повезло, что еще шла стройка, это обеспечило мне быстрый доступ к солдатам и быстрое вхождение в лагерь.
Но нет, важно не разрушение, важно сияние. Какие это были чудесные лица.
Я вышел из воды, отряхнулся, как собака, весь заросший, переливающийся рыжим под утренним солнцем. Намокшая лисица, тут Лепид был прав. Как же мне хотелось побриться и постричься. Хотя именно этот дикий образ и позволил мне так легко и ярко склонить солдат на свою сторону.
Стоило мне завладеть лагерем, как настроение мое повысилось еще сильнее. Затянувшаяся пауза в моей жизни подошла к концу. Я буквально чувствовал, как пружина разжалась и отправила меня в долгий и приятный полет.
Лепида я при всех помиловал. Я сказал:
— Друг мой, Лепид, пусть он и не помог мне так же быстро, как вы, он остается соратником Цезаря. Я не Октавиан, чтобы проливать кровь наших товарищей. Если бы Октавиан не напал на меня, когда я пытался уничтожить заговорщика, я бы никогда не тронул его. Так же я не трону и Лепида. Я прошу вас проявлять к нему должное уважение и оставляю его при всех преимуществах его недавнего положения.
Я не собирался проявлять демонстративную жестокость, тем более к человеку когда-то столь близкому к Цезарю. Наоборот, мы с Лепидом вместе удалились в его шатер. Он молчал. Я уж думал, у него отнялся язык, испугался за дружочка.
Мы вошли, и я сразу метнулся к чаше для умывания, смыть с себя то, что Гай называл ораторским потом.
Лепид, наконец, сказал:
— Что ж, я думал над тем, чтобы присоединиться к тебе. Значит, так решила судьба.
Я внимательно посмотрел на него. Мне показалось, что Лепид не лжет.
— Выходит, это судьба, — сказал я, лег на его ложе и потыкал в кнопочки лежавшего на подушке калькулятора, принялся перебирать документы. Честно говоря, я только делал важный вид, ничего не читал. Всю эту херню я решил оставить на потом.
Лепид сказал:
— Недалеко отсюда стоит со своим войском Планк.
— Это хорошо, пусть стоит, — сказал я. — Мы окружим его и примем в нашу дружную компанию, а потом заживем еще счастливей прежнего.
Я снова взял калькулятор, понажимал на резиновые кнопочки с цифрами. Давно мои огрубевшие пальцы не испытывали ничего столь приятного.
Я сказал:
— Не обижайся, Лепид. Я просто хочу сделать необходимое. Разве ты веришь щенуле? У него такими темпами скоро кончатся денежки, и что тогда?
Лепид помолчал, рассматривая меня.
Я сказал:
— Да, знаю, видок у меня еще тот.
Он сказал:
— Не верю. Ни ему, ни тебе.
— Это правильно, — сказал я. — Очень хорошая позиция, дружок. Придерживайся ее, пожалуйста, и никогда не оставляй.
Я тяжело вздохнул и потянулся.
— Хочу есть и оттрахать кого-нибудь поскорее, шлюхи у вас с собой?
— Ты злишься на меня, Антоний?
— Оттрахать не в фигуральном смысле, — сказал я. Лепид вздернул тонкую бровь, и я подумал: важное лицо, но нос все портит. Слишком несуразный, делает все остальные черты мельче и проще.
Лепид пропустил мои слова мимо ушей, как и следовало ожидать.
— Нам следует многое обсудить.
— Безусловно. Ладно, тогда не будем рассусоливать, достаточно просто шлюхи, я ее оттрахаю, а после сожру.
Лепид закатил глаза, и это первое яркое, наглое движение души я заметил, и оно обрадовало меня. Люди, стесняющие себя в выражении чувств, меня пугают.
Вечером мы с Лепидом сидели у костра. Я нанизывал на палку зефиринки.
— О Юпитер, — сказал я. — Ты живешь красиво.
— Моя единственная слабость, — ответил Лепид.
У него были огромные запасы зефира. Создавалось впечатление, что Лепид лично питается только им, это воздушное лакомство словно заменяло ему хлеб.
— Ну уж одну-то слабость, — засмеялся я, подставляя белые бочка зефиринок костру. — Может позволить себе кто угодно. Такие яркие упаковки, да?
— Да, — сказал Лепид. — В детстве я их коллекционировал.
Знал бы Октавиан, о чем мы разговаривали.
Было прохладно, над нашими головами раскинулось звездное небо, столь прекрасное и столь далекое. Холодный свет звезд притягивал мой взгляд, и я вспоминал тот давний уже сон о небе, полном глаз, и о молнии, ударившей меня в руку.
— И что ты собираешься делать дальше? — спросил Лепид.
— Почти то же, что и сказал, — ответил я.
— Почти?
— Разберусь с Децимом Брутом. Он меня преследует, тупица, и не знает, какой неожиданный поворот случился в моей судьбе сегодня. А потом, что ж, дай-ка мне подумать. Ну, для начала смету Октавиана с дороги, чтобы он мне больше не помешал.
— Октавиан не хочет войны с тобой.
— Больше? — спросил я.
— Вообще, — сказал Лепид. — Все его действия были вызваны страхом перед тобой. Ты вел себя непредсказуемо. Он отпускает плененных солдат твоей армии.
— Ух ты, — сказал я. — Малыш хочет помириться?
Лепид сказал:
— Зависит от ситуации. Сам понимаешь.
Я сказал:
— Ситуация располагает. У меня будет огромная армия, и я разберусь с Брутом, Кассием и остальными шавками. Октавиану придется присоединиться ко мне, если он хочет кусок пирога.
Опять эта дурацкая метафора. Есть захотелось немедленно, хотя к тому времени я уже очень сытно поужинал. Я запихнул в рот горячие, тающие во рту зефирки.
— Да, — сказал я с набитым ртом. — Ему придется, а если он этого не сделает, я его уничтожу.
— Ты не с той ноги встал, — сказал Лепид. — Это не примирение. Ты сюда пришел, как человек, обещающий смерть заговорщикам. Никто не пойдет за тобой против наследника Цезаря. В этой войне ты проиграешь.
Я это понимал. Зефирки были очень горячими, и я замахал рукой. Лепид вздохнул.
— Антоний, — сказал он. — Это нужно заканчивать. Не ради тебя и не ради Октавиана. Тщеславие обоих все равно не знает границ. Ты должен закончить ссору ради Цезаря. Ты уничтожаешь его наследие.
Самый умный нашелся, да?
— Не я это начал.
Но ведь как раз таки я!
Лепид посмотрел на меня весьма красноречиво.
— Да, — сказал я. — Ты прав.
Он тоже принялся нанизывать на палку зефирины, и я вдруг представил странное: что мы оба дети у этого огромного костра, и нам сегодня здорово дружить и веселиться. Весьма далеко от правды.
— Нужно найти выход, — сказал Лепид. — Иначе нельзя. И его должен найти ты. Ты старше, и ты мудрее.
— Ты уверен? — засмеялся я.
— Ну, хотя бы старше, — ответил Лепид с неловкой улыбкой.
— Я старше, Октавиан мудрее, а ты?
— Что я?
— Что ты? Трое составляют коллегию, друг мой, — сказал я.
Лепид подрумянивал зефиркам бока на огне и долго не отвечал.
— Плохая идея, — сказал, наконец, он. — Которая один раз уже закончилась плохо.
— У Цезаря не было плохих идей, — я пожал плечами. — Цезарь организовал первый триумвират, значит он был бы не против того, чтобы…
Лепид прервал меня.
— Об этом мы должны подумать. Мы знаем, что трое тянут в разные стороны.
— Но двое перегрызутся, — ответил я. — Думай, Лепид, думай. Разве Октавиан тебе ничего такого не предлагал?
Лепид промолчал.
— Мы с тобой сейчас составим силу, — сказал я. — И силу немалую. Я тебе предлагаю просто оформить все это официально.
— Мне бессмысленно что-то предлагать.
Но я знал, что, когда придет время, Лепид согласится. Он был человеком умным. И свою роль, роль буфера между мной и Октавианом, он прекрасно понимал.
Роль завидная: наименее опасная и наиболее выгодная из всех.
Но в то же время, по сути, не очень важная. Я прекрасно понимал, зачем мне нужен Лепид. Думаю, понимал это и Октавиан.
Я сказал:
— Всем выгодно. Всем хорошо. Но главное — польза, которую мы втроем можем принести Риму.
— А можем ли мы вообще принести пользу втроем?
— По отдельности, во всяком случае, мы пока что принесли только вред. Может, стоит попробовать?
Вдруг я заметил далекую светлую полосу, звезды в которой уже окончательно исчезли.
— Мы просидели всю ночь, — сказал я. — Даже не понял. Лепид, друг, время с тобой бежит незаметно. Завтра двинемся к Мунацию Планку и несколько его обеспокоим своим присутствием. Кстати, я так обжег язык этим твоим зефиром, ты не представляешь!
Лепид некоторое время молча смотрел на меня, а потом медленно сказал:
— Да. Очень коварная сладость.
Такая это история, Луций.
Послание семнадцатое: Кровоедение
Марк Антоний брату своему, Луцию, с пожеланиями скорейшего нашего воссоединения.
Здравствуй, брат!
Сегодня я проснулся с ощущением того, что я умру. Прежде оно приходило не сразу, а тут вдруг, похмельный, с тяжелой головой, я очнулся от странного сна (мне снился Клодий, он говорил: это все постановка, сука, бля, вот на улицах — реальная жесть) и сразу же понял, что скоро исчезну, перестану существовать.
И это, может быть, будет похоже на сон, но без снов.
Мне сразу захотелось написать тебе, чтобы зафиксировать как-то и это свое состояние, и свои мысли, и вообще все, потому что эти записи, а я передумал их сжигать, останутся после меня и надолго переживут великолепного Марка Антония.
Странно думать: меня уже не будет, а люди еще какое-то время продолжат расплачиваться монетами с моим изображением. Мое тело постепенно изменится: исчезнут глаза и губы, и нос, и вообще исчезну я, но останутся некоторые изображения, не слишком точные, не слишком похожие на правду (на монете сложно передать реалистичный портрет), но что-то обо мне говорящие.
Вообще-то, говоря о монетах, мне это очень нравится. Во-первых, монеты — прекрасный способ пропагандировать свои взгляды. Люди могут не слушать политиков, но не платить деньги за еду и кров они не могут.
И вот он я — часть их жизни, они трогают меня руками, пробуют на зуб — это во-вторых, и это очень приятно.
Но, возвращаясь к теме смерти, я спросил мою детку вот о чем:
— Я не боюсь умереть, но мысли все равно мучительны, как с этим справиться? Как будто болит зуб.
Моя детка ответила, что не знает.
— Если бы кто-нибудь умел справиться с этим, то люди не выдумывали бы столько всего, чтобы спастись от смерти. И, вероятно, мы до сих пор жили бы в первозданной гармонии с природой. Но ведь это не так.
— А когда я умру, — сказал я. — Но ты вдруг не умрешь. Если, словом, ты не умрешь, то что тогда?
— Так ты хочешь, чтобы в смерть я отправилась с тобой или нет? — спросила она деловито.
Я пожал плечами, потом притянул ее к себе, чтобы приласкать, промурлыкал ей что-то.
— Нет уж, бычок, — сказала она. — Когда ты умрешь, не надейся, что я сожгу тебя.
— Ты похоронишь меня по египетскому обычаю, как оно в завещании? Я уже не знаю, хочу ли так, по-египетски.
Она невесело засмеялась, толкнула меня в грудь слабыми руками с острыми ногтями.
— Нет, — сказала она. — И по египетскому обычаю ты похоронен не будешь. Я вообще не погребу тебя. Я положу тебя в нашу постель и буду смотреть, как это прекрасное лицо меняет свой цвет, как лопается кожа, как слезает плоть, как обнажаются кости, и как тело наполняется зловонной жижей.
— М-м-м, — сказал я. — А ты у меня такая романтичная.
Но моя детка не слушала меня. Она сказала:
— Все потому, что я люблю тебя, и не отпущу тебя до самого конца. Ты будешь моим.
— И опасная, — сказал я. — Жутенькая.
— Глупый бычок, я буду смотреть на тебя каждый день, еще долго после того, как ты замолчишь навсегда, и буду любить то, что превращается в прах.
— Ты и сейчас любишь то, что превращается в прах, — сказал я.
— Неожиданно мудрая мысль для тебя, — ответила моя детка и вдруг прижалась ко мне всем своим гибким телом, укусила в плечо. — Не отпущу тебя.
Я снова замурлыкал с ней, чего-то успокаивающего наговорил. А моя детка, она будто бы обиделась на меня, на то, что я вообще могу умереть и оставить ее здесь, среди песков в пустоте.
Ну да ладно, мне в любом случае стало легче. Пожалуй, такой исход меня устраивал. Пусть бы она смотрела на меня до последнего, даже когда я изменюсь до неузнаваемости.
Мы, римляне, очень боимся тех перемен, которые несет с собой смерть. Мы стараемся быстрее сжечь наших мертвых и проститься с ними навсегда. Обугленный труп нам милее того, что уготовила для мертвецов природа. Правильно ли это? У каждого народа свое мнение на этот счет. Греки отдают свою плоть на съедение земле. Египтяне сохраняют трупы, хотя внешность их мумий и далека от прижизненной внешности тех, кто ими стал, они не прощаются. Моя детка пустила корни на египетской земле, хоть у нее и македонское происхождение. Она тоже не умеет отпускать.
Что касается меня, я никогда не имел страха перед гниением. У меня мало отвращения к мертвому телу. Конечно, созерцание смерти нагоняет на меня тоску о судьбе, о роли человека в мире, о моей собственной гибели и забвении. Однако у меня отсутствует инстинктивный страх перед изменениями, которым подвергается человеческое тело после конца.
Это странно, правда? Особенно для меня. Я ценю красоту и знаю, что я красив, я люблю себя, свое лицо, свое тело. Однако я не хотел бы исчезнуть в пламени, я хотел бы, сообразно с желаниями моей детки, пребывать в мире как можно более долго, пусть даже это уничтожит мою хваленую красоту. Время властно надо всеми, хотя, уверен, я был бы очень красивым стариком, дай мне только еще десять лет.
Через десять лет мне было бы шестьдесят три. В этом возрасте умер Цицерон. Что касается гниения его тела — мне было радостнее видеть его таким, нежели живым, и я досконально изучил все стадии, через которые проходит человеческое лицо прежде, чем станет неузнаваемым.
Задайся вопросом, которым задаюсь я: какое право имею я бояться смерти, когда столь многие были убиты мною? Требуется уйти с высоко поднятой головой, и никакого страха, а тем более — никакой жалости к себе, раз я никого не жалел.
Ладно, сегодня напишу о Цицероне и обо всем прилежащем к этой истории. Теперь думаю, с чего бы начать.
Если бы я был историком, то последовательно изложил бы этапы моих переговоров с Лепидом и Октавианом на маленьком островке близ Бононии. Но правда в том, что большей частью эти переговоры были скучны и предсказуемы. Мы должны были справиться с хаосом, с безденежьем и с заговорщиками. Этим трем проблемам все и было посвящено. Не думаю, что стоит рассказывать о том, как мы придумывали обоснования для новых налогов или делили провинции. Это было скучно уже тогда, а тем более это скучно сейчас.
Расскажу тебе о разговорах, которые, в общем-то, мало что значат в историческом смысле, но они важны для меня.
И расскажу тебе о проскрипциях. Я должен кому-то рассказать о них. Это не слишком тяжелый груз для того, кто умеет убивать людей, однако мне все-таки хочется рассказать об этом. В особенности о Луции Цезаре и в особенности о Цицероне. Да, о них в первую очередь. Про остальных людей, их было множество, великое множество, я думаю мало.
Плохо ли это? Плох ли я поэтому? У тебя и у мамы, да и у всех здравомыслящих людей, пожалуй, есть однозначный ответ на этот вопрос.
Но пока не об этом, еще не об этом.
Островок был совсем крохотный, там поместилась только палатка, установленная по приказу Октавиана. Не скажу, что она была просторная. Я бы сказал, уже стандартного легатского шатра, зато помпезного цвета, пурпурного с золотой каймой. Когда я увидел ее, то подумал о тоге цензора, настолько ткань была яркой.
Внутри было будто бы просторнее. Снаружи палатка выглядела совсем маленькой, но Октавиан сумел уместить в ней все необходимое, в том числе и три спальных места на случай, если мы не договоримся быстро.
Очень разумно. В этом весь он.
Мы действительно не договорились быстро, все затянулось на долгих три дня, в которых спутались луна и солнце, и остались лишь бесконечные осенние сумерки, только и видные сквозь щель в палатке.
Я взял с собой Лепида, моего доброго дружочка с тех самых пор, как я украл его армию.
Когда мы переправлялись в лодке к островку, я спросил его:
— Так что, кем ты хочешь быть? Крассом, Цезарем или Помпеем?
— Любой здравомыслящий человек хочет быть Цезарем, — сказал Лепид.
— А то, — сказал я. — Но, как я понимаю, щенуля уже застолбил эту роль. Что касается меня, чур я Красс. Хочу много-много-много денег.
— Довольно оскорбительно намекать мне на то, что я — Помпей.
— А что Помпей? Помпей Великий.
Я засмеялся.
— Прекрати, — сказал Лепид.
— Это ты прекрати, Помпей. Называй меня Крассом!
— Ты мальчишка, Антоний, куда больший, чем Октавиан, — сказал Лепид мрачно. — Это плохо для государства.
— Но хорошо для меня, — сказал я. — Не теряю юношеского задора. Ты вообще знаешь, что это такое? Что за юношеский задор, а?
— Отстань, Антоний.
— Отстань, Антоний, — передразнил его я. — И это ты будешь рассказывать своим детям, Лепид? Как я ехал заключать эпохальный договор! И ты вдруг такой: отстань, Антоний. Вот это история, вот это я понимаю.
— История — это великие поступки, а не дурацкие шутки.
— Рад, что взял тебя с собой. Теперь я могу приготовиться к серьезной морде щенули. Он такой зануда, даже больший зануда, чем ты.
— Антоний, прекрати.
Наконец, это прекрасное путешествие подошло к концу. Октавиан вышел к нам навстречу. Он поприветствовал меня тепло. Военная форма удивительно не шла ему — в ней он казался еще меньше, словно ребенок, подражающий отцу. Впрочем, кем еще он был?
— Доброго дня, Антоний, доброго дня, Лепид. Я рад, что вы добрались благополучно.
— Тем же отвечаем и тебе, Цезарь, — сказал Лепид. Я скривился. Цезарь, конечно. Кто же еще? И Лепид послушно повторял эту чушь.
Однако же, разве не выгодно было мне прикусить язык? И я с этим справился, не без труда, но справился. Я только не называл его по имени, вот и все.
Октавиан, да, его военная форма, плащ, в котором он выглядел еще меньше, и эти детские часики на детском запястье. Какая глупость, подумал я.
С другой стороны, от мальчишеского задора Октавиану остались лишь часики, так что впору его пожалеть, простить, понять.
Сначала разговор у нас не клеился. Выпили вина. Мне не наливали неразбавленного, как я любил, и этот ход мне не понравился.
Думаю, Октавиан разводил вино как-то особенно мягко — один к восьми, может. Во всяком случае, сколько бы я ни пил, я не захмелел.
Октавиан говорил:
— Разве можем мы, верные последователи Цезаря, позволить заговорщикам прийти со своими легионами в Рим и дать им обесчестить все начинания моего отца?
— Нашего отца, — сказал я. — Он же вроде Отец Отечества, нет?
— Нашего отца, — с готовностью поправился Октавиан. — Ты прав, Антоний, именно так. Наша главная задача — презреть личную неприязнь, если таковая имеется.
Тут он, конечно, посмотрел на меня.
— И, презрев эту неприязнь, мы должны объединиться для того, чтобы разбить врага. Нас сплотит общая победа, а я не сомневаюсь в том, что дело закончится победой, во всяком случае, если мне удастся заручиться такими друзьями, как вы.
— Ну кончай уже, — сказал я. На лице Октавиана отразилось некоторое напряжение. Я добавил:
— Ладно, я с тобой согласен. Как бы мы друг к другу ни относились, главнейшая наша проблема это Кассий с Брутом. Остальное вполне решаемо, была бы толика дипломатических усилий с той и с другой стороны.
— И с третьей, — сказал Лепид.
О, подумал я, а тебе вдруг все понравилось, оказывается.
— И с третьей, — согласились мы с Октавианом одновременно, я засмеялся, а Октавиан нахмурился оттого, что мы заговорили одновременно.
Помню, Октавиан все время вертел в руках золотистую лазерную указку, он надевал на палец кольцо с короткой цепочкой и пытался ее крутить, но выходило плохо и нелепо. Крохотный красный огонек этой лазерной указки касался карты, когда это требовалось Октавиану. А я думал: уверен, у тебя дохерища насадок для этой игрушки, и ты развлекаешься так один вместо того, чтобы дрочить, как все нормальные люди.
О, самодовольный маленький мудак, думал я. Думаю, Октавиан был обо мне того же мнения. Помириться сложнее, чем предложить примирение.
Впрочем, Лепид отлично выполнял свою функцию. Там, где оба мы с Октавианом замолкали, вперившись друг в друга взглядами, Лепид находил нужные слова.
Отличный он мужик, что еще я могу сказать? Мне стыдно, что я относился к нему столь утилитарно. Он заслуживал большего. Да и заслуживает. Этот, несмотря на то, что попал в весьма неприятную ситуацию, вероятно меня переживет.
А все потому, что он зануда! Никогда, бедняжка, не был он любимцем своих же солдат. И все-таки человек неплохой, просто чудовищно необаятельный.
Так вот, мы худо-бедно договорились обо всем. Сначала шло плохо, но чем дальше, тем легче мы с Октавианом друг друга понимали. Сначала я думал, что не смогу с ним работать даже несмотря на усилия Лепида, но к концу третьего дня, то ли от недосыпа, то ли от умственного напряжения мне даже показалось, что он хороший парень, этот дурацкий Октавиан.
Тему проскрипций я поднял в последний день.
За обедом (мысли о смерти часто приходили ко мне во время еды) я сказал то, о чем почти забыл.
— Все это прекрасно, — сказал я, ломая хлеб и возя им по ароматной лужице оливкового масла. — Чудесно и замечательно, и все такое. Но то, что мы придумали, не будет работать, если мы будем сталкиваться с постоянным саботажем известных лиц.
Октавиан так и замер с оливкой в руке. Вдруг по его взгляду я понял: он знает, что я скажу. И он надеялся, что это скажу я. Уголок его губ дернулся, но тут же Октавиан поднял голову и уставился на меня уже вопросительно.
— Что ты имеешь в виду, Антоний? — спросил он.
— Да понятно же, — сказал я. — Что нам нужно провести чистку.
— Чистку? — спросил Лепид.
— Да, — сказал я. — Все как у взрослых.
Октавиан глубоко вдыхал горячий, спертый воздух, ноздри его раздувались.
— Чистку-чисточку, — сказал я. — Какие проводил Сулла.
Сказано.
— Ты имеешь в виду, что нам нужно создать проскрипционные списки? — спросил Октавиан осторожно.
— Ну да, — сказал я с присущей мне прямотой. — А имущество казненных — изымать. Нам нужны деньги для войны с Брутом. Нет? Я не прав?
Октавиан и Лепид молчали. Я отправил в рот кусок хлеба и проглотил, не пережевывая.
— Но есть предложение. Сулла отдавал половину имущества убийцам. Это многовато для нашей ситуации, так? Денег дадим много, но имущество так-то останется при нас. Продадим за сколько хотим, а землю отдадим потом ветеранам. С какой стороны ни посмотри, мы в выигрыше.
— Короче говоря, — сказал Октавиан. — Ты предлагаешь установить систему оплаты.
— Ага. Это облегчит задачу. Да и считать меньше надо. Не люблю считать, честно.
Глаза Октавиана расширились, светлые ресницы заблестели в сиянии свечей.
— Ты говоришь об этом слишком легко.
Но я видел: ему тоже легко. И вот это примирило меня с Октавианом до некоторой степени.
— Так, — сказал Лепид. — Звучит не очень хорошо.
— Хорошо, — сказал я. — Когда ты Цезарь, и у тебя политика милосердия, и все такое. Но Цезаря нет как раз из-за нее. Мы-то уж вычистим всех, кто нам мешает, заранее, а их деньги пустим на всякие разные благие дела.
Я очаровательно улыбнулся, чем напугал Лепида. Он вздохнул.
— Вот что звучит еще хуже — твои оправдания.
Я пожал плечами.
— Идеи получше? Может, отправим их всех на Луну? Или что?
Октавиан и Лепид молчали.
Я сказал:
— Лично мне не улыбается умереть от ножа какого-нибудь мудачка с республиканскими принципами.
— Или не республиканскими, — сказал Октавиан. — У тебя много врагов, Антоний.
— Теперь на одного меньше, — сказал я.
— Я никогда не был твоим врагом. Но факт остается фактом.
— Факт остается фактом, — повторил я. — Так что мы думаем об этом?
Они снова замолчали. Я засмеялся.
— Ну, ребят, это не дело.
Наконец, Октавиан сказал:
— К сожалению, это похоже на необходимость. Мы не сможем сражаться с внешним врагом, пока у нас столько врагов внутренних.
— Лепид, — сказал я. — Давай-ка мы не будем тебя долго уламывать. У нас еще есть, что обсудить.
— Наверное, — сказал Лепид. — Вы правы. В этом есть смысл, учитывая масштаб действий, которые мы затеяли. Недовольных будет много.
— Недовольных всегда много, — сказал я. А подумал: но еще есть просто богатые.
Многие люди в моем списке ничего мне не сделали, я просто знал, что они обладают деньгами, в которых я нуждался. Грабеж средь бела дня, конечно, но что поделаешь, война — дорогое удовольствие. Мне нужно было платить моим солдатам. Даже самые верные ребята не станут воевать бесплатно. И это при том, что армия моя все росла.
История с проскрипциями — это снежный ком. Обстоятельства давят все сильнее, а убийство кажется легким выходом. Все больше убийств, все больше денег, все больше убийств.
Но самые первые списки, да, писать было тяжело. Мы спорили до хрипоты. Дело было очень ответственным. В конце концов, далеко не каждый день судишь, казнишь и милуешь. И не каждая закорючка на папирусе обрывает чью-то жизнь.
Моя детка говорит частенько, что больше всего во власти ей нравится то, как ее слово превращается в действие, как оно становится материальным — это волшебство.
Да, волшебство. Слово становится частью материального мира, слово уже не просто слово, оно воплощается, будто заклинание.
В тот последний день мы творили очень злую магию.
Я прекрасно знал первого человека, которого собираюсь подвергнуть ее воздействию.
Прошло очень много лет со смерти Публия, но я ничего не забыл. Наверное, Цицерон думал в свои последние минуты о том, что зря писал эти свои филиппики. А, может, наоборот, что они того стоили. Не знаю. Знаю только, что дело не в них.
Я долго ждал момента, чтобы отомстить Цицерону за смерть нашего с тобой отчима. Я ждал этого момента ровно двадцать лет, на тот момент — половина моей жизни.
И вот тень моего отчима, наконец, воззвала меня к безжалостной мести.
За Цицерона мне пришлось побороться. Октавиан очень не хотел убивать его.
— Он может нам пригодиться, — говорил Октавиан, в запале вдруг раскрыв свою истинную натуру. — Он может влиять на сенат!
— Глупости, — отвечал я. — Ты не можешь контролировать Цицерона. Она слишком умен и талантлив. Он тебя съест, вот и все. От таких умных надо избавляться!
— Но это огромная потеря для Республики!
— Для Республики большая потеря — сама Республика!
— Что ты имеешь в виду? Республика никуда не денется!
Я пожал плечами.
— Номинально, конечно. Но Цезарь хотел чего-то другого, чего-то нового. И ты хочешь. И я хочу. И даже Лепид. Может быть.
— Цицерон необходим для…
— Брута и Кассия! — сказал я. — Вот уж кому он действительно необходим. Давай лишим их такого хорошего союзника.
В конце концов, Октавиан сдался. Часа два я уговаривал его, еще час полировал свои уговоры заверениями в том, что Октавиан не пожалеет о решении, и только потом, наконец, получил удовольствие от надписи на куске папируса: Марк Туллий Цицерон.
Взамен Октавиан потребовал от меня смерти Луция Цезаря, нашего с тобой дядюшки, который когда-то тоже требовал казни для Публия, помнишь ли ты об этом?
Он познакомил маму с Публием, но он же и голосовал за то, чтобы его удавить. И хотя кое в чем дядюшка мне помог (например, на его попечение я оставлял Рим во время бунтов в Кампании), я никогда не забывал зла, которое он причинил Публию.
Октавиан думал, я буду ломаться, как целка. Он не понимал моих истинных мотивов.
Я сказал:
— Договорились. Луций Цезарь за Цицерона.
Октавиан так и открыл рот. Если бы он знал, что стоит за моими действиями, я был бы ему понятен. Однако в его голове я был безжалостным ублюдком, и к списку моих грехов добавилось также согласие на убийство собственного дяди.
Что касается Лепида, он отличился особенно, внеся в списки собственного брата. Можешь себе представить? Не знаю уж, что у ребят было так сложно, я не интересовался. Как думаешь, Гай внес бы в списки нас с тобой? О, с него бы сталось.
В любом случае, списки завершили наши переговоры, и мы пришли к консенсусу или хотя бы к его видимости.
Наконец, дело было сделано, и мы стали компанией на троих для привидения государства в порядок. Сначала так же, как когда-то Помпей, Цезарь и Красс, а затем и официально (первые, как ты помнишь, свою власть никогда не подтверждали документами, мы же пошли дальше).
Ты спрашивал, как много людей мы убили вот так? Очень много. Более двух тысяч, в конечном итоге, хотя изначально списки были меньше. И как я спал, зная, что им подписан приговор? Я спал сладко. В ту ночь я, засыпая на своем ложе в душной палатке, сквозь полусомкнутые веки смотрел на Октавиана. Он водил лазерной указкой по потолку, играясь с красной точкой. Я все ждал, когда он заснет, мне не хотелось засыпать, пока не спит он.
Но я не дождался, Октавиан все следил за путешествиями красной точки, а я уже проваливался в сон. О чем он думал тогда? Не знаю. Мне это почему-то особенно интересно.
А мне снился Публий. В каком-то очень простом и приятном сне. Мы сидели на берегу моря и закидывали в него сети. Почему-то так близко к берегу попадалась отличная рыба.
— И зачем люди выходят на лодках в море? — спросил я. — Если у берега можно поймать таких красивых краснобородок.
— Не знаю, — ответил мне Публий. — И никто не знает. Людям просто нравятся лодки.
— Потому что они красивые?
— Потому что они иногда тонут, — с легкой улыбкой ответил мне Публий. Давно уже я не видел его во сне так ясно. Публий сказал мне:
— Ты так вырос. Скоро ты станешь старше меня.
— Но я тебя не забуду, — ответил я. — Ты же знаешь это?
— Я больше ничего не знаю.
Песок казался золотым, и вдруг я осознал, что это правда — не только цветом, но и всем остальным он был — золото. Публий потянул сеть и вытащил на золотой песок девятнадцать краснобородок разом. Я не считал их, но мне в голову пришла эта цифра — девятнадцать. Ты знаешь, такое бывает во сне.
— Я так скучал по тебе, — сказал я. — И скучаю. Мне нужен совет.
— Какого рода совет? — с готовностью откликнулся Публий. — Марк, ты так похож на меня, и в то же время ты на меня не похож.
— Как так? — спросил я.
— Так что за совет? — спросил он.
— Я собираюсь убить очень много людей, — сказал я. — И забрать их деньги.
— И что же ты хочешь от меня?
— Чтобы ты сказал, поступаю ли я правильно? Я не хочу ошибиться.
— Глупо не хотеть ошибаться. Ошибки — часть жизни, — ответил Публий. — В том числе и фатальные ошибки. А ты никогда не был добрым мальчиком.
— А ты?
— И я, — сказал Публий. — С политической точки зрения ты, безусловно, прав. А есть ли другие точки зрения? Дай себе труд подумать, что было бы, если бы ты не сделал этого, и ты найдешь ответ.
— Надо велеть кухарке приготовить на ужин краснобородку, — сказал я.
— Моя любимая рыба, — ответил Публий с улыбкой. — Сладкая и без мерзкого привкуса. Единственная рыба, которую я могу есть.
— А что было последним, что ты съел? — спросил вдруг я. Публий пожал плечами.
— Я не помню. В любом случае, это было задолго до ареста. Мне кусок не лез в горло.
— Бедный ты несчастный, — сказал я искренне. Публий сказал:
— На краснобородок налип песок.
— Теперь они красивые.
— И правда.
Я сказал:
— Прежде, чем ты уйдешь, давай посидим.
Мы сели рядом прямо на золотой песок. Я вдруг почувствовал, что Публий и вправду здесь. Не фантом какой-то, не тень самого себя, а Публий, мой отчим, умерший много-много лет назад. Мне стало легче от этого знания.
— Душно, — сказал я. — Очень душно.
— В палатке жарко, — ответил Публий. — Ты уснул от духоты, но жара не дает тебе упасть в самый глубокий черный сон.
— Может, это и хорошо, — сказал я.
Публий вытянул ноги, и синие волны облизали его сандалии. Я сказал:
— У меня такая хорошая жена. Хорошая не в общепринятом смысле, конечно, а для меня лично. Мы друг друга очень любим. У нас вот в том году родился второй сын. Она с самого начала была уверена, что сын. Еще у меня дочь — от предыдущей жены, живет с ней, мы так решили. И падчерица есть, и двое пасынков. Огромная семья. Ты был добрым ко мне, и я стараюсь быть добрым к ним. А знаешь, как я круто наебал Лепида?
— Не сквернословь, Марк, — сказал Публий. — В этом нет нужды.
— А в чем есть нужда? — спросил я.
— Нужда бывает в деньгах и в сирийских проститутках.
Мы засмеялись, потом я сказал:
— Мне нужно столько всего тебе поведать про то, как я живу. Я улыбаюсь, не показывая зубов.
— Молодец, — сказал Публий. — А чем ты увлекаешься?
— Едой, — ответил я. — И бухлом тоже.
Публий сказал:
— Еще больший молодец.
— Мне тебя не хватает. Он убил тебя, но теперь уже я его прикончу.
— Это и есть жизнь, — сказал Публий.
И тут я проснулся. Лепид храпел, Октавиан все вертел лазерную указку, а я был потный и чем-то опечаленный. Вроде бы увиделся с Публием, ощущение было столь точным, хоть и абсурдным, увиделся, а только большее пришло понимание, что ушел он безвозвратно.
Я лежал в темноте и тяжело дышал.
Вдруг я подумал: люди, что решают судьбу целого мира, спят вот так в одной маленькой палатке, словно молодые солдатики (эта ассоциация была логичной) или дети, отправившиеся в поход. Скорее даже дети, отправившиеся в поход.
Наверное, я подумал об этом, потому что как-то раз мы ходили в поход с Публием: ты, я и Гай, и вот мы ушли далеко в лес, в совсем безлюдные места, и сделали привал у озера, столь чистого, что, казалось, оно наполнено не водой, а каким-то жидким воздухом.
Публий учил нас обращаться с палатками, разводить костер и охотиться. А ночью мы спали вот так же: Гай не мог уснуть, ты сопел, а я проснулся от какого-то сна, которого уже не помню, посреди темноты. Гай вертел что-то в руках, и я смотрел на этот предмет, которого теперь не помню тоже.
И сейчас: Лепид храпит, Октавиан щелкает указкой, а я проснулся ото сна, и все мы в палатке на маленьком островке посреди большой воды.
Только теперь все вокруг принадлежит нам не в том смысле, в котором мир принадлежит любопытным детям, а в самом прямом. Как можно стать властителем мира и спать вот так, совершенно нелепо.
Вдруг Октавиан повернулся ко мне. Его ложе было напротив, ближе к выходу. В слабом свете луны, пробивавшемся сквозь щель, лицо Октавиана было совсем белым, а глаза блестели.
— Кошмар? — спросил он. Ощущение нереальности происходящего усилилось. Точно так же спросил меня тогда, давным-давно, Гай.
Я сказал:
— Ага, — точно так же, как сказал это Гаю. Я чуть было не добавил то, что сказал Гаю потом:
— Но все в порядке, тощая мразь.
Однако язык вовремя остановился. Октавиан сказал:
— Это от жары.
— Точно.
Вдруг Октавиан спросил:
— Ты веришь?
Я сказал:
— Не очень. Все это обычно происходило далеко от меня. Только после смерти Цезаря началось, и то — масштаб не тот.
— Да, — сказал Октавиан. — Я тоже не верю. Все так изменилось. Но я знаю, куда себя деть.
— В отличие от меня, — сказал я.
— Ты теперь тоже знаешь. Все уже определено, Антоний. Наша судьба — она определена. Ты любишь играть в кости?
Октавиан обожал играть в кости. Одно из немногих занятий, в которых он проявлял искреннюю страсть.
— А то, — сказал я.
— Я спросил из вежливости. Это я о тебе знаю.
— Из филиппики?
— Нет, от Цезаря.
Я хмыкнул.
— Так вот, — сказал Октавиан. — Я придерживаюсь мнения, что бросок ничего не решает. Результаты всех твоих бросков определены заранее, а не определяются в момент этого самого броска. Мы сейчас бросаем кости, Антоний, и думаем, что действуем на ощупь. Но результат уже есть. Он уже есть на сто лет вперед. То, чем все закончится, уже определилось сегодня, мы этого просто еще не знаем. Но от этого звена пойдет цепь событий, которые приведут нас к финалу. Все поступки такие, но результат может быть малозначимым. Сегодня же мы совершили бросок с великим результатом.
— Ты знаешь его? — спросил я. Октавиан потер лоб. Звезды, кони и стрелки на его часах светились фосфорическим зеленоватым светом. Я попытался увидеть, который сейчас час, но не разглядел.
— Нет, — сказал Октавиан. — Самое удивительное, что я не знаю. И ты не знаешь. Мы это делаем, и мы ничего не знаем. Знают лишь боги. Но важна решительность.
— Красиво говоришь, — сказал я.
— Я верю в судьбу, Антоний.
— Это хорошо, — сказал я. — Помогает в жизни. Многое переносится легче, если веришь в судьбу.
— И я верю в свою судьбу.
— Ага, я тоже в свою судьбу верю.
— И в твою судьбу я верю тоже. И в судьбу Лепида. Теперь они связаны так крепко. Остается лишь ждать результата нашего броска.
Я не знал, что ответить. Октавиан был со мной очень откровенен. Думаю, более искренним он не был никогда. Не то чтобы вообще, но конкретно с великолепным Марком Антонием. Тот наш разговор я высоко ценю и до сих пор.
И тогда я сказал ему:
— Спасибо.
— Не за что, — ответил Октавиан. — Я подумал, ты меня поймешь.
И я ощутил, что да, я его понял.
— Точно, — сказал я. — Твои слова отзываются в моей душе.
— Это хорошо. Тогда ты поймешь также и все, что будет происходить дальше.
Имел ли Октавиан в виду что-нибудь зловещее? Я не думаю. Но отсюда, из нынешнего моего положения, звучит весьма зловеще.
Октавиан сказал:
— Спокойной ночи, Антоний. Спать осталось недолго, нам еще надо кое-что обсудить, и мы покинем этот островок с готовыми ответами почти на все вопросы.
— Да, — сказал я. — Спокойной ночи, Цезарь.
В первый и в последний раз я назвал его так. Потому что он, о да, был в этот момент очень на Цезаря похож.
Октавиан отвернулся и натянул одеяло на голову. Я зевнул и понял, что, конечно, смогу поспать еще.
По возвращению в Рим первым делом я, естественно, направился к Фульвии. Мне не терпелось посмотреть на младшего сына. Он родился через пару дней после моего отъезда, а, как ты помнишь, осада Мутины стала очень долгим приключением.
Фульвия кинулась мне на шею.
— Любимый мой! О Юнона, спасибо, что сохранила его!
— Да ладно тебе, — сказал я. — Успокойся, ты же знаешь, я из любой ситуации выпутаюсь.
Малыш Юл был, как мне показалось, очень на меня похож. Но он меня испугался.
— Да ладно тебе, Юл, — сказала Фульвия. — Этот мужик — твой папаша. Он неплохой, если уметь правильно его употреблять.
— В малых дозах, — сказал я. — Как лекарство. А он неплохо ходит.
— Неплохо убегает. Пугливый мальчишка.
— С возрастом это пройдет.
— Антилл таким не был, Клодий таким не был и Курион таким не был, — сказала Фульвия. — Думаешь я не узнаю трусливого мальчишку?
— Он не может быть трусливым с таким отцом. Это тактическое отступление.
— Как из-под Мутины?
— Закрой рот, женщина.
— Ты не представляешь, чего мне стоило поддерживать твое имя здесь. Тебя хотели объявить врагом народа!
— Теперь я его лучший друг.
Вечером она все крутилась перед зеркалом.
— Сиськи болят, — сказала она. — Но красивые. Тебе нравятся? Скоро перестану его кормить, так грустно.
— Ага, — ответил я. — Во всяком случае, они у тебя снова есть.
— А скоро их опять не будет.
Фульвия, несмотря на возможности и приличия, никогда не прибегала к услугам кормилиц.
— Слушай, — сказал я. — Роди-ка ты мне дочь.
— Это по заказу не делается. А вдруг опять пацан?
— Ну очень надо, — сказал я. — Старшую дочку я уже обещал отдать за сына Лепида. Мне бы породниться с Октавианом.
— А чем тебе не подходит Клодия? — спросила Фульвия, продолжая рассматривать себя в зеркале. — Она хорошая девочка. Октавиан, конечно, мелкий козел, но первый брак редко бывает по любви. Кроме того, с ней не надо будет ждать, пока она вырастет. Вот только немного подрастет, и их поженим.
Было решено, и, когда она достигла соответствующего возраста, мы отдали Клодию за Октавиана. Как ты знаешь, он вернул подарочек нераспечатанным.
Я вдруг понял, что готов жить с тем, что щенуля будет крутиться рядом. Может, мы с ним не так уж сильно отличаемся. Во всяком случае, я мог подавить свою неприязнь. Не очень сложно оказалось сотрудничать с ним, тем более, что пока наши цели действительно были, если не одинаковы, то схожи.
Да, кровь. Крови было много.
Что касается Цицерона, милый друг, то ты помнишь, как мне доставили его голову и руки. Я выступал перед народным собранием. Темой были, если я не ошибаюсь, грядущие выборы магистратов.
Я был в ударе, говорил громко, и голос мой разносился далеко. Люди, для которых я снова был героем после всех головокружительных маневров, которые предпринял, слушали меня, смотрели на меня, и я думал, что уже не могу быть счастливее.
Народная любовь, вот что главное в жизни. Любовь этого многоглазого, многоликого, многорукого существа. Ничто не сравнится с этой любовью, и ничто не ранит сильнее, чем ее потеря.
В любом случае, по-моему, речь вышла отличная, но прервать ее было не жаль. Солдаты принесли мне оранжевую термосумку, и, еще не открыв молнию, я уже понимал, что увижу там, сердце зашлось радостным биением в предвкушении.
— Минуту, друзья! — крикнул я, не умея сдержать свое огромное, рвущееся из души чувство. Я открыл термосумку и увидел в ней голову и две руки. Сперва я поднял за волосы голову.
Знакомое лицо, только чуть изменившееся. А какой ровный срез! Я засмеялся, как ребенок, и принялся рассматривать дорогой подарок.
Черты Цицерона вдруг утратили характерную нервозность — никакой мимики, и оказалось, что этому человеку присуща даже некоторая благородная, тяжеловесная степенность. Вечная борьба лицемерия и воинственной язвительности завершилась. Был покой. Губы — синие, синяки под глазами — желтые, рот приоткрыт, и видно серые зубы, ресницы кажутся длиннее, чем прежде, их тени пролегают далеко. Цицерон выглядел моложе своих лет. Должно быть, дело было в отсутствии его грузного тела. Я потер его характерную залысину, сильно Цицерона уродовавшую.
— Ну, привет, красавчик! — сказал я, содрогаясь от радостного смеха. — Теперь казням конец!
Впрочем, на самом деле конца им не было.
Важно другое! Публий был отомщен, и все закончилось. Я был хорошим сыном, пусть через столько лет, но душа Публия могла теперь на полях Плутона ощутить облегчение по смерти своего убийцы.
А сколько оскорблений я снес? Вспоминались мне цитаты из филиппик, разрозненные, всплывавшие резко, будто картинки в голове перед сном.
Волосы были жесткие на ощупь. О, это странное свойство мертвой плоти. У животных и у людей шерсть становится одинаково тусклой и одинаково грубой. От кожи головы, близко к которой я сжимал волосы Цицерона, шел холод мертвой плоти. Очень приятный холод. Прохлада.
Я взглянул на небо и громко возблагодарил Юпитера за то, что мне удалось увидеть. Солдаты переглядывались. Они ожидали, что я увеличу награду, и я это сделал.
— Ребята, — сказал я. — Я приглашаю вас в гости, там я награжу вас так, как вы и не ожидали, даже самые оптимистичные из вас. Но для начала, вот что.
Я опустил голову обратно в термосумку и достал руки. Тут срезы были грубее. Здесь уже явно рубили мертвое тело. Этим я был доволен чуть меньше, мне хотелось, чтобы Цицерон увидел, как его плоть распадается. Я бы хотел, чтобы для начала они отрубили руки. Но что поделаешь? Если хочешь сделать что-то хорошо, как говорится.
Я не мог перестать смеяться, мне было так хорошо — счастливейшее воспоминание, столь мощное, что и сейчас я улыбаюсь.
— Прибейте-ка его руки куда-нибудь, скажем, на ростральную трибуну. Да? Да, это смешно, потому что он оратор! Это хорошая шутка!
Я взял руки Цицерона и долго разглядывал их, запомнил все линии на ладонях, крохотные шрамики, волоски на пальцах, синие ногти — все-все.
— Возьмите здоровые такие гвозди, — сказал я. — И вбейте их в кости. Пусть висят долго, даже когда плоть слезет. Клянусь Геркулесом, я счастливее всех в этом мире сегодня, мальчики. И я вознагражу вас за это!
Я повертел руки в руках, так сказать, а потом вернул и их в термосумку.
Я долго смотрел, как руки Цицерона прибивают там, где он так любил выступать при жизни. Никогда я так не жалел о том, что мертвые бессловесны.
Что касается головы, ее я с радостным мальчишечьим смехом подкидывал вверх, как мяч, и ловил. Иногда на землю падали какие-то красные, вязкие сгустки. Фульвия сказала, что эти сгустки (позже они украсили и мой дом) похожи на то, что покидает тело женщины при лунных истечениях. Я это счел очень-очень забавным.
— И как это было? — спросил я у солдат.
Один из них ответил, что Цицерон принял смерть с достоинством.
Я сплюнул.
— Главное, что он ее принял. Интересно, у него мозги через нос потекут? Это вполне возможно. Я буду трясти его голову каждый день.
Думаю, солдаты, по крайней мере, некоторые из них, испугались той безумной радости, которую я демонстрировал.
Я сказал:
— И термосумку я оставлю. Голова исчезнет, с нее слезет плоть, а черепа все похожи. Но сумка останется. И я буду помнить, что в ней была голова. Прекрасно! Прекрасно!
Дома я поставил голову на обеденный стол. Я ел за ним вместе с солдатами, потчевал их самыми прекрасными и изысканными яствами, что были в моем доме, а потом вознаградил суммой в десять раз больше обещанной. Так что, думаю, с моим эксцентричным поведением они, в конце концов, смирились. Во всяком случае, мы посидели весело, и солдаты рассказали, в каком жалком состоянии нашли его.
Оказалось, они перерезали ему горло.
— А я думал, — сказал я. — Отсекли голову наживую. Такой срез хороший. Работа! Впрочем, так даже лучше. Он успел понять, что умирает.
— Он сам, — сказал мне один из исполнителей это прекрасной трагедии. — Подставил шею мечу.
— Похвально, учитывая его трусость, — ответил я, ломая хлеб и глядя на Цицерона. Я поставил его голову так, что взгляд его, будь глаза открыты, обращался бы прямо ко мне. Я протянул руку и постарался оттянуть его веки и обнажить глаза, но они оказались так неподатливы. Старый мудак зажмурился.
— Страшно? — спрашивал я. — Страшно тебе? Теперь тебе страшно?
А как же Публий? Разве не было ему страшно, когда на его шею накинули удавку?
Разве не было у него любящих его людей, с которыми он хотел бы проститься?
Я также расплатился сполна с Публием за то, что частенько прилюдно признавал его дело неправым, а измену действительной. Говорил я Цицерону, что считаю поступок Публия непростительным, лишь казнь слишком сурова, но поступок, да, поступок плох.
Нет, думал я, не считаю, я хер положил на твою Республику. И, в конце концов, я ее уничтожу, как уничтожил тебя.
— Отжил! — провозгласил я. — Отжил, бедняга! Бедный, бедный мой дружочек!
О, как я был счастлив. Знакома ли тебе радость от вещи, давно желаемой и, наконец, полученной? Так радовался я, к примеру, новому плащу или золотой фибуле, или какой-то еще штуке, вот что важно, просто штуке, просто вещи. Мне хотелось носиться с этой головой, показывать ее всем желающим и никогда с ней не расставаться. Как не хочется расставаться женщине с украшением, так мне не хотелось расставаться с головой злейшего врага.
Так что, как ты понимаешь, когда вечером мы всей семьей сели ужинать, голова Цицерона все еще была на обеденном столе. Я запретил ее убирать.
Фульвия сказала:
— Думаешь, это подходящее зрелище для детей?
А я, рассадив выводок, провозгласил:
— Дети, этот человек убил вашего дедушку. Отчима вашего отчима и отца. Сегодня у вас радостный день, ягнята. Вы должны со всем уважением отнестись к этому празднику в нашей семье.
Дети сидели притихшие, только Антилл радовался, потому что радовался я. Ему было только три года, и он не понимал, что такое смерть, и почему эта голова так пугала его единоутробных братьев и сестру.
Некоторое время все молчали. Фульвия закатила глаза, вздохнула, потом сказала:
— Слушайтесь папу, ребята. Ешьте.
Я сказал:
— Завтра я велю рабам купить вам подарки. Заказывайте мне, что угодно.
Клодий с готовностью сказал:
— Хочу игровую приставку!
— Приставку так приставку, понял тебя! А ты что хочешь, Курион?
— Я хочу голубей белых, — сказал Курион. — Чтобы я их запускал, а они возвращались.
— Без проблем, малыш, отличных тренированных голубей. Да хоть коня.
— Тогда коня!
— Ты совсем, как твой папка! Он всегда ловил меня на слове!
— Так конь будет?
— Точно как папа!
— Будет ли конь?
— Тебе пять лет, будет только жеребеночек. Такой, как ты. А ты, Антилл, что ты хочешь?
Антилл помолчал и с детской непосредственностью, чтобы порадовать меня, выдал:
— Я хочу играть этой головой во дворе.
— Только не сломай, — сказал я. — Завтра! А настоящий мяч хочешь?
— Хочу!
Фульвия держала на коленях Юла и кормила его кашей, покачивая перед ним ложку, чтобы его развлечь.
— И купи Юлу погремушку, — сказала Фульвия. — Он от них в восторге.
Я любил наблюдать за Клодием и Курионом. Нет-нет, да и проявлялись в них, едва знавших свои отцов, их повадки, которые, я думал, уже исчезли. Ан нет! У Клодия была та же зубастая улыбка, те же резкие, дерганные движения, те же глаза и те же яркие веснушки, что у его папаши. Куриону достались от отца кривые зубы и черные кудри, и внушительный уже для его пятилетнего возраста, нос, и он рос совершенно таким же болтливым всезнайкой.
Внешность, конечно, дана природой, но больше всего меня удивляли характеры. Это забавно, учитывая, что Куриону, вот, на момент смерти отца было что-то около года.
Антилл, к примеру, жизнерадостен, как я, но с ним понятно, от кого он этого понабрался. Юл обладает моей тягой ко лжи, хотя он спокойней и робче. Но больше всего характером походит на меня Селена, наша с царицей Египта дочь.
Клодий спросил:
— А правда, что папа тоже ненавидел Цицерона?
— Сильнее, чем любого другого злобного богатея на земле, — сказал я. — Клодия, детка, а ты что не ешь? Все остынет!
Клодия, ужасно похожая на Клодия внешне: золотистая, сверкающая, с прекрасными, яркими карими глазами девчонка, была нежным и милым цветком, характером не пошла она ни в мою неистовую дурочку Фульвию, ни, тем более, в одержимого страстью к разрушению Клодия.
Она вздохнула, но ничего не ответила. Глаза у нее сверкали от подступивших слез, губы были сжаты. Клодию, девочку, пожалуй, голова на обеденном столе пугала больше всего.
Девочки тоже бывают маленькими убийцами, конечно, но куда чаще они нежны и чувствительны.
Хотя вот Селена, да, она маленькая убийца, в ней дурное семя, сделавшее меня, дядьку и Гая такими кровожадными проявилось сполна.
— Клодия, малыш, — сказала Фульвия. — Все в порядке, дядя мертвый. Он тебе ничего не сделает.
Клодия отвернулась и прижала руку ко рту, в неверном свете перламутрово заблестела ее заколочка со смешной кошкой.
Я сказал:
— Клодия, милая, если ты все съешь, мы завтра поедем в город, и я куплю тебе сладкую вату.
— Розовую? — спросила она.
— Самую розовую, которую найдем.
Я глянул на голову Цицерона, вздохнул.
— И амулет с благовониями?
— И амулет с благовониями, — сказал я. — Только не мори себя голодом из-за этого мерзкого человечишки.
— Клодия, у папы свои причуды, сама знаешь, — сказала Фульвия. — Ешь и не куксись.
Клодия вздохнула снова.
— Ну-ка веселее, малышка.
— Только не возьми эту голову в руки и не…
Но Фульвия не успела договорить. Я схватил со стола голову Цицерона, с трудом разжал его челюсти (что-то хрустнуло) и начал говорить голосом, удивительно точно копировавшим голос Цицерона:
— Страшная потеря для всего римского народа! Страшная! Кто теперь присмотрит за нравами, которые все более приходят в упадок и демонстрируют разрушительные тенденции. Головы на обеденном столе! Какая глупость и дерзость! С этой безвкусицей могут поспорить только обжорство и растраты. Эти люди совсем уже потеряли совесть и стыд, они столь ненасытны, что просто смерти противника им уже недостаточно. Более того, смерть больше не портит им аппетит, и ай!
Фульвия схватила Цицерона за ухо.
— Мне больно, дамочка! — заверещал я. — Отпусти-ка меня! Ты вообще знаешь, кто я такой?
Мальчишки захохотали, а Клодия только еще раз вздохнула.
— Папа, — сказала она.
— Ну разве не смешно?
— Немножко смешно.
— Она имеет в виду, — сказала Фульвия. — Что ты сумасшедший.
— Просто эта голова плохо пахнет.
— А знаешь, кто еще плохо пахнет? Старые сенаторы. Но я же терплю!
Клодия снова вздохнула и, наконец, взялась за ложку.
— А можешь еще что-нибудь сказать за голову? — спросил Антилл.
— Это смешно только для взрослых, — сказала Фульвия. — Да и то не для всех.
После ужина, когда рабы уложили детей, Фульвия еще долго сидела за столом. Она раскрыла Цицерону рот, вытащила язык и тыкала в него булавками.
— Какой длинный, — сказала она.
— А ты как думала? — хмыкнул я. — Тот еще язык.
— Он называл меня шлюхой, — сказала Фульвия задумчиво. — Даже странно. Ты же не будешь держать здесь эту идиотскую голову?
— Это очень умная голова, — сказал я. — Справедливости ради.
— Но выброси ее все равно, или давай скормим твоим львам?
— Нет, — сказал я. — Будет стоять здесь, пока не истлеет.
— Тогда я здесь есть не буду. Буду возлежать с тобой и твоими дружками, как шлюха. Как думаешь, что будет если воткнуть ему иголку в глаз?
— Ничего, — сказал я. — Совершенно ничего.
— Хочу воткнуть ее в зрачок. Говорят, зрачок это дыра, и так черно у нас в голове.
— Ну, — сказал я. — У тебя в голове точно черно.
Вот так вот. Ты и сам был у меня дома и помнишь, что эта голова стояла еще долгое время на положенном ей месте, а потом Фульвия тайно выбросила ее, из-за чего мы очень сильно поругались.
Что касается нашего дяди, Луция Цезаря, с ним вышло не так хорошо. Скажешь, что не желал его смерти? Охотно верю.
А я желал, поскольку когда-то он желал смерти Публия. Только я в нашей семье был одержим местью за отчима, вы меня не слишком хорошо понимали. А я и сейчас думаю, что я прав.
Так вот, старый хрен еще не все мозги свои изжил. Когда солдаты уже почти настигли его, он продемонстрировал быстроту зайца и хитрость лисицы, прибежав к маме. Не знаю точно, что у них там за разговор получился.
Во всяком случае, мама не пустила солдат в дом, сказав, что все это выйдет у них только через ее труп. Ее трупа они, естественно, пытались избежать.
Вскоре после этого мама прислала мне письмо с просьбой прийти на помощь. Как я понимаю, она считала попадание дядьки в список какой-то ошибкой.
Но, когда я пришел, мне, как я ни старался, не удалось солгать. Материнское сердце увидело правду. Стоило мне появиться на пороге, как она сказала:
— Да это ты его туда внес! Ты внес туда своего родича! В этот убийственный список!
Мама закрыла лицо руками и заплакала.
Я сказал:
— Мама, пожалуйста, успокойся. Все получилось не очень удобно. Он изменник, он ведь когда-то…
— Он изменник? — спросила мама, перебив меня. — Не потому ли, что когда-то выступал против Публия?
Я промолчал. Мама сказала:
— Я поняла тебя, Марк. Но я буду укрывать его, потому что он мой родич. И не позволю тебе пролить кровь родственника. Впрочем, если хочешь, давай. Но за это ты страшно поплатишься. Придется тебе пролить и материнскую кровь. Я укрываю врага, а значит тоже повинна в его преступлениях, и по закону меня надлежит предать смерти вместе с ним. Я не перестану укрывать его, Марк. Я спрятала своего брата, и тебе придется подвергнуть меня допросу, чтобы узнать, где он.
То же самое она повторила позже на Форуме, что сделало положение уж совсем неловким. Наконец, я помиловал дядюшку Луция, без особой на то охоты.
Пришлось, так сказать, уступить общественному мнению.
Потом я пришел к матери еще раз. Она пустила меня в дом, но тоже безо всякой охоты. Казалось, я совершенно ей чужой.
Мы сидели в атрии, и мама смотрела на сад.
— Красиво тут, — сказал я.
— Мне холодно, — сказала она.
— Так пошли в дом.
— Не хочу.
Женщины! Странное племя!
Я сказал:
— Мама, понимаю, как ты злишься. Но я уже простил Луция.
— Помиловал, не простил. Прощал ли ты хоть кого-нибудь?
— Да я постоянно всех прощаю!
— Ты только милуешь, словно восточный царек, — сказала мама. — Но у тебя злая натура.
Как говорил великий Цицерон: и зачем твоя мать родила такую пагубу?
— У меня не злая натура, мам!
— Ты обрек на смерть столько людей! Я могла спасти лишь одного, а должна была спасти тысячу!
— Большинство из них всякие разные подонки.
И мама посмотрела на меня, нахмурив брови. А ты, мол, кто? Одно меня утешало: я не был хуже Гая.
Или, может, уже был? Гай как-то угандошил мою собачку, а потом свою девочку. Но и все на этом, не считая войны, где убийство нормально и естественно, Гай больше никого не погубил.
А скольких погубил я? Этих нельзя сосчитать.
Так с чего же я думаю, что самый плохой у нас Гай? Тощая мразь, конечно, человек своеобразный.
Но главная пагуба это, в конечном итоге, я.
Вот такая вот финальная правда о нашей с тобой семье. И у меня никакой страшной болезни не было, ничего особенно ужасного я не перенес, наоборот, счастливый и беззаботный ребенок, я был всегда собой вполне доволен. Что же пошло не так?
Думаю, этим вопросом и задавалась мама.
Как умудрилась эта добрая, нежная женщина родить такую пагубу? Впрочем, что за вопрос, учитывая, что она продолжила не чей-нибудь там род, а наш прекрасный, идущий еще от Геркулеса, род первосортных мудил.
И все-таки ей было чуждо и непонятно все во мне, и чем дальше, тем больше.
Некоторое время мы сидели молча. Я тоже не знал, что сказать. Мне было странно и муторно, и я чувствовал себя заболевшим.
Наконец, мама повернулась ко мне и почти выкрикнула:
— Это все ты! Все ты, Марк! Ну почему ты такой?
Вопрос был задан.
Я сказал:
— Не знаю, мама.
Она очень красиво старела. Рискну сказать, что в старости ее красота стала очевидней и ярче. Есть женщины, которые в молодости не так изящны, не так степенны, не так благородны, как в старости, те, кому идут годы, и кого годы превращают в произведение искусства, будто время в их случае — талантливый скульптор.
— Тебе просто не повезло, — сказал я. — С таким сыном, как я.
Мне было тяжело это сказать. Всю жизнь я думал, что моей маме повезло чрезвычайно.
Мама сказала:
— Ты — мой вечный позор. Ты старший, ты должен быть умнее братьев, а ты только тянешь всех вас в пропасть! Что будет с Гаем? Что будет с Луцием?
— А что будет со мной тебя не волнует? — не выдержал я. И она расплакалась. Слезы текли по ее щекам и падали ей на руки, в раскрытые ладони. Мне стало жаль ее, тоже до слез.
Я обнял маму, и она вцепилась в меня. Вдруг мама сказала:
— Ты такой взрослый.
— Да, — сказал я. — Уже много лет как.
— А помню, был такой крошечный. Я удивилась, когда ты перерос меня. Это правильно, но я все равно удивилась. Ты ведь помещался у меня на руках. Смешливый и такой дружелюбный. Как легко папа всегда мог заставить тебя смеяться.
Я сказал:
— Это и сейчас легко.
Мама ответила:
— И сейчас легко. Да, наверное.
А потом мама сказала:
— Но теперь ты монстр.
Я сказал:
— Ну да.
А это ведь мама еще не знала о голове Цицерона на моем обеденном столе.
— Пьешь кровь людей, обливаешься ею. Так просто нельзя! Я виновата!
— Нет, мама, не ты! Много кто виноват, но не ты. А больше всех я сам виноват.
Мы крепко обнялись, она вцепилась в меня от отчаяния, а я в нее — от вины и стыда, заглушивших все на свете.
— Жаль, — сказала она. — Что материнское сердце не может перестать любить.
Эти слова больно ударили меня. С большей охотой я получил бы от матери пощечину.
Я сказал:
— Жаль.
И я ушел, и еще долго мы не виделись. Ты пытался нас помирить, но у тебя ничего не вышло. Не потому, что мама была зла на меня, вовсе нет. А потому, что она, напротив, была ко мне равнодушна.
Видимо, все-таки с материнским сердцем получилось договориться.
Что касается меня, я остался тем же монстром, с которым она попрощалась.
Ты помнишь меня в те времена? Я был, как любил говорить Клодий, стремноватый. Никто не вписал больше имен в список, чем я. Октавиан использовал проскрипционные списки точечно, он, так сказать, решал с их помощью свои проблемы. Что касается Лепида, он и вовсе не увлекался ими. А я наслаждался возможностью свести старые счеты и разбогатеть, не особенно разбирая, кого стоит убить, а кого можно переубедить словами или попросить о материальной помощи.
Помнишь пиры, которые я закатывал в то время на вырученные деньги? Совершенно роскошные пиры с представлениями, с реками невероятного вина и горами изысканнейших яств. Часто прямо во время этих пиров мне приносили отрубленные руки и головы, которыми солдаты подтверждали хорошо выполненную работу.
Я отвлекался от разговора и, продолжая жевать или наливаться, читал списки и рассматривал части тел, не всегда узнавая их. Да и разве я знал всех, кого повелел убить? О некоторых мне было известна лишь величина их состояния.
Частенько, разглядывая принесенные мне доказательства, я спрашивал:
— Это точно его руки?
Я вертел эти руки в руках. На всех руках были длинные линии жизни. Ах, обещания богов часто лживы.
Иногда, рассматривая руки и головы, я пытался представить их обладателей целиком. Так сказать, при полном параде.
Мне было весело. Ты, наверное, осудишь меня. И боги осудят меня, когда, наконец, я умру. Но я не хочу кривить душой, не хочу притворяться кем-то, кем я не являюсь.
И это тоже правда — правда обо мне. Мои воспоминания таковы: головы и руки лишь чуть-чуть отвлекали меня от празднеств и радостей земных. Даже придавали им некоторую философскую сладость. Близость смерти частенько укрепляет нас в живых страстях. Понимание того, что все не вечно, возвращает вкус даже тому, чем ты, казалось, пресытился.
Могу ли я сказать, что части тел убитых были приправой к моим блюдам? Определенно.
Я увлекся. Я вообще натура легко увлекающаяся.
Октавиан сказал мне как-то:
— Антоний, при всем моем уважении, ты вносишь в списки слишком много имен. Мы не должны проливать столько крови. Это просто нерационально.
Просто нерационально. Вот так вот. В этом был весь он, мальчишка со смешными часами на руке. Да, помню я тогда посмотрел на его руки. И вдруг подумал, хоть и не испытывал к нему тогда особенной неприязни, что неплохо было бы когда-нибудь увидеть их отделенными от тела.
Можно даже с этими часами.
Глупость, а все же.
— Правда? — спросил я. — Ты так думаешь, мне стоит остановиться?
— Я не стану указывать тебе, что тебе стоит делать, Антоний. В конце концов, ты старше и мудрее меня.
Октавиан улыбнулся.
— Но я хочу сказать, что мне чужда подобная кровожадность.
— А что еще тебе чуждо?
— Многое из того, что ты делаешь. Но я не хочу ссориться. Я лишь хочу предостеречь тебя. Но на твои решения влиять не буду.
— Ты будто бы моя жена Фульвия. Она говорит точно так же.
Октавиан поджал губы и промолчал.
Знаешь, что я думаю об этом? Он мог бы постараться переубедить меня, но говорил без огонька. Будто бы для проформы. Ему было важно сказать мне, что я неправ, а не доказать мне это. Жизни людей, безусловно, имели для него какое-то значение. Большее, чем для меня. Но не решающее.
И ему было выгодно, чтобы, в конечном итоге, всю ответственность за проскрипции понес я. Октавиан всегда думал на шаг вперед, и, пока я неистовствовал, он уже предполагал, как будет отвечать за наши преступления. Кроме того, однажды, и Октавиан был в этом уверен, ему понадобятся поводы обвинить меня.
Так что Октавиану не хотелось, чтобы я останавливался. Наоборот, весь этот разговор призван был меня раззадорить. Пустое занудство, которое я так не любил, и некоторое неуважение и вправду побудили меня еще активнее заняться пополнением списков.
Основной период моего неистовства пришелся как раз на время между чудесным спасением дядюшки Луция и смертью Цицерона. Я рассказал сначала о Цицероне, затем о дядюшке, но исключительно потому, что Цицерон был для меня куда значимее, и его смерть представляла собой событие величайшего масштаба.
Разумеется, после смерти Цицерона я не остановился, и это привело к гибели Гая. В конце концов, я был виноват в смерти моего брата и понес достойное наказание за свои неистовства. Я и больше никто, только я, вынудил Брута казнить Гая. Как ты помнишь, Гай попал в плен в Македонии. Но жилось ему там, судя по всему, весьма неплохо, во всяком случае, до моего припадка бешенства в Риме.
Ты прекрасно знаешь, что случилось далее, ты говорил мне, что в этом виноват я, на что я с презрением ответил, что виновата природа Брута.
— Нет, — сказал ты. — Твоя природа, Марк, она виновна и больше ничто.
Брут велел казнить Гая. Он отдал приказ не самостоятельно, а через перебежчика Гортала. Я никак этого не ожидал. Даже когда Гай пытался поднять мятеж среди солдат, пользуясь своим положением почетного пленника, Брут пощадил его. Я убедился в благородстве этого человека и когда перехватил письмо Брута, в котором он отвечал отказом на просьбы Цицерона казнить нашего с тобой брата.
Надо сказать, Брут был весьма смиренный и добродушный человек, если уж он терпел нашего Гая, который с присущей ему самоубийственной зловредностью, продолжал строить козни и в плену, не проявляя никакой благодарности за хорошее обращение.
О, тощая мразь, думал я, только бы ты не доигрался.
Но с ним все было в порядке. Доигрался я.
Когда мы узнали о смерти брата, ни один из нас не поверил. Ты помнишь этот день? Мы возлежали с тобой в триклинии. Я страдал от тяжкого похмелья. Честно говоря, вернувшись в Рим со всеми его соблазнами и богатствами, я взялся за старое. Дом Помпея снова стал больше похож на публичный дом, где я закатывал невиданные по размаху кутежи, дарил своим безродным мимам и актерам золото, давал проституткам вкушать певчих птиц и все такое прочее.
Мутина отрезвила меня, но ненадолго. Я был неисправим, а легкие деньги, которые полились рекой после начала казней, сделали мою жизнь еще более расточительной.
Я, как это говорила мама, вел себя плохо.
И думал, что никакой расплаты за это не наступит. Во всяком случае, я думал, что расплата наступит нескоро.
Знаешь, что? Я не стратег, а тактик. Это накладывает свой отпечаток. Я легко решаю задачи, которые можно решить моментально, и результат решения которых не заставит себя ждать. Мне хорошо даются быстрые и точные удары, решительные и кратковременные меры, но я не способен оценивать долговременные перспективы. Совершенно не способен — и в этом моя беда.
Если хочешь знать, мы с Октавианом были очень даже неплохой командой. Может, лучшей командой на свете. Он, напротив, стратег. Всегда думает о том, как отдастся в целом мире любое его действие.
Частенько он способен предсказывать события с точностью оракула. Однако Октавиан нерешителен и слишком много думает, а быстрота происходящих событий обычно сбивает его с толку. Он реагирует слишком медленно, а потому неэффективен во всем, что касается действий, которые нужны вот прямо-таки сейчас.
Я легко ориентируюсь в ситуации даже когда мир вокруг меня рушится, Октавиан же теряет почву под ногами и лишается всех своих удивительных способностей.
Будь щенуля чуть постарше, а я — чуть поспокойнее, мы могли бы стать невероятно успешными.
Но я отвлекся. Ты знаешь, со мной это бывает, когда тема сложная.
Так вот, Гай. И тот день, когда мы узнали, что больше никакого Гая.
Да, помню похмелье. Помню, как наливался неразбавленным вином, чтобы его снять. Эрот принес мне жирной говяжьей похлебки, я предложил ее тебе.
— Не, — сказал ты. — Я вчера не бухал. А без похмелья я есть эту гадость не буду.
— Ну ты как хочешь, — сказал я. — Вкусно, горячая, ты б попробовал.
Ты сказал:
— Так что этот придурок?
— Щенуля? Придумал еще какой-то налог.
— Ты ведь этого не одобряешь?
Я засмеялся, и смех отдался у меня в голове чудовищной болью, будто в ухо мне засунули нож и хорошенько провернули.
— Твою мать, — сказал я. — Меня сейчас стошнит.
— Вот это новость, — сказал ты. — Но ты же против?
— Да против, конечно. Хватит доить простой народ, и все такое. Я предпочитаю казнить богатых, а не облагать налогами бедных.
— Вот, — сказал ты. — Мне плевать на богатых, пусть хоть все они сгорят.
— О, кто это у нас тут такой Клодий? Может, ты его брат, а не мой?
— Марк, я серьезно.
— Серьезнее не бывает. А что когда-то иначе было?
Мы помолчали. Я сказал:
— Слушай, щенуля тот еще мудила, думаю, в глубине его жалкой душонки простой народ ему не вполне симпатичен. Однако, он не станет гнобить плебс только за то, что он, видишь ли, плебс. Это не в его характере. Ему просто очень нужны деньги.
— Всем очень нужны деньги.
— И он даже более чистоплотен, чем я.
— Но ты мой брат.
— И поэтому ты меня не осуждаешь?
— Я тебя осуждаю. Но я всегда могу с тобой договориться.
Тут вернулся Эрот. Он сказал:
— Гонец от Брута. Впустить?
— О, — сказал я. — Хочет мириться, что ли? Теперь, видишь ли, вообще все заживем. Возьмем его в трио, и у нас будет квартет.
Я захохотал, снова сквозь боль, и вдруг подумал, что еще секунда, и у меня из носа пойдет кровь. Такой я человек — не могу перестать смеяться, даже когда мне от этого плохо.
Гонец вошел на нетвердых ногах. Он был совсем мальчишкой, и выглядел так, словно всю ночь здорово волновался. Бледный, черноволосый и темноглазый, он вдруг напомнил мне Гая, не только расцветкой, этим сочетанием белого и черного, но и общим видом.
— Гай Антоний, — сказал он. — Казнен. Марк Юний Брут повелел сообщить о том его братьям.
Ты заморгал часто-часто, как ребенок, который пытается услышать учителя, но его неумолимо клонит в сон. Я сказал:
— Чего-чего? Опять слюнтяй Брут нас пугает? Да ни шиша он не сделает с Гаем! Уже проходили.
Гонец задрожал, казалось, он страшно расстроен тем, что до нас не дошло с первого раза.
— Гай Антоний мертв, — сказал он. — Марк Юний Брут велел похоронить его по всем правилам, но на македонской земле. Он также велел мне выслать тебе, Марк Антоний, карту, чтобы ты мог найти брата и эксгумировать урну с прахом, если пожелаешь. Также он велел передать тебе, что вынужден был пойти на этот шаг из-за смерти его родича Брута Альбина и его друга Цицерона.
Я не поверил, нет, никак не мог поверить. И тогда гонец повторил в третий раз. После этого я кинулся на него, повалил на пол и стал душить. Ты и Эрот принялись оттаскивать меня от этого несчастного мальчишки.
А я всего лишь хотел, чтобы он замолчал. Только этого.
Я имею в виду, я все равно не поверил ему. Я лишь подумал: говорить такие слова плохо для Гая. Если повторять это снова и снова, его и вправду могут казнить. Дурное влияние слов, так сказать.
Мальчишка успел потерять сознание, но ты меня все-таки оттащил. Эрот наклонился к гонцу и послушал его сердце.
— Жив.
— Да какая разница? — спросил я. Вдруг ты заплакал, и я заплакал тоже, не вполне еще понимая, что произошло нечто необратимое, нечто, чего нельзя ни изменить, ни исправить.
Все из-за меня. О, все всегда происходит из-за меня, сам знаешь, как я здорово умею портить все, к чему прикасаюсь.
Мой бедный брат, наш бедный брат. Как ему, наверное, было одиноко. Он, может, думал, что мы с тобой предали его. Мой бедный брат, наш бедный брат. Мы с тобой смеялись и говорили, что тощая мразь выживет везде.
Но, оказалось, при всех его удивительных недостатках и поразительной злости, ему была уготована горькая и обыденная судьба умереть пленником.
Большая печаль.
Не могу больше писать об этом и не стану.
Марк Антоний, единственный из братьев Антониев, который пока еще жив.
После написанного: как я боюсь, что в последний момент он думал о том, что мы ему не помогли.
Я так несовершенен.
Послание восемнадцатое: Алый плащ
Марк Антоний брату своему, Луцию, без пожеланий и без всего такого, что ему более не нужно.
Здравствуй, милый друг! Не буду спрашивать, как твои дела, потому что они — никак, и я в курсе этого печального обстоятельства, надо это, наконец, признать и писать тебе исходя именно из фактов. Или не писать вовсе.
Расскажу, как дела у меня. Вчера ночью мы разговаривали с моей деткой, и, знаешь, она вдруг пришла в страшное волнение. Когда моя детка волнуется, она любит расхаживать по кровати. У нее грязные пятки оттого, что она бродит по дворцу босиком. Конечно, рабы омывают ей ноги, но моя детка тут же все портит этой своей привычкой.
Я лежал на кровати, почти засыпая от выпитого, и изредка ловил ее за щиколотку, гладил косточку, на которой у моей детки родинка. Эта родинка, она есть и у Селены, и у Гелиоса и у крошки Филадельфа, наших детей. И у Цезариона, кстати говоря, тоже. Моя детка говорила, что такая родинка была и у Береники, кажется, я ее даже помню, а, может, я себе придумал, что помню.
— Семейная черта. Говорят, она идет от самого Птолемея, — сказала моя детка.
— Интересно, — сказал я. — А детям, у которых ее нет, наверняка такую наносили иглой с чернилами?
Моя детка фыркнула и легонько царапнула меня по щеке.
— Глупый бык, — сказала она. — Ты не представляешь, как чист наш род.
— Будь он так чист, давно бы выродился, — засмеялся я. — Вот, к примеру, здоровая примесь римской крови твоему роду точно не повредила.
— Это тебе не повредил священный союз с дочерью бога, — фыркнула моя детка. Какой смешной маленькой девчонкой становилась она, когда дело заходило о ее священнейшей родословной, ведущей путь по ее мнению (и согласно ее самомнению) от самого небесного Солнца.
Я смеялся над ней, и моя детка отвернулась, не желая больше разговаривать. Это забавно: ей свойственны обычные женские слабости. Удивительно даже, насколько ей они подходят.
Я уже почти заснул, как вдруг она, перестав расхаживать туда и сюда, рухнула на кровать и тесно прижалась ко мне, такая крошечная, по-кошачьи нежная.
— Ты не чувствуешь себя старым? — спросила она.
— Старым, что? О, нет!
— Это плохо. Легче умирать, когда ты думаешь, что ты старик. Я собираюсь чувствовать себя очень старой.
— Не заводи эту песню, — сказал я сквозь сон. Моя детка принялась вылизывать мне шею, она любила соленый вкус моей кожи, не знаю уж, почему. Я ни за одной из своих женщин не замечал таких странных пристрастий. Что касается моей детки — в ней всегда было нечто не человеческое. Но и не божественное. Нечто, при всем ее уме, совершенно животное. Это роднило нас. На таком уровне мы были счастливой парой двух бессловесных тварей, которые вполне устраивали друг друга в случке и в том, чтобы засыпать, греясь друг о друга, после нее.
Не будь в ней этой части, могла бы она меня полюбить? Кто знает. Не хочу об этом думать.
— Знаешь, что останется после нас? — спросила моя детка. — Много веков спустя.
— Законы? — спросил я. — Налоги? Монеты? Проигранное сражение?
Она покачала головой.
— Глупый бычок. Это исчезнет. Останется то, что Клеопатра любила Антония.
— А что еще?
— И то, что Антоний любил Клеопатру.
Я сказал:
— И это все?
— Разве этого мало? — спросила она, уткнувшись носом в жилку на моей шее. — Мы должны наслаждаться этим, ты и я. Однажды весь мир узнает о том, как мы любили.
— Девчоночьи фантазии, — сказал я.
— Разве они плохи? Не будет больше другой жизни, Антоний, не будет другой любви.
Не будет другой любви, вот что странно, это меня поразило. В череде женщин, которых я любил сильно и истово, она — последняя. Моя главная любовь, не будет другой любви.
Я сказал:
— Мне не нравится эта мысль. Теперь я захочу влюбиться снова. В Ираду или Хармион, еще не решил.
— Тебе не нравится все конечное, — сказала она.
— А разве у тебя не бывает грусти от таких вещей? Когда наступает финал трагедии, и ты понимаешь, что зрелище подходит к концу, разве не становится тебе нестерпимо грустно именно от того, что впереди финал. Не из-за судьбы, не из-за смерти, а из-за того, что все закончится.
— Это и есть смерть. Переживая ощущение конечности чего-либо, мы учимся принимать смерть. Ты не умеешь этого, глупый бычок, и оттого так страдаешь сейчас. Ты хочешь, чтобы все это, — она обвела взглядом нашу спальню, но я знал, что говорит моя детка даже не о Египте, а обо всем мире. — Никогда не покинуло тебя. Но жизнь есть жизнь, а смерть есть смерть. В конце останется только наша любовь. Я уже никому не отдам тебя, ни Октавии, ни кому бы то ни было еще. Ты будешь моим до самого конца. И люди запомнят тебя моим. Чувствуешь ли ты себя беспомощным?
Я засмеялся.
— Немножко. Но сразу хочется оттрахать тебя.
— Это правильно, — сказала моя детка. — Хорошее решение, одно из немногих наших с тобой удачных решений — оказаться в одной постели.
Мы поцеловались, и она засмеялась.
— Кстати говоря, я тут почитала твои письма.
— Нихуя себе, — сказал я, но моя детка продолжила безо всякой паузы.
— У тебя проблемы с образом отца, как ты думаешь? Я скажу тебе это, как Клеопатра Филопатор, поверь, я разбираюсь. Ты рано потерял отца и не мог с этим смириться всю жизнь, так и не повзрослел. И, тоже всю жизнь, крошка-сиротка, ты искал папу. Сначала им был Публий, потом Цезарь, но всякий раз твой новый отец оставлял тебя, и ты мстил за него — такова твоя история, она повторялась из раза в раз, и ты в ней играл одну и ту же роль покинутого сына. Представляешь, как интересно складывается?
Моя детка сказала об этом с восторгом, а я велел ей впредь не читать мои записи. На что она резонно возразила:
— Если бы ты не хотел, чтобы я читала, ты бы их прятал. Но ты хочешь, потому что тебе нужен какой-то ответ. Если не от брата, то от меня.
— Интересно, — сказал я. — Если тебе столь легко понять людей, всезнайка, как ты умудрилась так испоганить свою жизнь?
Она пожала плечами с веселым, девчоночьим задором.
— Я очень старалась. Но знаешь, что самое веселое? В этом мы тоже схожи. В Цезаре я видела отца.
— Жутковато звучит, учитывая, что ты от него родила.
— Не так жутко, если ты вспомнишь, что ты в Александрии, мировой столице инцеста, — засмеялась она. Вдруг моя детка пришла в очень хорошее расположение духа. С ней давно этого не бывало.
Сон с меня слетел, и остаток ночи мы любили друг друга.
— Может, все образуется, — сказала мне она на рассвете, а рассветы, как ты помнишь, она так не любила. — Ты, в конце концов, храбрый воин.
— Я — да. Еще какой.
— Нет, — засмеялась она. — Ты — "Хвастливый воин"! Персонаж комедии Плавта! Пиргополиник!
Я отвернулся от нее и закрыл глаза. Заснуть у меня в ту ночь так и не получилось, ее шутка пробудила воспоминания. Хвастливым воином называл меня и еще один человек — Октавиан.
Пожалуй, эта была единственная, и довольно беззлобная, его шутка, обращенная ко мне.
Так он подначивал меня по пути в Македонию. Впрочем, я говорил ему в ответ, что, когда он постареет, то непременно станет похож на Филоклеона из "Ос" Аристофана.
— Это не так плохо, как ты думаешь, — сказал Октавиан.
— Ты имеешь в виду бред сутяжничества? Ты ему вполне подвержен и теперь. Сколько ты пытался отсудить наследство Цезаря! Психически здоровый человек не выдержал бы.
Октавиан весело улыбнулся, а я все-таки знал, что попал в цель.
— Спасибо. Я просто с детства очень упрям. Знакомая ситуация, правда, Антоний?
— Упрямство, вот что пригодится тебе теперь, дружок.
— И твой опыт, и твой талант. Все это пригодится нам обоим.
— Так ты признаешь, что у тебя есть только упрямство?
— На данный момент, пожалуй. Но я быстро учусь и, поверь, я тебя еще удивлю. Кроме того, у меня есть Агриппа.
— Пухляш? Гляди, чтобы он не съел весь твой провиант.
Марк Випсаний Агриппа, еще известный в нашей семье, как Пухляш запомнился мне только двумя вещами.
Во-первых, однажды я напился и, когда он пришел ко мне с каким-то поручением от Октавиана, полтора часа горько плакал ему вот о чем:
— Агриппа, дружочек, я так красив! Женщины любят меня! Они так любят меня, готовы глотки друг другу перегрызть! Я слишком красив, от этого все мои проблемы!
Кажется, в меня тогда влюбилась какая-то подруга Фульвии, и я, не выдержав напряжения, оттрахал ее.
— Моя красота отрицает благочестие!
— Да? — спрашивал Агриппа, сидя ровно и вежливо вздыхая. — Правда?
— Еще какая правда! Самая последняя правда в этом проклятом мире! Тебе не понять, Пухляш, что это такое, когда женщины умоляют тебя о…
— О, — сказал Агриппа.
— Да, — сказал я. — Извини. Невежливо с моей стороны. Ну так с чем ты пришел?
— Хорошо, что мы об этом вспомнили.
Еще одна вещь, которой он мне запомнился — та же мальчишеская наивность, что и у Октавиана, столь же очаровательная, сколь и раздражающая.
Уже когда наша быстрая и решительная война с заговорщиками превратилась в бесконечное стояние на горящих углях и попытки навязать сражение, много раз я заставал Агриппу, легата армии Октавиана, не за чем-нибудь полезным, а с комиксом в руках.
Он взял с собой тонну всяких разных комиксов о героях древности, но больше всего его радовал, видимо, Геркулес. Во всяком случае, именно с греческими комиксами о похождениях Геркулеса я заставал его чаще всего.
— Кстати, — сказал я ему как-то. — Мой род происходит от Геркулеса.
— Это уже все знают, — ответил Агриппа, переворачивая яркую страницу, на которой Немейский лев будто бы готовился выпрыгнуть в реальность прямо с бумаги.
— Интересно? — спросил я.
— Конечно, — дружелюбно ответил Агриппа. О, эта команда милых мальчишек. — Хочешь дам почитать? Но начинать стоит с первого тома.
— А, — сказал я. — Они все на греческом? Не люблю читать на греческом.
— Первые пять томов переведены на латынь.
— Ну хорошо. А полезным-то ты чем-нибудь займешься, Пухляш?
Да, вот как-то так. Но я солгал. Теперь Агриппу я помню по трем вещам. Мой пьяный плач о том, как я божественно красив, его дурацкие комиксы и битва при Акции.
В конце концов, талантливый малец меня победил. А я думал, что это невозможно.
Вообще, про возраст скажу тебе вот что: я очень долго не верил, что кто-то может быть младше меня. Не знаю, как так выходило: вот ко мне, на тот момент, уже подкрался сорокет, и у меня свои дети, и детей этих много, а в голове все равно нет четкого понимания, что люди приходят в мир после меня, что они моложе, что они только начинают жить, а я уже во второй половине этого невероятного путешествия.
Мне казалось, я очень молод, и все вокруг, все они старше, неизмеримо старше меня. Это изменилось только с приходом Октавиана. Это его я сразу прозвал мальчишкой, сразу стал дразнить по поводу возраста и неопытности. И, понтуясь тем, что я старше, вдруг осознал, что и на самом деле — это так.
Я, старший брат, муж, отец, военачальник (причем своих ребяток традиционно считал я своими детьми), вдруг осознал, что люди младше меня, и даже сильно младше меня, не просто безликие бегающие по городу дети, а юноши, подающие миру новые надежды.
Их звезды восходят, это они придут жить вместо меня. Я еще был, еще жил, еще действовал, но я уже видел тех, кто останется, когда я уйду. И они стали достаточно взрослыми.
Самое печальное в этом, пожалуй то, что и они — не последние звезды на небосклоне. Однажды их светила погаснут так же, как, куда раньше, погаснет мое. И вместо них тоже придут другие. Жизнь продолжится, и будет уносить меня все дальше и дальше река времени, пока не стану я, наконец, лишь отголоском, жалким эхом собственного прежде громкого голоса, а потом и вовсе стихну, и все забудут меня. Что я знаю о тех первых Антониях, которые пришли сюда, в Рим? Ничего, должно быть. Однажды и обо мне вот так вот перестанут знать.
А о них, об Октавиане и об Агриппе, знать перестанут тоже, но чуть попозже. И эта относительность как будто бы разжигала мою ревность еще сильнее. Я ненавидел их всех, и Агриппу, и Октавиана, и других таких же за юный возраст и за большую светлую дорогу, которая перед ними раскинулась.
Нет, ненавидел — не то слово. Ненавидел Октавиана я, пожалуй, за другое. То слово, наверное, это "грустил". Я грустил потому, что путь Октавиана только лишь начинался, а я прошел пару сотен поворотов, которые уже привели меня, пусть и к вершине человеческой славы, но туда, откуда была уже видна обратная дорога. Думаю, первую половину жизни мы поднимаемся вверх, а потом наступает самый печальный момент. Мы на вершине. Для каждого она разная. Лавочник открыл лавку, правитель завоевал мир. И с этой вершины мы видим долгую обратную дорогу к небытию, которая кончается в каком-нибудь некрополе, роскошном или непримечательном ничем, но это уже не так важно.
Важно, что наступает в любой жизни момент, когда ты ясно видишь ее конец. И с этого момента вдруг считаешь себя смертным.
А кто-то еще не видит финала, пусть даже он в опасности или болен, еще холм, который ему предстоит покорить, непокорен. У каждого срок этого откровения разный, я думаю. Я покорил свой холм тогда, в сорок лет, в Филиппах, на вершине славы, осознав, наконец, по-настоящему, что однажды мне предстоит умереть.
Все остальное: терять близких, воевать, все было не то.
Мальчишки Октавиан и Агриппа мало что сделали для Филипп и ничем не отличились, я ответственен за победу, и я сиял и сверкал. Но все портило мне осознание того, что это мое время сиять и сверкать. А они, и даже Октавиан, считавший себя таким взрослым, еще не взошли по своей тропинке на свой Капитолий, и оттуда еще не открылся им чудесный, сладостный и одновременно абсолютно безнадежный вид.
Я, как и хотел, как и обещал, показал им всем: и заговорщикам, и Октавиану, но одновременно с этим достиг сверкающего пика своей жизни.
Сейчас я отношусь к этому спокойнее. Тогда я думал, что стану таким отвратительно взрослым, и это пугало меня. Но мне пятьдесят три, а я все еще тот смешливый мальчик, которым был в двенадцать. Не думаю, что я стал мудрее.
Что касается юности, Октавиана и Агриппы, они по-своему были правы с самого начала. Будущее должно принадлежать молодым. Я сам всегда в это верил. Другое дело, что я относил себя к этим молодым, меняющим мир.
Относил я к ним и Цезаря. На другой стороне были абстрактные Катон, Цицерон и иже с ними, перезревшие плоды дней минувших.
Так вот, важно быть последовательным до конца. Это свойственно мне далеко не всегда.
Ну да ладно, сегодня у меня лирическое настроение. Лучше расскажу тебе о Филиппах, о том, что там было действительно важным.
Во-первых, конечно, никто из нас не знал заранее, победим мы или проиграем. И я и Октавиан — мы надеялись, но до подлинной уверенности нам обоим было далеко. Брут и Кассий умудрились собрать весьма внушительные деньги и достаточно внушительные армии. Собственно, силы были примерно равны. Тут остается дело лишь за удачей и, да, за чувством момента.
Но могли ли мы поступить иначе? Мы сражались не только за свои жизни, мы сражались за Цезаря и за то, во что он верил. Пусть мы оба, и особенно вместе, не вполне выражали устремления Цезаря, мы любили его. Это, пожалуй, единственный момент, где я не сомневаюсь в искренности Октавиана. Цезаря он любил. Это правда. И был готов ради него умереть. Это тоже правда. Причем, весьма не свойственная этому рациональному и спокойному человеку.
Остается лишь гадать, какова была сила этой привязанности.
Октавиан тоже потерял отца очень рано и, полагаю, корни его любви к Цезарю такие же, как и у меня.
Мы об этом не говорили. Разве что немного, как раз перед тем, как я вышел в авангард, оставив войска Октавиана далеко позади.
В ту ночь мы сделали привал, и я долго смотрел на гладкую и ровную Эгнатиеву дорогу, вившуюся впереди далеко и легко. Наконец, я сказал Октавиану:
— Выступлю первым, ты же догонишь.
— Почему? — спросил Октавиан.
— Не хочу подвергать малыша таким нагрузкам.
Октавиан вскинул брови, затем повторил свой вопрос.
— Так почему?
В темноте звезды и лошади на его часах снова светились. Судя по всему, это до сих пор зачаровывало Октавиана, он то и дело смотрел на браслет часов.
— Потому что я хочу, чтобы они готовились к одному, а получили совсем другое. Это первое правило успешного сражения. Способность удивить — вот что главное.
— Удивлять ты умеешь, Антоний. Но почему ты не посылаешь меня? Это же весьма опасно.
Я нахмурился.
— Потому что я тебе не доверяю. А ты что думал? Что я переживаю за твое маленькое сердечко, которое разорвется от страха?
— Нет, — сказал Октавиан. — Честно говоря, об этом я не думал.
— Кроме того, я умею быть быстрым, очень быстрым. А твой Пухляш и ты, вы одинаково медлительны.
— Спасибо за критику.
— О Юпитер, как же я мечтаю тебя разозлить.
— А я мечтаю, чтобы ты поделился со мной бесценным опытом, приобретенным тобой во множестве сражений, — с готовностью ответил Октавиан.
— Ты меня бесишь.
Он улыбнулся.
— А ты меня радуешь, Антоний.
Мы замолчали, глядя на яркое пламя костра. Небо было таким звездным. Октавиан перевел взгляд на него.
— Я не боюсь умереть, — вдруг сказал мне Октавиан.
— Похвально, — ответил я.
Октавиан добавил:
— Потому что этого не боялся Цезарь. Вот что на самом деле важно.
Я подумал, что он поговорит со мной так же искренне, как тогда в палатке, когда мы решили все поделить на троих. Но, видимо, благотворное присутствие спящего Лепида (мы оставили его присматривать за Римом) было в тот раз решающим.
Октавиан надолго замолчал, а потом сказал разве что:
— Я рад, что скоро все закончится, Антоний.
Всего-то. А я ожидал, что мальчишка расчувствуется.
В любом случае, степень его привязанности к Цезарю стала мне абсолютно понятна. И я понял, что руководит им не только и не столько пустое тщеславие, а еще и верность. И тут я его понимал. Один из немногих аспектов, в котором я его понимал.
Рано утром мы с Октавианом простились, и я выдвинулся вперед. Не то чтобы тепло разошлись, но мирно.
О, ты знаешь, сколь быстрым я умею быть. Гнало вперед меня не только желание мести, а еще и сам знаешь, что. Возможность встретиться с братом.
Его могила, о боги, она была так далеко от дома. От мест, которые он любил.
Но стоило ли мне эксгумировать урну? Стоило ли тревожить его душу? Этот вопрос я решал всю дорогу.
Разве Гай не заслужил спать в нашей усыпальнице? С другой стороны, друг мой, вышло так, что он остался там один.
Ты лежишь в Испании, я лягу в Египте.
Если мое завещание еще действительно, скорее всего, я лягу в гробницу, как египтянин. Что приятно, ведь мое тело в каком-то виде продолжит существование.
Но и страшно — тоже. Страшно не лежать рядом с вами. Страшно, что я останусь на чужбине.
Но ты тоже далеко, да, Луций, и ты далеко. Мы не вместе.
И забавно получается, кстати говоря: папа умер на Крите, Гай в Македонии, ты — в Испании, а я, что ж, я в Египте. Семейная история, как это говорила моя детка, одна и та же.
Теперь как-то даже странно, что я привез Гая, а нас с тобой с ним не будет. И он там один. То есть, с родителями, конечно, это мы одни.
А кроме Гая, я думал о Цезаре. Смешная игра слов, правда?
Думал о том, что, наконец, дам бой заговорщикам и вымещу всю свою злость и все свое отчаяние. Смогу уже переступить через то, что Цезаря больше нет, как недавно, благодаря Цицерону, переступил через смерть Публия.
Я надеялся, что Цезарь приснится мне, как Публий тогда. Надеялся, что он будет таким же настоящим. И что мы поговорим.
О, мне было что ему рассказать. В чем повиниться. Чем гордиться.
В любом случае, я подгонял солдат:
— Вперед, ребята! — кричал я. — Сейчас мы всех удивим! Мы долго медлили, а теперь мы будем спешить! Попросите у Меркурия быстрых ног и поднажмите! Цезарь ждет! Уверен, он ждет нас там. Его дух витает вблизи убийц, чтобы увидеть их конец!
О, мои быстроногие солдаты были такими молодцами, что Брут и Кассий даже не поверили в наше приближение.
Из-за морской блокады, которую устроили нам Брут и Кассий, у нас были некоторые проблемы с провиантом. Это я говорю мягко: некоторые проблемы. Однако, мои солдаты привыкли к лишениям, Мутина облагородила многих из них и обточила.
А кроме того, разозлила.
О, как я рад был размяться по-настоящему, и как рады были они. Но долгое время у нас не получалось ничего. Брут и Кассий надеялись измотать нас нехваткой продовольствия. И, как бы ни хотели я и подоспевший чуть позже Октавиан, вступить в сражение как можно скорее, они старательно уклонялись от боя.
Мои войска были сосредоточены так, чтобы ударить по войскам Кассия, и скоро я понял, что он не собирается принимать вызов и сражаться, как человек честный (острозубому вообще не свойственно благородство души), а будет до бесконечности мяться, будто целка, тогда я решил взять дело в свои руки, точно как и следует поступать с такими вот целками.
Я стал вести себя нагло, будто его легионов не существует. Я подбирался к нему все ближе и ближе, и это не могло не раздражать Кассия.
В конце концов, столкновение при очередной нашей вылазке на болотистую местность близ его лагеря переросло в настоящую схватку. Войска Кассия были весьма рассредоточены, и взять его лагерь оказалось очень легко. Легче, чем я ждал и надеялся. Я понятия не имел, что происходит у Брута и Октавиана, меня заботила исключительно возможность разобраться с Кассием.
Я сражался с упоением и радостью, и все у меня в руках спорилось. Что касается Октавиана, щенуля накануне увидел дурной сон и удрал из лагеря как раз-таки ко мне, как только Брут показал зубы, так что вся ответственность за его проигрыш лежит на Пухляше Агриппе.
В любом случае, все сложилось для нас благоприятно. По слабости зрения, осматривая лагерь Брута с холма, Кассий принял его победу за поражение, уж не знаю, как у него это вышло, и, потеряв всякую надежду, велел то ли рабу, то ли вольноотпущеннику (парень все равно сбежал) убить его.
Достойный выход.
Хорошо уходить со сцены вовремя, знаешь ли, не заставляя зрителей ждать финала и дав грянуть аплодисментам. Это просто вежливость.
Осматривая тело Кассия, я мог думать только о том, что эти руки несли моего сына. Они не причинили ему вреда.
Но я не мог думать о том, что эти руки держали и кинжал, который Кассий вонзил в тело Цезаря.
Мертвый он был такой какой-то молодой и наивный, не знаю, как объяснить. Эта его желчная злоба вся ушла. Остался просто человек, который когда-то держал на руках моего ребенка.
И где же ликование?
Где то самое чувство облегчения, которого я ждал так долго? Вдруг я как бы посмотрел на Кассия глазами Цезаря. И понял, за что его следует пожалеть.
Это забавно, да? Кассий был куда более грамотным полководцем, чем Брут, и погиб первым, разбитый наглухо и доведенный до отчаяния чудовищным недоразумением.
Вот так бывает. Меня эта история утешает. Может, и я не так уж облажался с этой своей жизнью? Впрочем, у Кассия-то был достойный противник, не Пухляш какой-нибудь.
Вечером оказалось, что Октавиан все это время просидел у меня в тылу. Он сказал:
— Мне был сон. Цезарь приснился мне.
— Завидую.
— Он говорил мне, что Брут поразит меня в сердце.
— Верю, он поразил тебя в самое сердце, — засмеялся я. — Разбив твои легионы. Цезарь никогда не ошибается.
Октавиан сказал:
— Я не трус.
Я сказал:
— Не сомневаюсь.
— Но это правда, Антоний, я не струсил. Я просто не вижу смысла умирать зря.
— Да, — сказал я. — А я вот люблю иногда, возьму и просто так умру, а потом думаю зря, конечно, но не зря, раз удовольствие получил.
Я был в приподнятом настроении, тогда как Октавиан явно нервничал.
— Ничего, — сказал вдруг я, ощутив к нему приязнь и даже волнение за это нелепое существо. — Мы и Брута прижучим. Один мертв — один остался.
Октавиан спросил:
— Ты в этом уверен?
Так беззащитно. Я хмыкнул.
— А то. Антоний во всем всегда уверен.
— Это его недостаток.
— Да?
— Но и его достоинство.
— О, его достоинство…
Октавиан резко оборвал меня.
— Прекрати, пожалуйста.
Тогда я сел рядом с ним. Да, это было в моем шатре. Помню, у него в руках была чаша с горячим вином. Октавиан все время мерз, это я тоже помню.
— Скажи мне честно, Антоний. Я предал Цезаря?
— Нет, — сказал я честно. — Цезарь бы не хотел, чтобы его драгоценный крошка-приемыш умер.
Кажется, таким ответом Октавиан вполне удовлетворился. Впрочем, скажу тебе пред ликами всех богов всего обозримого мира: трусом я его и не считал. Лицемерие — вот его главный порок, а трусость, что ж, он всего лишь ребенок. Детям свойственно бояться темноты, а что есть смерть, как не темнота?
Нам оставалось разобраться с Брутом. Он понимал, что в столь стесненных обстоятельствах (блокада на море волшебным образом не рассеялась, как туман, после смерти Кассия), мы долго не протянем. Стратегическое преимущество было, так сказать, на его стороне.
Почти месяц он мурыжил нас.
Наконец, какие-то прекрасные люди убедили Брута, что дальше тянуть бессмысленно. Пожалуй, я бы дал этим людям награду. Если бы Брут избегал нас и дальше, мы оказались бы совсем уж в затруднительном положении.
Бой был достойным, Брут нигде не дал слабину, и его поражение — достойное поражение человека, до конца верившего в свое дело. Даже если оно безнадежно.
Скажу тебе честно: Кассий вызывал у меня отвращение при жизни и жалость в смерти, Брута же я уважал. В нем было нечто очень искреннее и живое, почти что нравственное. И даже убийство Цезаря он обставил так высокоморально, что едва ли можно было осудить его, дав себе труд представить, что такое быть Брутом.
Но я-то был Антонием. И будучи Антонием, я был обязан отомстить Бруту за смерть Цезаря. И будучи Антонием, я обязан был отомстить Бруту за смерть брата. Которую он, кстати, тоже обставил со всем возможным приличием. И я понимал этот его поступок — да, тоже. Вот такая выходила штука.
Да. Я хорошенько поработал на поле боя. Октавиан, кстати говоря, снова ни в чем не участвовал — он тяжко заболел, уж не знаю, в чем заключалась его хвора, он меня не посвящал, но выглядел щенуля непритворно плохо. Во всяком случае, я верю, что он не мог встать с кровати.
Еще имело место быть забавное представление с переодеваниями.
Этой чистой, высокоморальной сволочи дал уйти его дружочек Луцилий. Выдав себя за Брута, он сдался одному из моих отрядов, посланных разыскивать того самого среди живых или павших. Обоснование у него было такое, мол, Октавиан его не пощадит, Антоний же известен своим милосердием. Знал, падла, чем меня купить, да?
В общем, до меня дошли слухи, что везут Брута, естественно, я тут же поспешил навстречу. И тут этот великолепный паскуденыш Луцилий выкрикивает что-то про то, что Брут никому живым не дастся и не достанется, а с ним, Луцилием, могу я делать то, что пожелаю.
Я цокнул языком, оторопев от восхищения. Вот это верность! Вот это смелость! Вот это доблесть!
С такими друзьями — хоть куда. И умирать не страшно.
Я сказал солдатам, приобняв лошадь командира отряда.
— Ребята! Вы, видать, очень расстроены, что этот прощелыга вас обманул! Но, хочу сказать, дело обернулось лучше, чем я желал. Брут, конечно, добыча ценная, но что с ним делать? Вы привели мне не врага, но друга, что намного ценнее и вознаграждается щедрее! Привет, дружочек…
Тут я поправился. Дружками и дружочками были у меня враги, с которыми я намеревался разобраться позднее, или люди, которых я презирал.
— Друг, — сказал я. — Ты обманул меня, но обманул ради спасения достойного человека, которому ты верен. Хотел бы я, чтобы все мои друзья были таковы. Да, если бы все друзья были таковы, пожалуй, мир стал бы лучшим местом. Спасибо тебе.
Я обнял этого Луцилия, и он, оторопев, обнял меня в ответ. Так-то он погибать готовился. А тут вдруг — жизнь. Это на всех ярко действует.
— Так, — крикнул я кому-то. — Ну-ка позаботьтесь о нем: перевяжите раны, дайте еды и воды. Это наш гость, а не пленник.
Кстати, правда хороший парень. Не тешу себя надеждой, что он любит меня больше, чем когда-то любил Брута, но, думаю, что не предаст до самого конца. Не такой это человек, чтобы предавать безнадежное дело — и этому я рад. Счастливая звезда свела меня с ним тогда, и всадники были вознаграждены соответственно моей радости.
В общем-то, многие солдаты Брута переходили на мою сторону, я обещал им платить, и я победил — большинству этого было достаточно, а самые упорные сбежали к сынку Помпея.
Брут, упрямый стоик, убил себя сам, бросившись на меч. Это требует больше мужества, чем попросить раба о такой интимной помощи.
К тому моменту, как я нашел тело Брута, оно уже окоченело.
Честно говоря, я страшно расстроился. Знаешь, почему? Я хотел спросить его (Брут — не Кассий, он не плюнул бы мне в лицо). Хотел спросить: зачем, ну зачем? Зачем убил Цезаря, зачем убил моего брата?
И хоть я знал все ответы, мне хотелось услышать их от него и увидеть, изменится ли Брут в лице.
Думаю, все бы с ним осталось по-прежнему. Этот человек знал, что делает.
Я смотрел на его тело и, опять же, не испытывал ни злости, ни радости. Вернее, радость была — радость победы. Но она имела мало отношения к смерти Брута.
Я не выдержал и спросил его, уже холодного и жесткого, как деревяшка.
— Брут, о Брут, зачем ты лишил меня брата? Зачем? Цезарь — вот чью кровь ты пролил за идею, которая у тебя была! И теперь он отмщен! Но мой брат не был виновен перед тобой ни в чем! Ты должен был дождаться меня и выразить всю свою ярость за мои бесчинства! Может, и битва окончилась бы по-другому!
Брут остался бессловесным, как и следовало ожидать.
Мне было тяжело смотреть на его благородное, но искаженное предсмертной мукой лицо. Ему ужасно не шла эта пошлая болезненность. Я стащил с себя дорогой пурпурный плащ (он стоил целое состояние, ты знаешь, что я люблю сильно, так это роскошный шмот) и набросил его на Брута.
— Приведите мне Гортала, — сказала я. — Пусть ведет меня на могилу брата. От Брута в этом смысле будет мало пользы.
Гортала, отдавшего непосредственный приказ о казни нашего с тобой брата, я велел не трогать ни при каких условиях, он должен был дожить до моей победы и оценить ее сполна.
Я вздохнул. Брут, прикрытый ярким плащом, выглядел важно, будто мертвый царь.
Вдруг я спросил у Эрота.
— Слушай, а это правда, что у стоиков есть эта тема про справедливого добродетельного правителя?
— Смотря, что ты имеешь в виду под "эта тема", господин?
— Что, в общем-то, единовластие стоики поддерживают.
— Да, господин.
— И Брут был стоиком, — сказал я. — Но тогда зачем? Зачем он убил Цезаря?
— Смею предположить, господин, что Цезарь не представлялся ему идеальным монархом.
Я цокнул языком.
— Но он был, — сказал я. — Он ведь был.
И все-таки никакой злости я не испытал. Сколько ярости рвалось из меня в день убийства, а теперь я ощутил даже легкую грусть. Такая хорошая победа, но жаль, что все закончилось.
Я осознал, что этот период моей жизни, который освещала месть за Цезаря, подошел к концу. И что делать дальше, я не слишком понимал. Как строить свою жизнь теперь, когда главные заговорщики разгромлены, а Цезарь — отомщен?
Ко мне привели Гортала. Я глянул на него.
— Эх ты, — сказал я. — Лошара.
Гортал весь дрожал, он был бледен, подбородок его трясся. Папаша его, известный оратор, мот и любитель покрасоваться, оставил сыну в наследство внешность импозантную и приятную, однако сейчас Гортал выглядел жалко.
— Пойдем, — сказал я. — Посмотрим, что ты сотворил.
Он прикрыл глаза, глянул на тело Брута, потом себе под ноги. Все-то он понимал, я уверен. А если не понимал, то понял, когда я сказал ему:
— Смешно, что я убил одного великого оратора, Цицерона, и убью сына другого великого оратора эпохи, сына твоего отца. Угадай, кто это?
Гортал ничего не ответил.
— Да, — сказал я. — Жаль, твой папаша не дожил. А то я бы взял его жизнь взамен твоей. Люблю такие симпатичные совпадения.
Это было неправдой и сказал я так со злости. В конце концов, не настолько уж сумасшедшим мудаком я был, чтобы казнить невиновного взамен виновного. И зачем я тогда выставлял себя перед Горталом таким злодеем?
Думаю, ответ у меня есть. Так я казался себе менее беззащитным. Он вел меня к могиле моего брата, и я боялся, что не смогу держать себя в руках.
Место было живописное, думаю, его выбирал Брут. Не знаю, почему. Наверное, мне симпатична сама мысль о том, что Брут запарился с похоронами моего брата — ох уж эта честь, ох уж эта совесть.
Гай лежал на холме под смоковницей. Я представил, как весной и летом будут на ней зеленые и фиолетовые плоды, как их сорвут пробегающие мимо дети, и, может, увидят надгробный камень брата.
Только имя: здесь лежит Гай Антоний.
И не верится даже, что Гай Антоний. Я сорвал краснющий трехпалый листик со смоковницы, покрутил его в руках. Я сказал Эроту:
— Вели здесь вырезать.
— Что, господин?
— Не могу знать, — сказал я. — Любимому брату, наверное, будет лучше всего.
Я, хороший, по моему мнению, оратор, вдруг не знал, что сказать.
— Да, — добавил я. — Любимому брату, сыну любящих родителей.
— Храброму воину?
Я пожал плечами.
— Он два раза попадал в плен, — сказал я. — Но можно написать нехраброму воину. Гай бы оценил шутку.
Гортал стоял рядом, вперившись взглядом в могильный камень. Он думал о своем. О своих детях, должно быть, о своей семье, может, пытался вспомнить что-нибудь приятное, чтобы успокоить свое бьющееся сердце.
Гаю, наверное, было так же страшно. А может и нет. Мало кто любил смерть так же, как Гай Антоний.
Я спросил:
— Он умер здесь?
— Нет, — ответил Гортал.
— Жаль, хорошее место.
Подул свежий, на редкость теплый для конца осени ветерок. Воздух был приятный, по-гречески сладкий. Ветерок прошуршал листьями смоковницы над нашими головами и смолк.
— Хорошо тебе здесь? — спросил я. Гортал пожал плечами, но спрашивал я не его. А, может, даже и не Гая. Кого же я тогда спрашивал?
Внизу холма раскинулась милая деревушка, разве не чудо? Где-то далеко я слышал журчание реки. На смоковнице сидела незнакомая мне птица. Чудесное мгновение, ощущение полного единения с природой и с этим непростым миром.
Мне стало до слез обидно: если уж Гаю назначено было умереть рано, то почему не в этом живописном месте?
Легче умирать, впитав взглядом некоторую красоту, во всяком случае, так мне кажется. Что ты думаешь об этом, милый друг? Заслуживал ли Гай лучшего?
Мне стало стыдно. Он был сложным человеком, и я был привязан к Гаю меньше, чем к тебе, мы меньше общались, я хуже понимал его. И вдруг — его нет, и ничего не изменишь, это расстояние между нами больше не сократишь.
Вот такая была жизнь, вот такая была семья.
Что сказал бы Гай? Думаю, он сказал бы не распускать сопли. Ты сам его знаешь. И он всегда считал меня излишне сентиментальным.
Я сказал:
— Гортал, подойди сюда.
Он, кажется, секунду раздумывал, имеет ли смысл выполнять какие-либо приказы. Но все-таки подошел. Я взял его за плечи.
— Нет. Вот сюда встань. Так удобнее. Нам обоим.
Гортал посмотрел на меня. Глаза ребенка. У людей, которые скоро умрут, глаза детей. Я это начал замечать с того момента, с того дня.
Я достал свой меч, глянул на отражение в лезвии — мы с Горталом были одинаково нечеткими.
Хотелось сказать: я казню тебя здесь, хотя ты и не предоставил моему брату милости умереть в хорошем месте.
Но я просто всадил меч Горталу в живот, крепко прижимая его к себе. Всадил далеко, так, что даже рукоять почти вошла в рану. Точно с таким же рвением, точно так же, продираясь сквозь сопротивление плоти, Гай убил когда-то мою собаку.
Теперь я понимал, почему ему это понравилось. От такой смерти есть ощущение хорошо сделанной работы. Гортал смотрел на меня, может, проклинал. Кровь пузырилась на его губах, а я все заталкивал меч, дальше и дальше, словно собирался вытащить его с другой стороны.
Вытянув меч, я оросил могилу Гая потоком крови. Все как он любил, кровожадный братик.
Я держал Гортала, пока живая плоть в моих руках не превратилась в мертвую.
Потом я бросил его на могилу, залитую кровью.
— Что делать с телом, господин? — спросил Эрот. Я наклонился, потрогал красную землю, надавил на нее рукой, и она легко поддалась.
— Не знаю, — сказал я. — Что-нибудь. Не могу думать. Распорядись вытащить урну. Гай будет спать дома.
Наверное, столько крови полезно для смоковницы. Это должно было напитать ее, чтобы она выросла еще крупнее и еще сильнее, и давала бы еще больше сладких плодов. И тогда дети будут пробегать здесь чаще ради этих плодов. И смотреть на камень, под которым уже нет нашего Гая.
Но главное, о, он любил такого рода зрелища и, наверное, был крайне доволен. Я хотел, чтобы это все случилось для него.
Когда мы вернулись в лагерь с телом Брута, я повелел привести мне Антилла.
Я взял его с собой, как он и просил, хотя ему было только четыре года, и хотя Фульвия была против.
— Маленький убийца должен привыкать, — сказал я. — Пусть увидит, как воюют мужчины.
Антилл обожал меня и готов был отправиться за папенькой хоть на край света. Впрочем, в основном, я оставлял Антилла на попечении солдатских шлюх, крайне заботливых и веселых девчонок, чье общество ему явно нравилось. Тоже хорошо. Растет мужчиной.
Шлюхи баловали его нещадно и дарили ему подарки, каждая думала о своих собственных детях, должно быть. Или о детях, которые могли бы у них быть.
Октавиан, кстати говоря, как-то сказал мне по этому поводу:
— Здесь не место для ребенка. Не стоит брать на войну детей.
— Правда? — спросил я.
Октавиан не показал этого, но я был уверен, что моя игла впилась куда надо. Во всяком случае, об Антилле он больше не упоминал.
Я был одержим идеей чему-нибудь его научить, но быстро увлекся и совсем забыл о том, что собирался преподать Антиллу какой-нибудь мудрый урок. А тут вот вспомнил.
Антилла мне привела вольноотпущенница Поликсена, веселая носатая брюнетка, с которой мы частенько проводили вместе время. Она прикипела к Антиллу всем сердцем. Я даже как-то спросил ее, почему, и она ответила, что когда-то потеряла малыша примерно этого возраста.
Я взял Антилла на руки и подошел с ним к телу Брута, прикрытому моим пурпурным плащом.
— Посмотри, Антилл, вот что случается с человеком, когда он умирает.
Я стянул с Брута плащ и продемонстрировал сыну мертвое окоченевшее тело.
— Он умер.
— Как дядя с головой?
— Как дядя без головы, — сказал я с улыбкой. — Это был Марк Юний Брут, достойный человек и потомок очень достойного человека. Он убил самого лучшего правителя за всю историю Рима.
— Почему? — спросил Антилл.
Я помедлил. На этот вопрос у меня не было окончательного ответа.
— Потому, что он считал: так правильно.
— А почему он так считал?
— В том-то и дело, малыш, мы никогда не узнаем, почему.
Антилл потянулся ручкой к своей золотой булле, обхватил ее. Он смотрел на Брута с любопытством и почти без страха.
— Мы не узнаем, почему, ведь этот человек теперь никогда не заговорит.
— Никогда-никогда? — спросил Антилл.
— Да. Он навеки уснул. Его больше нет. Мы никогда не сможем узнать, о чем он думал тогда, во всяком случае, от него самого. Исчезла жизнь. Ты должен помнить, что она — драгоценна. Даже когда ты сам будешь отнимать ее.
Тут я заплакал. Но не из-за Брута, а из-за брата. Антилл принялся вытирать мне слезы.
— Все хорошо, малыш, — сказал я.
— Папа, только не печалься, что дядя умер.
— Да, — сказал я. — Печалиться никогда не нужно. Наоборот, нужно всегда быть сильным и идти дальше, принимая мир таким, каков он есть. Так говорил мне мой отчим.
— Ты так расстроился из-за дяди, — сказал Антилл задумчиво. — А я думал, вы играете в разных командах.
— Да, — сказал я. — Мы играли в разных командах. А вечером мы с тобой сходим на могилу к дяде Гаю.
Я подозвал одного из своих вольноотпущенников и сказал:
— Ты позаботишься о погребении Брута. Слышишь, Антилл? Брут когда-то убил твоего дядю, но позволил ему лежать в красивом месте. Теперь мы должны сделать то же самое для Брута.
Я дал этому парню денег на благовония, на изготовление урны и на все сопутствующие расходы, однако сукин этот сын не только прогулял половину суммы, но и не сжег вместе с Брутом красный плащ, который я отдал в дар мертвому. Когда я узнал об этом, то, естественно, казнил мудачка сразу же.
Я тут пытался, видишь ли, привить своему сыну уважение к врагу.
Но тот злосчастный вольноотпущенник, пожалуй, испортил все даже меньше, чем Октавиан.
Знаешь, что случилось дальше? Представление века!
Из своего шатра выбрался, шатаясь, Октавиан. В военной форме, с мечом, бледный смертельно, с каким-то желтым, трупным оттенком, и с такими синяками под глазами, что казалось, будто его ударили по голове, и вся кровь стекла в мешки под глазами.
Он едва шел, его поддерживали Агриппа и второй дружочек, как бишь его там. Октавиан весь дрожал, и, когда он встал рядом, я ощутил жар, исходящий от него — жар настоящей лихорадки, без шуток.
Он приоткрыл рот, но из него вырвался только стон. Тогда Октавиан ударил себя по правой щеке.
— Антоний, — сказал он. — Почему ты не сообщил мне, что вы привезли Брута?
— Я думал, ты болен, — сказал я и, помолчав, добавил:
— И сейчас так думаю.
Октавиан прикрыл глаза. Мне показалось, он сейчас упадет.
А потом случилось то, чего я от этого сдержанного, добродушного лицедея никак не ожидал.
Он дал волю свой ярости, которая, надо признаться, вызвала у меня уважение, хотя результатом этой вспышки я доволен не был.
Октавиан медленно склонил голову набок, а потом стремительно, невероятно стремительно, как для его состояния, выхватил меч и отсек голову Бруту. Нет, голову он отсек не сразу.
Это тяжело, когда плоть уж схватилась смертным морозцем. Куда тяжелее, чем резать живое и гибкое. Можно было остановить его после первого удара, но Октавиан рубанул так яростно, что шея Брута уже не представляла собой ничего осмысленного. Я подумал, что хуже не будет, если он уж совсем башку отхреначит.
Тем более, я видал много отрезанных голов в своей жизни. А были и те головы, которых я не видал, но они впечатлили меня, к примеру, голова Куриона.
В любом случае, не самая страшная вещь — отрезанная голова. Антилл от удивления не издал ни звука. Октавиан продолжал ожесточенно рубить шею Брута и, наконец, справился. Отделив голову от тела, он согнулся пополам в приступе неведомой боли.
Октавиан с трудом выпрямился, а потом сказал:
— Голову я хочу отправить в Рим. Пусть ее бросят к ногам статуи Цезаря. Это будет правильнее всего. С телом делай, что пожелаешь.
— Справедливо, коллега-триумвир, — сказал я. — Но что мы отправим Лепиду?
Октавиан сказал:
— Не время для шуток.
Он едва не упал, но друзья поддержали его. Я посмотрел на Антилла. У него было удивленное, напуганное лицо. Скорее Антилла испугал, впрочем, Октавиан с его невероятной решительностью, нежели вид изуродованного тела.
Я увидел, что на щеку Антилла налип кусочек плоти. Я стряхнул эту плоть, плюнул на палец и принялся тереть Антиллу щеку.
— Радость моя, — сказал я. — Ну что такое? Ты везде изгваздаешься. Что за человечек?
Октавиан велел положить голову в ларец и принести в его шатер. Очень понятное мне чувство, хоть и не думаю, что Октавиан хоть раз достал ее.
Кстати, судьба есть судьба. Тот корабль, на котором перевозили в Рим голову Брута, утонул. Так и не суждено было убийце встретиться с убитым. Думаю, душа Брута просто не могла этого допустить, и для него было лучше сгинуть в пучине, чем оказаться у ног тирана.
Вот она какая, эта история.
А той ночью мне снился Цезарь, как я и хотел. Он не был настолько реален, как Публий в том моем сне, но все-таки лучше, чем ничего.
Помню, мы сидели у него дома, и мимо ходила Кальпурния. Почему-то она плакала. Цезарь не пил вина и ничего не ел, я же, как всегда, наедался до неприличия.
Я спросил его, облизываясь:
— Цезарь, мы закончили?
Цезарь смотрел на меня. Мимо нас тенью проскользнула Кальпурния, я услышал ее плач, но будто бы очень далеко.
Я спросил еще раз:
— Ну это все?
Цезарь улыбнулся. Очень по-своему, совершенно так, как я это помнил.
Он сказал:
— Нет.
Я спросил:
— Но почему, Цезарь? Почему это никак не закончится?
Он сказал:
— Это и есть жизнь, Антоний.
— Но разве нельзя, чтобы все любили меня?
— Нет, — сказал Цезарь. — Это статистически невозможно.
— Но почему плачет Кальпурния?
— Потому что она все знает.
Кто все знает, тот плачет громче и чаще всех.
Я посмотрел на свою тарелку, и она была пуста.
— Давным-давно, — сказал Цезарь. — Я очень любил все знать наперед. Теперь я понимаю, что это ошибка, думать, что ты можешь предсказать ход событий. Время хитрее нас. Единственный совет, который я мог бы дать тебе, будет таков: наслаждайся тем, что происходит с тобой сейчас.
— Это я умею.
— И не планируй ничего надолго. В этом была моя главная и единственная ошибка.
Я спросил:
— Ты ненавидишь меня?
— Я всегда гордился тобой, — ответил Цезарь. — Ты должен помогать Октавию и быть с ним рядом. Тогда отечество однажды отблагодарит тебя.
— Но я его ненавижу!
Цезарь помолчал. Он пододвинул мне свою тарелку, мол, ешь, Антоний.
— Ты ненавидишь не его, — сказал Цезарь. — Ты ненавидишь себя самого. За то, что я предпочел Гая Октавия Фурина Марку Антонию. Ты бы хотел ненавидеть меня, но ты не можешь. И все-таки, дай себе труд его понять.
— Труд, — фыркнул я. — Какой такой труд его понять?
Кальпурния все ходила мимо нас, закрыв лицо руками. Я вдруг подумал, нет, даже понял, что ее лицо изуродовано.
И подумал, что Кальпурния здесь — это Республика. Она плачет и прижимает руки к окровавленному лицу.
На том я и проснулся. Уже близок был рассвет, я это чувствовал. Мне захотелось пойти и проверить, как там Антилл с Поликсеной, все ли у него в порядке.
Мы так мало живем и так внезапно умираем. Надо бы ценить тех, кто у нас есть. А то обернешься, бац, и все умерли.
Тогда я пошел к Антиллу и зачем-то рассказал ему про его брата, рожденного и умершего спустя всего неделю жизни. Зачем? Ты знаешь, больных детей никто обычно не выхаживает, и нет особенного ужаса в том, что слабый ребенок умер, потому что такова судьба его, родиться и сразу же исчезнуть, такова жизнь.
И все-таки я зачем-то рассказал. Антилл слушал внимательно. Он спросил:
— Мой брат умер, как дядя Брут?
— Да, — сказал я. — Как дядя Брут, и как отцы Клодии, Клодия и Куриона, и как твоя дядя Гай, и как твой дедушка.
— И как Цезарь?
— И как Цезарь, — сказал я. — Все умирают одинаково.
Тогда Антилл спросил меня:
— А ты умрешь?
Рядом с ним храпели девчонки, уставшие за ночь работы, и я старался говорить тихо.
— Да, — сказал я. — Я умру. Но это будет очень нескоро. Ты вырастешь, станешь большим и сильным, и тогда я умру. А ты станешь похож на меня.
— А я умру?
— Да, — сказал я после еще одной небольшой паузы. — И ты тоже.
Антилл задумался. Особенного страха на его личике не отразилось. Он не до конца понимал, что такое смерть, и не видел в ней ничего такого уж чудовищного.
Скорее его волновало расставание со мной.
Я сказал:
— Но ты тогда будешь уже старый и дряхлый, и тебе все надоест.
Антилл нахмурился.
— А игрушки я смогу забрать с собой?
Я пожал плечами.
— Наверное, сможешь, — сказал я. — Но только не материальные, а как бы их копии. Ты же будешь некоей нематериальной сущностью, логично, что ты будешь играть с нематериальными игрушками.
— Да?
— Да. И вообще, я же говорю, ты умрешь старым и дряхлым. Тебе уже не понадобятся игрушки. Сможешь забрать с собой, э-э-э, не знаю, что любят старые люди?
— Кашу?
— Да, например, кашу. Нематериальную кашу. Вот.
Я погладил его по голове.
Такие мягкие волосы. А у мертвецов волосы жесткие.
Вот так.
Я сказал ему:
— И если кто-то умирает, то можешь плакать о нем, но никогда не разбивай свое сердце, малыш. Где-то там, где люди уже не расстаются, ты однажды увидишься со всеми. А так знай, что даже если кого-то нет рядом, его любовь есть, и она всегда сильна. Не смей недооценивать любовь тех, кто ушел. Она защищает и оберегает тебя даже нежнее и лучше богов.
— А если вы с мамой умрете?
— То мы на самом деле будем рядом, — сказал я. — Но ты не будешь нас видеть. А в остальном — всем будет хорошо.
Да, Луций, начал рассказывать о победе и понял вдруг, что мне в тот день было не только радостно, но и грустно. Навалилось столько всего: могила Гая, этот странный, безумный поступок Октавиана, мой маленький сын с ошметком плоти на щеке, я сам, вгоняющий меч все глубже в живот убийцы моего брата, и радость победы, и горечь оттого, что эта победа знаменует конец эпохи.
Вот все, что случилось при Филиппах, милый друг.
Спокойной ночи.
Твой брат Марк.
После написанного: кстати говоря, эта мысль о том, что ты где-то рядом часто помогала мне. Не только ты, а вообще. Все рядом.
И никуда не уйдут.
Послание девятнадцатое: Дань памяти
Марк Антоний своему брату Луцию, спеша удивить его внезапно проснувшимся литературным вкусом.
Здравствуй, Луций!
Вдруг я понял, что хочу закончить предыдущее письмо, но сразу же сел писать следующее. Это было связано с некоторым эстетическим вопросом. В моей голове закончились Филиппы. И хотя мы их еще не покидаем, некоторое чувство заставило меня прервать одно письмо и начать другое.
Да, решил я, так будет правильнее. Мой брат Луций непременно оценит этот ход и поймет, почему я пишу два письма одной ночью. Разговор о смерти с моим сыном предварял еще один разговор о смерти, тоже, кстати говоря, разговор с ребенком. С Октавианом. Эти разговоры были в чем-то очень похожи. Но в то же время они настолько разные, что я не хочу писать о них рядом.
Что ж, теперь перенесемся с тобой в день следующий. Тогда я оставил Антилла спать дальше и вернулся к себе. Небо уже просветлело, просыпались солдаты. Я так и не смог подремать еще хотя бы полчасика, и голова гудела, как бывает, когда просыпаешься не вовремя.
Все закончилось, свершилась месть, но кто я такой, и что должен делать дальше? Меня очень долгое время вел Цезарь, а затем, после него, сама мысль о Цезаре. Но теперь не осталось ничего, голова была пуста и ветрена.
Я зашел к Октавиану. В столь ранний час он не спал тоже. После своей сегодняшней вылазки, Октавиан выглядел еще хуже. Казалось, она совсем его доконала.
А я подумал: неужели нас более ничего не связывает? Мы отомстили, и теперь снова пора вцепиться друг в друга?
Впрочем, подумал я еще, может, это не такая уж и большая проблема? Вполне возможно, что Октавиан не станет мне досаждать, потому как будет мертв. Вполне возможно, что мне не придется долгое время мириться с ним, потому как ему остается на этом свете совсем недолгое время. Что я подумал тогда? Как ты считаешь?
Думаешь, я ощутил свое торжество?
Нет, вдруг я испытал грусть. Как я жалел потом о том мимолетном чувстве печали. Следовало пожелать ему немедленной смерти, отправиться в Фессалию и найти там самую злобную ведьму, а потом посулить ей золотые горы, чтобы она сгубила эту слабую жизнь.
Тогда, возможно, я был бы сейчас властителем целого мира. Может, не таким уж хорошим, но, во всяком случае, я не находился бы на грани безумия и не писал бы глупые письма своему мертвому брату.
Да, пожалуй.
Но тогда я опечалился. Может, из-за того, что я перед этим болтал с Антиллом, как думаешь? Я весьма инфантилен, но у меня развито отцовское чувство. Мне хочется заботиться о тех, кто слабее меня. Так что, увидев Октавиана в таком состоянии, я спросил, нужно ли ему что-нибудь.
Он смотрел на меня, укрытый тремя одеялами (Октавиан всегда был очень мерзляв), и глаза его горели каким-то нездоровым огнем, странно и жутковато блестели.
— Нет, — сказал он. — Но, пожалуйста, Антоний, посиди со мной.
Я сел рядом с Октавианом. На его ложе валялись исписанные восковые таблички и кости. О, как он любил играть в кости, это ж надо, даже на смертном одре (и он, и я так думали) Октавиан развлекался именно ими, сам с собой и со всеми, кто готов был поиграть.
— Ты поиграешь со мной? — спросил он и меня.
— Ага, — сказал я. — На что? Если выиграю, могу забрать голову Брута?
Октавиан едва заметно покачал головой.
— Ну и ладно, — сказал я. — Все равно ее не приделаешь обратно.
Я засмеялся, а Октавиан вскинул брови в этой своей дурацкой, чуть удивленной манере.
Я сел рядом с ним, и мы немножко покидали кости. Октавиан неизменно выигрывал.
— Хорош, — сказал я. — Вот это везение. Будешь жить!
— Иногда боги дают нам везение в одном деле, чтобы забрать его в другом, — тихо ответил Октавиан.
Мы помолчали. Наконец, я сказал:
— Бывает и такое.
Октавиан смотрел на меня и старался выдавить из себя улыбку.
— Ты думаешь, я умру?
— Не знаю, — сказал я. — Я не врач. Что врач говорит?
— И ты радуешься этому?
Я долго раздумывал над ответом. Хотелось сказать честно, а для этого необходимо было себя понять.
— Нет, — сказал я, наконец. — Нет, я не радуюсь.
Октавиан сказал:
— Забавно, ты куда старше меня, но здоров, как бык, а я молод, но так болен.
— Да, — сказал я. — Это забавно. Но еще забавнее то, что неизвестно, кто из нас, я, здоровый, или ты, больной, кто, словом, переживет завтрашний день.
— Да, — сказал Октавиан. — Это тоже забавно.
Мы еще помолчали. Наконец, Октавиан спросил меня:
— Это была славная победа, Антоний?
— О, — сказал я. — Чрезвычайно. Нелегкая. Нелегкие победы славнее всех других. Достойно победить сильного противника.
— Хорошо.
Помнишь, я рассказывал тебе о том случае, когда Октавиан искренне говорил со мной? Это другой случай, теперь уже я искренне говорил с Октавианом. Иногда даже жаль, что мы не совпали.
В первый раз я, в основном, слушал, а он, в основном, говорил. В другой раз — все наоборот. Ни разу мы не были друг с другом откровенны оба.
Так вот, не знаю, что меня тогда дернуло сказать:
— Послушай, насчет Цезаря, знаешь, когда умер мой отчим, мне помогало думать о том, чем он, как бы, отличался от других людей.
Октавиан молчал, но смотрел на меня внимательно. А я, нет, я знаю, что меня дернуло. Я вспомнил, с каким остервенением Октавиан отрезал голову Бруту.
— Публий Корнелий Лентул Сура, — сказал Октавиан. — Участник заговора Катилины. Я знаю. Я родился в тот год, когда это случилось.
— А, — сказал я. — А мне было двадцать лет. Забываю иногда, какой ты маленький.
— Да? Что ж, это приятно, что ты иногда об этом забываешь, Антоний.
— Так вот, о чем я там. Я думал о вещах, которые делали его особенным. И счастливым. Например, я стал ходить по сирийским проституткам.
Октавиан тихонько засмеялся.
— Ты ужасен, Антоний, — сказал он.
— Нет, серьезно. Сирийские проститутки делали его счастливым. И особенным.
— Это его исключили из сената за разврат?
— Несовместимый с действующей идеологией, — засмеялся я, и мне вдруг стало так светло. — В том, что ты чувствуешь по поводу смерти Цезаря, нет ничего неправильного.
Октавиан ничем не показал своей заинтересованности, но я знал, что он слушает внимательно.
— Когда теряешь кого-то, бывает сложно справиться с эмоциями. По поводу Цезаря я только сейчас, когда пытаюсь говорить об этом с тобой, могу быть объективным, что ли. Могу и вправду разобраться с тем, что случилось. Так вот, сейчас ты учишься жить без отца.
Отца, да, я сказал это.
— Жить без отца, — повторил я. — Но с воспоминаниями о нем. Теперь все закончилось, и тебе станет легче. Мне стало легче, когда я…
— Увидел голову Цицерона, — сказал Октавиан. — Я знаю. Честно говоря, это меня и вдохновило.
— Приятно слышать.
Мы помолчали, потом я снова заговорил:
— Как-то раз, я был тогда совсем мал, а мои братья и того меньше, мы нашли мертвую землеройку. Это была очень красивая землеройка. И очень мертвая. И мне пришлось объяснить братьям, что значит живой, и почему иногда живой становится мертвым.
— И что же ты сказал? — спросил Октавиан.
— Что жизнь может быть очень долгой или очень короткой, — ответил я. — Но это не значит, что такую короткую жизнь нельзя прожить хорошо, и что она не нужна.
— Дай мне прояснить ситуацию, Антоний: ты сравниваешь меня с мертвой землеройкой?
Я засмеялся.
Снова та же игра в одни ворота, правда? Но на этот раз отшучивался Октавиан. И оба мы понимали, что представление даем то же, разнятся лишь роли.
— Тогда мой брат Гай, он лежит в часе езды отсюда, сказал, что это все так просто. Землеройка была с мелкими глазками и рыла землю. А теперь она умерла. Я предположил, хотя и не знал об этом точно, что в жизни людей все происходит так же просто.
Октавиан тяжело вздохнул, не то скучающе, не то печально. Думаю, он и сам хотел, чтобы я не понял, как именно.
— Это очень сложные вопросы, — сказал я. — Не стоило моим братьям полагаться на меня. Теперь, когда я видел очень много смертей, и легче сказать, как при мне не умирали, чем перечислить, как умирали, я думаю, что я был прав и неправ. Это и тяжело и очень просто одновременно. Понимаешь меня?
— Да, — сказал Октавиан.
— Тем более, это сложно осознать, когда ты очень молод. Кажется несправедливым.
Октавиан прикусил губу и нахмурился.
Я сказал:
— Больше всего все боятся, что их забудут.
— Да, — сказал Октавиан. — Это совершенно резонно. Государство, искусство, да и вообще все самое важное в мире строится людьми, которые боятся, что их забудут.
— Значит, ты один из таких людей?
Октавиан пожал плечами.
— И поэтому ты, такой еще молодой, занимаешься всем вот этим? Я в твоем возрасте о политике не имел никакого представления.
— Антоний, я занимаюсь этим, потому что верю, что могу сделать мир лучше.
Октавиан снова закутался в одеяло, и мы еще некоторое время молчали. Потом он сказал:
— Когда умер мой кровный отец, сестра была старше. Она составила список вещей, которые не хочет забыть о нем. Он до сих пор хранится у нее где-то. Но не думаю, что Октавия перечитывает его. Жизнь идет.
— Да, — сказал я. — Жизнь идет. Но никто никого не забывает, и мы храним воспоминания куда как надежнее, чем на бумаге.
— Так ты думаешь, что я умру?
— Нет, — сказал я. — Я просто не знаю. Но если ты умрешь, то люди не забудут твоей доброты. Ты был очень щедр к ним и проявил достаточно милосердия.
— Я бы хотел, чтобы они запомнили меня старше и сильнее. И сделавшим больше. Сейчас не время.
— Никогда не время, — я пожал плечами. — Но для юноши ты сделал столь много, что будешь у всех на устах еще долгое время. И, кстати, я думаю, что это не страшно.
— Неправда, — сказал Октавиан. — Ты думаешь, что это страшно.
— Ладно, я думаю, что это страшно.
— Но я готов.
— Но ты готов.
Октавиан спросил, забуду ли я его. Я ответил, что не забуду и улыбнулся. Повинуясь доброму отцовскому чувству, я прикоснулся к его лбу и ощутил болезненный жар.
— Я не знал, Антоний, что ты можешь быть таким.
— Да? Значит, ты проделал плохую поисковую работу. Спроси кого угодно: Антоний очень глубокий человек.
Я знал, что делаю — любое существо, большое или маленькое, больше всего страшит одиночество. Именно его стремится существо избежать всю жизнь. И особенно страшно болеть и гадать, умрешь ли ты так, в одиночестве.
Я жалел Октавиана, но вместе с тем я жалел моего брата, рядом с которым в последний момент был лишь его убийца.
И жалел через Октавиана всех других.
Мне хотелось, чтобы он чувствовал себя хоть чуточку менее беззащитным, чтобы получил хоть искру тепла. Всякий ребенок, даже очень дурной и лицемерный, заслуживает этого.
Я сказал:
— И не грусти, дружок. У нас у всех есть свое время, может быть, твое будет длиться дольше, чем тебе сейчас кажется. В любом случае, все будет правильно. Твоя история — есть твоя история.
— Этого не отнять, — тихо сказал Октавиан.
— Не отнять, — согласился я. — А по поводу Филипп, скажи мне честно, ты жалеешь?
Октавиан нахмурился, потом ответил:
— Да, пожалуй, что я жалею. Пока Брут и Кассий были живы, все казалось намного более простым.
— Ну, — сказал я. — И об этом не стоит грустить, что-то подходит к концу, а что-то спешит начаться.
Октавиан едва заметно улыбнулся.
— Да ты философ, — сказал он.
— Ну, немножко.
Тут в шатер заглянул Агриппа.
— Цезарь, — начал он, а потом увидел меня. — Я прерываю какой-то важный разговор?
— Не, — сказал я. — Я просто присел тут на уши твоему дружочку. Житуху, так сказать, обсудить.
Октавиан с трудом приподнялся и сказал:
— Да. Мы уже поговорили. Это был полезный для меня разговор.
Агриппа прокашлялся, потом сказал:
— Мы возобновили поисковые работы. Обнаружены тела людей, о чьей судьбе ты хотел знать, Цезарь.
— О, — сказал я. — Интересненько. Мелкий Катон, сын Катона Младшего среди них?
Вот так вот я поговорил с больным Октавианом. Забавно, что мы оба помним это. Я думаю, что помним. Но теперь это будто бы в другой жизни.
Я не верю, что мог проявлять к нему какое бы то ни было сочувствие. Он, впрочем, тоже вряд ли в это верит.
Так или иначе, здоровье Октавиана оставалось весьма и весьма слабым. И он, и я, мы оба, были уверены, что Октавиан не переживет путешествие в Рим. Но он предпринял его.
— Если мне суждено умереть, — сказал он вечером. — Я хочу умереть на родной земле.
— Ты умрешь в дороге, — сказал я уже безжалостно, морок сочувствия с меня сошел.
— В таком случае, я умру, пытаясь добраться до дома. Кроме того, боги Рима благоволят желающим добраться домой. Думаю, у них будет резон помочь мне.
— Может быть, — сказал я. — В таком случае, если ты не против, я останусь здесь и займусь делами, а ты, по возможности, поправь свое здоровье как можно скорее.
В любом случае, у меня уже тогда родились амбициозные планы по поводу войны с Парфией. Кто-то ведь должен достать орлов Красса, а кто еще, как ни великолепный Марк Антоний, справится с такой непростой задачей.
Для этой войны мне нужны были большие деньги, куда большие, чем для того, чтобы потопить и без того идущий ко дну корабль заговорщиков.
Планы мои оказались крайне амбициозны, настолько, что я даже поделился ими с Октавианом.
— Да, — сказал он. — Это было бы хорошо для нашего с тобой дела.
Теперь, когда я полон суеверного страха (нет, страх — не то слово, я ничего не боюсь, никогда не боялся) перед ним, мне кажется, что Октавиан имел в виду печальный исход этой войны и то, как она ослабит меня.
Впрочем, не мог же он знать все на свете, правда? Даже если так иногда казалось.
В любом случае, я простился с Октавианом тепло. И тем теплее, что я не ожидал увидеть его снова. После краткого приступа жалости, я испытал облегчение при мысли о том, что все мои проблемы с щенулей решатся как бы сами собой.
Природа, понимаешь ли, она любит сильных. И иногда природа бывает сильнее истории.
В любом случае, Октавиан сказал мне на прощание:
— Благодаря тебе, Антоний, я стал умнее и сильнее. Спасибо тебе за это.
Я сказал:
— Благодаря тебе, друг, я стал терпеливее. Это тоже приятно. Важная часть жизни, как никак, без которой нынче никуда.
— В таком случае, мы с тобой помогли друг другу приобрести важные добродетели. Это благо.
Так или иначе, его увезли. Я долго смотрел повозке вслед. Октавиан выглядел действительно плохо, с каждым днем все тоньше, все бледнее, будто некая невидимая сила пожирала его изнутри.
Я никогда не болел серьезно. Разве что перед поездкой в Сирию с Габинием, но, подозреваю, истинная причина той болезни лежала где-то в области моей печали.
Я, честно говоря, не очень представлял себе, что чувствует Октавиан. Тело никогда меня не подводило, и, если я мог на что-то рассчитывать в этом непредсказуемом мире, то исключительно на него.
А вот Октавиан умирал, во всяком случае, мне так казалось. И это была вовсе не та быстрая смерть воина, которая неотступно следовала за мной. Медленная, мучительная, какая-то женская — эта смерть приводила меня в трепет. Болезнь пожирала его изнутри и делала слабым, он мучился и истаивал, боли без видимой причины терзали его тело, а жар подтачивал разум.
Впрочем, Октавиан справлялся с собой более чем достойно.
И все-таки, когда он уехал, я испытал большое облегчение.
Я сказал Антиллу:
— Теперь мы с тобой будем делать все по нашим правилам, малыш.
— А какие наши правила? — спросил Антилл с готовностью.
— Они касаются денег. Очень-очень много денег — вот что мы с тобой будем делать.
Помимо моих планов, оставались еще насущные вещи: плата солдатам за кампанию против Брута и Кассия, вливания в опустошенный очередной гражданской войной Рим. Короче говоря, деньги — вот вокруг чего все крутится. Кроме того, отдельная печаль всего предприятия состояла в том, что это не мои аппетиты вдруг стали еще более непомерными, а таковы были неотступные требования реальности.
Однако за этими требованиями не стоило забывать своих друзей. Греческие области, которые до самого конца отказывались поддерживать Брута и Кассия, а, бывало, и упорно сражались с ними, я полностью освободил от уплаты дани, что, впрочем, сделало лишь более насущной необходимость ободрать остальных, греков-трусов и греков-предателей.
Но ты же знаешь греков, Луций! Знаешь, как они меня очаровывают! Как они вообще всех очаровывают! Они ушлые, хитрые, жадные, но в то же время столь милые и столь гостеприимные, с ними сложно совладать.
В общем, мне было весьма сложно стребовать с них все до последнего медяка. Вначале я делал им поблажки, потому как они, бедняжки, не имели возможности выплатить мне все, а потом оказалось, как-то само собой, что срок выдачи дани и вовсе с года увеличился до двух.
В конце концов, я смирился с тем, что греков мне не причесать и решил разжиться за счет сирийцев и прочих людей Востока, не способных вызвать в моей душе столь теплые чувства.
Греки вили из меня веревки. Но, чтобы соответствовать великому греческому духу, я и сам стал, как бы это сказать, несколько серьезнее, что ли?
Отчасти я хотел произвести на них впечатление. Если римляне знали меня, как беспутнейшего человека в Республике, а, может, и во всем мире, то греки, если и располагали какими-то такими сведениями, не имели резона полностью им доверять, а я старался не подтверждать слухи.
Мне хотелось сыграть мудрого, дружелюбного и снисходительного правителя, каким я, разумеется, никогда не был и быть не мог.
Но сам греческий воздух, казалось, действовал на меня благотворно.
Смею надеяться, я даже кое-что для греков сделал. Может быть, они помянут меня добрым словом. И хотя известна неблагодарность греков к нам, римлянам, может, в моем случае они сделают исключение.
Тем более, знаешь что, мне хотелось затмить своей добродетелью злую славу дядьки. Гая Антония Гибриду и до сих пор, уж столько лет спустя, поминали в Греции не теми словами, которые подобают в приличном обществе образованных людей. А я хотел быть лучше.
Разве не чудо?
Кроме того, в этом стремлении меня поддерживал сын. Я мог отправить его домой, к Фульвии, но предпочел показать ему мир. И его присутствие тоже действовало на меня благотворно. Хотелось подавать хороший пример собственному отпрыску.
Пройдет столь мало времени, прежде чем он вырастет, и уже не будет нуждаться в своем отце, чтобы познавать мир вокруг. Тогда он продолжит свою жизнь самостоятельно и будет делать собственные ошибки, меньше или больше моих.
У родителей есть так мало времени, чтобы повлиять на ребенка. Так мало времени, чтобы быть значимыми.
Я решил во что бы то ни стало продемонстрировать Антиллу хороший пример. Такой, чтобы Антилл мог руководствоваться им в последующей жизни без страха захлебнуться в собственной блевотине.
Вот кто был приличным человеком в то время. Будь ты со мной, у тебя был бы повод гордиться. Я предпринял в Греции ряд истинно народных начинаний, даже забацал большую стройку по поводу реставрации храма Аполлона в Дельфах.
С греками я держался спокойно и по-доброму, никоим образом не демонстрируя своих исконных пороков и стараясь примирить их с данью, которую следует заплатить. Продемонстрировал и мягкость, и терпение, причем больше всего — в Афинах.
О, Афины, особый для меня город. Он очаровал меня сразу же, вот этой своей высоколобой ученостью, и историей, которой он дышал, и совершенно особенным ощущением ясности взора и приветливости мира, не знаю, как объяснить. В Афинах мне едва ли хотелось пить, во всяком случае, не более, чем пили мои спутники. Я не был и так жутко голоден, как обычно. Будто бы какая-то мучительная, тяжкая дыра в моем сердце временно залаталась, и мне больше не нужно было сбрасывать в нее бесконечные подаяния из реального мира, чтобы забить ее хоть чем-нибудь и хоть как-нибудь.
Афины, целительный город. За волшебный эффект, который они оказали на меня, я даже несколько расширил их территорию. Пусть в мире будет больше Афин. Хорошее же начинание?
Афиняне так полюбили меня, что во второй мой приезд, когда я вошел в город уже Новым Дионисом, позволили мне сочетаться браком с их богиней Афиной. Вернее, мы были помолвлены, однако из наших отношений ничего не вышло — я запросил за невесту слишком большое приданое. Но разве нельзя меня понять? Если уж тебе в руки отдают такую достойную женщину, неужто не стыдно взять ее бесприданницей?
— Зря ты не сочетался с Афиной, — говорила моя детка. — Быть может, глупый бычок, ты стал бы умнее.
Ну да ладно, эта анекдотическая история случилась позже. А первый мой приезд в Афины был абсолютно безоблачным, люди любили меня за щедрость, за добродушие и за то, что я не говорил с ними надменно, как римский властитель, а старался быть ближе к греческой культуре и окунуться в их жизнь.
В моем путешествии по Греции меня сопровождал Пифодор, отличный парень, из богатеньких греков. Очень ушлый. Приуменьшу его заслуги, если скажу, что он постарался выторговать у меня время для греческих полисов и сбавить мои аппетиты в том, что касается дани.
Впрочем, я его за это не виню. Всегда лучше сначала запросить больше, а потом откатить назад, продемонстрировав мягкость, чем взять меньше, чем тебе дадут. Во всяком случае, это мое личное кредо. Думаю, Пифадору оно тоже созвучно, иначе как этот остроумный и бойкий торгаш сделал себе состояние?
Кстати, это тот самый Пифодор, за которого я выдал свою дочку от Антонии, когда расстроилась ее помолвка с сыном Лепида. Думаю, я сделал ей величайшее добро, отдав ее не за невнятного пацана, сына невнятного пацана, а за крайне образованного, веселого, красивого и богатого грека.
Во всяком случае, хочется думать, что она не винит своего отца. Жизнь ее, насколько я знаю, сложилась счастливо. Мы никогда не были особенно близки, но я бы хотел, чтобы дочка была в порядке, вот так.
Теперь я жалею, что моя падчерица Клодия была мне ближе дочки. Впрочем, если говорить об отношениях с детьми, мне вообще есть о чем пожалеть — сейчас я понимаю, что хотел бы говорить с ними больше, что-то им объяснить, в чем-то помочь.
Я умру, а они запомнят меня, как абстрактного исторического персонажа, как человека, который столь мало пробыл в их жизни, да еще и все больше пьяным. Все, кроме, пожалуй, Антилла и Селены. С Антиллом в тот год у нас установилась сильная и прочная связь, которой я горжусь и сейчас.
Во всяком случае, я подам моим детям пример достойной смерти.
Я не хочу быть удушенным, подобно какому-то восточному царьку, нет, я лишу себя жизни самостоятельно, и мои дети будут знать, что их отец не дался в руки врагам.
Но какие дети? Греки, да, греки. Опять я отвлекся.
Пифодор, хоть сам он происходил из малоазиатских Тралл, хорошо знал Афины, и он быстро показал и рассказал мне, с присущей ему бойкостью, все самое интересное, чем я могу себя потешить.
Конечно, Пифодор предлагал мне столь степенные и приличные развлечения, что я не решился спрашивать по поводу проституток. Тем более, я взял с собой полюбившуюся Антиллу Поликсену, в основном, для его спокойствия, но и для своего удовлетворения тоже.
Никогда не знаешь, чью жену трахнешь в Греции, и как это тебе аукнется. Хотя, надо признаться, с женщинами у них куда строже, чем у нас. Казалось бы, вольность греческих нравов, но распространяется она только на мужчин. Приличные греческие женщины живут в каком-то своем женском мире, куда мне ходу быть не могло, а проститутки — что ж, они одинаковы везде, тем более, что везде они чаще всего гречанки.
Так вот, вместо того, чтобы шляться по борделям и игорным домам, я ходил, главным образом, слушать философов. Скучно, но в то же время весело — странное сочетание. Весело оттого, что мозги работают, что-то там приходит в голову, на какие-то вещи смотришь под другим углом. Скучно оттого, что ты все-таки не в борделе, и не в игорном доме.
Зато игры у них очень приличные, весь этот спортик, они в него умеют. Разве что борются голыми, абсолютно, безо всяких там. Это в первый раз, когда я попал на их соревнования, вызвало у меня приступ смеха, который я с трудом подавлял.
Пифодор предложил мне попить водички.
— Да, — сказал я, задыхаясь от подступающего к горлу смеха. — Было бы славно. А пацанам это удобно?
— А? — Пифодор посмотрел на меня непонимающе.
— Ну, — мне стало неловко. — Ну там. Они ж это.
— Голые? — спросил он.
— Точно! — сказал я. — Голые ребята!
— По правилам противники не могут травмировать друг другу…
— А, — сказал я. — Только-то и всего. Ну понятно.
Не хотелось прослыть ханжой, и я важно закивал. Я все-таки считаю, что надевать на себя что-то, будучи, так сказать, при всем честном народе — надо. Не очень много, но надо.
Разве что можно сделать исключение для этого великолепного Марка Антония, да и то не очень часто.
В целом, мое предыдущее пребывание в Греции не оставило мне шанса приобщиться к греческой культуре, я слишком много бухал. А тут вдруг началась она, культура: философы, игры, даже мистерии.
Посвятили меня в некоторые таинства. Скажу только, что они связаны с Дионисом, а больше ничего скажу. Это же таинство, Луций, я буду проклят вовеки, если решусь раскрыть свой болтливый рот!
У меня от этих таинств остались два бычьих рога, которые я взял с собой для памяти и в качестве сувенира (мне разрешили, они, скорее, не священны, это эстетический вопрос!). С этими бычьими рогами я носился, как мальчишка с новой игрушкой, очень они мне нравились и очень приятны мне были на ощупь.
Кроме того, прекрасный сувенир — гладкие, с градиентом от свело-бежевого к совсем темному на кончиках, пахнущие чем-то пыльным, как же они мне нравились, я все время вертел хотя бы один из рогов в руках, царапал его ногтями, пробовал на зуб. В какой-то степени, наверное, я так к ним прикипел, потому как надо было занять свои руки чем-то, если уж не едой и не выпивкой.
Я и сам много занимался спортом и Антилла к этому приучал. Греция вообще располагает к достижениям на этой почве. Подавал я, так сказать, пример римской дисциплины и даже рано вставал, чтобы позаниматься в зале.
— Папа? — спрашивал меня Антилл. — А почему дяди в общем зале занимаются голыми?
— Потому что они педики, сынок, — сказал я. — Наверное.
Антилл спросил, что такое педики, и я, поняв свою педагогическую ошибку, сказал, что это некрасивое и невежливое название греков.
— Надеюсь, — сказал я. — В твоей жизни это знание не сослужит плохую службу. Тебе, быть может, еще управлять Римом. Так что, никогда не называй так греков. Некоторые из них очень обидчивые и целеустремленные. Взять хотя бы царя Пирра…
Так я смог перейти к истории, которую детям полезно знать. Молодец, Марк Антоний, воспитатель будущих поколений.
Меня даже приглашали участвовать в их суде. Странное очень предприятие, скажу я тебе. Но понимаю, почему Филоклеону из "Ос" это все дело так нравилось — затягивает.
Конечно, я старался судить так, чтобы меня потом поминали добрым словом, как человека разумного и справедливого. Это здорово развлекает, Луций, и закаляет мозги.
А по вечерам мы с Антиллом гуляли по Афинам, заглядывая к бойким лавочникам и выбирая подарки для Фульвии и детей.
Как-то раз мы припозднились. Антилл никак не хотел спать, и я его понимал. В детстве любая активность в темное время суток казалась мне чудом и приключением, удивляла и радовала. Кроме того, Антилла завораживали огни ночного города, запах вина и рыбы, громкие голоса.
Все то, что было мне привычно, казалось ему крайне интересным. В этом и состоит, как по мне, чудо, которому учат нас дети — в способности взглянуть на мир по-новому и увидеть нечто особенное там, где мы разучились его видеть.
Так вот, я потворствовал радостному ощущению Антилла и делал вид, что не замечаю, который час. Над нами было красивое, черное (в Греции оно совершеннейшего оттенка) небо, и тут вдруг далеко-далеко мы увидели салют.
Я поднял Антилла на руки, и он весь вытянулся, чтобы посмотреть, как зеленые и красные брызги разливаются по небу.
— Цветные звезды! — крикнул Антилл. — Папа, смотри, цветные звезды!
— Да, — сказал я. — Это у них праздник опять, сынок! Что за люди, что ни день, то какой-нибудь праздник. Но меня все устраивает.
И тут до меня дошло, что Антилл еще никогда не видел салют. Его запускали с Акрополя, и я знал, что как бы мы туда ни спешили, все равно не успеем. Так что я остался стоять. Народ все тек мимо нас, и Антилл на моих руках заходился радостными возгласами. На руке у него сверкал пластиковый фосфоресцирующий браслет, который я купил ему в одной из лавок. Такая трубка с жидкостью внутри. Мы ее погнули, и она засветилась, так забавно. Браслет Антиллу очень нравился, хотя он был куда дешевле всех подарков, которые я делал ему обычно. Браслет этот сверкал в темноте ярким, жутким зеленым светом. Когда он лопнул, и жидкость вытекла Антиллу прямо на руки, я страшно перепугался. Побежал к доктору, спрашивать, не вредно ли это для ребенка. Оказалось, там, внутри, что-то такое безобидное. А я думал, безобидные вещи так не светятся.
Да, так вот, все сияло — салют на небе, браслет на Антилле. Когда салют закончился, мы пошли купить мороженого.
— Какое хочешь? — спросил я.
— Фруктовое разное! — сказал Антилл. Я улыбнулся лавочнице.
— Ты уж сделай фруктовое разное ему. А мне послаще, не знаю, что тут самое сладкое.
— Карамельное, наверное, — улыбнулась она.
— Ну тогда карамельное.
И мы пошли посидеть к морю. Дул весьма прохладный ветер, и я закутал Антилла в свой плащ.
— Только маме не говори, — сказал я. — Про мороженое, что мы его ели, когда так холодно.
— Не скажу, — заверил меня Антилл. Я подмигнул ему, а потом надкусил вафельный рожок снизу и принялся вытягивать мороженое.
— Гляди! — сказал я. — Как папа может!
Антилл попытался сделать то же самое, но обляпался и отморозил себе зуб.
— Эх ты, — сказал я, вытирая воротник его туники и собственный плащ, которым Антилла обернул. — Тебе еще учиться и учиться. На, подержи мое мороженое! Нет, не ешь! Ладно, ешь.
Антилл засмеялся, а потом вдруг замолчал, глядя куда-то вдаль, на бушующее море.
— Там корабли? — спросил он. А я подумал, как же легко дети переключаются с мысли на мысль.
— Да, — сказал я. — Точно, там корабли. Далеко. А вон маяк. Он светит кораблям, чтобы они не разбились о камни и благополучно добрались домой или в гости.
Антилл вздохнул.
— Чего грустишь? — спросил я.
— За корабли, — сказал Антилл, но мысль свою пояснять отказался. Дети — сложные натуры. Куда сложнее, чем мы привыкли думать.
— А знаешь, что мы сейчас делаем? — спросил я, чтобы его подбодрить.
— Сидим у моря, — сказал Антилл. — А ты не замерз, папа?
— Я никогда не мерзну, — сказал я. — Я же великолепный Марк Антоний. Ты тоже великолепный Марк Антоний, не забывай об этом. И все-таки, родной, что мы сейчас делаем?
Антилл сказал:
— Разговариваем.
— А еще?
— Мы ели мороженое, но больше не едим.
Я улыбнулся ему и поцеловал в макушку.
— Мы делаем воспоминания, — сказал я. — Твои воспоминания, мои. Когда-нибудь ты станешь взрослым, а я — старым. И мы будем вспоминать, как мы здесь сидели. И соленый ветер. И корабли, и маяки. И мороженое.
— И то, что я испачкался?
— Да, — сказал я. — Но это будет не так позорно, как сейчас, обещаю тебе. Мы с тобой создаем твою жизнь. Жизнь состоит из воспоминаний, хороших и плохих.
— Как будто ты кладешь их в сундук, — сказал Антилл задумчиво. А я подумал: до чего же он похож и на меня, и на Фульвию. Смешной ребенок, у него глаза Фульвии, но мои кудри, и мой нос. Теперь это было видно сильнее, чем когда бы то ни было.
Я сказал:
— Сейчас тебе кажется, что это очень приятный вечер. Ты положишь его в свой сундук и достанешь через много лет. И тогда увидишь в нем то, чего не видишь сейчас.
— Что?
Я пожал плечами.
— Не знаю. Пока никто не знает. Может, ты подумаешь, что я плохой отец.
— Ты лучший папа в мире!
— Потому что я отдал тебе мороженое?
— Потому что ты отдал мне мороженое, — согласился Антилл. Я потрепал его по волосам и взглянул на черное афинское небо, столь прекрасное, что не передать словами.
Я сказал:
— Папа тебя любит. Ты должен это знать. Просто обожает. И твоих братьев и сестер. И даже Антонию.
— Антонию? — спросил Антилл.
— Ну, твоя единокровная сестра. Ты ее и не помнишь, наверное. Она живет с ее мамой. Ее я тоже люблю.
— Понятно, — сказал Антилл легко.
Я подумал: однажды он вспомнит этот разговор и поймет, что я не во всем был неправ.
Но теперь выходит так, что Антилл умрет молодым. Я не смею надеяться, что Октавиан пощадит его. Помимо высоких чувств, грусти и горечи, эта мысль вызывает у меня еще досаду.
Глупо, да? Но вот так. Для кого же мы сидели тогда у моря, если не для него, не для его будущего, не для того, чтобы он вырос и стал счастливым, наполненным этой памятью?
Что будет, если эти воспоминания просто исчезнут со смертью нас обоих? Я хотел, чтобы его жизнь тянулась дальше, в вечность, как хочет и любой родитель.
Знаешь, что думает об этом моя детка? У нее есть свои переживания по поводу Цезариона. Селена, Гелиос и Филадельф все-таки совсем еще малыши, у них есть шанс выжить, но Антилл и Цезарион — да, вернее, нет, и мы должны быть к этому готовы.
Так что моя детка? Что она говорит? Как защищается от смерти, которой сама так боится?
— Что же мы тут поделаем? Мы люди, мы рождаемся, и мы умираем, такова природа и всех вещей, не только людей. Свой срок есть у растений, животных и даже у камней.
А мне тяжело все равно. И ей, наверное, тоже все равно тяжело. Да нет, точно ей тяжело. Вот что я тебе расскажу, Луций — со своей смертью смириться легче, чем со смертью сына, пусть даже и лишь предполагаемой.
Своя смерть ближе, роднее, а смерть Антилла кажется мне ошибкой в мироздании. Чем-то, чего на самом деле не должно быть.
И плевать ведь на то, что у всего и у всех свой срок.
Но, что касается того малыша Антилла, маленького и любопытного мальчонки. У него ведь было даже свое политическое чутье, ну, какое-то. И очень уверенный подход.
Как-то, уже в Риме, я принимал у себя сына Антипатра, с которым мы вместе воевали в Египте. Этот сын его, Ирод, был чудо как похож на папку. Впрочем, может это из-за длинной черной бороды. Чем бородатей человек, тем больше он походит на других бородатых.
Так вот, этот молодой сынок Антипатра, Ирод, отличался той же обходительностью, тем же зубодробительным спокойствием. Он разговаривал очень размеренно, речь его текла, будто ленивая река в низине.
Ирод просил меня одобрить его власть в Иудее. В память о его отце я, недолго думая, согласился. Тем более, как я слышал, Антипатр сделал жизнь евреев весьма сносной.
Мы с Иродом провели что-то вроде двух или трех дней вместе, и все время разговаривали, главным образом, о политике и об искусстве. Странное дело, обычно, когда общаешься с кем-то так интенсивно, речь все-таки заходит о чем-то личном. Об убеждениях, к примеру, или о женщинах, или о семье. Да о чем угодно сверх стандартного пакета обсуждений для единственной трехчасовой посиделки.
Ирод, однако, был не из тех людей, о которых ты даже по прошествии нескольких суток что-либо узнаешь.
Впрочем, политическая линия, которую он предлагал (сдерживание еврейских националистических настроений, в первую очередь), мне была вполне близка, и я отпустил его, заверив, что Рим поддержит такое мудрое назначение и такого лояльного царя, а чуть позже, выполняя свое обещание, представил этого парня сенату, который единодушно поддержал такую одобренную мною кандидатуру. Да, сенат тогда был уже не тот. Скучновато стало без Цицерона.
Тем же вечером Антилл, все это время игравший с детьми Ирода, еврейчиками (или идумеятами, уже не знаю) разной степени крошечности, сказал мне:
— Этот дядька плохой.
— Да ладно? — сказал я.
— Он злой, — сказал Антилл.
— С чего ты взял, малыш?
Антилл пожал плечами.
— Злые глаза, — сказал он.
— Да просто еврейские. Тебе непривычны такие глаза.
Антилл покачал головой.
— Просто понятно про него, — сказал он упрямо.
Я хмыкнул.
— Ничего-то ты не знаешь. У него отличный отец, просто замечательный мужик. Я с ним вместе воевал в Египте. Очень смелый и отважный.
— А он — не такой.
Зато этот мужик, Ирод, он любит клепать зданьица. Отгрохал мне в этом их священном, великом и все такое, городе дворец, представь себе. Сейчас-то он уже вылизывает пятки Октавиану. Впрочем, пусть отгрохает ему еще один дворец — все работа для этих беспокойных евреев.
Вот такая история. Вот такой у меня умный ребенок.
Ну да ладно, все время я про этого своего ребенка сегодня. Волнуюсь, что с ним будет, и не могу отстраниться. Он хороший мальчик. Мозговитее меня. Куда как.
Интересно, в кого это? Ни я, ни Фульвия особенным приматом разума над эмоциями не отличались никогда. Впрочем, я, хоть и дурак, но хитрюга, а Фульвия, хоть и дурочка, но цели ставить умеет и достигать их, кроме того, может отлично.
Нет, лучше я и снова я. Что я в то время? Я был счастлив.
Большое путешествие, любовь народа, все новое и другое, и, наконец, никакого щенули, чтобы выводить меня из себя.
Хотелось бы, чтобы это мое счастье продолжалось вечно.
Во всяком случае, ну, еще чуть-чуть. Впрочем, милый друг, сейчас я понимаю, что почти все периоды моей жизни могу в том или ином смысле назвать счастливыми. Не без исключений, но да.
Просто Афины — другое счастье, чем Египет, и уж точно другое, чем Рим. Но было так много хорошего. Моя коробка с воспоминаниями полна.
Вот, ведь есть еще Поликсена. Очаровательное создание. Мне казалось, они с Эротом друг в друга влюблены, впрочем, уверен я не был. Мы с ней проводили жаркие ночи, но ни она, ни я не испытывали настоящей страсти друг к другу.
Все это выходило как-то механически, без должных чувств, и отдаться процессу было сложно.
Я слишком хорошо знал Поликсену, она нянчила моего сына и была мне скорее, как бы это сказать, подругой. Да, Поликсена — веселая, яркая деваха. Молодая, но с умом прожженной жизнью женщины, как это часто бывает со шлюхами.
После секса мы с ней частенько лежали и болтали. Нам было хорошо и спокойно, но слишком спокойно.
Как-то раз она сказала:
— Антоний, тебе все это еще не надоело?
— В смысле? — спросил я.
— Ты так чинно себя ведешь здесь. Но это же спектакль. Разве не хочется тебе сделать что-нибудь этакое?
Я пожал плечами.
— Не знаю, — сказал я. — Такое ощущение, что у меня в жизни некоторое затишье. Вот начну войну с Парфией, верну орлов Красса, тогда-то люди полюбят меня.
— Они и сейчас тебя любят, — сказала Поликсена.
— Ну да. Но я отдыхаю. Не знаю, теперь мне кажется, что я жутко устал. Даже удивительно, как я умудрился так устать за эту маленькую войну.
Поликсена положила голову мне на плечо, совершенно по-дружески.
— И у тебя нет никаких идей?
— А ты что, шпионка Октавиана?
Поликсена засмеялась.
— Глупости какие. Но я знала тебя не таким. Неужели власть меняет людей в лучшую сторону?
Я пожал плечами.
— Обычно бывает наоборот. Тем более, со мной. А тут вдруг я такой спокойный.
Поликсена сказала, что мне, должно быть, скучно.
А я вдруг понял, что просто не знаю, правда не знаю, куда двигаться. Все странно и непонятно, теперь, без Брута и Кассия, неясно, куда мы направляемся.
С тех пор стали меня подгрызать какие-то сомнения в выбранном пути. Оказалось, я слабо представляю себе, кто я такой без Цезаря и без мыслей о нем, в новом мире, где эта история закончилась.
Кто я такой в новой истории? Чего я добиваюсь? Чего хочу?
У меня наступил, если можно так сказать, кризис идентичности.
От этого я затосковал. И вот меня уже несколько перестали радовать все приличные афинские развлечения. Пифодор спросил меня как-то, заметив мое состояние, все ли в порядке.
— Да, — сказал я уныло. — Все в порядке.
— Антоний, в последние дни тебя мало что радует. Может, ты хочешь отправиться дальше?
— Да, — ответил я так же уныло. — Должно быть, хочу отправиться дальше.
Далеко-далеко.
Помню, мы тогда сидели в театре. Представление еще не началось, и все галдели. Мне пришлось кричать Пифодору на ухо.
— У тебя когда-нибудь бывало такое, чтобы ты терял себя после какого-то значимого события?
Пифодор нахмурил красиво очерченные брови.
— Пожалуй, нет, — сказал он.
Одно из двух, либо греки в целом устроены проще, либо Пифодора интересовали, в основном, деньги. А с таким смыслом жизни, простым и ясным, сложно прогореть.
Пифодор сказал:
— Я подумаю над твоей проблемой.
Вот человек, а? Хорошо я пристроил свою дочку.
После представления (ставили "Лисистрату") мы с Пифодором еще долго покатывались со смеху, и всю дорогу домой я смеялся и не мог остановиться. Мой экстатический смех, а так же посещение театра, все это навело Пифодора на одну мысль.
Он сказал мне:
— Тебе, Антоний, следует обратиться к Дионису, тем более, что ты посвящен в его мистерии. Дионис дает вдохновение. А ведь тебе нужно, как я понял, вдохновение.
— Да! — сказал я. — Точно! Это именно то слово! Мне нужно вдохновение!
Впрочем, по поводу Диониса у меня был некоторый скепсис. Во всяком случае, во время мистерий ничего такого особенного я не почувствовал (не грех ведь сказать это, правда?).
Однако, я сделал все, как мне сказал Пифодор. Не скажу, что конкретно, скажу лишь, что некоторым образом это напоминало старые добрые Луперкалии, хоть ассоциация и не прямая.
Сначала мне казалось, что бог не принял мою молитву. Во всяком случае, на рассвете я вернулся просто чудовищно усталый, рухнул в нашу с Поликсеной постель и немедленно уснул.
Проспал я вплоть до следующей ночи. Когда я проснулся, Поликсена уже дремала рядом. Все во мне звенело, будто внутри меня была натянута струна, и от всякого движения звон в голове становился сильнее. Никогда прежде я не чувствовал себя столь странно. Я ощущал болезненное возбуждение, спазмами отдававшееся внутри, и еще голод, дикий голод. Спросонья, не понимая еще ничего, я вцепился зубами себе в руку, почти не почувствовав боли, я прокусил кожу, и в рот хлынула горячая кровь.
Я застонал, от желания и от радости. Ощущение крови во рту было неизъяснимо приятным. Я хотел вгрызться в себя и сильнее, хотел откусить от себя кусок, это правда, казалось, голод мой впервые утоляется по-настоящему. С трудом прекратив лакать свою кровь, я навалился на Поликсену. Что за чудную ночь мы провели, и как она стонала. Это вдвойне удивительно, учитывая, что мы никогда прежде не испытывали друг к другу никакой страсти, кроме чисто технической. Она кричала подо мной так искренне, как, может, никогда и ни под кем, и плакала, и лезла целоваться, что тоже было ей вовсе не свойственно, лезла целоваться так отчаянно, так же отчаянно, как сжимала меня внутри.
Когда мы закончили, она долго лежала, раскинув руки, удивленная и даже испуганная. Пот блестел на ее светлой коже драгоценными капельками, я слизывал их, они были солеными, как кровь, и такими приятными. Я не вполне осознавал, что происходит, чувствовал себя подхваченным большой волной, неведомо куда направлявшейся. Рука моя все еще кровила, я поднял ее над своей головой, и капли крови упали мне на макушку: одна, вторая. Так же помазал я и Поликсену, к которой был прежде совершенно равнодушен, и которую в тот момент любил столь сильно.
— Ты блядский Дионис, — выдохнула Поликсена, не то в ужасе, не то в восторге. Я поцеловал ее или, скорее, укусил, а потом встал и, голый, подошел к зеркалу. В голове толком не было никаких мыслей. Я рассматривал свое тело, вдыхал и выдыхал, вдыхал и выдыхал. Потом, совершенно счастливый, пустой, но наполненный, я потянулся к ближайшему сундуку, открыл его и достал оттуда бычьи рога.
Я приставил их к голове и улыбнулся себе самому, а, может, и кому-то еще.
— Я блядский Дионис, — сказал я.
Как это говорят?
"Я Диониса зову, оглашенного криками «эйа»!
Перворожденный и триждырожденный, двусущий владыка,
Неизреченный, неистовый, тайный, двухвидный, двурогий,
В пышном плюще, быколикий, «эвой» восклицающий, бурный,
Мяса вкуситель кровавого, чистый, трехлетний, увитый
Лозами, полными гроздьев, — тебя Ферсефоны с Зевесом
Неизреченное ложе, о бог Евбулей, породило
Вместе с пестуньями, что опоясаны дивно, внемли же
Гласу молитвы моей и повей, беспорочный и сладкий,
Ты, о блаженный, ко мне благосклонное сердце имея!"
И неистовый, и мяса вкуситель кровавого, и бурный. И даже двухрогий. Разве только что не трехлетний.
Мне было ясно, чего я хочу от мира, а, главное, от себя самого, и куда я двинусь дальше.
Я облизнулся, глядя на бычьи рога, приставленные к моей голове. Поликсена за моей спиной истерично засмеялась.
Вот, все, теперь спокойной ночи. Столь бурное чувство — я хочу и не хочу его вспоминать.
Я люблю тебя, так хочу успеть все тебе рассказать.
Твой брат, Марк Антоний.
После написанного: вот почему для моей детки я всегда бычок.
Послание двадцатое: Новый Дионис
Марк Антоний, брату своему, Луцию, по которому он так скучает.
Здравствуй, Луций, милый друг, перейдем сразу к делу. Пишу ли я тебе для того, чтобы вновь пожаловаться на эту свою странную жизнь?
И да, и нет. С одной стороны все вполне хорошо, даже здорово, настроение приподнято, я — полон сил.
С другой стороны, принципиально ничего не меняется, и тебе, должно быть, скучно уж читать, как я сижу в Александрии и смотрю на безоговорочную, теперь уже точно, победу щенули.
Все так и есть. Происходит мало что, кроме попоек и пустых рассуждений над картой. Все глупо, но я не жалею.
Это дурацкий конец, но он ожидаем. А великое благо ожидаемой смерти в том, что к ней можно подготовиться. Я и готовлюсь. Теперь все так хорошо вспоминается. Я думал, что память слабее, что у нее ограниченная сила доставать предметы из темноты. Это не так. Память — огромный свет, и он льется на мой мир, и делает его прекрасным и наполненным смыслом.
Во всяком случае, я знаю, для чего все это. Для меня. Моя детка спрашивала себя, да и меня тоже, в чем великий смысл, зачем была она.
Мой ответ таков же — для меня. Хотя, как я понимаю, правильный ответ в том, что она была для нее самой. Так считают стоики — каждый проходит этот свой путь, достойно или нет. Каждый начинает его и каждый заканчивает.
Я есть я, да? Все как в детстве.
Припомни, когда мы были маленькими, и я, как только у меня что-то не получалось, или я чувствовал себя плохо, неважно по какой причине, разводил такую трагедию, ну такую трагедию. А то как же — мир не вращается вокруг Марка Антония, и существует не для него, и все происходит не так, как он хотел. Страшное дело.
Так вот, я разводил такую трагедию и убивался ужасно, а ты говорил:
— Приходи ко мне пожалиться.
Пожалиться — такое смешное слово. Его не существует, но оно есть, во всяком случае, в нашей с тобой семье.
А ты был такой добрый ребенок. И вот сейчас я снова пришел к тебе пожалиться.
Моей детке этого всего не понять. Во-первых, она поправила бы тебя, сказала бы: "пожаловаться", а не "пожалиться", а во-вторых, что за глупость жалиться или жаловаться кому-либо на то, что все идет не так. Разве что-то изменится?
Но от слов меняется все, я-то знаю. Словами я множество раз менял собственную жизнь, превращал ее в нечто совершенно новое.
Послушай, сегодня ко мне приходила их египетская гадалка, не знаю, ведьма, я не разбираюсь. Раскинула какие-то камушки и вдруг, коснувшись их, будто обожглась. Посмотрела на меня и сказала:
— Ты полон скверны.
— Я полон скверны, — повторил я.
Моя детка сказала, что это все глупости, ее просто развлекает сам процесс. А я все думал, и вправду: сколько нечистой любви я испытал, и сколько мертвых тел трогал. Должно быть, я полон скверны.
Но разве в этом причина моих неудач? Пожалуй, чем больше скверны я цеплял в прежние времена, тем лучше себя чувствовал.
Мы с гадалкой еще болтали некоторое время, но потом моя детка сказала:
— Антоний, все это скучно.
Когда гадалка ушла, я спросил мою детку.
— И что ты об этом думаешь?
Она уселась ко мне на колени и поцеловала в губы.
— Ты полон скверны, — сказала она. — Будто кусок гнилого мяса, брошенный на землю. Доволен?
Я засмеялся, а она поцеловала меня еще раз. И вдруг мы замерли, и долго сидели неподвижно, смотря в глаза друг другу. Одно из самых странных чувств в моей жизни. Ее глаза так темны. Они как смерть, как ночь, как сон без снов, чудесны и манят, несмотря на эту жуткую черноту.
Да, я смотрел на мою детку, а она смотрела на меня. Мы ни о чем толком не думали, во всяком случае, я. Просто вцепились друг в друга взглядами и постарались запомнить. Это бесполезно — память тоже смертна. Но это прекрасно. Никогда со мной не было такого, будто между мной и моей деткой протянулась звенящая цепь, крепкая, и означающая, что мы никогда не расстанемся.
В любом случае, когда это кончилось, я почувствовал, что мы оба обессилены. Ее плечи опали, глаза затуманились, я глубоко и спокойно дышал, будто засыпая.
Моя детка убрала прядь волос с моего лба и сказала:
— Новый Дионис.
— Да, — сказал я. — А ты моя Исида.
— Разве пристало богам бояться смерти или расставания, Антоний?
Новый Дионис.
О, так начинается последний этап моей жизни, именно с этого осознания.
Нет, не думай, Луций, я не сумасшедший и никогда не считал себя богом в действительности. Боги недосягаемы и мудры, а я тут, и я глуп.
Нет, здесь другое. Этот образ — Дионис, Податель Радости, Дионис Неистовый и Кровожадный, Дионис-Бык, Дионис Триждырожденный, Дионис Самопожирающий, да, все это давало мне ориентир и вдохновение.
Теперь я знал, кто я такой, и что собираюсь делать. Я собирался быть милостивым любовником для моих подданных, собирался быть их защитником и заступником, собирался осыпать их золотом и любить, да, любить, любить до последней капли моей крови. Я хотел стать для них богом радости и экстаза.
Все это были мои фантазии о власти, о любви всех ко мне, и меня ко всем, о целом мире, который я сделаю цветущим, и которому дарую утешение. Мне снились такие сны. Да, это было то, чего я хотел — стать всем. А кто есть все? Это бог.
Впрочем, конечно, то всего лишь образ, всего лишь терзавшее меня болезненное вдохновение, невысказанные слова о любви и крови, тайные молитвы, преклонение перед вином, что подарил нам Дионис, наконец. Я любил вино так сильно, словно я его создал, поверь мне.
Но нет, было ведь и другое — вполне рациональное решение, которое пришло мне в голову. Я отправлялся на Восток, имевший долгую и сильную традицию обожествления своих правителей. И мне хотелось прийти на мой древний, прекрасный Восток хозяином, величайшим из величайших, Дионисом Освободителем.
Это был, если хочешь знать, ход политический. Как я частенько говорил в Афинах: я тоже немножко грек.
Мне хотелось стать причастным к их культуре. Я уже понимал, что на Востоке останусь. Мне предстояло вести войну с Парфией (там набирал силу Лабиен, предатель, примкнувший к заговорщикам), а после нее я планировал вплотную заняться восточными владениями, столь богатыми и столь щедрыми, и столь пленительными.
Восток казался мне желающей любви женщиной, готовой впустить меня в себя. Я был уверен, что здесь, а не на Западе, простирается то, что можно назвать моей судьбой. Во всяком случае, я был влюблен в Восток еще давным-давно, в юности, и сейчас планировал связать свою жизнь с их золотом, зерном и драгоценными маслами, с их невероятной роскошью.
Вот что было по мне.
Я хотел войти в Эфес, как правитель Востока, вот что. Как правитель, которого они хотят и заслуживают, а значит — как бог.
Как Новый Дионис. Вернее, тогда я еще не называл себя так, хотя в голове моей с самого начала ярче всего горело именно это имя, почерпнутое подсознательно из давней истории с Птолемеем, носившим его.
Унылый, озлобленный, желтый и больной Птолемей, впрочем, мало напоминал Диониса. А я несколько напоминал. Если не беспутностью и необузданностью, то уж любовью к вину — точно.
Да, у меня была сверкающая идея, Луций. Я писал о ней в одном из писем к Фульвии. Помню его ясно, хотя, может быть, и не дословно. Что-то вроде того:
"Здравствуй, жена!
Я собираюсь устроить прекрасную процессию в Эфесе, это не триумф, которого я более чем заслуживаю, но нечто, может быть, лучше триумфа. Люди Востока так любит богов, они любят богов больше, чем друг друга, и уж точно больше, чем римлян. Я стану для них не меньше, чем богом. Я осыплю их драгоценными дарами, и их сердца станут принадлежать мне. Разве не так должен поступать самовластный правитель Востока, скажи-ка мне это?
С любовью, с радостью и со всем другим, что присуще Новому Дионису, Подателю радости.
Будь здорова!
Твой муж, сама знаешь его имя (я надеюсь)."
На что Фульвия мне отвечала примерно следующее:
"Муж, здравствуй!
Что за херню ты несешь, ради Юноны, любимый, сейчас Октавиана не любят, а, значит, любят тебя, тебе незачем становиться богом! Наоборот, стоило бы вернуться со своего древнего святого Востока в рациональный и простенький Рим, чтобы уладить там все свои дела. Разве не этого ты хотел больше всего? Наша сука ощенилась, я решила утопить приплод, хоть Клодия и печалится по этому поводу.
В остальном, все в порядке.
Одумайся и возвращайся, я жду тебя, как моего мужчину и моего повелителя!"
Наверняка она показывала тебе все эти письма, впрочем, все же процитирую свой ответ.
"Здравствуй, жена!
Клянусь Геркулесом, если бы ты выбрала метафору еще более очевидную, я бы послал тебе кинжал, чтобы ты покончила с собой поскорее, пока я не уличил тебя в предательстве.
Что за глупости ты несешь. Октавиану принадлежит Италия, моя же судьба лежит на Востоке, где мне необходимо разобраться с Лабиеном.
Жди меня, будь примерной женщиной и не лезть не в свое дело.
В целом и в остальном, я люблю тебя.
Хоть и удивляюсь сам.
Ожидаю встречи с тобой, от этого мне делается жарко.
Прохладно же делается от того, что вместо подобающих тебе обязанностей, ты лезешь совершенно не туда.
Займись лучше тем, что поцелуй Клодию, Клодия, Куриона и Юла. Тебе же привет от Антилла. Поцелую его за тебя, пожалуй.
Веди себя хорошо, и все такое.
А главное — будь здорова.
Твой муж, Марк Антоний".
Фульвия, видимо, обиделась, и крайне долго не писала мне вообще ничего. Примерно в это время, думаю, она цепляла на крючок тебя, дорогой друг.
Дело в том, что Октавиан предпринял, ради раздачи обещанной земли, крайне непопулярную в народе реформу. У него не было денег для выкупа участков, не было новых, во всяком случае приличных, территорий, и ему приходилось за кислый медяк выкупать у народа его кровное. Люди были недовольны, и это слабо сказано. Фульвия, безусловно, имела в виду, что сейчас лучшее время для того, чтобы явиться и гасить, наконец, наебыша, как она заповедовала. Народ, мол, меня поддержит, и все такое.
Я, конечно, был бы не против гасить наебыша, тем более, что ситуация подворачивалась удобная, однако в тот момент я не чувствовал желания. Сильного желания, такого, которое сметало бы все на моем пути. А я не могу действовать без желания.
Я пожалел крошку Октавиана, и в то же время убедился, при Филиппах, в его полной несостоятельности как полководца. Из этого следовали два вывода: он не опасен, и убрать его я могу когда угодно. Если же сам народ решит его участь, будет еще лучше — проливать кровь официального наследника Цезаря все-таки крайность, даже если его возненавидели в Италии. У народа короткая память, это я уже усвоил. Сегодня ненавидят, завтра превознесут, как невинно пострадавшего. Таков путь политика, и ничего-то я с этим не поделаю. Так же возносился и падал вниз я сам.
В любом случае, я считал, что с Октавианом разберусь так и тогда, как и когда мне захочется. После Филипп я ощутил некоторую свою неуязвимость, сопутствующая удача была, словно ветер в волосах, я ощущал ее дыхание. Мне не верилось, что когда-то будет иначе. Наоборот, я чувствовал какую-то невероятную возможность делать решительно все, что я хочу, и делать это всегда.
Захочу — объявлю себя Новым Дионисом, захочу — съем Октавиана.
Так-то, милый друг. А Фульвия в это время, как всегда упрямая, решительная и неугомонная, окучивала тебя. Ну, сам знаешь, лучше меня знаешь, и даже ты один знаешь, как. Наверное, она наплела тебе что-то про справедливость, и про бедных людей, и про моих ветеранов, получавших от Октавиана землю хуже, чем его собственные. В общем, ты мог вскочить на любимого конька и поскакать хоть к Плутону в пасть, без проблем, я тебя знаю. Тем более, что ты тогда был консулом, наделенным весьма и весьма серьезной властью, и власть тебе нужна была не для того, чтобы одеться в львиную шкуру и в колесницу запрячь тоже львов. Ты хотел справедливости.
Поэтому-то все так и вышло.
Я с самого начала не учитывал тебя и то, чего хочешь ты. Я рассчитывал, что Фульвия будет приносить проблемы, на то она и Фульвия, даже написал Октавиану письмо с просьбой быть снисходительным к моей глупой взбалмошной жене.
Октавиан ответил мне:
"Доброго дня, Антоний!
Безусловно, я не позволю никому разорвать узы дружбы, связывающие нас, будь уверен во мне и в моей благожелательности.
Что касается Фульвии, я буду снисходителен к ней, как к собственной сестре. Прошу тебя, не волнуйся за нее и продолжай свои приготовления к борьбе с Парфией.
Будь здоров!
Твой надежный друг, Гай Юлий Цезарь."
Ну, разумеется. А все-таки, когда я прочитал это имя — Гай Юлий Цезарь, я вздрогнул. Словно получил письмо от мертвеца.
Хотя их, разумеется, и на письме никогда не перепутаешь — другой почерк, но главное — другие слова. Октавиан во всем мягче и будто бы человечнее.
А на самом деле — нет.
В общем, попросив Октавиана, так сказать, приглядеть за Фульвией, я успокоился. Разве думал я, что все у вас выйдет именно так?
Октавиан, кстати говоря, не попросил меня о помощи, он хотел все разрулить самостоятельно. Что меня вполне устраивало, как ты понимаешь. Получив это письмо, я испытал невероятное облегчение.
На какое-то время я мог забыть о Риме, вырваться на свободу, превратиться в кого-то другого.
Пришло время менять шкуру. Скидывать, так сказать, смертную плоть. Вот чего мне хотелось тогда больше всего — снять с себя кожу, может, из-за восточной жары, а, может, потому, что мне было интересно стать кем-то иным, не только римским полководцем, но и восточным деспотом.
Во всяком случае, в это поиграть. Я хотел играть, радоваться, веселиться, вот чего я хотел — расслабиться после всех этих унылых мытарств вокруг смерти Цезаря.
Цезарь умер, я это понял и принял, я видел его во сне и, можно сказать, я попрощался с ним, затонула голова Брута в бескрайнем море, и эта история, если не считать прохвоста Лабиена в Парфии, была главным образом закончена.
Во всяком случае, ее кульминация подошла к концу. Осталось подобрать хвосты, этим я и планировал заняться после своего маленького кутежа.
О, великолепный Марк Антоний, сколько еще ты можешь оправдывать свои маленькие оргии? Столь многословно и столь бессмысленно.
Да, как я въезжал в Эфес, о, как я прекрасно это сделал. Во всем помогала мне моя Поликсена, страсть к которой мелькнула и пропала в ту ночь, когда я примерил на себя новую роль, однако крепкая дружба осталась.
Эта веселая девчонка была очень и очень мозговитой. Она, сама родом с Востока, представляла, что тут любят люди, какого рода представление необходимо устроить для них.
Как и везде, народ впечатлялся богатством. Но можешь ли ты представить, милый друг, чтобы я, полуобнаженный, с прикрепленными к голове бычьими рогами, украшенный цветами и виноградной лозой, проехался по Риму, величая себя Дионисом, Подателем Радости? Как бы это восприняли? Сам понимаешь.
Рим не готов к живым богам, это очевидно. Достаточно было послушать, как в год приезда моей детки, смеялись над ней и ее легендой о происхождении от бога наши язвительные матроны.
Рим — город людей, сколь бы набожен он ни был, богам там не место. Город людей, и их пороков, и их добродетелей.
Восток населяют боги, и я, хоть на короткое время, вписал себя в историю богов.
Как я был красив. Как был удивителен. Как долго длилась моя процессия. Мне показалось, будто бы вечность.
Надо сказать, денюжки, которые я насобирал, пришлось тут же спустить на прекрасное представление, мною же и устроенное. Не все, конечно, но некоторую часть. Однако я надеялся получить еще больше, чем в Греции, на зажиточном Востоке и не боялся трат.
Впрочем, когда же я боялся трат, дай-ка вспомнить, дай-ка подумать. Никогда, наверное.
Да, было все, сам город стал изумрудный от украсившего его плюща, я повелел увить им все, что можно, чтобы город дышал этим свежим запахом и прохладой, которую он приносил с собой. Разве не чудесно? Разве не навевает яркий, сверкающий на солнце плющ воспоминания о чудесном прохладном вине, выпитом в саду — у каждого хоть раз случался такой прекрасный день.
Мы с Поликсеной все продумали. Она говорила:
— Нужно пробудить их тайные воспоминания и удивить их буйством красок.
— Публика тут, как и в Риме, любит театральность.
— Даже больше, — сказала Поликсена. — Я из Эфеса, я прекрасно знаю, что город этот жарок и душен, они любят прохладу. Дай им образ, связанный с этим.
И мы стали думать над тем, как оживить этот город, и превратить его в прекрасное, цветущее, прохладное место.
Решено было украсить город плющом и прочей зеленью и раздавать людям прекрасное, прохладное вино. Сколько литров дорогущего вина я тогда извел? Не хочу считать и не буду.
Я нанял лучших музыкантов, игравших на причудливых восточных инструментах, лучших актеров, исполнявших роли сатиров, спутников Диониса, актрис, которые стали для меня бешеными от экстаза вакханками, полуобнаженными, заляпанными красным, не то вином, не то кровью.
Длинная процессия фокусников, музыкантов и актеров двигалась передо мной, все сверкало: лучшие наряды, лучшее вино, буйная зелень. Наконец, появился я в своей колеснице, едва ли одетый, но то, что на мне было — оно сверкало прекрасным, пурпурным, дорогим цветом, цветом венозной крови или вина.
В моих бычьих рогах запутались цветы, вокруг меня клубились дымы воскурений и звуки цимбал. Солнце сияло над моей головой, милосердное и безжалостное, сотканное из того же, из чего и я, из тех же бессмертных контрастов.
Мой въезд в Эфес был куда лучше триумфа. Триумф, в конце концов, оставляет тебя с ощущением того, что ты смертен. Въезд в Эфес превратил меня в бога.
Я осыпал людей золотом и серебром, за моей спиной выпускали из клеток птиц, пугали их, и птицы устремлялись вверх, усеивая собой весь небосвод.
О, я верю, я развлек всех. А главное, никто не ожидал ни такой щедрости, ни такой экстравагантности от римского правителя.
О, народ Востока, он столь долготерпелив. Я почувствовал, что они готовы меня принять, вот такого, каким я и был. Они готовы были любить пьяницу, готовы были любить развратника. То, за что меня порицали в Риме, распутство и развязность, вдруг превратилось в проявление моей божественной воли.
Я взмок и возбудился, член стоял колом, но мне не было неловко, вовсе нет, наоборот, то был символ плодородной силы и радости, которую она может дарить.
О, прекрасный въезд в Эфес, о сколько любви я испытал тогда, люди выкрикивали мое имя, женщины плакали, мужчины пытались дотронуться до меня, чтобы стать мне подобными, победоносными, сильными и прекрасными.
Каким живым я чувствовал себя, сколь многое я испытал тогда.
Как просто быть счастливым, правда? Я чувствовал тот самый экстаз, что обещали мне во время мистерии. Однако он настиг меня не там, а здесь, не как таинство, а как нечто явное, ясное, прилюдное.
Никакой тайны. Только любовь, столь много любви, что разрывается сердце.
— Податель Радости! — кричали они.
— Милосердный!
Да, после въезда в Эфес, закончившегося только когда небо посерело, и сумерки охватили буйство красок, созданное мной, я остался совершенно обессиленным.
В доме, который предоставил мне Эфес, я лежал на прохладных простынях, раскинув руки, и не мог пошевелиться. Кондиционер гонял по комнате холодный воздух и тихонько гудел. От меня пахло потом и благовониями, причудливый, роскошный, очень восточный запах.
О боги, подумал я, это свершилось.
Этот великолепный Марк Антоний, он же — Новый Дионис.
Мне вдруг вспомнился тот, кто живет в пещере, и с кем я встречался во время Луперкалий. О, мой бог неутолимой жажды, мой бог всепобеждающей жизни.
В теле я чувствовал сладкую, тягучую боль, какая бывает после сильных физических нагрузок. Впрочем, странное дело, не то чтобы проезд в колеснице был столь тяжек. У такой боли другая природа — божественная природа.
Я закрыл глаза и задремал, слушая гудение кондиционера.
Мне приснилась Фульвия. Она сидела на мне, оседлав мои бедра, и шептала мне на ухо:
— Теперь все будет по-другому, Антоний, все изменится, теперь скорость такая, что уже ничего нельзя ни остановить, ни изменить.
Я поцеловал ее, сгорая от желания, но вдруг понял, что мои губы не знают этого ощущения — я целовал другую женщину, ту, с которой у меня ничего не было прежде.
Проснулся я в радостном, каком-то нетерпеливом настроении. В тот вечер я сильно напился, причем совсем один, без всех, даже без Поликсены, в компании лишь раба-виночерпия, который держался от меня на приличном расстоянии — уж больно странно я пил, наливаясь вином безо всякой паузы, снова и снова.
А после той странной ночи, одинокой и бездумной, ночи после не менее странного сна, все пошло так, как прежде.
Разумеется, мне приходилось решать множество проблем, в основном финансовых, и я занимался ими, не скрою, без особенного желания.
Мир, украшенный роскошным Востоком, снова преобразился, и я почувствовал невиданную свободу заниматься тем, чем я хочу.
О, сколь прекрасно мне жилось там, когда каждый день цари и царицы являлись ко мне с подарками, которые, в конце концов, перестали впечатлять меня, сколь золотыми бы ни были. Цари склоняли передо мною головы в коронах.
Передо мною, великолепным Марком Антонием, разумеется, были раскрыты все двери мира, роскошнейшие дворцы ждали моего визита, царицы охотно раздвигали передо мной золотистые или бледные, натертые благовонными маслами ножки. Меня считали непобедимым, я был самой властью, я мог отбирать и даровать царства.
Восток кружит голову предельным могуществом. Сколь бы ни был победоносен я в Риме, только Восток вознес меня в небеса.
О, прислуживающие мне цари, о лежащие в моей постели царицы. В римлянине сильно желание, и так будет всегда, унизить любого, кто облечен царской властью. Избавившись от своего царя, мы обратили свою ненависть на иных царей. И мне так нравилось, что я владею их жизнями, будто маленьких птичек держу их в своей большой руке.
Я окружил себя изощреннейшими восточными льстецами, ловкачами и шлюхами, которые сопровождали меня в попойках.
Душная сладость благовоний, вязкость тамошнего вина — все было мне так приятно, и все вокруг развлекали меня круглые сутки.
А какие оргии я устраивал, может, не столь впечатляющие, как иные восточные деспоты, но милые моему сердцу и отвечающие моему представлению о себе, как о Новом Дионисе.
Я люблю оргии, не столько потому, что они дают какую-то непревзойденную любовь — такого нет, женщина, по моему мнению, должна принадлежать лишь одному мужчине, и тогда он может заняться ей хорошенько. Нет, дело не в качестве любви и не в обилии женщин, дело в тепле человеческих тел.
Жар этот вселял в меня почему-то не столько возбуждение, сколько чувство невинной радости и даже безопасности.
С другой стороны, конечно, не стоит недооценивать это чувство, когда сразу три или четыре девочки вылизывают тебя, стеная от неуемного желания. Это круто. Правда круто. И очень сладко.
Но слаще всего ощущение, которое поглощает тебя — общности, единства, и вместе с тем — абсолютной свободы, потери себя.
Я люблю терять себя и люблю себя находить.
В общем, все было прекрасно, честное слово, иначе и не скажешь. Я любил себя, и любил мир вокруг, а наслаждения, что дарил мне Восток, можно описать так: изысканные яства, изысканные вина, изысканные женщины, скользкие от масла и нежные, как ручные змеи.
Но в то же время кое в чем мне не было покоя.
Мне снилась какая-то неведомая мне женщина, тоску по которой не утолял никто. Ни одна, пусть самая прекрасная, царица не могла дать мне того, что эта женщина давала только во сне.
Я целовал ее, и она пахла сладко и терпко, и она гладила меня ласковыми руками, и елозила по мне со страстью, и дышала часто.
Мы никогда не доводили того, что начинали, до самого конца, нет.
Наоборот, она исчезала, стоило мне прижаться к ней сильнее, будто морок, будто туман.
Она звала меня по имени, но своего имени не вызывала. И я не мог узнать ее, хоть она и казалась смутно знакомой.
Я чувствовал себя очарованным, но в то же время растерянным. Во сне я метался по влажным простыням, не мог успокоиться, я искал ее и не находил, был разъярен, словно бык. В своем неистовстве я, как рассказывает Поликсена, даже кричал во сне.
Впрочем, сон мой всегда был короткий, пьяный, нервный. Не помню, чтобы я спал тогда больше трех часов к ряду. И хотя я был одержим негой и ленью, в сон она переходила редко. Я возлежал, вкушая впечатления дня, и позже они так переполняли меня, что я не мог закрыть глаза.
Да, мои глаза были напоены всем видимым.
Люди, что окружали меня и вели мои дела, казались мне совершенными. Я верил им безоговорочно. Все вокруг было таким ярким и сверкающем, а я купался в такой любви, что меня просто не могли обмануть. Во всяком случае, я так думал.
Кроме того, я плохо контролировал свои деньги. Иные просаживал быстро, не столько на себя, сколько на щедрые подарки любимицам и друзьям, иные, наоборот, не слишком легально получал, конфисковав у кого-нибудь что-нибудь по надуманному поводу.
Деньги легко уходили и легко приходили, этот круговорот казался абсолютно бесконечным. Восток был столь невероятно щедр ко мне, что я забыл и думать о том, что деньги имеют свойство исчезать, что это некоторый конечный ресурс.
Я плохо контролировал происходящее, уверенный, что могу взять столько, сколько нужно в любой момент.
Так что, когда, наконец, я решил посчитать, что у нас там выходит, и Эрот сказал мне:
— Недостача.
Я не поверил. Да, тогда я не поверил. Ну как так-то?
Я сказал:
— В смысле, то есть как? Я не понял.
— Недостача, господин, — повторил Эрот. — У нас должно быть как минимум вполовину больше денег, если исходить из изначальных расчетов.
Он и расчеты привел, не буду тебя ими утруждать.
— Так, — сказал я. — А куда же делись деньги?
Эрот красноречиво обвел взглядом роскошнейший зал, обильно позолоченный и пропахший дорогими благовониями.
Я сказал:
— Ладно, это я понял. Но ведь не мог я просадить столько!
Эрот сказал:
— Остальное украли.
— Кто?
— Все.
— Как все?
— Вероятно, все.
Мы помолчали. Я прижал руки к голове, протянул:
— Бля-я-я.
Маленький Клодий Пульхр в моей голове добавил:
— Сука, бля.
— Да, — сказал Эрот. — Ситуация плачевная.
— Какой кошмар, Эрот, — сказал я. — Ебни мне по морде, а то я не протрезвею.
— Да, господин, — сказал Эрот и сделал то, о чем я его просил. Щека горела, но трезвее я себя не почувствовал.
— Маловато, — сказал я.
— Денег или ударов, господин?
И тогда я завыл:
— И того и того! Какой я плохой! Какой бездарный!
— Вина, господин?
— Разбавленного, — сказал я. — И ты, вольноотпущенник, прекрати называть меня господином.
Голова у меня страшно заболела, я почувствовал, как настойчиво пульсирует в висках кровь.
— Да как вообще, а? Как это могло произойти?
На лице Эрота не дрогнул ни один мускул, он совершенно спокойно ответил мне:
— Ты слишком доверяешь людям, господин. Им должно быть стыдно, что они пользуются твоим доверием.
— Ладно, — сказал я. — Поздно уже горевать, пролитое вино в амфору не засунешь. Ну, ничего. Мы еще раз соберем с них дань, второй раз, снова, вот и все.
Эрот вскинул брови, совершенно по-патрициански, если хочешь знать.
— Да, господин? — спросил он.
— Да, — сказал я. — Именно так. Они и не заметят. Тут все так богато живут, чего бы им и еще разок не заплатить? Роскошные цари в золоте, пусть раскошелятся слегонца, с них не убудет. Снимут свое золотишко и мне сдадут.
Эрот вздохнул.
— Если ты позволишь мне, господин, это не лучшая идея.
— А у тебя есть идея получше?
— Да, есть, — сказал Эрот, но я не стал его слушать. Мне казалось, что проще всего будет просто взять с местных еще денег и не разбираться, куда утекла предыдущая партия. Я, в конце концов, не великого ума сыщик, чтобы все вот это выяснить.
Однако, как ты понимаешь, идея была тупая. Сейчас, вот, я ее просто написал, и она уже кажется мне невероятно глупой, и мне стыдно, что такое пришло Марку Антонию в голову. Однако, если уж мы с тобой решили говорить начистоту, то никуда я не дену все моменты, когда вел себя глупо, неосмотрительно или дико.
В любом случае, с этой моей идеей ничего не вышло. Один умник ловко поставил меня на место.
— Если ты можешь взыскать подать дважды в течение одного года, ты, верно, можешь сотворить нам и два лета, и две осени!
Таким образом мужик меня пристыдил. Чтобы закрепить эффект, он добавил что-то о том, чтобы я взыскивал утраченные деньги с тех, кто взял, а ему, мол, ничего не известно об этом.
— Если же, — сказал он. — Получив деньги, ты уже издержал их, мы погибли!
Ух. Да? Прямо ух.
Умник-то и не знал, что с одной стороны я деньги издержал, а с другой стороны еще и недополучил. Так что, мы одновременно и погибли и нет. Воцарилась некоторая неопределенность.
В любом случае, я внял умнику и решил не взыскивать дань дважды, тем более, что Поликсена мне на все лады твердила о простых людях, на которых падет это тяжкое бремя.
— Если ты думаешь, — говорила она. — Что цари передадут тебе то золото, что они носят, ты ошибаешься. Они ограбят простых людей, своих подданных, вот и все. Ни один царь не расстанется со своей золотой короной, пока его подданный еще может что-то ему отдать.
— Да, — сказал я. — Поэтому у нас в Риме не любят царей.
— Так не уподобляйся им! — сказала Поликсена.
Вот, еще одна умница. Что за люди меня окружают?
Это и предстояло выяснить. На всех своих чиновников я обрушил свой гнев, и был он совершенно монструозен. Великий гнев, скажу я тебе. Я отбирал, я казнил, я ярился и не мог успокоиться, и ничто не умиротворяло меня, даже то, что большую часть денег мне удалось вернуть с помощью изъятий и всего такого прочего.
Большую часть денег, да, но не все деньги. Кое-что исчезло в никуда. Рискну предположить, что сам я их и промотал, но тогда-то я, конечно, был настроен мистически. Я бы признал, что Меркурий порылся у меня в кармане скорее, чем собственную вину.
В любом случае, днем я устраивал кровавую баню моим ворам и лжецам, а ночью был так же неистов, теряя мою женщину из сна.
Тут я посмотрел в сторону Египта. Богатого, процветающего, Египта, который вполне мог поправить мое финансовое положение, как уже сделал это когда-то. Разве что, мои аппетиты с тех пор изрядно увеличились.
Кроме того, тамошняя царица дала мне прекрасный повод, она некоторым образом сотрудничала с Брутом и Кассием, во всяком случае, помогала им финансово. Очень неблагодарный ход со стороны женщины, у которой имеется от Цезаря сын, правда?
В любом случае, я разозлился на эту египетскую суку, отчасти из-за того, что у меня у самого были проблемы, отчасти из-за ее коварства, из-за того, как легко она перекинулась на другую сторону, забыв Цезаря.
И я немедленно написал ей крайне разъяренное письмо, в котором вызвал царицу Египта в Киликию для, так сказать, серьезного разговора. В ходе этого разговора я надеялся стрясти с Египта очень много денег.
И хотя слава сердцеедки следовала за моей деткой по пятам, я был абсолютно уверен в том, что не воспылаю к ней страстью даже при всей моей влюбчивости. Выморочные интеллектуалки не в моем вкусе. Девочка-сухарик, так я называл ее за глаза, когда она крутила роман с Цезарем.
Кроме того, я уже видел ее раньше, и она не произвела на меня должного впечатления.
В любом случае, письмо было резкое. Я и до этого слал моей детке приглашения, ровно такие же, как и всем другим царям и царицам. Она всегда игнорировала их, вежливо, но уверенно.
И только теперь, когда я разозлился, моя детка ответила:
"Если того пожелает повелитель Рима, царица Египта прибудет."
Не больше и не меньше. На листе папируса, пахнущем сладко и горько египетскими маслами, я обнаружил отпечаток маленького пальчика, масляный, пахнущий экзотическими цветами. Я долго изучал причудливые линии в этом отпечатке, валяясь на кровати.
Скорее, от нечего делать, скажу тебе честно, чем от волнения, но я запомнил все эти черточки и пятнышки.
Помню я их и сейчас.
Ну да ладно, я слишком взволнован уже теперь. О, если бы мы оба с ней знали, чем все закончится.
Впрочем, разве не отправился бы я к ней все равно?
Пойду займусь моей деткой и получу удовольствие от своей грядущей гибели, а завтра или, может, к рассвету приступлю к тому месту, с которого мы начинаемся вдвоем.
А тебя я люблю и по тебе я скучаю, и о тебе вскоре тоже будет много и слишком много.
Твой брат, Марк.
Послание двадцать первое: Встреча в Тарсе
Марк Антоний, по привычке начинающий эти письма одним и тем же способом, брату своему, Луцию.
Здравствуй, брат!
Как и обещал, возвращаюсь к написанию письма, знаешь ли, нечасто случается так, чтобы я не потерял мысль, а тут всю дорогу у меня в голове крутится тот день, и он такой яркий, такой явный, такой очевидный. Память услужливо подкидывает детали, и я наслаждаюсь ими.
Но перед тем, как я начну, традиционно хотелось бы сказать тебе что-нибудь мрачное. Ты же не против? Твоя ситуация и так мрачнее некуда, хуже я не сделаю.
Немножко, только-то и всего. Тем более, что тут я буду писать о любви, любовь и смерть связаны друг с другом столь крепко, что их не расцепить.
Да, словом, две мысли, только и всего, я не очень плодотворен на философские измышления сегодня.
Во-первых, печаль самоубийства, помимо, собственно, печали самой смерти, заключается, как по мне, еще и в том, что тебе, самым досадным образом, приходится уничтожать нечто еще работающее. Особенно это грустно, если работает оно без перебоев.
Мне жаль мое бьющееся сердце — я не имею с ним проблем.
Жаль чистую кровь, которая течет по моим венам, она прекрасна, красна и здорова.
Жаль столь выносливый желудок, вот даже так.
Жаль легкие, которые впускают и выпускают из себя воздух беспрекословно, наполняя меня жизнью.
Я вообще очень телесен, и, когда я думаю о смерти, то думаю о прекращении всех этих процессов, о том, что мне придется своей рукой остановить столь прекрасный и совершенный организм.
Ну да, думаю я тогда, прекрасный и совершенный организм, ты мог бы прожить чудную жизнь в мире, где все, а не только ты, лишены разума.
И все-таки, все-таки, разве не страшно убивать себя? Разве не страшно прекратить течение жизни столь ровное и столь сильное? Все равно, что разбить мозаику или уничтожить фреску? Или сжечь поэму, не знаю.
Это все очень любил Клодий. Красавчик Клодий верил в разрушение, которое несет за собой созидание, в невозможность одного без другого. Он, думаю, был рад и умереть, зная, что смерть его тоже положит начало чему-то большему, чем он.
Я взял его смерть и сохранил ее, пронеся через годы, а потом разжал ладонь и выпустил. Его смерть превратилась в смерть Цезаря, а уже она открыла новую эпоху, в которой нет места Республике. Великое разрушение.
Но что-то придет вместо Республики, в это я верю тоже. Что-то, проросшее через Красавчика Клодия, как он и хотел.
Или я придаю это маленькой смерти большое значение? Мне хочется, чтобы и моя смерть несла в себе семя чего-то нового. Клодий, хоть и опосредованно, через меня и мое вдохновение, стал сменой эпох, а во что превращусь я?
Еще представлял свои похороны. Несмотря на то, что написал я в своем завещании, милый друг, я не могу представить их египетскими. Пусть я решил, где буду лежать, в чьей земле, и как туда лягу, но разве приладишь себе новую голову вот так быстро?
Все равно представляю я длинную траурную процессию, двигающуюся к Эсквилинским воротам. Представляю надгробное слово, что будет сказано на Форуме. Представляю людей в масках моих предков (сколь многие умершие до меня войдут в эту череду: и ты, Луций, и Гай, и дядька, и отец), представляю мима, который станет изображать меня, наверное, он будет пить и смеяться, и делать непристойные предложения женщинам, и, может, есть на ходу, как я тоже любил делать.
У египтян все слишком серьезно.
Но разве не хочу я попытаться лечь рядом с моей деткой, чтобы соединиться с ней в том мире, где смерти уже нет?
Да, у них все слишком серьезно, нет ни подобающей трагедии, ни подобающей комедии. Пустые лица, обращенные к солнцу. Я и хочу и не хочу этого.
Впрочем, зря я пытаюсь определиться с погребением, правда? Уже миллион раз я просил мою детку сделать так или этак, а когда мы с ней решали убить себя одновременно, чтобы в смерти стать связанными крепче, чем при жизни, тогда я доставал с этим кого угодно другого, в том числе и этих ее скользких придворных.
Думаю, они смеются надо мной.
В Египте смерть — дело серьезное, оно не допускает слабостей и колебаний. К смерти они готовятся всю жизнь, это для них самое главное путешествие.
А для меня самое главное путешествие, быть может, это путешествие вверх по Кидну, что в Тарсе. Или ты думаешь, я слишком много уделяю внимания смерти и любви? А что есть, кроме них?
Вино, разве что. Но и с ним мои отношения вполне сложились.
Иногда я думаю, чего все-таки было больше, смерти или любви? Кажется, будто я убил больше людей, чем оттрахал (впрочем, ненамного), и оттого смерть победила. Но потом я смотрю на мою детку, или чувствую ее запах, или вижу ее образ, если она вдруг не рядом. Тогда я думаю: больше было любви.
Больше всего на свете все равно любви, раз уж смерть еще не победила.
Ну ладно, теперь мы уже совсем близко подошли к тому, о чем я хотел бы написать. Наверное, все это тебе уже действительно интересно. Вот мы подошли к части моей жизни, о которой ты не знаешь почти ничего. Могу лишь предупредить тебя, что вряд ли поведу себя как-то по-новому. Я есть я. Но, в данном случае, это неплохо.
Что ж, о моем ожидании встречи с царицей Египта я скажу немногое. Моя злость на нее прошла, сменившись чудесным, детским ожиданием.
И дело вовсе не в том, что я хотел ее, хотя, конечно, рассматривал возможность провести с ней ночку, а то и две. Она, как я уже упоминал, была не в моем вкусе.
Дело вдруг приняло другой оборот, когда я подумал о том, что моя детка принадлежала когда-то Цезарю и, должно быть, она так же скорбит о нем, как и я. Мы могли бы поговорить о Цезаре, вспомнить что-то и ощутить радость и печаль. Радость от того, что он был, печаль от того, что его нет.
Теперь это кажется смешным, то, что я думал о ней столь невинно. Ну да, ну да, посидим, вспомним Цезаря, как же. Ну, даже если и проведем ночь вместе, так чем она привлекательнее цариц, внутри которых я уже побывал? По большому-то счету ничем, правда?
В любом случае, никаких особенных соображений, кроме финансовых и ностальгических, у меня по ее поводу не имелось.
В ночь перед тем, как я прибыл в Тарс, Эрот сказал мне:
— Будь осторожен, мой господин. О царице Клеопатре ходят слухи, как о великой соблазнительнице.
— А, — я отмахнулся от него. — Посмотри на меня. Много ли нужно, чтобы меня соблазнить?
— Нет, — сказал Эрот. — Полагаю, что немного, господин. В том-то ведь и дело.
— Деллий говорит, что она не очень-то и красива.
Деллий, мой гонец, он и привез мне весточку от царицы Египта, сопроводив ее словами, что на его взгляд она — ничего такого уж особенного.
— Впрочем, и это не очень важно, покуда она царица.
— Прекрасный образец пренебрежения, господин. Хотел бы я, чтобы ты продолжал в том же духе.
Я пожал плечами.
— Говорят, с ней можно иметь дело.
— Цезарь имел с ней дело.
Я захохотал, хлопнул Эрота по плечу.
— Обожаю тебя за это! Ну ладно, все, мне надоело, вели уже принести мне выпить, ладушки?
Поликсена тоже испытывала некоторое беспокойство.
— Эта женщина, — сказала она, когда мы с ней отдышались после любви. — Которая снится тебе.
— А?
Поликсена приложила руку ко лбу, стерла пот.
— О боги, — сказала она. — Ты меня утомил.
— Это потому, что ты стала неспортивная. У шлюшки вроде тебя должно быть много мужиков, а у тебя один я, и ты обленилась.
Поликсена не обратила на меня никакого внимания. Она прижала палец к губам, прищурилась, словно вела диалог с самой собой, а потом сказала:
— Не думаешь ли ты, что это царица Египта?
— Клеопатра? Да нет, я ее видел, я бы узнал.
— А если она приворожила тебя?
— Приворожила?
— Ходят слухи, что Клеопатра — ведьма. А даже если и не так, царице легко найти ведьму, которая исполнит любое ее желание.
Я захохотал, мне вдруг стало невероятно смешно.
— Ну ты даешь, Поликсена! Ведьма, скажешь тоже!
Но так смешно мне стало в том числе и потому, что я ощутил нервозность. Ведьма. А вдруг она и вправду — ведьма? И она проклянет меня. Страх перед дурным глазом, перед злыми чарами у нас, римлян, в крови.
Нет ничего ужаснее, чем разрушенная колдовством жизнь. Все в ней обернется против тебя.
Я сказал:
— Ты думаешь, она может проклясть меня, да?
— Зачем ей проклинать тебя, Антоний? — Поликсена засмеялась. — Она приворожит тебя. Ты нужен этой женщине. После смерти Цезаря, она оказалась в незавидном положении.
— Ага, поэтому и башляла Бруту с Кассием, что ли?
— Наверняка она думала, что Брут и Кассий победят. Просто хотела себя обезопасить.
— А ты у нас теперь ее адвокат?
— Я просто ее понимаю.
— Ты, вольноотпущенница, понимаешь царицу Египта?
Поликсена вздохнула.
— Знал бы ты, сколько такие, как я, на самом деле понимают. Теперь я не хочу тебя предостерегать, Антоний, ты дурной.
Я положил голову ей на грудь.
— Прости меня, бедняжка, просто я так ждал этого, а ты все портишь.
— Я только говорю тебе: будь осторожен и не поддавайся ее чарам. Для Клеопатры жизненно важно соблазнить тебя, Антоний. Она сделает все, чтобы ты оказался в ее власти.
А сейчас тебе будет очень смешно. Я никогда не был в ее власти. О, сколько говорят о том, что Клеопатра одурманила меня, и я делаю все, согласно ее указаниям.
Это глупости. Моя детка мало что понимает в военном деле, впрочем, политик она тоже не самый хороший. Она всему научилась от Цезаря, безусловно, лучшего в своем деле. Но были вместе они столь мало, что царица Египта не могла постичь его мудрость полностью. Кроме того, она излишне оторвана от реальности, не так, как Береника, конечно, но все-таки. Клеопатра любит свой великий Египет, который может существовать лишь в книжках. Она не понимает вещей очевидных, всем известных. В определенном смысле, эта умнейшая женщина даже глупее меня. Она не сумела правильно оценить Рим, и до сих пор не умеет вовремя закрыть рот. О, царица Египта полна недостатков. Сказочно, чудовищно умна — это про нее, но лишь в определенных аспектах. Она очень образованна, очень усидчива, очень хитра, но не слишком практична.
Мы с ней вместе, дополняя достоинства друг друга, но и усиливая недостатки, окунулись в некоторый воображаемый мир. Ты думаешь, она, глупышка, так мечтала посадить своего сына от Цезаря на трон? А я, глупец, слепо следовал за этим ее желанием?
Да нет. Мы обсуждали с ней все, и это я говорил, что никакого выхода из этой ситуации нет. Другого выхода, выхода, который бы устроил ее.
— Он — сын Цезаря, — говорил я. — И Октавиан, наследник Цезаря, будет вынужден его убить. Вот и все.
Так что, объявляя Цезариона своим наследником в завещании, мы лишь подчинялись правилам игры, стараясь получить хотя бы горячую поддержку египетского народа. Цезарион никогда не имел возможности избежать тяжкой ноши своего наследства.
Притязания египетского юноши на власть в Риме бессмысленны и бесцельны, будь он хоть сыном самого Ромула. Рим есть Рим, и он всегда будет смотреть на иные царства-государства свысока. В том его суть.
Однако эти притязания могли всколыхнуть столь нужный нам Восток, они могли быть восприняты с энтузиазмом, потому что разве не прекрасная это мечта всех обиженных и оскорбленных — человек Востока, управляющий Западом?
В любом случае, все это должно было помочь Цезариону в его гражданской войне, в том случае, если моя так никогда и не начнется. Только-то и всего. Вот и весь секрет завещания — ход от безысходности.
И так во всем. Не было моих желаний и желаний царицы Египта, была лишь ситуация, в которую мы попали и из которой пытались выбраться. В чем-то опытнее была она, в чем-то опытнее был я. И в чем-то я уступал, а в чем-то моя детка вынуждена была подчиняться мне.
Так что вот так. Мы с царицей Египта оба оказались недостаточно умны для того, чтобы переиграть Октавиана, правда такова. Во всяком случае, не думай вслед за всеми, что я следовал ее указаниям, и так разрушил свою жизнь. Уж чем я могу гордиться самостоятельно, так это разрушением моей жизни. Никакой помощи в этом простом и приятном деле, как ты знаешь, мне никогда не требовалось.
Все, я закончил с самооправданиями, но еще не начал с Тарсом.
Тарс, древний и прекрасный город, по которому расхаживали когда-то цари давным-давно рухнувших государств. Как затейлива эта древность, как проникает она в разум и в сердце, и подчиняет их себе. Идешь и думаешь, а как же ассирийские цари? Что они думали, глядя на это небо, глядя на эти камни? И течет ли в местных эта древняя, давно забытая кровь.
О, мне чудились все в чертах тех людей призраки царей древности. Хотя, справедливости ради, в основном, Тарс населяли вполне банальные, известные всем греки, которые понастроили своих школ, театров и качалочек.
В любом случае, царицу Египта я не ждал еще как минимум два-три дня, а в Тарсе у меня были свои дела. Перво-наперво я выступал перед гражданами, причем, по-моему, вполне прилично. Именно поэтому то, что случилось далее, вначале показалось мне необъяснимым.
Я говорил всякое, в основном, о единстве всех народов в покровительственных объятиях Рима.
— Есть два главных светила, — говорил я, — Солнце и Луна, есть три правителя Рима и есть четыре времени года. И то, и другое и третье обещает вам стабильность и процветание. Я уполномочен принести вам весть о мире и покое, которые, безусловно, распространятся и на ваш чудный древний город, которому Рим желает лишь процветания, поскольку процветание Тарса означает и процветание науки и искусства. Сложно найти город, столь изобилующий великими людьми и великими достижениями, и я рад выступать здесь, перед вами, и рад занимать это место, безусловно, принадлежавшее куда лучшим ораторам, чем я.
Тут народ стал потихоньку рассеиваться. Сначала я этого просто не заметил и продолжал вещать, как ни в чем не бывало. Когда я снова оглядел площадь, народу на ней изрядно поубавилось.
— Что это с ними? — шепнул я Эроту. Он сказал:
— Постараюсь выяснить, господин.
Я снова вернулся к своей речи, тут-то я и ввернул про покровительственные объятия Рима, а когда вывернул к чему-то более традиционному, народу вокруг уже совсем не было.
— Что? — крикнул я. — Не очень вам объятия Рима? Удушающие скорее, да?
Вокруг меня осталась лишь моя традиционная свита, состоящая из чиновников и охранников. Судя по их лицам, они также решительно ничего не понимали.
— Ладно, — сказал я. — Ясно. Не очень ясно, но ясно.
Тут снова появился Эрот.
— Господин! — крикнул он. — Народ говорит, что Афродита шествует к Дионису на благо Азии!
— Чего? — спросил я. — Чего за бред, Дионис вот, тут стоит!
— Да, господин, а Афродита шествует. Хотя я бы сказал, что плывет.
Я покачал головой, от жары у меня вспухли мозги.
— Ничего не понимаю!
— Царица Египта, господин, устроила целое представление из своего появления. Она плывет вверх по Кидну на прекрасной ладье, народ собрался у берега и наблюдает. Говорят, она столь удивительна и прекрасна, что не стоит и сомневаться в том, что она богиня.
Лично я терпеть не мог, когда кто-нибудь отнимает у меня внимание. Тут я заревновал еще и потому, что я вошел в Эфес, как бог, а тут какая-то шмара вдруг вплывает в Тарс, как богиня — что за дичь? Это моя идея, а она ее сплагиатила! И я, как назло, был без своих божественных атрибутов. Да даже не пьяный!
— Так, — сказал я. — Вот сука! Ладно, сейчас я ей задам. И по поводу Брута и Кассия и по поводу всей это показухи!
Еще мы не подошли к берегу, и даже не увидели его, как вокруг меня поплыли чудные запахи благовоний. То ли из-за диковинных ингредиентов, то ли из-за диковинного их сочетания запахи эти я не узнавал. Нигде еще не испытывал я подобной сладости и подобного блаженства, лишь вдыхая воздух.
Казалось, сладость проникает в горло и двигается дальше, в желудок, словно бы я вкушал этот невероятный запах. Рот наполнился слюной, сердце забилось чаще. Как это возможно? Словно и правда напоено все дыханием Венеры.
— И какая нахер Афродита, — бормотал я, однако все усиливавшийся запах благовоний постепенно умиротворял меня.
Вскоре добавились звуки свирелей, флейт и кифар, столь же сладостные, сколь и ароматы благовоний, и столь же гармонично вплетающиеся друг в друга. Я почувствовал себя одурманенным, загипнотизированным, будь я быком, идущим на заклание, и то чувствовал бы себя упоенным столь высокими чувствами, что не увидел бы зла и в молоте, занесенном над головой.
О, сколь чудным показалось мне синее небо, и гладкие воды реки, и даже толпы народа, отиравшиеся у берегов Кидна с обеих сторон. Не сразу я увидел очередную усладу, на этот раз для глаз. Но, наконец, взор мой нашел ладью царицы Египта, украшенную столь богато, что мне в это даже не верилось. О, Египет, страна, вкушающая золото на завтрак и серебро на ужин. Я помнил богатство Египта, помнил роскошное убранство дворца Птолемеев, но разве мог я вообразить что-то подобное представшему передо мной зрелищу?
Разумеется, не мог.
По Кидну двигалась ладья, в чьи пурпурные паруса дул послушный ветер, и на чьи посеребренные весла покорно ложилось солнце, вдруг неожиданно ласковое для здешних мест.
Корма была позолоченной и, казалось, сама она создана из света, так беззаветно он нырял в золото и возвращался оттуда сильнее прежнего.
Я сглотнул. Мой въезд в Эфес? Что? Какая глупость.
Я забыл о нем тут же. Казалось, даже погода покорилась царице Египта. Приятный ветер рассеял жару и превратил ее в дурной сон. Послушный, он разносил благовонные дымы от многих и многих курительниц, с которыми ловко управлялись рабы, раскручивая их так и этак.
Удивительно, правда? Сколь прекрасно и сколь ужасно я почувствовал себя.
Я увидел лишь ее тень, неясный силуэт, над которым такие же неясные силуэты разгоняли воздух опахалами, хоть погода к этому уже и не располагала. С радостью и восторгом мальчишки, я кинулся к причалу. Сам понимаешь, как все это было дивно, и сколь сильно впечатлило меня.
А когда я взошел на ладью, то еще больше того, что царица Египта вокруг себя соорудила, меня впечатлила она сама.
О боги небесные, и боги подземные, и боги всего на свете — никогда я не видел женщины, столь роскошно одетой. Под сенью из нежнейшей, расшитой золотом ткани, она лежала в одеянии, украшенном серебряными и золотыми нитями. Ткань одеяния была безупречно белой, словно снег в Альпах, которого царица Египта никак и никогда не могла видеть, и не могла вдохновиться им. Однако расшита она была таким количеством драгоценных нитей, что свет, падая на мою детку, возводил вокруг нее совершенно неземное сияние.
На голове ее сверкал пурпуром и золотом головной убор, в котором греки часто изображают богиню любви, широкий, высокий, не похожий на корону, но выглядевший еще внушительней и ярче.
Люди кричали, приветствовали ее, скандировали:
— Афродита! Дионис!
Я облизнулся. О, я представил, что, если мы соединимся с ней здесь и сейчас, на глазах у всех, народ будет приветствовать это, словно таинство.
Столь красива она была в сиянии, окружавшем ее, столь совершенна и удивительна, что я почувствовал боль: в глазах, в сердце, в горле. Будто бы смотреть, только смотреть на нее было уже непереносимо для человека, для его слабой природы. Я сделал пару шагов к ней и остановился, стараясь справиться с нахлынувшим возбуждением. Я хотел взять ее прямо там, у всех на глазах. Царица Египта улыбнулась мне.
— Здравствуй, Антоний, — сказала она. — Как я мечтала увидеть тебя.
— Здравствуй, Клеопатра, — ответил я, облизнувшись снова и пытаясь справиться с очередной волной возбуждения. Царица Египта оглядела меня с ног до головы, взгляд ее остановился у моего живота, потом скользнул и ниже, она чуть прищурилась и улыбнулась шире.
— Надеюсь, тебе понравилось мое прибытие, — сказала мне царица Египта. — Я старалась впечатлить тебя, но боялась переборщить.
Я прокашлялся и сказал:
— Венера во плоти. Если ты не богиня, то и сама она не справилась бы лучше.
Моя детка чуть вскинула брови, а потом сказала:
— Но я богиня.
— Но ты богиня, — повторил я.
— А ты бог, Антоний.
— И об этом я тоже стараюсь не забывать.
Вокруг нее был такой же маскарад, как и вокруг меня на въезде в Эфес, только вместо сатиров и вакханок — купидоны и нереиды.
— Об этом сложно забыть, глядя на тебя, — сказала она. Я подошел еще ближе и вдруг вспомнил, что моя детка некрасива. Я ведь уже видел ее в Риме, и тогда она показалась мне едва ли не дурнушкой. Некрасива, да. Не так, как красивы женщины в очевидном смысле, во всяком случае.
Она маленькая, однако изгибы ее для египетской женщины даже слишком женственны, у моей детки длинный, крупный нос, ее губы тонки, а черты в целом, абрис лица, скулы, все острое, чуточку болезненное. И кожа, что кажется мне золотистой, может быть названа и желтоватой. О, она пошла в своего отца, Птолемея. Но в то же время есть в ней и нечто потрясающее. Гибкая, быстрая, ворочавшаяся на своем ложе, не то от скуки, не то от желания, она напоминала зверушку в течке.
Как бывало со мной и ранее, ее недостатки и достоинства взбудоражили меня одинаково. Она удивила и поразила меня, способностью так легко влезть в шкуру богини любви, и в то же время этой своей странностью, неженственностью и женственностью одновременно. Грубоватые черты, но огромные, нежные, пленительные темные глаза, обрамленные густыми ресницами. Глаза, от которых в любую секунду ожидаешь слез.
Желтоватое, быстрое, костистое тело, лапки зверька с длинными, когтистыми пальцами, но вдруг прекрасные женственные бедра и полная грудь. Сквозь тонкую ткань я мог рассмотреть ее соски, темные, выступающие.
— Твой гонец, — сказала мне царица Египта чудесным, хрипловатым голосом, чувственным голосом женщины, которую ты уже оттрахал только что. — Сказал, что из всех военачальников, ты самый любезный и снисходительный.
— О, — сказал я. — Это же мой гонец, разумеется, он будет хвалить меня.
— Значит, это не так? — спросила она.
— Для тебя — так, — ответил я.
— Значит, мне повезло.
— Странное дело, — сказал я. — Мы виделись, но я будто бы не знаю тебя.
— Считай, что мы познакомились заново, — ответила мне царица Египта. — Теперь я вижу тебя иным, и ты, надеюсь, посмотришь на меня иную.
Я вспомнил ее. Рассмотрев ее лицо поближе, я вполне понимал, почему в прошлый раз она казалась мне некрасивой. Но это сияние. Она сверкала и звала меня, и я не мог думать ни о чем, кроме того, что там, под легкой тканью ее платья, и как влажна она должно быть, раз так извивается на своем прекрасном ложе.
Я немедленно пригласил ее отобедать со мной. Она вздохнула, вдруг прекратив всякое движение и замерев, будто статуя, воззрилась на меня.
Некоторое время царица Египта молчала.
— О, Дионис, может быть ты позволишь мне дерзость пригласить тебя к себе? Завтра. Мне нужно подготовиться, чтобы принять такого гостя, как ты.
— Да, — сказал я. — А то. В смысле, я согласен.
Принять такого гостя, надо же. Представляешь себе, каким тоном она это сказала? О, и представить себе не можешь. И все это царица Египта сопроводила чуть заметным движением бедер.
— Разумеется, я с радостью к тебе приду, я имел в виду.
О, Антоний, великолепный Марк Антоний, будь мне другом, не становись таким идиотом.
Я сказал:
— Мне будет столь приятно посетить тебя, но потом я не смогу пригласить тебя в ответ. Все мое будет казаться мне безвкусным.
— А ты уверен, что у меня есть вкус? — спросила она. — Но мне приятно, что ты думаешь именно так. Я постараюсь поразить тебя.
— Тебе это уже удалось.
— Я бы обменялась с тобой еще много какими теплыми и ласковыми словами, Дионис, но хочу продолжить мой путь. Я еще многое должна подготовить.
Она меня прогоняла. Представь себе, прогоняла! Вежливо, но непреклонно. Сойдя на берег, я почувствовал себя полностью опустошенным, меня била дрожь.
Как я уже говорил тебе, в основном, я чувствую себя больным по причине некоторых душевных недугов. Даже не уверен, болел ли я хоть раз по-настоящему, без сопутствующей печали.
И тут я почувствовал огонь приближавшейся лихорадки. Остаться без десерта, во всяком случае пока, было равносильно смерти.
К ночи я почувствовал себя еще хуже и рано лег спать, позвав Поликсену в постель. Когда она легла со мной, я просто обнял ее и прижал к себе, а потом, поцеловав в затылок, закрыл глаза.
Некоторое время мы так и лежали.
— Так? — спросила она. — И?
— Что и? — спросил я.
— Обычно, сколько бы ты ни трахался днем, ночью ты всегда на меня залезаешь.
— Тебе повезло, у тебя выходной.
Поликсена развернулась ко мне, в темноте блестели ее зубы и белки ее глаз.
— Так. И что, она уже окрутила тебя?
— А ты ревнуешь?
— Нет, — сказала Поликсена спокойно. — Я беспокоюсь за тебя. Ты ужасен, но…
— Прекрасен?
— Но чуть менее ужасен, когда узнаешь тебя поближе.
— Я думал, обычно бывает наоборот. Знаешь, люди думают, что я такой веселый, дружелюбный и открытый, а потом узнают меня поближе и оказывается, что я…
— Антоний, ты должен быть осторожнее, я умоляю тебя. Не дай ей окрутить тебя. Используй ее и забудь!
— Да подумаешь, ну будет у меня с ней легонький такой романчик.
— Ты попадешь под влияние этой ведьмы. Она приворожила тебя, я уверена. Ты даже болеешь.
Поликсена прикоснулась губами к моему лбу.
— У тебя жар.
— А, — сказал я. — Ну да. Спокойной ночи. Завтра будет завтра, тогда и подумаем над ним. Я спать хочу. А ты лучше бы занялась своим, а не моим будущим. Хорошо же, правда?
Притянув Поликсену поближе к себе и бормоча что-то подобное, я ощутил биение ее сердца.
Она еще говорила что-то, но я уже провалился в сон, где всюду искал женщину, столь желанную и столь же недосягаемую.
Утром я, хоть и не был мертвецки пьян, проснулся не рано. Сон никак не выпускал меня из своих цепких объятий, просыпаясь, я чувствовал себя больным и засыпал снова. Наконец, мне удалось пересилить этого великолепного и крайне ленивого Марка Антония. Я встал с кровати, но о делах сначала не шло и речи. Впрочем, я не хотел ни пить, ни есть. По-моему, я все-таки осилил одну важную встречу, а, может, даже и две.
Помню только, что Эрот и Поликсена все переглядывались взволнованно и недовольно, чем сильно меня раздражали.
— Господин, — сказал Эрот, наконец. — Может быть, тебе не стоит идти сегодня на прием к царице Египта? Прошу простить мне мою вольность, но мне кажется, что ты нездоров.
— Да нет, — ответил я. — Я себя знаю, и ты меня знаешь. Это пройдет, как только я окажусь там, с ней.
— У тебя жар.
— Это любовный жар, — сказал я.
— Он не менее опасный, — сказала Поликсена.
— Кроме того, никто не может гарантировать, что это не начинается лихорадка, — сказал Эрот.
— Цыц! Если вам необходимо кого-нибудь понянчить, займитесь Антиллом. Я — ваш господин, а вы мои слуги, не забывайте, кто кого слушается.
Поликсена и Эрот снова переглянулись, но я махнул им рукой, мол, уберитесь отсюда.
Оставшись один, однако, я испытал приступ болезненной грусти.
Быть может, подумал я, всего лишь перегрелся.
Однако, думаю, даже будь я при смерти, у меня нашлись бы силы посетить царицу Египта.
Тот вечер я помню слабо, я был страшно болен, и мои надежды выздороветь, увидев ее, не оправдались. Полагаю, из-за того, что она меня избегала, лишь мелькнув в толпе, вдруг исчезала.
Помню огни, целое море огней. Царица Египта назначила прием на чрезвычайное позднее время. Сначала я не понимал, почему, но, когда явился, все сразу встало на места.
Моя детка устроила столь впечатляющее огненное представление, что превзойти его у меня не было никаких шансов. Да что уж там превзойти, даже повторить.
Огни плясали всюду, они взбирались столь высоко, что в это не верилось, и падали столь низко, что я не понимал, как не горит здесь уже все проклятым алым пламенем. Огни были не только золотые, но и самых разных цветов — зеленые, синие, ярко-красные, да какие угодно. Словно драгоценные камни в убранстве мира.
Я терялся среди этих огней. Конечно, я видел, что ими заправляют ловкие танцоры, швыряющие и ловящие на лету сосуды с огнями, но танцоры растворялись тут же, как я отходил от них, их поглощала темнота, а огни оставались.
В температурном бреду я бродил среди незнакомых мне людей, среди моря огней, среди запахов благовоний и мурлыканья флейт, не в силах ее найти. Будто во сне.
Мы едва ли поговорили. Я нашел ее уже в конце вечера, по-настоящему нашел, схватил за тонкое, костистое запястье, притянул к себе, едва понимая, что творю. Но ее охрана, что странно, не среагировала никак. Должно быть, была предупреждена заранее.
Моя детка поддалась мне, но тут же легко вывернулась. Она взяла у рабыни блистер с таблетками, вытащила одну и сунула ее под язык. Да, моя детка не отличалась особенным здоровьем. Это простое действие вдруг сделало ее реальнее. Блистер серебряно переливался в ее руках.
— О, — сказала она. — Ты выглядишь нездоровым. Прости, должно быть, жар огней распалил тебя окончательно.
— Распалил, — сказал я хрипло и вдруг, помимо своей воли, выпалил. — Ты снилась мне много дней! Ты та женщина, чьего лица я не мог рассмотреть во сне, но которую я искал и не находил.
Она кинула на меня короткий взгляд из-под ресниц, не стыдливый, нет, заинтересованный и смешливый.
— О, — сказала она. — Теперь это точно так.
— Ты приворожила меня?
— Глупости, — ответила мне царица Египта. — Разумеется, нет. Я лишь предполагаю, что, если ты сравнил меня с ней, то вскоре во сне ты увидишь мое лицо. Так всегда бывает. Сон — отпечаток реальности. В наши сны проникают дневные впечатления, так что будет весьма неудивительно, если та женщина вдруг обернется мной.
Книжная сухость, с которой она говорила, поразила меня. Я открыл было рот, чтобы что-то сказать, но моя детка вновь улыбнулась мне и совсем другим тоном добавила.
— И я этому рада. В самом деле. Но, прошу меня простить, мы встретились слишком поздно. Все уже заканчивается, и мы толком не успеем поговорить.
Голос ее журчал ручейком, а на какой нежной, пусть и чуточку странноватой, латыни говорила она. Сразу было видно — язык ей неродной, но выучен он очень старательно. Моя детка не допускала ошибок, потому что продумывала каждое свое слово.
Мы расстались. Слишком быстро, чтобы я испытал хоть какое-то облегчение.
Напоследок я спросил:
— Но завтра ты будешь у меня?
— Завтра я буду у тебя, — пообещала она.
А знаешь, как теперь, сняв все маски, моя детка описывает ту ситуацию? Она забирается мне на руки и шепчет:
— Антоний любит блестяшки!
Это слово ей очень нравится.
— Обожает блестяшки! Я сманила его, сманила такого великого, такого сильного, использовав только блестяшки и ничего больше! И он попал ко мне!
В ту ночь я ушел от нее больным, но спать уже не мог. С самого рассвета я занялся приготовлениями. Но как бы я ни старался, мне было не превзойти ее в роскоши, не повторить огней, которые она зажгла.
Я был слишком груб и распутен, чтобы создать нечто столь прекрасное и не превратить это в бордель.
Я так и сказал ей:
— О, Венера, хотел бы я впечатлить тебя хоть чем-нибудь, кроме отсутствия собственного вкуса. Но, если уж ничто другое мне не удастся после твоего вчерашнего приема, я впечатлю тебя такой степенью безвкусицы, что она станет искусством.
Царица Египта засмеялась.
— Что ж, теперь ты защищен ото всех моих нападок.
— Разве что, ты можешь сказать, что все здесь недостаточно безвкусно.
— О нет, Антоний, все крайне безвкусно.
— Благодарю тебя, в избранной стезе я превзошел сам себя, мне и самому кажется именно так.
И вот мы уже возлежим рядом на ложе, словно она шлюха, которую я привел к себе в дом, но моя рука почти касается ее руки, и это самое главное.
— У нас женщины не возлежат с мужчинами, — сказал я. — Столь знатные, как ты, во всяком случае.
— Но ты не в Риме, — сказала она. — И я не римлянка.
О, она не могла быть римлянкой — она так вкусно и незнакомо пахла.
Думаешь, мы болтали с ней о трагедиях Софокла, или об особенностях архивов Александрийской библиотеки, или о сущности философии Парменида.
Моя детка страшно любит Парменида, и придет время, когда она восторженно, как ни о чем другом, будет рассказывать мне о Бытии, которое должно быть, потому что не может не быть, и пребудет вечно.
— Нераздельное, неразрывное, — скажет она, словно героиня трагедии. — Бытие никогда не исчезнет и не прекратится!
И станет смотреть на меня прекрасными черными глазами в обрамлении длинных черных ресниц, смотреть требовательно, чтобы я полюбил эти слова так же сильно, как полюбила их она. Это будет. Бытие, небытие и все такое.
А я ничего не пойму, или пойму что-то, но не до конца. Это случится потом, когда я полюблю ее со всеми ее глупостями, а она полюбит меня со всеми моими.
А тогда царица Египта стремилась мне понравиться, и ото всей этой скуки, которую, помню, она все время обсуждала с Цезарем, ей пришлось отказаться.
Мы с моей деткой обсуждали то, что люблю обсуждать я. Меня.
Помню, совершенно опьянев от близости и вина, говорил я ей совершенно непотребные вещи, но не в том смысле, в котором ты думаешь.
Я говорил:
— Кто я такой? То я друг Клодия, то сподвижник Цезаря, то один из триумвиров, но кто я сам? Кто я без людей? Я не могу быть без других, меня без них просто не существует! С тобой такое случается, милая Клеопатра?
— Нет, — сказала она. — Со мной такого никогда не случалось. Останься я одна на всей земле, я бы нашла утешение в себе самой. Что касается тебя, то безо всех других ты остаешься Марком Антонием, а это уже много.
— Мы так непохожи, — сказал я.
— Непохожие люди друг другу куда нужнее, чем похожие, — сказала мне моя детка. — Ты не находишь?
Я потянулся поцеловать ее, но она по-девчоночьи легко откатилась от меня и засмеялась.
— Неа, — сказала она. — Так не будет.
— А как будет? — спросил я хрипло. — Это ведь не секрет, что я хочу тебя получить. А чего хочешь ты?
И тогда она как бы в шутку сказала:
— Если римлянин и возьмет меня снова, то только в моей родной Александрии. Распутство в собственной стране простится мне быстрее. Кроме того, представь, что ждет тебя в Александрии. Ты, должно быть, уже забыл ее. А она стала еще прекраснее.
— И что же меня ждет?
Зная ее теперь, и зная хорошо, я думаю, что ей хотелось засмеяться надо мной и сказать:
— Блестяшки.
Но она протянула руку к моим рогам, которыми я снова украсил себя, и принялась их гладить.
— Любовь, — сказала она. — Величайшая любовь, Антоний.
Но если рассказывать дальше, то выйдет, что я опять во всем виноват. И это будет правда. Но правду лучше есть по кусочкам, да? Кусочек сладкий, кусочек горький.
В любом случае, пойду напомню моей детке о блестяшках. Уверен, она опять будет смеяться. Она всегда над этим смеется, ее просто не остановить.
Смешно ли мне? Мне тоже очень смешно. Грустно только, когда я вспоминаю о том, какая была цена у величайшей любви великолепного Марка Антония. И я не о моей жизни и даже не о жизни моей детки, а о том, что хуже смерти, и только смертью однажды излечится.
Ну да ладно, пресеку нытье в зародыше.
Твой брат, Марк Антоний.
После написанного: если Бытие есть, то разве Небытия так уж и нет? Я думаю, дыра в моем сердце это самое Небытие, но моя детка, пожалуй, убьет меня сама за такую глупость по поводу Парменида.
Что, впрочем, решит многие наши проблемы.
Послание двадцать второе: Сын, брат
Марк Антоний брату своему, Луцию, в письме, которое, надеюсь, в полной мере выражает стыд, который он испытывает.
И он всегда будет испытывать этот стыд.
Здравствуй, Луций! Пожалуй, ты лучше всех знаешь, сколь много позорных поступков совершил я в жизни. Тень эта падет, думаю, и на мое многочисленное потомство — жестокость, невоздержанность, бесчестность, жадность. За мной водится достаточно грехов, которые не стоит мне прощать, потому как я привержен им всем сердцем. Еще за мной водится достаточно грехов, которые мне просто нельзя простить, потому как я делал и откровенные мерзости.
Но о чем жалею больше всего я сам? Думаю, о ссоре с тобой. Это страшное предательство, и боль, терзающая мое сердце, столь бесконечная, что я уже не знаю, как с ней поступить. Ее не залить вином, и ей совершенно безразличны прочие мирские удовольствия. Она всегда есть, и я не могу себя простить.
Вину за Гая мы разделяем с тобой вместе. Вину за тебя несу я один.
В детстве мама говорила мне, что я старший, а потому ответственен за вас двоих и должен защищать вас от опасности и оберегать, когда вы не сможете сделать этого сами.
Вот так.
Но, в конечном итоге, я конченный человек. Я разрушенный человек. Я плохой человек.
А ты, Луций, ты был хорошим и правильным, пусть не без недостатков, но сколь неважны и неясны они по сравнению с моими. Это ты оберегал Гая, и тебе не в чем себя перед ним винить. Прости, что написал эту глупость. Нет уж, давай ответственность ляжет только на меня — за все вот это, что с нами произошло.
Что я могу сказать в свое оправдание? Это сейчас я располагаю роскошной возможностью лить сентиментальные сопли, но тогда соображения мои были политическими, эгоистичными и, кроме всего, я был страшно зол на тебя.
Но сначала не об этом, нет, сначала о другом.
Потом люди гадали, как моя детка могла столь легко увезти меня в Александрию, ведь мы были знакомы не так уж давно, но я увлекся ей столь яростно и сильно, что позабыл обо всем и отправился за ней следом. Говорили, что она приворожила меня.
Но в действительности, кто эти люди, что говорили так, и что они знали обо мне? Для тебя, уверен, в этом не было никакой загадки. Это и самое обидное — ты никогда не спрашивал меня, как так вышло. Ты-то знал.
Я люблю людей, подманить меня легко. Я слепо последую за тем, кто скажет мне ласковое слово и хорошенько развлечет меня, я доверчив и беспечен, легко и сильно увлекаюсь, и готов отправиться на край света, если кто-то пообещает сильно меня любить.
Вышло вот так.
Да, вышло вот так.
Теперь я чувствую себя глупо, но тогда я знал, что у меня нет иных желаний, кроме как отправиться за ней в Александрию, да хоть на Плутоновы поля, куда угодно, лишь бы там она стала моей.
Царица Египта со своими таблетками и сигаретками, сиянием и блеском, и странной для того развратного образа, что она создавала, отстраненностью и сухостью, очаровала меня.
Помню ночь, случившуюся где-то за неделю до того, как мы отправились в Египет. Я как раз, наконец-то, нашелся и спросил мою детку о том, какого хрена она помогала заговорщикам.
Вдруг она выдала мне парадоксальный ответ, думаю, очень опасный ответ. Может, она хотела проверить, как я отреагирую, нет, все-таки, наверное, так она и думала в самом деле. Я спрошу ее, но разве получу я честный ответ при жизни?
В любом случае, глядя мне прямо в глаза, она ответила:
— Потому что я любила Цезаря.
Моя детка вскинула брови. Она отложила недокуренную сигаретку, запрокинула голову и попыталась вдохнуть. Потом щелкнула пальцами, и рабыня подала ей ингалятор. Никогда я не видел, чтобы женщина так сексуально лечилась, ха!
Она обхватила его горлышко губами и, распылив лекарство, вдохнула. Ингалятор, как сейчас помню, был фиолетовый. Светлую крышечку держала рабыня, а моя детка считала до десяти, разгибая пальцы, потом ингалятор выпал у нее из рук, лысый маленький ребенок, крошка-раб, сопровождавший ее, ловко поймал ингалятор и передал рабыне.
Моя детка снова взяла недокуренную сигаретку.
— Вредновато, — сказал я.
Она кивнула, улыбнувшись.
— Только я не понял.
— Я не удивлена, — сказала она. — Это сложно понять. Но я постараюсь объяснить. Я любила Цезаря, и я не хотела, чтобы его дело пошло прахом. Те, кто придут вслед за ним, рассудила я, располагая некоторой информацией и о тебе и о других влиятельных людях в вашей так называемой партии, уничтожат не только то, чего он достиг, но и его славу, они погрузят страну в войну, голод и разруху, и тогда народ, столь любимый Цезарем, проклянет его имя, имя, с которого все началось. Брут и Кассий же уничтожили бы лишь достигнутое им, оставив нетленной славу. А слава Цезаря, напротив, приумножится и дождется того, кто сорвет ее плод, столь же достойного мужа, что и Цезарь, пусть и через сотню лет.
— Чего? — спросил я, ощущая, как во рту становится горько от злости. — Ты обалдела?
— Ты хочешь честного ответа, Антоний, так? Вот тебе честный ответ. Я боялась, что вы доставите позор его имени.
— Принесете.
— Да, ты прав. Я боялась, что вы принесете позор его имени.
— Но разве не чудовищно было бы, разрушь заговорщики все, что он пытался построить?
— Цезарь был мудрым человеком. Они не стали бы разрушать все, если только они не враги собственной стране.
— А они враги собственной стране, — прорычал я.
— Пусть так, — ответила моя детка спокойно. — Они враги собственной стране. Но что бы они ни разрушили, осталось бы семя, семя, которое легко взойдет на подходящей почве.
— И ты не чувствовала, что предаешь его? Предаешь то, что он любил? Во что верил? Ты способствовала разрушению его наследия. Ты предала мертвого!
— Мертвым все равно, — сказала она, не моргнув глазом. — Я думала о живых.
— Я думал, в Египте считают иначе.
— В Египте считают по-разному. Но его царица действовала так, как полагала нужным.
Мы помолчали. Где-то секунду я думал, что ударю ее. Правда думал так. Готов был это сделать. Тем более, что она смотрела так спокойно.
Потом вдруг злость отступила, словно волна, отхлынувшая от берега. А на этом берегу моего разума осталось лишь непонимание. Я сказал:
— Но это же нелогично.
— Весьма, — ответила она, не прячась. — Но таковы были мои чувства, когда я утратила его.
И в этот момент я вдруг испытал к ней жалость. Ее последняя фраза была словно нота, изменившая всю мелодию, не знаю, как объяснить. Я вдруг подумал, что вся эта Клеопатра — лишь нежная женщина, в скорби своей зашедшая слишком далеко и совершившая ошибку. Я улыбнулся ей, и она, пусть и несколько механически, улыбнулась мне в ответ.
Моей детке это было свойственно — улыбка ее была красива, но в то же время чуточку странна, будто бы она лишь только училась этому искусству — улыбаться.
— Да, — сказал я. — Мы делаем странные вещи, когда теряем тех, кого любим. Ты любила сильно, так?
— Более, чем кого бы то ни было, исключая мою старшую сестру, — ответила она. Я подался к моей детке и поцеловал ее, чтобы утешить, и она поняла: на этот раз мои поползновения не имеют цели уложить ее в постель. Таков был наш первый поцелуй, губы у моей детки оказались прохладными, она пахла сигаретами и чем-то лекарственным. Мою нежность царица Египта приняла, но большего мне не позволила.
— У меня не было никаких политических мотивов, я делала это исключительно по велению сердца, — сказала она, мягко упершись руками мне в плечи. Ручки у нее были такие цепкие, такие быстрые, такие когтистые.
— Женщины! — сказал я. — Это весьма и весьма обычно для вас. Но скажи, что ты слышала обо мне, что так поразило тебя, что ты решила сотрудничать с убийцами твоего любимого?
— Это совершенно неважно, — сказала она. — Просто ни один из вас не казался мне достойным памяти Цезаря, а жернова гражданской войны, в любом случае, раскручиваются очень быстро, я знаю об этом.
— Я благодарен тебе за честность.
— Я честна с тобой, насколько это возможно.
— Но не абсолютно честна?
— Абсолютная честность невозможна.
Чувствуешь эту легкую искусственность, эту холодность? Она пробивалась в ней с самого начала и приманивала, притягивала больше всего. Царица Египта была полной моей противоположностью в самом главном, пусть в мелочах мы и могли быть похожи.
Затушив сигаретку, царица Египта сказала:
— Прости, если обидела тебя.
— Нет, — сказал я. — Мотив странный, но куда приятнее того, что я ожидал услышать. Мне почему-то не кажется, что ты лжешь.
Она смотрела на меня спокойно.
— Но тебе кажется, что я глупая?
— Взбалмошная.
— Пусть так.
В этот момент гонец принес мне письмо. Я подумал, что оно от тебя или от Фульвии (мы весьма активно переписывались), но письмо было, ничего себе, от Клодии.
Развернув его, я сказал:
— Подожди минуту, ладно?
Моя детка промокнула пальцы в чаше с благовониями, чтобы они не пахли сигаретами, и прошептала что-то своей рабыне, а я погрузился в чтение.
"Папа!
Ты не представляешь, что произошло. Мой муж отправил меня домой. Он не притронулся ко мне, но я все равно чувствую себя опозоренной. Это из-за мамы и дяди Луция, из-за того, что они сделали! Теперь я опозорена навеки! Муж отказался от меня! И не кто-нибудь, а молодой Цезарь! Лучше бы я вовсе не рождалась, чем вытерпела это.
Ненавижу маму, ненавижу дядю Луция!
Пожалуйста, папа, напиши мне как можно скорее, ответь мне, прошу тебя!".
— Чего? — спросил я у Эрота. Эрот сказал:
— Я выясню, господин.
Вскоре мы узнали, что вы не только подбиваете народ на мятеж, о чем я был вполне осведомлен, но и выступили против Октавиана непосредственно.
Тут я обалдел. Твоя проклятая война, о твоя проклятая война, которой ты едва не уничтожил нас обоих.
Тебя заебала несправедливость, Фульвию же — недостаток власти, и вместе вы составили отличную команду. Вооружив всех недовольных, вы объявили, что пора положить конец отъему земли.
Я не скажу, что этого не ожидал. Скажу, что не ожидал так быстро. Но Фульвия умеет брать быка за рога, правда? В любом случае, помимо прочих своих требований и лозунгов, ну сам знаешь, чего ты хотел: земли тем, кому она нужна, ты сказал еще одну интересную вещь.
Триумвиры, сказал ты, должны уйти.
Правда, что ли?
Таково было твое обещание, данное без какой-либо санкции с моей стороны. Ты говорил от моего имени и решал за меня, я разозлился на тебя смертельно, мне показалось, что ты хочешь избавиться от меня, что ты совсем помешался на этих своих бедняках.
О, скажу тебе честно, когда я узнал, что ты, осажденный в Перузии, вынужден был голодать, когда ты сначала урезал, а потом и вовсе лишил пайки рабов, я злорадствовал. Где же теперь, твоя хваленая справедливость, где же теперь мир, который ты хочешь построить? Решил, что придешь и всех спасешь от своего несправедливого глупого большого брата, думал я, и где ты теперь, ты и твоя армия голодных крестьян?
Разве стали они более сытыми?
О, как я злился на тебя за то, что ты переманивал моих ветеранов, за то, что ты имел совесть говорить от моего имени, за то, что ты трахал мою жену.
Но это все было потом. А тогда я перво-наперво обалдел от такой наглости. Вы с Фульвией ринулись вперед и раздолбали хрупкое равновесие, которое лишь недавно установилось в моей жизни. Вы разрушили то, над чем я работал, или хотя бы делал вид, что работаю.
Письмо Фульвии и твое письмо, которые пришли следом, я разорвал даже не читая. Написал Октавиану по поводу Клодии, ни словом не упоминая о войне. Я думал, Октавиан спросит у меня хоть что-нибудь, но то ли он был слишком хорошо осведомлен о том, что я не имею к глупостям Фульвии и твоим вольностям никакого отношения, то ли принял мои правила игры.
Во всяком случае, ответ его был таков:
"Возвращаю твою падчерицу девственной, я не опорочил ее ни единым прикосновением, и ты сможешь выдать ее замуж повторно точно так же, как если бы она и ночи не провела в моем доме.
Прошу простить меня за то, что все получилось именно так.
Твой друг, Гай Юлий Цезарь."
Вот так. Ни слова ни о чем — очень в его стиле. Впрочем, и это письмо тоже случилось позже.
А тогда я, только узнав, помню, немедленно отправил гонца к царице Египта с вестью о том, что отправляюсь с ней в Александрию немедленно. И хотя, знаю, у нее еще были в Тарсе незаконченные дела, она покорилась мне немедленно.
Мы отправились так быстро, как только могли. В последнюю ночь перед тем, как мы начали наш путь, Эрот все отговаривал меня.
— Твое присутствие, господин, необходимо в Риме. Если тебе и нужно предпринять путешествие, то совсем в другую сторону.
Я, впрочем, пребывал в далеко не благодушном настроении и рявкнул:
— Раб, который слишком много знает, это персонаж комедии, Эрот, так что либо попробуй развлечь меня, либо свали отсюда!
— Господин сам забыл, что я уже давно не раб.
— А свободный человек, который слишком много знает, персонаж трагедии, — сказал я и швырнул в него, кажется, чем-то тяжелым.
Всю дорогу я ругался со всеми, и только с царицей Египта становился вдруг нежным и ласковым, стараясь умастить ее заранее, показать, что я вполне безобиден. Она, впрочем, видела, в каком я состоянии, и как-то раз сказала мне:
— Антоний, прости, что даю тебе совет, но тебе стоит без злости взглянуть на эту ситуацию. Так, как взглянул бы на нее человек посторонний.
— Вот ты, — сказал я как можно мягче. — Ты человек посторонний, что ты видишь?
Она склонила голову набок.
— Ревнивого мужа. И с этого стоит начать.
Вот так. Разумеется, я понимал, что происходит у тебя и Фульвии. Мне не нужны были слухи и сплетни по этому поводу: Фульвию я знал слишком хорошо, знал и то, что ты всегда любил меня, а, значит, любил и то, что у меня было.
— Но все-таки тебе стоит возобновить переписку, — сказала она. — Хотя бы для того, чтобы следить за развитием ситуации.
И, о, когда мы высадились в Александрии, прекрасной Александрии, я первым делом возобновил переписку.
Я написал Фульвии:
"Ты выебла моего брата".
Через некоторое время мне пришел ответ.
"Ты выеб царицу Египта."
И к тому времени, надо сказать, я на самом деле поступил именно так.
Но всему свое время. Так вот, я помню первый день в Александрии, снова это сине-зеленое, удивительное море, снова жаркий, наполненный диковинными запахами воздух, снова золото и роскошь дворца Птолемеев.
Странно, но моя детка ничего не говорила о Цезарионе, словно его и не существовало. Хотя о нем было столько разговоров при жизни Цезаря, в нашем путешествии из Тарса в Александрию, по-моему, его имя вообще не упоминалось.
Моя детка не поблагодарила меня за то, что я, при обсуждении наследства Цезаря, защищал интересы ее сына. Впрочем, интересов ее сына у меня на самом деле и в мыслях не было. Мне лишь нужно было указать Октавиану на его место.
— Цезарион, — говорил я. — Родной сын Цезаря, тогда как Гай Октавий Фурин лишь его дальний родственник, даже не принадлежащий семье Юлиев.
Я все думал, моя детка напомнит мне об этом, но она молчала.
По поводу Цезариона. Считал ли я его в действительности сыном Цезаря?
Сложно сказать. С одной стороны, разумеется, я не мог отрицать такой вероятности, тем более, что о романе Цезаря и царицы Египта было известно всем на свете. Да и, увидев Цезариона, я отметил некоторую схожесть. Впрочем, она вполне могла объясняться самовнушением. Я бы хотел, чтобы Цезарион приходился Цезарю сыном. Тогда получилось бы, что Цезарь оставил после себя живого человека, в котором течет его кровь, свое продолжение.
Но не выдавал ли я желаемое за действительное? На то, что Цезарь не признал Цезариона, были вполне самостоятельные политические причины, ни о каком подозрении в измене речи не шло.
Однако же, Цезарь сыновей не нажил, несмотря на титул "лысого развратника", он не имел признанных детей, кроме малышки Юлии, умершей в столь молодом и цветущем возрасте. Слухи ходили разные, думаю, всех известных в Риме людей, подходящих по возрасту и времени зачатия, величали хоть раз внебрачными сыновьями Цезаря. Не один Марк Юний Брут удостоился чести быть частью этого всемирного заговора сынишек Отца Отчества.
Но эти слухи всегда оставались только слухами. Цезарь ни о ком не говорил, как о своем сыне. В том числе и о Цезарионе.
Что касается Юлии, раз уж я начал о ней, как ты знаешь, бедняжка умерла при родах. Конечно, Цезарь и Помпей самой судьбой были противопоставлены друг другу, но все-таки я думаю, что смерть Юлии также сыграла свою роль. Она умерла, рожая ребенка Помпея, и, мне кажется, Цезарь винил его в смерти дочери, пусть сам этого и не осознавал.
Или, может, осознавал и пустил эту энергию в дело уже на другом, рациональном уровне, что Цезарю более свойственно. Горе его было таким сильным, что, хоть Цезарь и старался скрыть его, в тот момент у меня не было сомнений: Юлия — единственное его маленькое сокровище, единственный ребенок.
Цезарион родился позже и, вроде бы, от любви, все то, что было утрачено с Юлией, должно было вернуться позднему сыну в десятикратном размере. Однако этого не случилось. Во всяком случае, на мой взгляд. Может, Цезарь просто уберег Цезариона от излишнего внимания, не знаю.
В любом случае, я всем своим женщинам, кроме моей бесплодной Кифериды, делал детей, даже если мы принимали кое-какие меры предосторожности. Цезарь же, подозреваю, не отличался такой плодовитостью. Быть может, к моменту рождения Цезариона, он не мог иметь детей вовсе, если уж после Юлии у него не получился никто, при всех его многочисленных любовных приключениях.
Вот так. Как видишь, ответа на этот вопрос у меня нет. Думаю, правды мы не узнаем никогда. Но, может быть, семя Цезаря, наконец, легло в правильную почву, это не исключено, и я хочу так думать.
Так или иначе, я никогда прежде его не видел. И именно я попросил царицу Египта представить мне Цезариона.
— Мой Антилл лишь на год младше его, — сказал я. — Мальчишкам будет весело вместе!
— Наверняка, — ответила моя детка, но более ничего не сказала. Однако, когда мы прибыли, она велела привести Цезариона первым же делом.
Рабы еще выгружали наши вещи, и мы стояли в зале, который казался мне столь же прекрасным, как и тогда, когда я был здесь в первый раз. Очень живо мне вспомнилась Береника, ее смешливое, нежное, милое лицо, которое было настолько совершеннее и красивее лица моей детки, но теперь не существовало уже давным-давно.
Вспомнился мне и Птолемей с его желтушной кожей и резким голосом.
Вспомнилось все, и как я был молодым, и что меня волновало, и как я еще ничего об этом мире не знал, и даже хруст песка под ногами, песка, который ни одна сила не выметет отсюда полностью.
Антилл спросил:
— А этот мальчик будет сыном Цезаря?
О, эта детская мудрость. Как остроумно и точно Антилл все сформулировал, правда?
Но я тогда сказал, главным образом, чтобы порадовать мою детку:
— Он уже сын Цезаря. С самого рождения.
— А, — сказал Антилл. — Понятно, буду знать.
— Милый ребенок, — сказал я. — Они все милые в этом возрасте.
Моя детка сладко улыбнулась мне.
— Большинство. Я никогда не была такой милой. Но Цезарион куда очаровательнее меня в его возрасте.
— Не верю!
— Веришь, — засмеялась она. — Вижу по тебе, что веришь.
Когда слуги вывели его к нам, у меня перехватило дыхание: похож? Непохож?
Шестилетний мальчишка, впрочем, пока он не начал лысеть, а до этого еще оставалось некоторое время, и не поймешь, Цезарь или не Цезарь. Но это все шуточки.
Так-то малыш был длинный, тонкокостный, с этим типичным для Юлиев мягким благородством в повадках и чертах. Впрочем, расцветкой он пошел в маму: темноволосый, темноглазый. Разве что кожа чуть светлее, чем у нее, и без того желтушно-золотистого оттенка.
Да, вполне возможно, что я выдавал желаемое за действительное. Тем более, что Цезарион чем дальше, тем больше казался мне похожим на Цезаря: вот вдруг замечу, что нос у него характерный, или та же складка пролегает между бровей, когда он хмурится, или родинка на подбородке столь похожа, что дрожь берет.
Но мало ли бывает родинок у людей на подбородках, вероятность совпадения велика.
В любом случае, Цезарион оказался тихим и вежливым мальчиком.
Когда моя детка представила нас друг другу, он сказал мне на латыни:
— Здравствуй, достойный Антоний. Я многое слышал о тебе и рад увидеть воочию.
— Ого, — сказал я. — Отлично говоришь.
— У него талант к языкам от его отца, — сказала моя детка. — Это меня удивляет, ведь мальчик не знал Цезаря. Впрочем, достойный учитель таков, что родители приписывают его достижения талантам своих детей.
— Да, — сказал я. — Это точно.
Честно говоря, я продолжал рассматривать Цезариона и искать в нем сходство с его предполагаемым отцом. Потом подтолкнул к нему Антилла.
— Это мой сын, Марк Антоний Антилл. Он отличный малыш, расскажет тебе о Риме, правда, Антилл?
— Да, па! А что ему рассказать?
— Что ты как маленький? Расскажи, что считаешь важным. Идите поиграйте, ладно?
Моя детка посмотрела на своего сына, вдруг я увидел в ее глазах нежность, вспышка была короткой, но яркой. Она погладила мальчишку по голове.
— Давай, Цезарион, покажи дворец малышу Антиллу. И не забудь рассказать о своих благородных предках.
Моя детка обернулась ко мне и сказала:
— Что ж, добро пожаловать. Думаю, мы с тобой отлично проведем здесь время. Это пойдет на пользу и Риму и Египту.
И как ты считаешь, пошло это на пользу хоть Риму, хоть Египту?
По-моему, и тот и другой настрадались изрядно от проведенного нами вместе времени.
Прибыв в Александрию я на некоторое время, обалдев от воспоминаний и впечатлений, забыл о тебе и о Фульвии.
Моя детка исполнила свое обещание.
Вечером, после роскошного обеда, который она для меня устроила, царица Египта привела меня в спальню. Впрочем, это была не ее спальня. И эту комнату я узнал сразу, поскольку там уже был.
Спальня Береники, вот куда привела меня царица Египта — в покои другой, ныне мертвой царицы, которую я когда-то любил перед самым ее последним рассветом.
Я сказал:
— Береника.
Моя детка сказала:
— Да, здесь она жила.
Я, разморенный вином, следовал за ней неотступно, и вот оказался в ловушке своих воспоминаний.
— Такая красивая девочка, — сказал я.
— Да, красивая, — ответила мне царица Египта. — Ты хотел меня. Ты все еще хочешь?
Я, честно говоря, не привык к тому, что все происходит так рационально. Обычно женщины таяли от страсти у меня в руках, и все происходило без вопросов, без договоров и без примечаний.
Моя детка взяла меня за руку, приподнялась на цыпочках и лизнула меня в щеку.
Как в ней это сочетается? Столь вычурная, животная природа и одновременно эта механистичность, холодность, какая-то даже болезненная.
Я глядел на нее, будто зачарованный. О, эта сладость женщины, которая еще никогда не была твоей, чудное ощущение того, что вот-вот случится, ощущение тайны.
Я взял ее на руки, и какой же моя детка оказалась легкой. Она вздрогнула, вцепилась в меня, будто злая, напуганная кошка.
— Боишься высоты? — спросил я.
— Не льсти себе, — ответила она. — Просто не ожидала.
И вдруг спросила:
— Ты брал на руки Беренику?
Можешь себе представить?
Я положил ее на кровать и принялся стягивать с нее платье. Ее обнаженное тело казалось таким хрупким. Я вспомнил о Фадии.
Прижавшись губами к ее ребрам, я пробормотал:
— Не помню.
— А я уверена, что помнишь, — ответила она, ничуть не стесняясь своей наготы. Обычно женщины, оставаясь без одежды, становятся покладистей и мягче, это правило даже с Фульвией работало.
— Я хочу, чтобы ты сделал со мной то, что сделал с ней, — сказала мне моя детка. — А потом сделай со мной то, чего хочешь сам.
— Мне нравится, — засмеялся я. — Хорошая сделка, я люблю такие.
Я думал, моя детка ничего не знает о том, что именно происходило у нас с Береникой, и мне предоставлена полная свобода. Однако, видимо, Береника успела рассказать ей всякого (звучит весьма извращенно, правда?). Во всяком случае, царица Египта не раз говорила мне:
— Ты не делал этого.
Или:
— Ты оставил ей укус здесь. Сделай это для меня.
Все в таком духе. Сначала я чувствовал себя неловко, даже думал, вот, как я желал ее, а в итоге все так нелепо происходит, и беру я не ее, а призрак ее сестры.
Но вскоре я почувствовал, что процесс захватывает меня не только с физиологической точки зрения. Я снова ощутил себя там и тогда, вспомнил Беренику, ее запах, нежность ее ладошек, ласковый голос, ее смех.
Она была вовсе не похожа на мою серьезную, весьма и весьма обстоятельную детку, нет. И физически они весьма разнились, лишь тень сходства, тень очарования, общего для обеих, а все остальное — разное.
Но все-таки я вспоминал. Казалось, я имею одновременно их обеих, двух сестер, цариц Египта со столь разной судьбой. Опыт как минимум интересный, а как максимум — просветляющий, потому как меняет течение времени.
Заставляет его идти вспять. И вот я снова еще ничего не знаю ни о чем, кроме войны, да и о ней — только-только. И вот я так молод и полон таких надежд. И вот мне впервые оказана эта честь — провести ночь с царицей, с загадочным и нежным творением Востока.
Сначала моя детка все время поправляла меня, куда лучше, чем я, она помнила все подробности.
Мне забавно и странно представлять, как Береника рассказывает четырнадцатилетней сестренке все подробности нашей ночи. А потом Береника умерла. Вот так вот, их последний разговор был о любви с мужчиной, просто разговор, который старшая и младшая сестры могли вести часто, девочкам-подросткам еще интересно слушать, а юным девушкам еще интересно рассказывать.
И, должно быть, моя детка представляла, как это все было. Я это понимаю. В четырнадцать лет я тоже представлял себя с разными женщинами, о которых мне рассказывал дядька, и это было весело и будоражаще.
Самое странное заключалось в том, что бедная Береника делилась с сестрой-подружкой секретами за пару часов до своей смерти.
А ее младшая сестрица запомнила все в подробностях и пронесла через свою, уже взрослую жизнь, не потому, что это была какая-то такая уж особенная любовь, а потому что то была последняя история перед финалом.
Вот такая история, в которой я — персонаж. И теперь мы ставили эту трагедию во второй раз. Актер был тот же, актриса же совсем другая.
Когда все закончилось, моя детка, как и ее сестра когда-то, оседлала меня, усевшись сверху.
— А потом, — сказал я. — Береника сказала, что сегодня у нее какой-то там день, чтобы…
— Хороший день, чтобы зачать ребенка, — сказала моя детка и до жути точно изобразила интонацию своей мертвой сестры. — Но этого никогда не будет. Никогда-никогда.
Она провела рукой по своему животу точно тем же движением, мгновенно ожившим у меня в памяти.
— Да, — сказал я. — Точно так она и сказала.
Царица Египта склонилась ко мне и поцеловала меня в щеку.
— Спасибо, Антоний. Мне это было очень важно. Ты сделал для меня многое. Теперь я подчинюсь тебе во всем. Во всяком случае, здесь и сейчас.
Так и случилось.
Всю последующую ночь я творил с ней, что хотел и думал, что это вполне удовлетворит меня, однако выяснилось, что ее странности только распалили меня.
После всего мы с ней лежали рядом, и я ощущал, как течет время, ощущал тоску и боль оттого, что я не в ней, а время течет.
Что я думаю об этом?
Она тяжело дышала, потом потянулась за ингалятором, встала на кровати и глубоко вдохнула лекарство. Я оглаживал ее ногу, потом потянул мою детку к себе. Она взяла мою руку и приложила ее к своей груди.
Я услышал, как тяжело бьется ее сердце.
— Ты прекрасна, — сказал я. — Так прекрасна, милая Клеопатра.
— Милая, — сказала она хрипло. — Не то слово. Я сорвала голос.
— Это пройдет, — сказал я. — Ты редко кричишь в постели?
— Я редко бываю в постели не одна, — сказала она и повернулась ко мне. — И никогда еще — после Цезаря. Тебя это удивляет?
— Немного, — признался я. — Я думал, царица Египта позволяет себе мужчин по своему вкусу.
— У меня высокие требования к физической любви, — сказала моя детка. — Она должна быть небессмысленной.
— Со мной — небессмысленна?
— Политически резонна.
В определенном смысле, она никогда мне не лгала, видишь?
— Вот почему я подался в эту проклятую политику. Наконец-то, прямая выгода.
Я засмеялся, а она молчала, будто прислушивалась к себе. Потом вдруг коснулась себя пальцами там, внизу, и долго рассматривала, как блестят они под невинным, золотым светом моим семенем и ее соком.
— Странно, — сказала она. — Я так тебя и представляла, но все-таки ты другой. Сложно объяснить это чувство.
— Представляла таким, но я другой? — переспросил я со смехом. Она сказала:
— Когда-нибудь я смогу объяснить.
И, кстати говоря, не объяснила. Наверное, стоит у нее спросить, пока я еще в состоянии спрашивать, а она в состоянии отвечать.
Думаю, физически она полюбила меня в ту же ночь. Во всяком случае, когда мы засыпали, она была нежна и тиха, будто бы благодарна.
Но эмоционально я был ей абсолютно чужд и даже утомителен. Некоторое время — точно. И жизнь, которую она была вынуждена вести рядом со мной по политическим причинам, казалась ей идиотской, а я — раздражал. Но физически, могу тебе поклясться, она изнывала без меня.
То, что она так старательно играла: вожделение и кошачья дикость, по иронии оказалось реальным. Впрочем, если бы этого в ней не было с самого начала, разве смогла бы она столь достоверно изобразить передо мной Венеру?
Но, если говорить о той ночи, думаю, держа ее в своих объятиях, засыпая, я первым подумал: люблю.
Люблю за то, что больше не болен.
Люблю за то, что она так податлива и так многого хочет.
Люблю за то, что она смешная и претенциозная.
И за всякое прочее тоже люблю. Я вообще очень легко влюбляюсь.
В ту ночь женщина в моем сне, наконец-то, пойманная мною, действительно оказалась царицей Египта, но не Клеопатрой, а Береникой.
Странно, правда? Уж ее я точно не любил никогда, и нигде не искал. Но иногда наш разум рисует нам причудливые вещи и играет с нами всякие разные шутки.
Порой я думаю: а что если бы наша любовь не была тогда загрязнена жаждой и страхом смерти, если бы это была не любовь втроем с мертвой Береникой, а всего лишь одна ночь из многих, одна царица из многих?
Если бы тогда моя детка не показалась мне странной, вычурной и капельку безумной, а была бы она просто одной из нежных и послушных женщин, готовых на все ради своей страны?
Что случилось бы тогда? Полюбил бы я ее, или уехал бы из Александрии куда-нибудь, да хоть к тебе, милый друг, разбираться с твоими проблемами, первой из которых была моя законная жена?
Сложно ответить на этот вопрос. У меня было множество женщин, к тому времени и знатных тоже, думаю, я забыл бы о ней, как я забывал о каждой предыдущей царице, как бы ни вожделел ее?
Мне нравятся сумасшедшие женщины: Фадия с ее безумным страхом смерти, Антония с ее ненавистью к чувствам, моя-твоя неистовая дурочка Фульвия, Киферида с ее кровью, текущей из носа, и, наконец, моя детка со всеми ее странностями.
Такие разные женщины, правда?
Но на самом деле они очень похожи.
В любом случае, так началась моя жизнь в Александрии, столь изощренно приятная, столь роскошная и столь распутная, какой я не мог представить себе прежде.
Мы с моей деткой закатывали роскошные пиры, и за вечер, бывало, каждый из нас по отдельности просаживал денег больше, чем состояние иных царств.
Египет был столь богат на развлечения, столь насыщен драгоценными благовониями, он был такой сверкающий и такой золотой. В прошлый раз я пришел сюда солдатом, теперь же Египет раскрылся для меня, как для властителя Востока, как для того, кого Египет стремится ублажить, и с кем эта цивилизация, умирающая и возрождающаяся много тысяч лет, будто их боги, вынуждена считаться.
Веришь ли, мы растворяли жемчужины в уксусе, просто так, это весело, хоть и получается редкостная гадость, которую невозможно пить, каким бы количеством воды ты ее ни развел. Но я пил. Просто потому, что мне нравилась сама идея — опрокинуть в себя целое состояние.
Эту забаву придумала царица Египта. Как-то раз она сказала, что, наконец, перепьет меня. Обещание выпить вина за один только вечер на десять миллионов сестерциев казалось мне невыполнимым. А она, ловко и легко, вытащила из сережки чернющую, красивейшую жемчужину и кинула ее в уксус. К концу вечера ее питье на десять миллионов сестерциев было готово.
— Что ж, — сказала она, выпив эту жидкость. — Отвратительно, зато очень дорого.
Я засмеялся.
— Как раз так, как я и люблю!
Жара сводит с ума, любовь сводит с ума. Моя детка была со мной каждую секунду. Не льщу себе, вряд ли она забыла обо всех своих государственных делах, это вовсе не в ее стиле, да и я тогда, хоть она и желала меня в постели, не слишком нравился царице Египта за пределами царского ложа. Думаю, я и был ее основным государственным делом.
Она относилась к попойкам со мной, как к работе, которую привыкла выполнять хорошо.
Теперь, когда я лучше знаю ее и больше осознаю, что за человек такой эта моя детка, мне ее даже жаль. Чтобы заняться своими царскими делами, она выбирала рассветные часы, когда, утомленная мной, выбиралась из моей кровати, и шла к своим советникам, подписывала и читала важные документы, и делала все прочее необходимое. Затем, пока я еще не проснулся, в утренние часы она принимала важных посетителей, а после полудня, когда я приходил в себя, ныряла ко мне в постель, свежая и отдохнувшая, будто бы все это время мирно спала рядом.
Потом же до глубокой ночи она веселилась вместе со мной, стараясь развлечь меня наилучшим образом, и лишь сама ночь была наполнена любовью, которая столь нравилась нам обоим.
Всюду я хотел видеть ее рядом. Я забыл обо всем, об угрозе римским владениям со стороны Парфии, о твоей проклятой войне, о моей проклятой вине.
Всегда-всегда мне было так весело, а царица Египта никогда не показывала своей усталости, пусть ей и приходилось очень тяжело. Она была со мной, когда я проматывал деньги, играя в кости, она и сама играла, ей всегда сопутствовала удача, которую она приписывала своему божественному происхождению. До меня она не играла в кости, и оттого движение руки ее, учившейся у меня, было столь схоже с моим, то же самое и с выпивкой — она и сейчас пьет точно так же, как я.
Приятно видеть, как отражаюсь я в ней. Приятно видеть следы тех ее первых настоящих, серьезных попоек.
А как смешно она пьянела. И вдруг слетала с нее маска роковой стервозной умницы, и оказывалось, что моя детка любит порассуждать о вреде и пользе театра для населения, о поэзии, о движении небесных тел. Она рассказывала мне много интересного и, надеюсь, я тоже научился чему-то, и она тоже отражается во мне. Это ведь и есть единство, любовь, теперь мне так кажется.
Пьяная, она рассуждала о материях бесконечно от меня далеких, но я слушал ее голос, будто музыку, прекрасную небесную музыку, которой наслаждались до меня лишь боги.
И тогда, наблюдая за ней, забавной, даже нелепой, активно жестикулировавшей и пытавшейся пить по-мужски, я думал о том, что это может быть правдой — она божественное дитя, маленькая богиня.
Она много смеялась, она вообще много смеется, моя детка, и обнажает белые, очень красивые зубки, и клацает ими, и выглядит в этот момент так чудесно.
Это и сейчас прекрасно, хотя прошел уже десяток лет.
А как ее маленькие когтистые пальчики хватались за эфес меча. Как-то раз я, потешаясь, пытался научить ее драться, и она продемонстрировала ловкость зверька, а так же похвальное бесстрашие.
Частенько я бился с кем-нибудь, чтобы ее развлечь, будто какой-нибудь мальчишка-гладиатор, я старался впечатлить ее, показать, как силен и смел, как совершенно владею оружием, как легко убиваю.
Она была совершенно небрезглива и любила вид и запах крови, часто слизывала ее с меня, когда я возвращался, радостный и возбужденный устроенным для царицы Египта представлением.
А еще она часто хвалила меня, я так падок на это, так легко покупаюсь на слова любви и приязни, так радуюсь, услышав их. Она говорила, какой я смелый, приводила в пример подробности сражений, о которых ей, видимо, рассказывал Цезарь.
Оказалось, Цезарь вообще многое ей про меня рассказывал, как и про всех других. А о Лепиде моя детка и вовсе знала больше, чем я.
— Он советовался, — сказала она. — Хотя Цезарь всегда разбирался в людях лучше, чем я. Думаю, ему скорее необходимо было услышать историю со стороны.
— И как же он характеризовал мою историю? — спросил я.
— Он любил тебя, как любят неразумных, но очень талантливых детей, — ответила мне царица Египта. — И он переживал о том, что случится с тобой после его смерти.
Странное дело, она так старалась ублажать меня, развлекать и радовать, но никогда не ласкала. Наверное, это и удерживало меня рядом с моей деткой больше всего — я обладал ей в постели ночью и во всех своих развлечениях днем, но не мог насытиться, потому что она не была моей по-настоящему.
Я не мог утолить свою жажду и, как ребенок, старался привлечь ее внимание.
В определенном смысле, я думаю, таков был мой очередной побег от реальности. Я очень не хотел возвращаться в мир, где ты вел свою войну вместе с моей женой. В мир, где ты был прав, а я нет, но я все равно на тебя злился.
В мир, где ты страдаешь, а я не хочу прийти к тебе на помощь, потому что ты — маленький предатель.
В таком мире я себя ненавидел, но в мире царицы Египта я любил себя.
Меня охватило странное веселье, какое-то даже нездоровое. Это веселье было обратной стороной моей печали, печали о тебе, и о Фульвии, и о самом себе, столь несовершенном человеке. Я был плох, и понимал это прекрасно, и прятался от грусти, которую вызывал такой вот факт, в мальчишечьи забавы.
По ночам, между нашими с царицей Египта радостями любви, меня охватывало особенное нетерпение, особенное желание быть кем-то другим. И тогда я переодевался в бедняцкую одежду и отправлялся гулять по ночному городу безо всякой охраны, без кого-либо рядом, кроме, разумеется, моей детки.
Ей совершенно не шли простые платья, в них она выглядела глазастой дурнушкой, но я испытывал особенную нежность именно к этой ее уязвимости в отсутствие дорогих ярких тканей и золотых украшений.
Ее все наши путешествия в ночь без охраны ничуть не пугали, хотя мне было видно, что такие выходки для нее тоже внове. Царица Египта охотно участвовала во всех моих забавах, сидела у меня на коленях, когда я играл на деньги в каких-нибудь грязных забегаловках, кричала вместе со мной, когда я будил кого-нибудь из моих чиновников, кидая им в окна камни и осыпая бранью.
— Луцилий! — кричал я, например. — Ты — хуй, Луцилий! Понял меня?
Глупости, конечно, но мою детку это почему-то смешило и, как мне кажется, искреннее. Как-то раз я, поцеловав ее, сказал:
— Это же даже для меня тупо. Почему ты смеешься? Совсем же уже край.
— Меня смешит контраст, — сказала она, с трудом прорвавшись сквозь смех и причитания, почти рыдая. — Очень, очень смешит контраст. Ты ведь великий человек. В твоей власти сам Рим, могущественный и непобедимый. И вот: ты хуй, Луцилий! Вот к чему все приходит в конце концов!
И она снова принялась смеяться, а я, чтобы развлечь ее, обратился к Луцилию с такими словами:
— Луцилий, обращаюсь к тебе я, величайший человек из живущих ныне, общаюсь к тебе с такими значимыми словами: ты — хуй, Луцилий!
Царица Египта принялась утирать слезы, вызванные безудержным смехом.
— Я сейчас умру! — выдавила из себя она. — У меня опухает горло!
— Достойная царицы смерть, — сказал я. — Тоже ведь своего рода контраст.
— Не смеши меня, прекрати!
Думаю, тогда она впервые была со мной искренней, хватаясь за меня, хохоча, утирая слезы, задыхаясь, она была настоящей, и ничем не хотела мне угодить — я на самом деле рассмешил ее.
Я прижал ее к себе, и она сотрясалась от смеха в моих объятиях, а потом Луцилий выглянул из окна и вылил на нас ведро холодной воды.
— Справедливо! — сказал я. — Но повышения не жди больше!
А моя царица Египта, ошарашенная, стояла, обхватив себя руками. С ней такого никогда не случалась. Зато и приступ мучительного смеха угас. Я притянул ее к себе, столь удивленную, даже напуганную, и поцеловал.
На ощупь она была такой горячей, помню как сейчас, словно температурила.
Частенько во время таких вылазок я нарывался на драки, чтобы впечатлить мою детку, на это она реагировала прохладнее.
— Не забывай, — говорила она. — В конце концов, это мои подданные.
— И как тебе твои подданные? Уверен, так близко ты с ними еще не знакомилась!
— Да, — сказала она. — Опыт интересный, хоть и неоднозначный. Я лучше узнаю людей.
— И что ты думаешь о них?
— Они пьяны и раздражительны, многие из них идиоты, но редко они такие идиоты, как ты.
Я засмеялся.
— Тебя это скорее радует?
— Да. Я очень боялась, что все мужчины простого происхождения такие, как Антоний.
Тут я почти обиделся.
— Не такого уж я и простого происхождения.
— Да-да, знаю, Геркулес — твой легендарный предок. Кстати говоря, я в этом не сомневаюсь. Ты читал "Лягушек"? Там Геркулес весьма на тебя схож.
И вот эти моменты, когда она проявляла свою природную язвительность, они тоже очаровывали меня. Вдруг оказывалось, что она может укусить, если захочет, и оттого только ценнее становилась ее похвала.
Частенько александрийцев, с которыми я пил и дрался, в дальнейшем я приближал к себе, звал на пиры, одаривал и, бывало, даже спрашивал у них совета. В конце концов, кто ближе к народу, чем его непосредственный представитель, готовый по бухалову подраться в подворотне с незнакомым мужиком.
И если незнакомый мужик оказался римским триумвиром, то почему бы этому триумвиру не использовать шанс познакомиться с поданным дружественного государства?
Моя детка сначала смотрела на все это скептически, но вскоре, наоборот, приучилась спрашивать этих представителей народа о том, как живется им, и каковы их проблемы. Думаю, это плюс. А ты как думаешь?
В любом случае, александрийцы любили меня. Они говорили, что в Риме я ношу трагическую маску, с ними же — комическую. Они считали меня ленивым, неотесанным, наивным Геркулесом из комедий Аристофана, тогда же как моя римская слава, слава жестокого, беспутного и кровожадного человека, мало их касалась.
Такое положение дел меня более чем устраивало. В конце концов, я ведь хотел избавиться от того себя, который был в Риме и наделал все эти глупости. От этого человека я и бежал.
Что же в это время происходило с тобой? Ты проигрывал. А моя жена Фульвия позорила себя и меня.
Для того, чтобы я обрисовал тебе полную картину происходившего в Александрии, происходившего, пока ты боролся за дело этой твоей жизни, необходимо нам вспомнить и о письмах, твоих и Фульвии, которые я получал.
Ну что ж, как говорится, начнем с Юпитера.
Я их читал. Да, читал. И даже, как ты помнишь, отвечал. Были среди них письма скучные, почти успокаивающие своей деловитостью и унылостью, но были и те, которые разорвали мне сердце.
Ты писал:
"Марк!
Разве не понимаешь ты, что я следую твоим интересам? Разве не понимаешь ты, что Октавиан творит беззаконие, а я, твой брат, пытаюсь этому помешать. Неужто не осталось в тебе ничего такого, что взывало бы сейчас к справедливости? Послушай меня, собери армию и помоги мне, так ты сыщешь себе вечную славу, о которой ты, может быть, мечтаешь больше, чем о людском благе.
Здесь твое будущее, Марк, в Риме, и ты должен помочь мне. Мы с тобой построим то, чего хотел Цезарь!
Но помоги мне. Я в этом нуждаюсь.
Твой брат, Луций Антоний.
После написанного: ну как же так, Марк?"
Теперь мне больно вспоминать это письмо, оно полно детского разочарования.
Всю жизнь я приходил к тебе на помощь, когда ты нуждался в этом. А теперь ты, трахая мою жену и претендуя решение моей собственной политической судьбы, просил у меня поддержки.
— А не пошел бы ты нахер? — сказал я, читая это твое письмо.
Только теперь я понимаю, насколько детским оно было, насколько полным отчаяния и удивления. Ты был уверен, что я немедленно поспешу к тебе на помощь, словно мы все еще оставались детьми.
Ты был уверен, что большой брат придет и поможет просто потому, что ты этого сильно хочешь.
Ну как же так, Марк?
А ты предатель. И я предатель.
Я прочел это письмо и отправился на пир, где царица Египта обещала мне выпить вина на десять миллионов сестерциев. И получил от ее шутки удовольствие.
А ты, наверное, в это время отчаянно сражался с моим врагом, уверенный, что я отправлюсь к тебе, что я просто не могу не появиться.
Фульвия была куда жестче. Она писала:
"Ты, мудак, я тебя ненавижу, прохлаждаешься с этой египетской блядью вместо того, чтобы помочь собственному брату! Да как у тебя хватает совести! Мы из кожи вон лезем ради тебя, а ты!
Ты, ты, ты!
Все время ты! Будь проклята я, вышедшая за тебя замуж и родившая тебе детей!"
На что я ответил ей в том же тоне:
"Ты, тупая сука, я откручу твою башку!
Нет, родная, лучше я буду долго колотить твою башку об стол, чтоб ты знала свое место, а потом, да, потом я ее тебе откручу, потому что тебя бесполезно чему-либо учить.
Надеюсь, ты наслаждаешься хером моего братца так же сильно, как я наслаждаюсь дыркой египетской царицы.
Удачи с войнушкой, тварь!".
Следует ли говорить тебе, что ответ Фульвии был еще жестче моего, а мой последующий — жестче ее предыдущего, и так мы дошли до проклятий друг другу, которых это письмо уже не сможет вынести.
В любом случае, вот такие вот письма я встречал посреди своих удовольствий и радостей, вот такие вот вещи творились у меня в душе, я испытывал дикую злость и одновременно жалость. Жалость злила меня еще больше, а злость заставляла ощущать себя виноватым и жалеть вас.
Моя детка видела, как я мучаюсь, но не лезла не в свое дело.
Скажу честно, я знал, что Октавиан тебя не тронет, ни тебя, ни Фульвию, так-то.
Знал, что Октавиан не решится в такой ситуации обострять наши с ним отношения и пощадит вас, когда вы проиграете. А я хотел, чтобы вы проиграли. Я хотел не смерти твоей, но проучить тебя. Пусть бы ты узнал, чего стоит твоя справедливость, и что ее не добиться. И пусть бы Фульвия узнала, каково это — проиграть, как проигрывают мужчины, проиграть войну, раз уж ей так не терпелось влезть в мужские дела.
А потом я получил письмо от мамы. Распечатывая его, я думал, что мама будет умолять меня выступить и защитить тебя. Эти свои соображения, как воспитательные, я и хотел ей представить.
Но мама писала:
"Марк, сын мой. Я не могу более оставаться в Риме, я опозорена этой войной, которую вы развязали. Молодой Цезарь очень любезен со мной, но мне здесь плохо. Прошу тебя, прими меня в Александрии, я обещаю не доставлять тебе неудобств."
Представь себе! Мама всегда была такой. Честь, совесть и все прочее. В конце концов, она патрицианка, в отличие от нас с тобой (то есть, мы-то теперь тоже, благодаря Цезарю, но, сам понимаешь, как это недолго и неважно). Мы, сыновья своего отца-плебея, никогда не могли ее понять.
Я никогда не мог ее понять.
И это вот, за долгое время, первое, что она мне написала.
Я сидел с этим письмом, тупо перечитывал его. Когда такое состояние у меня затянулось, моя детка спросила, что со мной.
Я сказал:
— Мама хочет приехать ко мне, сюда. Из-за войны дома.
— Что ж, — сказала моя детка. — В этом нет никакой проблемы, я буду рада принять столь знатную гостью и сделаю все, чтобы Александрия понравилась ей.
Я засмеялся:
— Представляешь! Моя мама хочет с тобой познакомиться.
Моя детка внимательно смотрела на меня с легкой, ничего не значащей улыбкой. Она меня изучила и знала, что смех этот ненадолго. Так и случилось. Я замолчал, вздохнул и снова уставился на письмо.
— Ты любила свою маму? — спросил я ее.
— Нет, — сказала моя детка после небольшой паузы. — Нет, не любила. Она сгубила Беренику. Все случилось из-за нее.
— То есть, ты скорее папина дочь?
— Да, — сказала она. — Клеопатра Филопатор, это о чем-то да говорит.
Еще немного помолчав, она добавила:
— С ним тоже было сложно. Не так сложно, но сложно. Хотя мы ладили, во всяком случае, до смерти Береники. А ты любишь мать?
Она спросила так пытливо, словно это какой-то странный, очень личный вопрос, ответ на которой можно не получить. Впрочем, возможно, в ее мире так и было.
— Да, — сказал я. — Люблю. Но она крупно во мне разочаровалась.
Моя детка ничего не ответила. Уже потом я подумал: а ведь это первый наш с ней действительно личный разговор, если не считать ее упоминаний о Беренике. Как-то получилось, что мы всегда либо смеялись, либо рассказывали истории.
А тут вот.
— Пусть приезжает, — сказала моя детка. — Наверняка ей будет здесь хорошо. Если только ты не собираешься отправиться обратно в римские владения. Или, может быть, в сам Рим.
Я покачал головой, и глаза ее сверкнули радостно, а губы тронула едва заметная улыбка.
— Хорошо. В таком случае, я устрою ей такой прием, за который нам обоим не будет стыдно.
Я засмеялся.
— А как же наши с тобой приемы, за которые нам обоим стыдно?
— Самое интересное будет начинаться, когда твоя мама уляжется спать.
— Да, — сказал я. — Традиционно, она ложится рано. Если только не страдает сейчас от бессонницы.
Я чувствовал себя глупо. Зачем-то, развлекаясь с моей деткой, я притащил сюда и свою мать, которая смотрелась посреди этой истории дико и нелепо.
Она была существом из другого мира, существом из правильного, привычного Рима. С ужасом я ждал ее приезда еще и потому, что боялся услышать нечто ужасное о тебе.
Царица Египта выделила для мамы прекрасный дом с видом на знаменитый маяк и море, лучших слуг, и составила большую культурную программу. Я почти не участвовал во всем этом.
И вот мама приехала. Стоило ей сойти с корабля, как я почувствовал себя еще глупее и печальнее прежнего.
— Мама! — крикнул я. Как она постарела и похудела. Мама выглядела нездоровой. Я крепко обнял ее, и она, положив руки мне на плечи, отстранилась, оглядела меня.
— У тебя синяки под глазами, — сказала она. — И новый шрам на шее.
— Все-то ты замечаешь, — сказал я, и на сердце у меня вдруг просветлело. — Все-все.
Она погладила меня по щеке, а потом отстранилась.
— Прости, Марк, что я вынуждена была вот так явиться к тебе. В Риме атмосфера для меня невыносима. Злые языки ранят мне сердце.
— Все хорошо, мама, здесь ты в безопасности.
Дом ей понравился, еще как, она все расточала комплименты вкусу царицы Египта.
— Удивительная, — говорила она. — Просто невероятная женщина. И царица! Надо же! Это меня всегда удивляет в восточных женщинах.
Разумеется, она была в курсе всех грязных слухов о нас и нашем блуде в Александрии, однако же не показывала этого и держалась подчеркнуто вежливо. Тем более, что царица составила для нее крайне впечатляющую культурную программу.
Я уж думал: пронесло! Может, вообще разговор ни о чем таком никогда не зайдет?
И в то же время, не представляешь, какая это мука. Мне хотелось, чтобы она уже обвинила меня во всем на свете, чтобы уже отругала за тебя, и за меня, и за все, что происходит с моей жизнью.
Но этого просто не происходило, и со временем я втянулся в свой привычный ритм жизни: пил, гулял, спал до полудня, и снова пил, и снова гулял, и делил все это с моей деткой. Мама же, по завершении основных экскурсий, жила уединенно и тихо, как мышка.
Как она и сказала:
— Можешь представить, что меня здесь нет.
Я и представил. И снова началось.
А как-то раз с сильного похмелья я решил зайти к матери, даже и не знаю, почему. Наверное, мне надоело ждать и хотелось услышать все ее невысказанные обиды и жалобы.
Мать есть мать, ты знаешь, какова она, знаешь, как умеет пристыдить.
В любом случае, я оставил мою детку спящей. Как ты помнишь, она спала очень мало, и, вдруг заметив, что она только вернулась, проснувшись от того, как она улеглась в моих объятиях, я пожалел ее и не стал будить.
Так вот, по самой жаре полудня, бьющей в голову и заставляющей сердце биться так отчаянно, я пошел домой к маме.
Для нее день длился уже очень долго.
Хотя говорят, что в старости время течет быстрее. Наверное, боги сделали это, чтобы нам не так скучно было не трахаться, не воевать и не пить. А чем еще занять день прежде, чем он пройдет?
Впрочем, чем его обычно занимают женщины? Я не знаю. Приличные женщины, вот, шерсть прядут. А Фульвия, например, воюет.
Что же делала наша мама, как ты думаешь?
Она сидела у окна и под ярким светом чужеземного солнца листала альбом с нашими рисунками. Как трогательно и грустно, будто бы так и задумано, но разве могла она знать, что я приду к ней вот так внезапно? И разве хватило бы у нее терпения день за днем пересматривать эти наши дурацкие рисунки.
Помнишь набор цветных карандашей в жестяной коробке, который подарил нам отец? И мы рисовали целыми днями, вдруг забыв о самоубийственных мальчишеских забавах, которые обычно занимали наши дни. Мама была счастлива: трое ее милых мальчиков, наконец, играют во что-то не слишком травмоопасное и не пытаются себя убить. Правда, счастье ее длилось недолго, однажды ты проткнул Гаю руку карандашом, и один из рисунков оказался заляпан кровью.
Вот так. Нам быстро надоело бездельничать дома, но за три дня мы успели нарисовать целый толстый альбом всякого-разного.
И вот мама взяла его с собой. Для чего? Зачем? Чтобы меня обрадовать? Или чтобы устыдить?
А, может, мир и не вращается вокруг меня, и мама просто стара и печальна, и ей нравятся рисунки ее маленьких сыновей. Ей вообще очень нравились ее сыновья, пока они были маленькими.
Золотой свет лился в комнату, в его сиянии путешествовали пылинки, они медленно парили, спускаясь на пол, и на полу исчезали, будто их никогда и не было.
Все эти пылинки, несовершенства в свету, они ведь прекрасны? И разве не лучшая это метафора для человеческой жизни?
— Мама, — сказал я хрипло, от звука собственного голоса голова заболела еще сильнее. — Привет.
— Здравствуй, мой дорогой. Раб меня не предупредил.
— Да, — сказал я. — Я сказал ему не предупреждать тебя. Хотел устроить сюрприз. Получилось?
— А я, — сказала она рассеянно. — Как-то все равно знала, что ты придешь.
— А, — сказал я и замолчал. О, как не люблю я тягостное молчание, как часто говорю, что угодно, лишь бы его прервать, а тут вдруг язык словно свинцом налился. Ко всему прочему, я почувствовал, что меня тошнит.
И зачем наша мать родила такую пагубу?
Я прислонил голову к стене, к прохладной, приятной стене, и вздохнул.
— Сегодня ночью у Клеопатры был приступ ее болезни. Она не могла дышать. Это так страшно.
— У твоего прадедушки по моей линии была подобная болезнь.
Тошнота чуть-чуть отступила, и я сделал шаг к маме.
Она сказала:
— Вы были такими непоседами. Я была счастлива, когда вы хоть ненадолго увлекались чем-то безопасным. Сколько ссадин, царапин, синяков, вывихов! Ты уже их и не помнишь. Мальчики, конечно, сложнее девочек, не сидят на месте.
— Да, — сказал я. — Это точно. Антилл тоже везде лазает. Ему нравится. Хотя относительно нас, он весьма домашний ребенок.
— Он так вырос. Дети вообще быстро растут. А как я боялась потерять вас! Как боялась, что вы себя погубите. Я знала, что пройдет время, и вы все отправитесь на войну. Мальчики, они уходят. А там их, бывает, убивают. Я любила вас, но должна была отдать этому жестокому миру.
Я сделал еще пару шагов к ней. В голове звенело, глаза болели.
И вот она умерла, потеряв двоих сыновей из троих, представляешь? А третий, я, да кому он нужен? Как печально сложилась ее жизнь.
— Как тяжело матери, когда ее ребенок испытывает боль.
А я, беспутный сын моей несчастной матери, наконец, обнял ее, несмело, будто и вправду я был мальчишкой.
В альбоме на ее коленях я увидел рисунок Гая. Какой-то фиолетовый монстр с желтыми глазами, а во рту у него лошадь. О, а ведь Гай тогда еще даже не болел той своей болезнью.
— А Гай был спокойнее всех, — сказала мама. — Самый из вас серьезный. Мог посидеть хотя бы пять минут.
Я взял альбом и принялся его листать.
— Ты всегда рисовал себя самого, — засмеялась мама. И правда, вот он, улыбающийся мальчишка с зубами-квадратиками. То он в военной форме, то он — великий понтифик, то он в белой с красной каймой тоге сенатора, а то в скафандре отправляется в космос.
А вот ты, Луций, нарисовал нас всех: папу, маму, меня, Гая и себя самого. Все тоже улыбаются, и надо всеми светит солнце с длинными, кривыми лучами.
А вот и кровь Гая, пятна теперь, спустя столько лет, казались не красными и даже не коричневыми, а желтыми. А рисунок какой? А капуста!
Этот человек, наш Гай, уже лежал в земле. Его кости нашли покой. Он был сожжен, как это и полагалось, а не просто закопан где-нибудь на скорую руку. И никакой крови у него уже не было. Даже частички этой крови исчезли. Все, кроме тех, что остались в этом альбоме.
Странное дело, человек нарисовавший на этой странице капусту (зачем?), вырос, убил женщину, отправился на войну и умер в плену.
А капуста, заляпанная его кровью, осталась такой же, какой и была.
Я сказал:
— Как там Луций?
— Я долгое время думала, что Луций — не такой, как ты. Гордилась им. А теперь понимаю, что Луций тоже хочет, чтобы все было по его.
— Все хотят.
— Но какой ценой?
Она не заплакала, но, боясь заплакать, захлопнула альбом.
— Ты должен поехать к нему, — сказала мама. — Поезжай к нему и спаси его. Ты его брат, что бы там ни было.
Я почувствовал себя, как мальчик, у которого мама пытается изъять игрушки в пользу его брата.
— Чего? — спросил я. — Он предал меня.
— Прошу, не надо.
Да, точно как в детстве, когда просят поделиться игрушкой.
— Марк, — сказала она. — Это твой брат.
— С ним ничего не будет. Октавиан не станет…
— Мы этого не знаем. А если он станет? У тебя, кроме брата, никого нет.
А к тебе она с такими речами тоже ходила? Этого мы никогда не выясним.
Я сказал:
— Но я всю жизнь его оберегал, мама! И чем он мне отплатил?
— Всю жизнь ты только жил для себя. А теперь пришло время сделать что-то для него. Конечно, ты оберегал его, когда тебе было удобно. Но настоящая любовь — это помощь не тогда, когда тебе легко ее оказать. Ты любишь человека, и, любя его, помогаешь даже когда тебе сложно. Даже когда это невозможно.
О, наша мама и ее идеализированные представления о жизни.
Я сказал:
— Ненавижу его, и эту его…
Прежде, чем я выругался, мама оборвала меня, осторожно, мягко, но оборвала.
— Когда-то ты сам ее выбрал.
И это тоже правда, разве нет?
Мы помолчали.
— Это твое дело, Марк, ты взрослый человек, но что еще остается мне сказать, если твой брат в беде? Я люблю вас обоих.
— Но меня меньше?
Она вздохнула и вдруг улыбнулась.
— Какой ты у меня иногда глупый.
Свет покрывал ее лицо, будто бы тончайшая ткань. Я увидел маленькие точки-тени, быть может, они лишь казались мне с похмелья. Но я думаю то предвестники ее смерти — черные точки в золотом свету.
Она сказала:
— Ты навсегда останешься моим первенцем. С тобой я узнала, каково это — быть матерью. Я держала тебя на руках и думала: как я хочу, чтобы ты был счастливым, чтобы ты вырос и достиг всего-всего, а я смотрела на тебя потихоньку и любовалась.
— И вот это случилось, — сказал я. — И ты не счастлива.
А моя каурая кобылка Фульвия была бы счастлива, если бы, скажем, Антилл владел третью римского мира?
Да, пожалуй, ее бы не остановила и глубина позора, которому он подвергал бы себя в повседневной жизни.
Мама сказала:
— Я не счастлива. Но это не из-за тебя. Ты родился, и у тебя уже сразу был такой осмысленный, озорной, веселый взгляд.
— Тебе казалось так, потому что я твой сын. Я и сейчас не очень осмысленный, а это сорок лет с хвостиком лет спустя.
Мама засмеялась, но потом добавила серьезно:
— А еще ты полностью мне доверял. Во всем. Мне прежде никогда никто полностью не доверял. И вот, мой первенец, и я держу его на руках, и он так любит меня, и я для него самый главный человек на свете. Я никогда еще не была ни для кого самым главным человеком на свете.
Если вдуматься, бедная наша мама, да? Я молчал. Просто не знал, что сказать, и боролся с тошнотой, снова подкатившей к горлу. Что за жалкое я существо, думалось мне, что за мерзкий зверь?
И зачем только наша мать родила такую пагубу?
— А потом ты спрашивал меня, почему небо синее, что делается с вещами, когда ты их не видишь, откуда берутся звезды, спрашивал и верил каждому моему слову. А я так много не знала. Но ты так нуждался во мне.
Я вдруг услышал не то шум моря, не то ток крови в собственной голове. И подумал: хорошо бы умереть вот так, когда из окна струится такой свет, и когда мама рядом. Это была детская мысль, несерьезная, но вот она случилась.
Мама сказала:
— А теперь ты такой взрослый. Во всем, но не в самом главном.
Она посмотрела на меня и сказала:
— Ты мне все еще веришь, Марк?
— Да, — ответил я. — Я люблю тебя, и я тебе верю.
— Будь добрым к другим, пожалуйста. А если и не добрым, то хотя бы не будь жесток.
Я сел на пол, и мама погладила меня по голове. Я взглянул в зеркало, что было рядом, и вдруг увидел первые седые волосы в своих кудрях. Я не замечал их прежде.
Мне сорок три, подумал я, не три, сорок три.
Ну да ладно, все остальное я буду писать уже завтра. Вот так мы поговорили, а ты об этом никогда не узнал. Будь все нормально, я бы непременно тебе рассказал.
Наша мать — очень хорошая женщина. Она беспомощна и беззуба в этом ужасном мире, но как же она нежна и добра. И почему у нее народилось столько беспокойных Антониев, можешь мне сказать?
Твой брат, и более никак на этот раз не подпишусь, ведь зачем? Это письмо не попадет в чужие руки, не попадет оно и к тому, кому оно адресовано.
После написанного: нет, ну напомни мне, зачем произвела она на свет такую пагубу?
Послание двадцать третье: Блики на солнце
Марк Антоний брату своему, Луцию, которого он уже достал.
Почему я все время это пишу, кому хочу отправить письмо и куда? Глупости, просто рука привыкла и находит в этом свое успокоение.
Вот мы и подошли к ответственнейшей части, в которой мы с тобой так и не встретились. Как все глупо получилось, правда?
Сегодня послал Антилла к Октавиану. Не потому, что малыш Антилл может чего-нибудь там достигнуть, никаких условий, никаких переговоров, стратегия Октавиана мне более или менее понятна.
Однако, у меня есть надежда, что Октавиан оставит Антилла у себя и пощадит. Такая надежда, вот. Она глупая? Должно быть. Но Антилл — моя плоть и кровь, и я так стремлюсь спасти его, пусть и ценой собственного бесчестья.
А он говорит, что уже взрослый. Я ведь сам ему внушил эту глупость, объявив его совершеннолетним. Безусловно, по возрасту ему вполне полагается тога, но разве же внутри он взрослый?
Ребенок ребенком, и пусть бы Октавиан пощадил моего смелого мальчика, а больше мне не надо никаких условий.
За Юла я спокоен. Октавия его не оставит, я знаю ее, и я благодарен ей за то, какова она есть. Прекрасная, добрая женщина, хорошая мать для моих детей. Остается лишь молиться Юноне о том, чтобы Гелиос, Селена и Филадельф тоже попали к ней. Звучит весьма самонадеянно, но, думаю, она еще любит меня и позаботится о моих детях.
Он хорошая женщина, правда. Этого у нее никто не отнимет. Теперь я вспоминаю о ней с любовью и благодарностью, и теперь я думаю, что мне хотелось бы увидеть ее. Увидеть еще раз, как искрится на солнце ее взгляд, увидеть улыбку, увидеть удивление на ее лице и радость.
Октавия — хорошая римская жена, одна из лучших жен в истории Рима, жаль только, что ей достался вот такой вот нелепый муж.
Теперь я много думаю о ней, о том, что никогда не ценил ее так, как следовало, а теперь она — моя единственная надежда на спасение, не через себя самого, но через моих детей.
Смогут ли Гелиос и Селена полюбить ее? Филадельф сможет. Он податливый, добрый мальчик, к тому же, он меньше, ему всего шесть лет, в этом возрасте горе забывается быстро, и ему на смену приходит радость.
Селена будет скучать по мне больше всех, это я знаю тоже. Моя маленькая убийца, думал ли я, что дочка будет схожа на меня сердцем более сыновей.
Говорят, женщины любят своих детей одинаково. Не знаю, наверное, это так. Моя детка, во всяком случае, это подтвердила.
С мужчинами, говорят, все иначе, они любят то, что из детей вырастает, а подчас нашими потомками становятся совсем чужие люди, не так ли?
А лично я люблю всех своих детей, даже тех, которых ни разу не видел (младшую дочь от Октавии, к примеру, я не видел никогда), думаю о них и волнуюсь. Но превыше всего из восьмерых (девятерых, включая бедного малыша от Фадии) у меня Антилл и Селена.
Антилл — воплощение нашей с Фульвией любви внешне, пусть он много мягче и добрее нас — это даже к лучшему. Что касается Селены, она столь любит любить, но она и жестока, моя маленькая убийца. Ласковая, но ей очень легко причинять братьям боль. Заботливая, но такая эгоцентричная. Она соткана из моих противоречий, и у нее совершенно мои глаза, тот же разрез, тот же цвет, теплый, светло-карий, а на радужке у нее та же точка, родинка, что и у меня. На том же, на левом, глазу, в то же месте — левее зрачка.
Я боюсь, это не сослужит ей хорошей службы, ведь левая сторона — несчастливая. Хотел бы я, чтобы такое пятнышко, маленькое, черненькое, было у нее на другом глазу и с другой стороны.
Или не так уж это и важно? Я ведь был счастливым очень-очень долгое время.
Ну да ладно, что уж об этом рассуждать. Судьба есть судьба, Фортуна знает, кому и что положено, и в какое время. Я верю в ее счастливую звезду, во всяком случае, стараюсь верить.
Вот еще о чем я подумал сегодня, проснувшись поутру. Милый друг, ведь после смерти Брута и Кассия я грустил, потому что с Цезарем — совсем все, ничего не осталось, даже убийцы его — мертвы.
А вот тут выясняется, что остался я, остался Октавиан. И теперь, убив меня, он будет совсем один. Вот тогда и для него, с Цезарем будет все. Начнется нечто совершенно новое, чего я не увижу.
В любом случае, есть приятный момент: я не застану мира, который окончательно утратил моего чудесного, умного и мудрого друга. Это сентиментальное соображение весьма меня утешает.
Однако, что я могу рассказать о Цезаре, тем более теперь? Прожил это, а потом и вспомнил, для тебя, вот, для себя, теперь не знаю, для кого. И вроде как прошел еще раз. А теперь и тут его уже нет.
Но, может, я не о Цезаре сейчас грущу, а о тебе? Пожалуй, что так. В конце концов, вся эта история она о том, как мы с тобой не увиделись.
Ну и немного о том, какой невероятный мудак этот великолепный Марк Антоний. Все, хватит отступлений, теперь обратно ко всем моим грехам.
Думаешь, после того, как мама поговорила со мной, я живо исправился и собрался к тебе? Хрен там. Я вернулся к своей распутной жизни с одной лишь только разницей: теперь меня тошнило не только от съеденного и выпитого, но и всякий раз, когда я глядел в зеркало.
А как-то раз, когда я жадно похмелялся в своей постели, пришло донесение. Парфяне, ведомые, естественно, беглым Лабиеном, напали на римский Восток, и тяжело теперь приходилось Малой Азии, которая еще недавно казалась мне такой спокойной и мирной, процветающей и безмятежной.
Новость ожидаемая, правда, учитывая, что моей задачей, на Востоке, была подготовка войны как раз вот с этими ребятами. Ты спросишь, как можно быть таким безответственным. Как, о, как, Марк Антоний, умудрился ты облажаться абсолютно везде, какие боги допустили это?
А я скажу тебе: боги смотрят на нас и забавляются. И особенно смешно им от меня.
Я облился вином, закашлялся, вино пошло у меня через нос.
— Чего? — спросил я хрипло.
Гонец повторил мне все слово в слово. Даже на лице этого мелкого человека, простого солдата, видел я презрение сравнимое с тем, которое, должно быть, испытывал ко мне Октавиан.
— Бля-я-я, — сказал я. — Ну бля-я-я.
Да, разумеется, историкам такое не продиктуешь, но что правда, то правда. Я вздохнул. Царица Египта, не стесняясь своей наготы и не стараясь прикрыться тоже все внимательно слушала, а потом поманила рабыню и взяла у нее ингалятор, вдохнула лекарство и принялась считать до десяти.
Весть взволновала, как ты понимаешь, и ее.
Я сказал:
— Так, понятно. Понятно. Я все понял. Очаровательно.
— Ты все понял? — спросила меня царица Египта смешливо. Я рявкнул ей что-то, а потом тяжело повалился на кровать.
— Мать твою, твою же мать, твою мать, твою мать, твою мать.
Но разве человек прекрасен не умением выбираться из сложных ситуаций? Разумеется, нужно было срочно выдвигаться. Однако на этом не все. Уже к завтраку меня настигла другая весть — ты сдал Перузию и капитулировал полностью.
Твоя война закончилась, а моя началась.
Гонец сказал:
— И жену твою, Фульвию, и брата Цезарь пощадил. Более того, сам город сожжен, однако их солдаты не пострадали, поскольку воевали с твоим именем на устах.
— Вот и славненько, — сказал я, принявшись массировать себе виски.
— Луцию Антонию предложен выбор: уехать к тебе, либо же, как и полагается консулу, получить наместничество в Испании.
— О, с нетерпением жду его здесь, — сказал я.
Голова раскалывалась. С одной стороны, проблемой меньше, ваша война была закончена, и Октавиан не собирался причинять вам зла. Я мог бы успокоиться, но мысли о финале твоей войны только сильнее растревожили меня.
Будто я знал, что это есть не только финал твоей войны, но и твоей жизни.
В принципе, кое-что для войны с Парфией я сделал: у меня были сформированные легионы и, правда далеко в Галлии, очень, просто очень талантливый легат по имени Публий Вентидий Басс. Чудо и прелесть, этот человек, он мог решительно все и, в определенном смысле, требовалось признать, что он был куда талантливее меня, во всяком случае, куда последовательнее.
Впрочем, и старше. Будь он младше меня, я бы его возненавидел, мне кажется. Но старшим я прощал такие грехи, как чрезмерная блистательность. В конце концов, у них вроде как был или мог быть опыт, которого я не имел.
В любом случае, я выдвинулся из Египта как можно скорее. Помню ночь перед отправлением, мы провели ее с царицей Египта столь сладко, что не спали вовсе. Она была утомлена мной и необычайно нежна. Вдруг, впервые, она по-настоящему приласкала меня, прижала мою голову к своей груди и принялась гладить, нелепо, словно ребенок — собаку, и я засмеялся.
— Бедный мой маленький бычок, — сказала она. — Бедный-бедный.
Может, эта ее сентиментальность вызвана была беременностью, живот ее к тому времени уже был не просто заметен, а не оставлял никаких сомнений в том, что царица носит жизнь внутри себя.
— Ты напишешь мне, кто это будет? — спросил я.
Она прижала палец к моим губам.
— Не спеши загадывать. У нас о ребенке не говорят заранее. Кто знает, какова будет воля богов?
— Он шевелится?
— Весьма активно, обладает буйным характером отца.
Мне так тоскливо было оставлять ее, ты не можешь себе представить. Я чувствовал пустоту в сердце, ту пустоту, которую так страстно заполнял все эти годы, и вот, в разлуке с царицей Египта, она готова была разрастись еще больше. Мое сердце, как запущенный сад.
Но такова судьба мужчины и судьба женщины, то соединяться, то быть в разлуке. Я оставил ей ребенка (как выяснилось потом: двоих, девочку и мальчика), и это главное — ее судьба теперь неразрывно связалась с моей.
Моя детка сначала не показывала, что ее хоть как-то трогает мой отъезд. Думаю, этот ее порыв был вполне искренним. Выгодно ей было убиваться и демонстрировать, как она будет скучать без меня, чтобы доказать свою любовь.
Но сердце ее злилось, и она обижалась на судьбу, что разлучает нас, и не могла играть покорную и влюбленную мою наложницу, а ходила мрачная, и лишь в постели ей становилось веселее.
И вот мы расстались. На рассвете она провожала меня и вдруг сморгнула слезы, отвернулась, очень резко и больно вцепилась в мою руку, так что потом я еще долго рассматривал красные лунки от ее ногтей.
— Мы с тобой обязательно увидимся, бедная моя детка, — говорил я ей. — Мы увидимся, и все будет хорошо.
Волосы ее пахли диковинными благовониями, лицо было причудливо разукрашено, но слезы смыли черноту с ее глаз.
— Красивая, — сказал я. — Ты такая красивая.
Мы помолчали, а потом я прижал ее к себе и сказал:
— Я люблю тебя, милая моя детка.
А она сказала:
— Прекрати быть таким сентиментальным, Антоний, пожалуйста.
И принялась кулачками утирать слезы.
— Уходи, уходи, Антоний, не хочу тебя видеть!
Вдруг она приложила руку в животу, я испугался, шагнул к ней снова, но она покачала головой.
— Ребенок проснулся, уходи быстрее, а то я его испугаю этими слезами. Не жди, уходи.
И я ушел, думая о том, когда увижу наше дитя, и увижу ли его вообще.
Впрочем, я ничего не боялся. Почему-то моя победа казалась мне естественной, дело оставалось лишь за временем, предстояло разобраться со всем как можно быстрее.
Я уже добрался до Финикии, когда гонец с письмом от Фульвии, наконец-то, отыскал меня.
Вот что она написала мне, наша с тобой каурая кобылка Фульвия.
"Марк, о, мой Марк, любовь моя, Марк, судьба моя, Марк, несчастье мое, Марк!
Любовь моей жизни, почему ты покинул меня ради чужеземной змеи? Слаще ли с ней спится тебе, любимый? Я тоскую в одиночестве, клянусь тебе, я не делила ложе с твоим братом, что бы ни говорили об этом другие! Никогда не делила и не разделю никогда, ибо ты последний мой мужчина, пусть ты далеко, пусть я тоскую, пусть в брате твоем ищу сходство, я бы никогда не возлегла с ним, зная, что ты еще жив.
Любовь моей жизни, Марк, эта война — глупость, я — глупая, война — глупая, нужна она была мне, нужна потому, что я рассчитывала — ты придешь и поможешь, мне и брату своему. Ты, однако, был холоден и груб. Ничто не заставило тебя выбраться из египетской постели.
Но прошу тебя, любовь, пойми и прими мои слабости. Пойми и прими, что я не могу и не хочу жить без тебя, Марк, мой Марк, мой, не царицы Египта, не чей либо еще, только мой Марк, счастье-несчастье, моя радость.
Ты бросил меня, ты бросил детей, ты забыл о нас, а я так скучаю.
Я лишь хотела, чтобы ты приехал. Я готова была перевернуть мир ради этого. Но теперь все кончено.
Я подвергла себя и тебя позору, но единственно ради любви. Не было другой причины, Марк, милый, будь любезен, прости свою глупую женушку!
Разве хотела я тебе зла? Скажи мне, дорогой мой, в нелюбви и неверности мог ли ты когда-либо меня упрекнуть?
Я бежала из Италии, мне позволили это сделать, но как судьба моя сложится дальше? Тем более, без тебя.
Приезжай и поговори со мной, дай мне если не любви, так только лишь увидеть тебя, лишь это, больше не надо ничего.
А если не хочешь увидеть меня, так дай мне посмотреть на Антилла, на моего первого от тебя сына.
И если увидеться ты хочешь, то найдешь меня в Афинах, откуда я, впрочем, вскоре тоже буду бежать. Не оставляй меня, мой хороший. Во всяком случае, не на совсем оставляй. Я больна и надолго не задержусь в этом мире, простись со мной.
Все, больше ничего не могу сказать.
Жена твоя, Фульвия."
О, как разорвалось мое сердце. Эти ее причитания о любви и боли, как они проняли меня, до самых костей. Моя бедная девочка (ха, девочка, моя ровесница, клейма на которой ставить было негде) где-то там, далеко, в чужой стране, совсем одна, всеми брошенная.
Что касается тебя, о тебе она не написала ни слова, и ты не писал мне тоже.
Верил ли я, что она не спала с тобой? О, я не идиот, разумеется, не верил, это глупости. Она спала с тобой, думаю, из любви к тебе — такая уж у нее была натура, она, как и я, не умела долгое время находиться одна.
Но в то же время, как причитала Фульвия в письме, как боялась и плакала, думаю, когда писала его. Моя бедная дурочка.
Я не мог оставить все вот так. И, разумеется, я боялся, что больше не увижу ее. Бедняжка моя, так уж она и больна? Этого я тогда не знал. В конце концов, с нее сталось бы соврать. Но разве в своей лжи она не так же беззащитна?
В общем, вместо того, чтобы отражать нападение парфян, я направился в сторону Италии, планируя для начала посетить Афины, а потом выторговать у Октавиана милость для Фульвии.
Впрочем, щенуля ведь и так поступил очень и очень мягко. Но я не хотел, чтобы бедная моя девочка, глупая девочка, скиталась теперь всю жизнь по чужим домам.
Вот такой у меня был план по этому поводу.
А что с Парфией? Ну, умение грамотно делегировать полномочия многое решает. Я отправил Вентидию Бассу, моему талантливому Вентидию Бассу, предупреждение о том, что ему стоит как можно скорее двигаться мне навстречу, потому как именно ему я поручу разбираться с нападением парфян в Малой Азии.
И, как ты знаешь, я действительно отправил его в этот поход, и он прекрасно справился с Лабиеном. Потом этот мировой мужик получил свой заслуженный триумф. На триумф мог претендовать и я, как номинальный главнокомандующий, но глупо ведь присваивать себе чужие заслуги. Один из немногих моих, между прочим, хороших поступков.
В любом случае, мы не о Вентидии Бассе сейчас, и не о том, какой он молодец, и не о том, что я ему писал. Как ты понимаешь, я просто не хочу доходить до нашей встречи с Фульвией.
О многом мог бы я написать — о синем море, о плохих предчувствиях, о том, как я планировал решать вопросы с бедной моей Малой Азией, которая готова уже была стать Алой Азией. Алой от крови, ха-ха.
Голова моя шла кругом. Все казалось таким огромным и сложным, недостаточным для меня.
Со мной ехали мама и Антилл, я хотел оставить их в Финикии, но, раз уж теперь я держал путь на Рим, стоило доставить маму домой, а Антилла — к его маме.
Антиллу я так и сказал:
— Мы едем повидаться с твоей матерью.
Вдруг я понял, что совершенно не злюсь на нее.
— С мамой.
— Но разве она не сука, папа?
— Нет, — сказал я. — Не смей так говорить про свою маму. Она лучшая, добрейшая и чудеснейшая женщина. Во всяком случае, для тебя.
Тогда он заплакал.
— А я много раз про маму думал, что она сука, потому что ты так сказал!
— Я так сказал?
— Ты так сказал, что моя мама — сука.
Антилл крепко обнял меня, и я прижал его к себе.
— Теперь мама будет меня ненавидеть.
— Глупости, — сказал я. — Мы с мамой всегда будем тебя любить. Мы просто поссорились немножко, но мы очень тебя любим. И всегда будем, мой хороший. Чего у нас с мамой происходит, это между нами. А ты навсегда наше сокровище. И через тебя мы друг друга любим.
— Правда? — спросил Антилл. — Папа, но ты другое говорил.
— Я был пьяный, а сейчас я трезвый.
Антилл утер слезы о мой плащ и сказал:
— Значит, мама хорошая?
— Хорошая.
— И ты хороший?
— И я хороший. Все хорошие.
— Тогда почему ты так ругался на маму?
— Потому что мама сделала то, что мне не нравится. И вот я злился на нее. Но это не значит, что мама плохая. Мама просто мама. Вот так.
И Антилл после этого, кажется, повеселел. Что касается моей мамы, то она плохо переносила морские поездки. Я только раз зашел к ней сказать, что теперь она может остаться в Риме, однако мама не особенно хотела со мной беседовать.
Я сказал, что постараюсь сделать что-то и для Луция, однако мама ответила холодно.
— Насколько я понимаю, с Луцием все в порядке.
— Можно сказать и так, — сказал я. — К нему Октавиан был еще милосерднее, чем к Фульвии.
Вот так поговорили.
А с Фульвией мы встретились в Афинах. Антилл бросился к ней, и она обняла его, зацеловала, нагладила.
— Мамочка! — говорил он. — Мне столько всего нужно тебе рассказать!
— Знаю, малыш, знаю, — сказала Фульвия, прижавшись губами к его виску. — Мы с тобой поговорим.
Потом она выпрямилась. Не знаю, сложно сказать, по-моему, она не выглядела больной. Просто очень-очень печальной. Разве что, волосы казались тусклыми.
Мы стояли друг перед другом, я, с которого не сошли еще благовония Египта, и она, пахнущая не по-женски, непривычно — войной. Во всяком случае, так мне казалось.
Фульвия прижала руку ко рту, я велел рабыне Фульвии увести Антилла и поиграть с ним.
— Где дети? — спросил я. — Где Юл?
— Они с сестрой Октавиана, — сказала Фульвия, лишенным всякой страсти, силы и злости, совершенно незнакомым мне голосом. — Девчонка обещала приютить их, пока все не прояснится.
— Дура! — рявкнул я. — Теперь они у Октавиана в заложниках! Идиотка, ты о чем думала вообще? О чем ты, мать твою, думала, когда ты все это затеяла? Тупорылая ты идиотка!
— О том, что мне придется бежать, и я не знаю, где я умру, идиот! О том, что ты предал нас! О том, что их судьба теперь зависит от милосердия Октавиана! Ты, ты, ты, ты виноват, почему ты не пришел ко мне?! Почему ты не пришел к Луцию?!
Она кинулась ко мне и со всей силы ударила меня по щеке, в ответ я врезал ей — дал хлесткую, но не болезненную пощечину, мы ведь, бывало, дрались, а теперь вдруг от легкого удара она чуть не упала. Я поймал ее, подхватил на руки.
— Фульвия, малышка.
— Голова кружится, Антоний, — сказала она и заплакала от своей собственной слабости. — Не понимаю, что происходит!
Я прижал ее к себе.
— Прости меня, моя милая.
Фульвия положила голову мне на плечо.
— Тебе нужно заключить союз с Секстом Помпеем. Он сам Нептун, на море его не победить.
— Глупости, — сказал я.
— Я серьезно, Антоний.
— Ты опять за свое?
— Мочи наебыша!
Я засмеялся, так привычна мне была эта фраза.
— Тупая ты сука, — сказал я. — Злобная, тупая сука.
Она потерлась щекой о мою щеку.
— Он писал обо мне такие плохие стишки. Он не признается, но я знаю, что это он.
— Что за глупости?
— Вот так. Я серьезно тебе говорю.
— А мой маленький братик? — спросил я.
— О, он умница. Большая умница. И многое вынес.
И, не дожидаясь моего вопроса, Фульвия сказала:
— Вот только Луций тебя ненавидит.
— Я знаю.
— Он уехал в Испанию.
— То есть, как уехал?
— Октавиан дал ему такое право, и он им воспользовался.
— Но я же…
— Откуда он знал, приедешь ты или нет?
Да, а еще: с чего бы тебе меня дожидаться?
Этого вопроса Фульвия не задала. Она вообще была на редкость милосердна ко мне.
Мы прижались друг к другу носами, как кот и кошка, пара мелких зверьков. Она сказала:
— Мы навсегда с тобой единое целое, Антоний.
А я сказал:
— Знаю. Угораздило же мне стать единым целым с такой идиоткой?
— А меня — с таким придурком.
Мы засмеялись, совершенно одинаково. И вот я забыл о царице Египта, во всяком случае, на некоторое время. Остался только я, и моя жена, с которой мы были связаны столь тесно.
Но плотской любви у нас с Фульвией не случилось. Она отказала мне, сказав, что больна.
Быть может, все это было лишь уловкой, чтобы потомить меня, потянуть. Быть может, она и вправду была больна.
Но есть у меня и другое объяснение ее недомогания, то, про которое мне потом снился сон, связанное с тобой. В любом случае, наутро я покинул Афины. Мне нужно было встретиться с Октавианом и поговорить о судьбе Фульвии.
— Я поговорю с ним о твоем возвращении, — сказал я. — В том числе.
— Лучше езжай к Сексту Помпею, тупой дебил, — сказала Фульвия.
— Закрой рот уже, — засмеялся я и вдруг обнял ее. — Ты же знаешь, что я больше не злюсь на тебя на самом деле?
— Я знаю, — ответила она. — Но ты тупой.
— Ты тупая, — сказал я.
— Даже не можешь придумать ответ.
И вот, пора было расставаться. Но перед тем я увлек ее на ложе, она уперлась в меня руками.
— Не хочу, не могу, я больна.
— Да нет, — сказал я. — Дура, не для этого.
— А для чего?
— Ты знаешь сама.
Взгляд ее вдруг просветлел, она вспомнила. Я улегся, и Фульвия устроилась на мне, скинув обувь. Прошло много времени, мы выросли, повзрослели, а пятки ее были все такими же хорошими, пусть и менее гладкими, но ощущать их оказалось все так же приятно.
Фульвия положила голову мне на грудь.
— Сердце, — сказала она. — Бьется твое сердце, Антоний.
— Ага, — сказал я. — Бьется мое сердце.
Я нежно обнял ее, и так мы лежали, пока время наше не ушло. Потом я уехал из Афин, напутствуя Фульвии двинуться за мной, когда дойдет до нее мое послание.
Думал ли я в тот момент о моей детке, что носила под сердцем моего ребенка? Не буду тебе врать, что думал. Так уж я устроен.
Я рад, что ссора наша с Фульвией переросла вот в такое нежное прощание. Мне повезло во второй раз, как и с Фадией.
Я взял Антилла с собой, не знаю, почему. Фульвия даже была против, но я настоял. А теперь думаю: это хорошо. Хорошо, что он не видел смерти матери. Я видел смерть отца — мне было больно. Не хочу Антиллу этой боли.
Может, в этом тоже причина того, что я отправил его сейчас к Октавиану? Никогда об этом не думал. Наоборот, считал, что подам ему пример хорошей римской смерти.
Но, может, тоже к лучшему?
В любом случае, я двинулся дальше. Для того, чтобы иметь некоторые аргументы в разговоре с Октавианом, я осадил Брундизий. Не мог я позволить щенку разговаривать со мной с позиции силы, с позиции победителя, пусть и не в моей войне.
В твоей войне, да, в твоей войне.
Я хотел отыграться за твою войну, кроме того, есть ли еще сильные аргументы, кроме, собственно, силы?
Брундизий был необходим Октавиану, так что и говорить он со мной будет мягче, чем мог бы, учитывая приключения моих родственников.
В любом случае, Октавиан и рад был бы прищелкнуть мне нос, однако среди его солдат я был только что не популярнее его самого, и войнушки не вышло, хотя я на нее, в определенном смысле, рассчитывал.
Может, случись все тогда, оно и закончилось бы по-другому.
Но не полыхнуло.
Наши солдаты, в головах которых последователи Цезаря были куда более едины, чем в реальности, не хотели воевать друг против друга. Это и вынудило нас, в конечном итоге, сесть за стол переговоров.
Октавиан возмужал, но, что удивительно, детские часики еще красовались на его, уже сильном, костистом запястье.
Он вообще изменился, весь как-то вытянулся, кадык его теперь выдавался сильнее, нервное лицо приобрело некоторую мужественность черт, разве только солнце все так же путалось в его белесых ресницах, точно как у ребенка.
Ровно двадцать лет, подумал я, нас разделяет ровно двадцать лет. Это весьма много, почти целая жизнь, но вот мы сидим за столом и делаем вид, будто можем говорить друг с другом на равных.
Что за глупость?
Он нервно щелкал шариковой ручкой, этот звук меня раздражал. Ручка была прозрачная, я видел стержень, наполненный красными чернилами. Они выглядели темными, будто венозная кровь.
— Антоний, — сказал мне Октавиан. — Без сомнения, я рад тебя здесь видеть. Ты ведь держишь под контролем ситуацию в Малой Азии?
— О, — сказал я. — Безусловно. Но об этом я тебе расскажу, если у нас найдутся и другие темы для разговора.
— Не сомневаюсь в этом, — ответил Октавиан, мягко, спокойно улыбнувшись. Сама доброжелательность.
— Мой брат…
— Прошу прощения, что перебил, но с этого я хочу начать. Твой брат в полном порядке. Он проконсул Испании, как это и должно быть. Надеюсь, занимается там полезным делом.
— Не перебивай меня.
— Я прошу прощения, — ответил Октавиан и безоружно развел руками. — Я волнуюсь. Сам понимаешь, на кону мир между нами. Это многое для меня значит, Антоний. Я ни в чем тебя не обвиняю, совершенно ни в чем. Фульвия — взбалмошная женщина. Уверен, ты ее проучил. Она водила твоего брата за нос и вынудила его выступить против меня, используя наши с ним конфликты и несколько разные взгляды на скорость грядущих социальных перемен.
Я покачал головой.
— Ты мне мозги не пудри.
— Я этого не делаю. Это делает Фульвия.
И вдруг я понял: он и не хотел разговаривать с позиции силы. И в мыслях не держал — сидел передо мной такой безоружный, так желающий примириться.
Никаких условий он ставить и не собирался.
Тогда я сказал:
— Фульвия должна вернуться и жить в Риме. У нее дети.
— Насколько я знаю, Клодий вполне самостоятелен. И в двадцать лет достиг многого.
Это была насмешка над тем, что я, пользуясь своей властью, устроил мальчишку на теплое место раньше положенного, согласно законам, срока и без соблюдения необходимых, по мнению закона, условий.
Но разве сам Октавиан не был слишком молод для занимаемой им должности? И все-таки мы с этим смирились.
Я сказал:
— Курион еще маленький, впрочем, и Клодию ты отправил к матери, не говоря уже о моем Юле. И что же, все они живут с твоей сестрой?
— Она очень гостеприимна и действительно любит детей. Мало кто в таком же восторге от малышей, как Октавия. Думаю, ей это не в тягость.
— Я хочу их увидеть.
— Разумеется, — сказал Октавиан. — Ты же не думаешь, что я держу твоего сына и пасынка в заложниках? Это дети, Антоний.
Я засмеялся.
— Что ты. Странно, что ты подумал, будто я тебя в этом обвиняю.
Мы помолчали. Потом Октавиан сказал:
— Фульвия может вернуться домой. Но пусть ведет жизнь, достойную римской матроны. Этого для меня достаточно.
Я скривился, но кивнул. Жизнь, достойную римской матроны? О, надо же, какой Ромул выискался, и нравственность он блюдет.
— Что ж, — сказал я. — Если ты возлагаешь всю ответственность на Фульвию, значит мы с тобой вовсе и не ссорились.
— Значит так, — сказал Октавиан. — Меньше всего на свете мне хотелось бы ссориться с тобой, Антоний. А теперь давай обсудим то, что действительно важно.
По результатам этого обсуждения мы по-новому разделили нашу собственность. Так я стал официальным хозяином Востока, не в силу обстоятельств, как ранее, но в силу полномочий, Октавиану же достались земли к западу от Рима. Что касается Лепида, чтобы сохранить видимость его участия в этой системе, мы дали ему эту скучную, жаркую, болезненную Африку.
В любом случае, все кончилось благополучно.
Напоследок Октавиан сказал:
— Этот успех нужно обязательно как-нибудь закрепить.
— Да, — ответил я рассеянно. — Тоже так считаю.
Затем я отправился в Рим, чтобы увидеть своих детей, Фульвии же отправил послание о том, что ей пора возвращаться домой. Все вышло так легко, но все-таки я ощущал нечто дурное, сложно даже объяснить, что именно. Какое-то тяжелое, печальное ощущение, впрочем, возможно, оно было связано с погодой.
По прибытии в Рим, мы с Октавианом тут же отправились к Октавии.
У Октавии дома всем нам сначала было неловко. Она встретила нас вся в черном, не так давно скончался ее муж, и я заметил, что под платьем ее уже начинал оформляться живот — она была беременна. Вокруг нее скакали требовательные дети, в том числе и мои, а рядом с ней стояла совсем еще молодая девушка, которую я вовсе не знал.
— Познакомьтесь, — сказал Октавиан. — Это Ливия Друзилла, жена Тиберия Клавдия Нерона.
— А, — сказал я. — Ну, очень приятно.
Ливия склонила голову, уголки ее губ тронула едва заметная улыбка. Потом эта девка выскочила замуж за Октавиана, причем все получилось очень некрасиво по отношению к ее мужу.
— Меня ты, наверное, знаешь.
— Безусловно, — ответила Ливия. У нее было красивое, но странно не запоминающееся лицо. Сейчас я могу восстановить лишь ощущение этой красоты, без какого-то конкретного образа. Помню только, что у нее была очень строгая прическа, просто ниточка к ниточке. Лаком для волос, кстати говоря, от нее и пахло, весьма сильно и химически.
— Разумеется, триумвир Антоний, — сказала она, чуть склонив голову.
Да, лицо не запоминающееся, хотя и крайне симпатичное — странно. Октавия же была совсем другой. Светленькая, нежная, очень женственная: округлые плечики, милые щечки и ямочки на них, когда она улыбалась. И удивительные, изумительные, очень яркие серые глаза с желтыми пятнышками на радужке. Так солнце бликует на воде, и это чудесно.
Еще у нее были очень розовые губы. Естественно, я сразу же представил, как они обхватывают мой член. Впрочем, женщины вроде Октавии такими вещами не занимаются. Во всяком случае, по собственному почину.
Прокашлявшись, я сказал:
— Октавия, благодарю тебя за то, что дала приют моим детям. Я перед тобой в неоплатном долгу.
— Они чудесные малыши, Антоний.
Октавия улыбнулась мне и тоже покорно склонила голову. Ну просто две овечки, она и Ливия, образцово-показательные.
— Прошу тебя, Антоний, окажи мне честь и отобедай в моем доме со мной и братом.
— Ливия, — вдруг сказал Октавиан. — А ты останешься?
Она покраснела и ответила:
— Это будет для меня честью.
Вот еще что помню про нее — она показалась мне очень похожей на Фульвию. Не знаю, почему. Не внешне. Да и поведение их было абсолютно противоположным. Что-то другое роднило их, я и сейчас не понимаю, что именно.
Ливия осталась. Мы отобедали вместе за столом, а я уже и отвык от того, что женщины отказываются возлежать вместе с мужчинами. Впрочем, Октавиан был самых строгих правил, ты знаешь.
Разговор шел ни о чем, мне стало бы скучно, если бы я не любовался на Октавию. Ее красота и скромность были известны всему Риму и, конечно, я не мог претендовать на столь честную и добродетельную женщину.
Октавиан делал вид, будто не замечает этих моих взглядов. Вокруг нас все носились эти неугомонные дети. Антилл бегал за Юлом и все звал его, и они играли в какую-то непонятную мне игру. Какая прекрасная братская любовь, подумал я и вспомнил о тебе. Мне стало печально. Тут-то Ливия и спросила меня:
— Антоний, а как твоя жена, Фульвия?
— О, — сказал я. — С этой чего станется-то?
— Я слышала, она больна.
— Действительно, она показалась мне слабой. А что?
Ливия сказала:
— Должно быть, так наказывают ее боги за непокорность мужу.
— Ну не знаю, до этого момента богов все устраивало.
— У богов свои сроки.
Я заметил, что Октавиан, как и я, не сводит глаз с женщины, сидящей за этим столом. Правда, интересовала его не милая сестрица, а Ливия. Я с интересом наблюдал за его реакцией: темный, ищущий взгляд, не знает, куда деть руки, дышит быстро. Оказывается, и ему не чуждо что-то человеческое.
После обеда мы с Октавианом пошли поиграть в кости в саду.
— Вижу, как ты смотришь на мою сестру, — сказал он.
— Прости меня, — сказал я. — Она столь прекрасна, что от нее сложно отвести взгляд.
Октавиан помолчал. Я подумал, что он злится. Да я ведь и несерьезно все это про Октавию, так, игра с самим собой. И тут Октавиан сказал:
— А ведь она могла бы стать твоей.
— Чего?
— Это был бы прекрасный способ скрепить наш союз. Октавия — добродетельная, нежная и красивая женщина.
— Она вдова в трауре, к тому же — беременна от другого.
Октавиан сказал:
— Да, разумеется, но речь ведь идет о нашей с тобой дружбе. Ради этого можно сделать послабление в трауре, тем более, что я не сомневаюсь в ее искренности.
— Кстати, я женат.
Октавиан мягко засмеялся.
— Я знаю. Но Фульвия опозорила тебя. Будет логично развестись с ней.
— Чего? Не, Фульвия, конечно, та еще дрянь, но я ее люблю. С этим уже ничего не поделаешь.
— И все-таки, — сказал Октавиан. — Подумай над этим, Антоний. Так было бы лучше для всех.
Тут я услышал какой-то едва заметный шорох, Октавиан, к примеру, не обратил на него никакого внимания. Или сделал вид, что не обращает внимания. В любом случае, я постарался обернуться как можно более незаметно. За широкой старой яблоней притаилась девушка. Я рассчитывал увидеть Октавию, но это была Ливия. Я усмехнулся. О, терзания молодых сердец. Взаимная страсть, охватывавшая Ливию и Октавиана была мне понятна. Более того, то было немногое, что я про Октавиана вообще понимал.
Впрочем, теперь я думаю, может, малышка крутилась там не из-за томления, вызванного любовью, а совсем по другому вопросу.
Я сказал:
— Слушай, твоя сестрица — отличная женщина, выше всяких похвал, но не могу так поступить с Фульвией.
Октавиан посмотрел на меня очень спокойно.
— Ты ведь все это время жил с царицей Египта. Так какая разница, разведена Фульвия или нет, она все равно одна.
— Ну, — сказал я. — Это другое. Мы семья, что бы там ни было. Может, не самая счастливая и точно не самая нормальная, но семья.
Октавиан вздохнул.
— Понимаю, просто не ожидал услышать это от тебя. Такая верность, пусть и не физическая, похвальна.
Я растерялся.
— Ну, — сказал я. — Спасибо. В любом случае, было приятно повидаться с твоей сестрой, и я ей очень благодарен.
В сад выбежали дети, за ними семенила Октавия, такая нелепая, забавная и милая в своем положении.
— Сочувствую ей, кстати говоря.
— Да, — ответил Октавиан. — И я ей сочувствую. Она чудная женщина, но, надеюсь, она не изберет для себя стезю Корнелии, и не останется в одиночестве.
— Уверен, не останется, она такой милый цветок, думаю, тебе останется только выбрать достойного кандидата.
Октавиан вдруг глянул в ту сторону, где я еще недавно увидел Ливию, и я улыбнулся. Трогательно ведь, правда?
— А ты жениться не надумал? — спросил я его. Мне хотелось посмотреть, как он отреагирует, приятно ему будет или, может, он смутится.
— Нет, — сказал Октавиан мягко. — К сожалению. Я все еще жду встречи с подходящей девицей.
Тут мне стало ужасно смешно. Октавиан думал, что абсолютно все свои настоящие эмоции он скрывает ловко и легко, однако его трогательная привязанность и страсть к Ливии была совершенно очевидной, только слепой мог ее не заметить.
Впрочем, вполне возможно, что у меня просто было в таких делах куда больше опыта.
Мы еще поговорили, в основном, о проблемах с Парфией и Сексте Помпее, все еще контролировавшем Сицилию, и я увидел, что передо мной уже не рассудительный ребенок, а умный, спокойный и весьма уверенный политик. Время пошло ему на пользу, как физически, так и умственно, он весьма повзрослел.
А напоследок я подошел к Октавии. Она, чувствительная как струна, откликнулась, стоило мне лишь бросить на нее взгляд.
— Октавия, — сказал я. — Сердечно тебя благодарю, ты так помогла нашей семье.
— Я лишь рада помочь малышам, — ответила она. — Дети так нуждаются в заботе. Я готова приютить каждого малыша на свете.
Прямо героиня детского стишка, да? Идеальная мама, идеальная жена.
Я смотрел на нее, чуть склонив голову набок.
— У тебя чудесные дети, Антоний, — сказала она. — Добрые, чуткие, сообразительные.
Я засмеялся:
— В кого это они такие, да? Наверное, это не мои дети. Впрочем, моих у тебя правда немного — только Юл. Клодия, кстати, у тебя?
— У брата.
— А Куриона вот вижу.
Курион бегал вокруг нас за дочерью Октавии, я схватил его.
— Хватит обижать малышку, ты здоровый лоб, а ей сколько?
— Четыре года, — сказала Октавия, улыбнувшись. — Исполнилось недавно.
Я потрепал Куриона по волосам, он принялся вырываться.
— Пап!
— Он называет тебя папой, — сказала Октавия. — Видимо, ты очень хороший отчим.
— Такой себе. Это они из жалости. С Клодием, старшим, вышло сложнее всего. Он был подростком, когда мы с Фульвией поженились. Впрочем, я тоже был подростком, когда поженились мама и мой отчим. Примерно знал, чего ожидать. А Курион тогда был совсем малыш, он и не помнит ни своего настоящего отца, ни жизни без него.
Впрочем, милый друг, разве не стоит мне поблагодарить судьбу за то, что дала мне такого верного сына, как Курион?
Он попал в плен после битвы при Акции, и Октавиан казнил его. Ему было всего девятнадцать лет. Я никогда не отговаривал его сражаться, потому что считал: таков путь мужчины, быть верным и смелым до самого конца. Но теперь я бы, пожалуй, многое отдал, чтобы Курион был не таким смелым и не таким верным.
Эта верность тешит до тех пор, пока не потеряешь человека навсегда. Теперь я думаю, что с радостью увидел бы его в войске Октавиана. Может, Октавиан предлагал ему, а он отказался? С него бы сталось.
Курион хотел умереть за меня так же, как я когда-то хотел умереть за Публия. В каком-то смысле это казалось мне абсолютно естественным желанием.
А теперь я думаю: но ведь Публий отговорил меня когда-то. Поэтому я жив, поэтому случилось все, что случилось.
Преувеличиваю, конечно, вряд ли бы меня казнили вместе с влиятельными соратниками Катилины.
И все-таки, если предположить, что я мог тогда умереть, а Публий остановил меня, разве не был он по-настоящему прав, и разве не стоило мне сделать то же самое для своего пасынка?
В любом случае, от настоящего — к прошлому, давай обратно.
Я сказал Октавии:
— У меня был очень хороший отчим. Я ему за многое благодарен, он сложил меня, как личность. Хотел, вот, быть отчимом не хуже. То есть, это такая себе личность, как видишь, но все-таки. Лучше, чем совсем ничего.
Я неловко засмеялся, а Октавия сказала:
— Не стоит тебе преуменьшать своих достоинств. Я вижу перед собой удивительного человека, со своими недостатками, но куда менее весомыми, чем его достижения.
— Правда?
Ее сияющий, нежный взгляд несмело скользнул по мне. Октавия кивнула. Я вдруг подумал, каково это — быть ее мужем, и она, послушная, нежная, добрая, например, будет растить моих детей, будет говорить мне хорошие вещи, будет восхищаться мной, а, главное, она вся будет моей, словно птичка в кулаке. Я подумал о Фадии.
Да, Октавия была так же нежна и тиха, но в то же время в Октавии было больше любви и теплоты. Мне захотелось погреться у ее огня, я вдруг почувствовал, как продрог.
Чтобы как-то отделаться от этой мысли, я решил посмотреть, где мои дети. Антилл приставал с какими-то вопросами к Октавиану, а Юл сидел перед грудой одинаковых гладких камней, которые переставлял так и сяк.
— Ого, — сказал я. — Будет строителем. Умник!
Октавия сказала:
— Вообще-то это его питомцы.
— Чего?
— Он им всем дает имена и выдумывает истории. У них даже какие-то отношения друг с другом.
Тут я обалдел.
— Эй, Юл! Юл, ты что, больной? Это что за бредятина про камни?
Юл сорвался с места и понесся прятаться за кустом.
— Не будь с ним груб, — сказала Октавия. — У малыша очень нежная и ранимая натура.
— Да он трусишка. Ладно! Ладно, Юл, выходи, как зовут твои камни?
Юл принялся пробираться по кустам все дальше и дальше, но прежде, чем он достиг весьма колючих роз, я подхватил его на руки.
— Дурачок, — сказал я и отнес его к камням. — Ладно, что это за ребята, Юл?
Октавия засмеялась. Она сказала:
— Ты любишь детей, мы с тобой в этом похожи.
— Да, — сказал я. — Люблю детей. Не только детей, еще…
Бухать.
Я фыркнул, улыбнулся ей.
— В любом случае, насчет этого, не затруднит ли тебя еще ненадолго их оставить? Я направил Фульвии послание, она скоро будет в Риме. Им нелегко будет без матери. А я буду их навещать. Это совсем ненадолго, правда.
На самом деле, я просто искал повода еще раз повидаться с ней. Я не думал жениться на Октавии, впрочем, не думал и становиться ее любовником, в основном, потому, что она не из тех женщин, что заводят любовников.
Но мне хотелось, чтобы она еще вот так смотрела на меня, так улыбалась и говорила всякие хорошие вещи этим нежным голосом.
— Да, — ответила Октавия. — Конечно, я все понимаю. Я и рада буду еще повозиться с ними.
— Вот и хорошо, — сказал я. Мне захотелось украдкой тронуть ее руку, бледно-розовую, ласковую, с тонкими голубыми венками, захотелось прижаться губами к нежным подушечкам пальцев.
Я снова закашлялся, потом сказал:
— Ну ладно, Октавия, пора бы мне и честь знать. Я и так отнял у тебя много времени.
— Что ты, — сказала она. — У меня редко бывают гости, и я всегда им рада.
Ну разве она не идеальна, моя мученица?
Юл поднял с земли один из своих камней и сказал:
— Это — Одиссей.
— О, — сказал я. — Надо будет сказать твоей маме, что ты малость того. И чего Одиссей?
— Он любит плавать, — ответил Юл несмело.
Вот так. Разумеется, я влюбился в Октавию. Я не мог не влюбиться в нее с первого же взгляда, она была очень красивой женщиной. И, думаю, Октавиан прекрасно знал, что мне будет сложно преодолеть свое вожделение.
Впрочем, с ней, чистой и нежной, мне было неловко, будто я снова стал неопытным юношей, еще ничего не знающим о женщинах. Во всяком случае, о таких женщинах.
Но разве другие были у меня развратницы? Это неправда. Фадия досталась мне чистой, Антония тоже, у Фульвии было до меня двое мужей, законных, однако, а моя детка принадлежала прежде меня только Цезарю.
Моя слава развратника падает и на моих женщин, так получилось. А ведь они у меня куда более верные создания, чем я.
Антонию я вполне понимаю. А Фульвия, да. Разве что Фульвия изменила мне с тобой, но, положа руку на сердце, я понимаю ее и понимаю тебя. Теперь, когда не на кого злиться, эта ситуация кажется проще.
Да и вообще все кажется проще.
В любом случае, я ждал, когда объявится Фульвия. Не сказать, чтобы я перестал злиться на нее, скорее даже наоборот, но в то же время мне хотелось увидеть ее, и я волновался. Теперь я стал думать, а не слишком ли опасное это путешествие, если она в действительности была больна?
Моя детка говорит, что от волнений моих мне приснился тот сон о Фульвии. Однако я считаю, что он был послан мне богами для того, чтобы предупредить меня о неизбежном.
— Для чего предупреждать о неизбежном? — спросила моя детка с присущей ей въедливостью. — Гораздо логичнее предупреждать о событиях, на ход которых ты можешь повлиять.
В любом случае, снилась мне моя Фульвия. Мы были на корабле, но только одни, никого кроме: ни команды, ни слуг, ни других пассажиров, только мы. И доски тоже, помню, какие-то ненадежные. Помню, будто бы они расходились, и я видел между ними синее море, волны его, будто подкрашенные, настолько яркие, двигались и перед нами. Но двигались как-то рвано, неестественно, туда-сюда, будто фантазия о море, но не оно само.
Впрочем, что это, как не фантазия о море?
И солнце тоже было неестественно яркое, но одновременно тусклое, с цветом, но без света, будто бы элемент декорации для какой-то постановки. Где-то далеко я слышал крики чаек и угадывал в них иногда какие-то слова.
Случайные, малопонятные и незначимые.
И вот мы стояли с Фульвией на корабле и держались за руки.
— Этот корабль, — сказал я. — Символизирует нашу с тобой семейную жизнь.
— Чего? — сказала она. — Ты идиот, Антоний.
Голос ее, впрочем, был какой-то далекий, словно бы Фульвия говорила со мной не отсюда, не из этого мира, и звук шел не из ее голосовых связок, а как бы откуда-то с неба.
— Ну зачем ты во все это ввязалась? — спросил я. — Зачем, глупая? Чего ты хотела? Триумфа и плащ с золотыми звездами, как у генералов?
— Я хотела тебя, — сказала Фульвия. — Я так хотела тебя. А потом я полюбила твоего брата.
Мы помолчали. Вдруг я спросил:
— Это правда?
— Да, — сказала она. — Я полюбила его. Полюбила очень сильно. Я и не знала, что смогу полюбить после тебя.
— Это больно.
— Да, — сказала она. — Так ты и причиняешь боль.
Небо вдруг тоже показалось мне рукотворным, странным, будто под ним должно было обнаружиться еще одно.
Я спросил:
— Значит, мы прощаемся?
Фульвия ответила, что мы прощаемся. Я крепко сжал ее руку, но подумал, что это не поможет.
— Но разве так нужно — обязательно прощаться?
— Этого ты никак не усвоишь. Но я рада, что это так. Я тоже устала расставаться, а теперь я буду думать, что ты жив. Мне это поможет.
— В чем?
Она нахмурилась. Среди всего этого только Фульвия была настоящей.
— У меня уже почти два месяца не было лунных кровотечений.
— Это от Луция?
— Нет, дебил, от Октавиана, — засмеялась она. — А сам-то как думаешь?
— Ну да, вопрос дебильный.
— Только вот это никому не станет известно.
— Мне известно.
— Ты никогда не поймешь, сколь много это значило для меня.
Она крепко, до боли сжала мою руку.
— Я бы хотела успеть дать еще одну жизнь, — сказала Фульвия. — Я, вот она, я, я неидеальна, и ты неидеален, и Луций тоже, но еще одна жизнь — еще один шанс. Вот почему люди жалеют маленьких детей. Еще один шанс на то, что кто-то будет лучше.
Она вздохнула:
— В любом случае, то, что становится жизнью, ею не станет. Смерть всегда побеждает.
— Неправда, — сказал я. — У тебя много прекрасных детей. У меня. У нас.
— Но все они тоже умрут. Смерть победит. Она всегда победит.
Фульвия прижалась ко мне, дрожа.
— Как бы я хотела, чтобы ты был сейчас рядом.
Я проснулся посреди ночи в постели с одной из рабынь, имени которой не удосужился запомнить. Никогда я не любил спать один и никогда не мог.
От нее исходило приятное сонное тепло. Она лежала спиной ко мне, и я не видел ее лица. Кожа была у нее такая же бледная, как у Фульвии, и веснушки на плечах — ну почти что в том же порядке, и тоже рыжие волосы. Должно быть, галльская девчонка. Сколько таких перетрахал я в Галлии, думая о Фульвии.
Сколько вообще всего произошло, пока я любил Фульвию.
Я поцеловал рабыню в плечо и покрепче прижал к себе, представляя, что держу в руках свою смешную, неистовую, дурацкую, непокорную жену.
А утром мне пришла весть о том, что Фульвия умерла в Сикионе.
Как так, Фульвия и умерла?
Я сначала не поверил, а потом вспомнил свой сон и сразу понял: да, все так. Она умерла. В Сикионе, столь далеко от меня.
Не помню, что было дальше. По-моему, я просто стоял в саду, а потом пошел дождь, но я не уходил и думал, идет ли дождь у нее, в Сикионе.
Или у нее — это уже не в Сикионе?
Потом, помню, как под этим дождем я шел к Октавии, думая, как мне сказать моим детям, что их мама умерла.
Впрочем, есть ли правильный способ такое сообщить? Думаю, нет. Во всяком случае, за все эти годы я его не нашел.
Когда раб впустил меня в дом, Октавия вышла мне навстречу с улыбкой, и я почувствовал себя неловко от того, что придется стереть эту улыбку с ее лица следующими словами:
— Фульвия умерла.
Однако сказать было легче, чем думать. Слова вырвались по-птичьи легко.
— О боги, — прошептала Октавия. — Мои соболезнования.
Я сказал:
— Будем теперь с тобой вместе ходить в трауре.
Я засмеялся, и Октавия несмело ответила таким же странным, печальным смехом. Мы вышли в атрий, сели друг напротив друга, и я стал смотреть, как в имплювий с успокаивающим, нежным шумом стекает вода.
Вдруг я спросил:
— Как думаешь, как сказать им?
Октавия ответила:
— Правильного способа нет. Нужно слушать себя. Это твои дети, ты знаешь их.
— Да не особо.
— Ты ведь тот человек, который нашел самые верные слова после смерти Цезаря. Значит, ты сможешь сделать это и сейчас.
Октавия чуть-чуть помолчала и добавила:
— Тебе больно, но ради малышей нужно взять себя в руки. Эта мысль очень помогла мне.
Так мы и сидели друг напротив друга. Вдруг я собрался.
— Ну, — сказал я, вставая. — Зови детей.
И вот они, Курион, Антилл и Юл принеслись ко мне, обняли, но вдруг отпрянули. Все трое поняли сразу — что-то не так.
Я сказал:
— Ребята, мама умерла.
— Как умерла? — спросил Курион.
— Она тяжело заболела.
А Антилл спросил:
— Ей было больно?
— Нет, милый, не было, — сказал я, хотя и не знал, так ли это. Но ведь я надеялся. Юл заплакал. Он, думаю, слабо понимал, что такое смерть.
— Значит, мама сегодня не придет? — спросил Юл сквозь слезы.
— Нет, — сказал я растерянно, не зная, как мне объяснить ему, что Фульвия не придет никогда. — Сегодня — нет.
Долго я пытался рассказать им, что случилось с Фульвией, и почему ее нет. Курион и Антилл знали о смерти кое-что, Юл же представлял смерть, как некоторый, как он сказал, черный глубокий круг.
Октавия наблюдала за нами, но ничего не говорила.
Я сказал, помню, что-то вроде:
— Сейчас нам всем очень больно, но мама вас любит, и это никуда не исчезнет. Она так любила вас, что где бы вы ни были, ее любовь останется с вами. Даже если она очень далеко, даже если она на другом конце света или целого мироздания.
Вот так. Но слова, даже самые добрые, мало помогают. И вот я уже обвешан рыдающими детьми и рыдаю сам. Думаю, я с самого начала нравился Октавии. Хорошие девочки частенько думают о плохих мальчиках в таком ключе.
Однако по-настоящему сильно она влюбилась в меня тогда. Так она говорила. Я показался ей очень чувствительным и ранимым, и добрым.
Это она просто не видела, как я поставил голову Цицерона на обеденный стол. Не видела, как провел децимацию в Брундизии. Не видела, как подавлял я бунт Долабеллы. Она вообще многого не видела, очень домашняя девочка.
Урну с прахом Фульвии мы с Клодием и Клодией поехали встречать в Остии. Могли бы дождаться ее здесь, но и я, и дети почему-то захотели встретить Фульвию прямо с корабля.
Клодий, совсем еще молодой мальчишка, похожий на отца, такой же необузданный, сказал мне неожиданно серьезно:
— Вот она умерла, а я столько хотел у нее узнать. И простых и сложных вещей. Теперь, когда я думаю о каком-нибудь вопросе, о чем-то, что я хотел спросить у нее, мне становится так плохо. А раньше я думал: ну, спрошу потом. И забывал. А теперь не забываю.
Бедная моя Фульвия.
Но у нее прекрасные дети.
А малышка Клодия только и плакала, и всякий раз, когда она хотела что-то сказать, слезы душили ее лишь сильнее.
Так мы встречали Фульвию. Когда я принял урну, мне вдруг захотелось открыть ее или разбить, увидеть обгоревшие кости и поцеловать их все до единой.
От человека никогда не остается ничто. Человек не исчезает полностью.
Вот ее кости, а я все не верил.
Но вот ее кости. Кости были. Кости никуда не делись.
А я все думал: разве это же и есть то, что скрывалось под кожей, которую я целовал, под плотью, которая питала моих детей?
Разве же это и все, разве больше ничего не надо?
И вот эти кости, в конечном итоге, и есть она.
В любом случае, есть свадьбы, а есть похороны, есть праздники, а есть печали. И я похоронил свою Фульвию, злобную дуру, неистовую идиотку, бедную мою и любимую девочку.
Похоронил, вот так. И написал тебе письмо.
"Марк Антоний, брату своему, Луцию, в Испанию, наместником коей он счастливо является.
Милый мой друг, должно быть, ты слышал дурную весть. Думаю, нам обоим больно в одинаковой степени, и теперь я хочу скорее помириться с тобой.
Я повел себя плохо, но и ты тоже. Мы оба заслужили все, что получили, но разве можем мы с тобой вечно быть в ссоре?
Я хочу, чтобы ты написал мне, чтобы мы с тобой поговорили о ней, да и вообще много о чем.
Близость смерти всегда пробуждает во мне любовь. И вот теперь я думаю, как бы сделать, чтобы мы простили друг друга.
Пожалуйста, будь мне другом, или давай, во всяком случае, об этом поговорим.
Твой брат, Марк Антоний."
Ты мне, естественно, не ответил. Понимаю тебя. Ты весьма долго терпел мой скотский характер, и вот, пока меня не было, все изменилось, ты стал другим, уже не дорожил мною так, как прежде.
Это больно, но, может быть, правильно. Может быть, так и должно быть — нельзя всегда оставаться маленьким братом.
Я написал тебе еще, а потом и еще. И до сих пор думаю, может, твое ответное письмо, ну хотя бы одно, затерялось где-то в пути.
Не прошло и недели с похорон Фульвии, как Октавиан при первой же нашей встрече, сугубо деловой, кстати, снова завел разговор об Октавии.
— Пойми, — сказал Октавиан. — Друг Антоний, я уважаю твою скорбь и почитаю твою способность переживать даже о судьбе столь скверной жены. Однако я предлагаю тебе жениться на Октавии, и предлагаю это снова. Дело здесь не в соблюдении обычаев и не в любви, дело исключительно политическое. Ты и я должны быть связаны, и чем прочнее, тем лучше.
— Так возьми обратно Клодию, — ответил я бесцветным голосом. — Чем она тебе плоха?
— Клодия не твоя дочь по крови, — ответил Октавиан. — Да и теперь это будет воспринято превратно. Я вернул ее матери, я не могу передумать.
Я сказал:
— Моя вторая дочь помолвлена с сыном Лепида. Тут тоже не не выйдет, извини.
— Я знаю, — сказал Октавиан. — Но моя сестра — вдова, а ты — вдовец. Октавия плодовита, у нее двое здоровых детей, скоро она родит третьего и, уверен, она сумеет родить детей и тебе.
— Уж чего у меня достаточно, так это детей, — засмеялся я, вспомнив о царице Египта и маленькой тайне, делающейся больше в ее чреве с каждым днем.
— Да, — сказал Октавиан. — Особенно в свете предстоящих в Египте событий. Однако же, я говорю о детях, что соединят наш союз. Детях общей крови.
— Слушай, — сказал я. — По-моему, это глупости. Мы и так с тобой общей крови по материнской линии, и что, сильно нам это помогло с тобой?
— Брак Помпея с Юлией долгое время поддерживал равновесие между ним и Цезарем.
— И где же они оба теперь?
Октавиан сказал:
— И все же, если бы Юлия не умерла при родах, стал бы Цезарь развязывать войну против любимого мужа своей дочери?
И правда. Звучало довольно дико, если знать, как Цезарь любил Юлию.
Честно говоря, если бы не мое горе из-за смерти Фульвии, я согласился бы сразу. Но я все думал о ее костях, об обгоревших костях моей глупой жены.
Октавиан сказал:
— Разве не получишь ты вдвойне: прекрасную жену и доказательство нашего с тобой союза?
— Да что ты прицепился-то ко мне?
Октавиан, ты знаешь, умел был очень упрямым. И очень навязчивым.
— Кстати, — сказал он как бы между делом, будто это вовсе неважно. — Октавии ты очень нравишься. Она мечтает о тебе. Она влюблена.
— Еще бы, — сказал я. — Антоний — видный мужчина, это знают все.
— А Октавия — красивая женщина. Они будут хорошей парой.
В любом случае, я не дал ему ответа тогда, но той же ночью вдруг почувствовал себя так одиноко и печально. Я хотел заснуть, чтобы мне приснилась Фульвия, или, может быть, моя детка, но пролежал всю ночь с открытыми глазами, вот так.
И наутро я подумал: государство ведь, его судьба зависит от меня. Государство нужно поддерживать, иногда хорошей войной, иногда хорошим браком.
И если я сражаюсь ради Рима, разве не могу я жениться ради Рима? Так делало множество моих предков до меня, и не всегда по любви. А Октавия — красавица, она сразу понравилась мне. Так чего я сопротивляюсь?
На следующий день я снова пошел к Октавии. Я должен был забрать детей (раз уж мама к ним больше не придет), и с болью думал о том, как это все вообще пройдет. Они привыкли к Октавии, Октавия им нравилась. Так почему бы не жениться, в самом деле?
С какой стороны ни посмотри, выигрывают все: я, Октавия, Октавиан, мои дети, да даже сам Рим!
Разве что Фульвия остается в пролете.
Знаешь, что забавно? Я легко ложился в чужую постель, изменял ей множество раз с самыми разными женщинами, однако мысль о женитьбе так скоро после смерти Фульвии вдруг казалась мне предательством. И почему?
Будто бы так я стирал ее из своей жизни. Была Фульвия — стала Октавия. Но ведь это непросто.
Октавия снова встретила меня, она вся светилась изнутри, не знаю, что было тому причиной — близость ее родов или внезапная влюбленность в меня, женщины весьма загадочные существа.
Я сказал:
— Здравствуй.
Она сказала:
— Как я рада видеть тебя, Антоний.
Я сказал:
— Это правда, то, что говорит Октавиан?
А она покраснела. Я засмеялся. Взрослая, вроде, женщина. Сколько ей тогда было? Кажется, тридцать, может, чуть меньше. О, ныне уже почти вымерла эта порода скромных римских матрон.
— Он сказал тебе?
— Думаю, в этом ничего страшного нет, раз уж мы с тобой поженимся.
— Поженимся? — спросила она осторожно, а потом вдруг просияла и взяла меня за руки.
— Правда?
— Да, — сказал я, улыбнувшись ей, вдруг ее заразительное настроение, сияющий, сверкающий вид развеселили и порадовали меня, я крепко прижал Октавию к себе, она чуть дернулась, смущенная и даже напуганная, а потом прижалась головой к моей груди, совсем как Фульвия и одновременно — совсем по-другому.
— Я так счастлива, — сказала она. Я погладил ее по голове. Из-за ее беременности обнимать ее было тяжело и неловко, но все равно очень приятно. Я представил, как когда-то эта красавица будет носить моего ребенка.
И все-таки разве не странные они, эти милые, симпатичные, добрые, безответные римские матроны?
Я влюбляюсь быстро, тут спору нет, но Октавия демонстрировала мне такую детскую радость, такую щенячью верность, такой восторг.
Как-то раз, уже после нашей свадьбы, я спросил ее:
— Как ты влюбилась в меня так быстро?
И она ответила:
— Я осталась одна и боялась, что меня выдадут замуж за того, кто мне не понравится. А тут появился ты, красивый, добрый и смешной. И я постаралась полюбить тебя всем своим сердцем.
То есть, такая любовь из страха. Видишь, вот, разницу? Сколько усилий затратила моя детка, чтобы влюбиться в меня, и как легко накрутила себя Октавия.
В любом случае, мы сыграли свадьбу, красивую, пышную свадьбу, на которой гулял весь Рим. Я люблю хорошие праздники.
В первую ночь я был с Октавией осторожен, она казалась мне очень-очень хрупкой, из-за ребенка и в целом, просто как человек: такое беззащитное существо.
А я растоптал уже одно такое когда-то, и жил после этого дальше. Снова мне вспомнилась Фадия и даже приснилась. Правда, она ничего не говорила. Думаю, за эти годы я забыл ее голос. Ясно он мне вспоминается только сейчас, на пороге смерти. А тогда Фадия была туманным видением, которое исчезало и появлялось, мерцало во тьме.
И вот, Октавия заснула, а я думал, не причиню ли я ей боль.
А на рассвете, прежде, чем она проснулась, я пошел на могилу к Фульвии. Я похоронил ее в хорошем месте, справа от Аппиевой дороги, так что путник мог, проезжая, увидеть ее имя.
И вот могильный камень, а на нем надпись: мы встречаемся, мы прощаемся.
Я ей горжусь, той надписью. В ней самая суть жизни, ее сок.
Мы встречаемся, мы прощаемся, так и есть.
— Здравствуй, милая, — сказал я. — И как ты здесь? Злишься на меня? Ты всегда злишься. Еще бы. Я тебя знаю, если б я не женился, ты бы злилась тоже.
Вдруг пошел дождь.
— О, — сказал я. — Это ты, да, подговариваешь богов? Уверен, что это ты. Значит злишься, и я прав.
Дождь лил все сильнее, капли били меня по носу, по макушке, по рукам. Вода смыла с надгробного камня пыль и грязь.
— А помнишь, мы с тобой говорили о том, что ты не хочешь меня пережить? Это ты помнишь? Так и случилось, ты меня не пережила. И чего ты теперь злишься, Фульвия?
Я засмеялся, раскинул руки и крикнул:
— Ну чего ты злишься?
Дождь лил мне в лицо, я чихнул раз, другой, а потом снова обратился к Фульвии.
— И я тебя люблю. Хотя ты меня так, дура, подставила. Я так злюсь на тебя, но люблю. И Октавия мне тебя не заменит. Она вообще другая. И Клеопатра не заменила мне тебя тоже. И она другая. Просто вот что я за человек, в конце-то концов. Но однажды ты полюбила меня именно таким.
Я прикоснулся к памятнику. Он был холодным, скользким.
— Но мы встретимся. Однажды я встречусь со всеми моими женщинами, и ты устроишь с ними крутую драку. Биться ты мастерица!
И вдруг небо просветлело, солнце выскользнуло из-под облаков и осветило все ярким утренним светом. Я счел это хорошим знаком и отправился домой к своей новобрачной.
Она встретила меня с волнением.
— Антоний, ты весь мокрый! Ты ведь заболеешь!
— Да нет, — сказал я. — Я никогда не болею. Это твой брат от любого сквозняка начинает покидать сей мир стремительно, а я…
Но я не успел договорить, Октавия сняла с меня промокшую насквозь тогу, а потом и тунику.
— Иди сюда, — сказала она. — К огню.
— У меня есть идея получше, — сказал я, привлекая Октавию к себе. Потом я долго целовал ей руки, а она грела меня, и было так хорошо.
— Никто еще, — сказала она. — Так не целовал мои руки.
— Глупости какие, у тебя прекрасные, чудесные руки. Не верю тебе.
Вдруг, повинуясь неожиданному и сильному желанию, пришедшему после любви с ней, я сказал:
— Октавия, у меня есть к тебе одна просьба, просьба этв покажется тебе странной, но постарайся ее выполнить.
— Я сделаю ради тебя, что угодно.
— Да, — сказал я задумчиво. — Это-то и плохо. Вот с этим-то и будут проблемы.
Она посмотрела на меня непонимающе. О, эти глаза, светлые, нежные, прекрасные с пятнышками на радужке, смешными и странными.
Я сказал:
— Не люби меня, Октавия, за то, что я так люблю тебя. Со мной всегда все случается вот так. Я сильно люблю, очень, и меня хочется полюбить в ответ. Но потом я сделаю тебе больно. Я всем всегда делаю больно, хотя не хочу.
Она улыбнулась.
— Не верю тебе. Ты не такой.
— Такой-такой. Никто мне не верит, а я такой и впрямь. И ничего с этим я поделать не могу.
Мы помолчали. Я сказал:
— А ты трогательная, нежная, милая и добрая. Я так не хочу делать тебе больно.
— Так сделай меня счастливой, — сказала она. — Это несложно. Для счастья мне нужно только, чтобы ты был со мной, и только сейчас. Забудь о будущем, оно нам неведомо.
Я снова поцеловал ее красивые, тонкие пальчики.
— А прошлое? Ты ведь что-то обо мне знаешь, я уверен.
— Я знаю, что ты непростой человек. Необычный. Но разве не такого хотела бы я себе в мужья?
И я замолчал, не зная, как еще ей объяснить, да и не желая этого. Сердце было будто сумасшедшее. Ее любовь лежала прямо передо мной, и я мог взять ее. И хотел ее взять. Я никогда не отказываюсь от любви, от доброты и внимания.
Но взяв эту любовь, и отплатив за нее любовью, я обрекал Октавию на мучения.
Так я ей и сказал. А она ответила:
— Я люблю немножко помучиться.
— Зачем?
Она пожала плечами.
— Женщины решают столь мало. К счастью, мне не придется держать в руках оружие или решать вопросы, цена которых — чья-то жизнь. Но я могу быть героиней для тебя. Я могу вынести трудности в любви. Любые трудности. Могу стать твоей верной подругой.
И она не солгала. Эта женщина вынесла очень многие трудности и стала для меня верной подругой, как обещала.
Чуть погодя, я вышел в сад, и вот, смотрел на солнце, не закрывая глаз. На нем плясали блики, золотые, черные и вообще разноцветные пятнышки-промашки. Наблюдая за прояснившимся небом, я думал о том, что уже люблю ее.
Тут-то, в саду, и встретил меня гонец с вестью о том, что ты мертв.
И я, едва смирившийся с тем, что мертва Фульвия, сел на каменную скамейку и рассеянно подумал: мы не помирились.
Не помирились и уже не помиримся. Разве не хуже всего думать именно об этом?
Кроме вести о твоей болезни и скоропостижной кончине, было твое желание остаться в Испании. Ты, глупыш, думал, я буду похоронен на своей земле, в нашей усыпальнице.
А смотри-ка, как далеко разнесла нас судьба друг от друга.
Ну и все на этом. До завтра, мой хороший, я очень скучаю.
Твой брат, Марк Антоний.
После написанного: а еще я все время думаю о том, что, может, твое ответное письмо все-таки потерялось в пути, и оно еще дойдет, хоть времени и мало.
Послание двадцать четвертое: Море
Марк Антоний брату своему, Луцию, теперь уже окончательно мертвому и в воспоминаниях тоже.
Здравствуй, Луций! Вот все и закончилось, а я все-таки рад тебе писать. До предыдущего письма у меня было ощущение, странное, дурацкое ощущение, что ты жив, и где-то ныне есть. Теперь я заново осознаю, что это не так. Вот мы и дошли до той части моей истории, где тебя уже нет.
И начинать ее странно. Вдруг оказывается, что я обращаюсь к мертвому — вещь очевидная, а все-таки грустно. И странно мне само твое отсутствие. Впрочем, что говорить об этом долго?
Послушай про меня в мире, где нет ни тебя, ни Гая, и я один. Это сейчас я ною и расстраиваюсь, а тогда, скажу тебе честно, жизнь пошла своим чередом, и дикая боль сменилась каким-то холодным и спокойным ощущением, долгим, как сон.
Я потерял и тебя и Фульвию по своей вине. Думаю, вмешайся я в ту войну, вы были бы живы и здоровы. Фульвию истощило горе, тебя — осада Перузии. А, может, было все и вовсе не так, как считаешь?
Может, это Октавиан отравил тебя и Фульвию, могло такое быть, правда? Во всяком случае, это объясняло бы ваши внезапные смерти. Тогда я об этом не думал, думаю только сейчас, когда уже ничего не изменить.
А тогда я винил себя одного, мол, это я тебя убил. Должно быть, я ищу сейчас какие-то оправдания, сам себя пытаюсь выгородить перед тобой и Фульвией, но все-таки могло ведь быть такое, что это Октавиан?
Впрочем, что сваливать мою безответственность на ответственного мальчика. Он сделал все от него зависящее и, думаю, ему не надо ни перед кем оправдываться.
Так вот, на меня нахлынуло после твоей смерти, и довольно быстро, это чувство, похожее на сон после болезни, холодный сон, наследник спадающего жара.
Казалось, я не могу больше чувствовать. С ужасом я всегда думал о том, что будет, если я потеряю тебя. Думаю, не ошибусь, когда скажу, что, во всяком случае долгое время, ты восхищался мною больше всех на свете. И это осознание нужно мне было как воздух. Звучит эгоистично, но я нуждался в твоей любви куда больше, чем ты нуждался в моей.
Так или иначе, но жизнь продолжалась, как продолжалась она и без Фульвии, и без Гая. В этом последняя грустная правда о нас с тобой, о людях вообще — мы всегда одни. Кто-то умирает, а мы живем дальше, и небо не падает на землю. Каждый должен пройти свою дистанцию, определенную богами заранее, на какой-то части этой дороги у нас одни попутчики, а на какой-то — другие.
Лично я всегда хотел, чтобы после моей смерти мир рухнул, это эгоистичная мечта, кроме того, она жестокая. Однако этого не будет. Проклятие не в смерти самой по себе, а в безразличии к ней мира. Однажды и Октавиан умрет, очень быстро он станет достоянием истории и перестанет интересовать людей в каком-либо другом качестве. Так неизбежно случается.
Но я солгу тебе, если скажу, что горе мое было невелико. Думаю, напротив, оно было слишком сильным, чтобы я мог его осознать. Вина, страх, любовь — все мешалось во мне, но, как это часто бывает, смешиваясь, вещества теряют свой истинный цвет и консистенцию, оставляя невнятное месиво. Так и случилось.
Моя Октавия всегда была рядом, она и вправду оказалась верной подругой. На некоторое время я даже забыл о царице Египта, странной, вычурной и холодной женщине. Зачем, думал я, мне она, когда рядом милая, красивая, добрая Октавия, главная забота которой теперь — любовь ко мне. Я даже злился на мою детку за то, что она никогда не была такой ласковой, такой преданной и безропотной. В ней всегда оставалась вязкая, липкая темнота, тогда как Октавия была чистым светом.
Октавия вскоре родила дочку, последнего ребенка своего умершего мужа, девчушка была очень милая, спокойная и мало плакала, так что она меня не раздражала. Вскоре после этого мне пришло письмо от царицы Египта, в котором она сообщала мне:
"Марку Антонию, кто владеет моим сердцем, и чьим сердцем еще владею я.
Здравствуй, Антоний, сообщаю тебе о том, что боги были милостивы к нам настолько, что дали тебе и мне не одного наследника, а двоих, девочку и мальчика — прекрасный знак благоволения к нам Исиды и Осириса.
Теперь мы оба знаем, что твоя судьба лежит на Востоке. Незадолго до родов гадатель сказал мне, что детей будет двое. Если, сказал он, ты родишь двоих мальчиков, подобных Ромулу и Рему, значит судьба их отца — Запад, если же ты получишь мальчишку и девчонку, значит его ждет Восток. Но что же, спросила я, делать, если оба младенца будут женского пола? Он не нашелся, что мне ответить. Ты знаешь, Антоний, что я не слишком верю в гадания, но ты любишь их, и я решила, что тебе будет интересно.
В любом случае, дети здоровы, оба. Мальчика я назвала Александром, а девочку — Клеопатрой. Однако, вспомнив о милых прозвищах, что ты дал своим братьям, Солнце и Луна, я позволила себе добавить к традиционным именам эти. Александр Гелиос и Клеопатра Селена. По-моему, звучит неплохо. Подумала, что тебе будет приятно знать — ласковые прозвища твоих братьев достались твоим детям.
Соболезную тебе по поводу смерти Луция. Я понимаю тебя, как никто не понимает. Великая потеря. То же самое можно сказать и о Фульвии, что бы ты ни говорил мне, ты ее любил. Что касается твоей свадьбы, то с ней я тебя поздравляю. Не скрою, я хотела бы обладать тобой единолично, но, пожалуй, это неподвластно ни одной женщине, ни смертной, ни богине. Такова уж твоя природа — ты принадлежишь каждой, которая полюбит тебя. Женщину с таким характером назвали бы блудницей, как же назвать тебя? Впрочем, для мужчины такая ветреность, позволяющая получить многих женщин, считается доблестью, мы об этом уже говорили. Я желаю тебе счастья с твоей новой женой, но знаю, что ты вернешься ко мне, и мы еще будем вместе. Твоя природа для меня и благо и печаль.
Кстати говоря, Цезарион скучает по Антиллу. Они стали настоящими друзьями. Так что, когда ты будешь собираться ко мне, я хочу, чтобы ты привез с собой и Антилла. Верная дружба для мужчины многое значит, а мы ведь желаем счастья нашим детям.
Ответь мне как можно скорее. К тому времени, как это письмо дойдет до тебя, твои дети, возможно, уже улыбнутся своей матери."
Я немедленно ответил ей.
"Здравствуй, Клеопатра Филопатор, царица Верхнего и Нижнего Египта, и все такое, ну и земное воплощение Исиды, разумеется, тоже.
Как ты поживаешь сейчас, моя детка? В порядке ли твое здоровье и здоровье наших детей? Я счастлив их рождению, и мне не терпится увидеть Гелиоса и Селену. Видно ли уже, на кого похожи малыши? Мечтаю, чтобы девочка была похожа на тебя, а мальчишка — на меня, но предчувствую, что все будет совсем наоборот. В любом случае, спасибо тебе за этот дар. Теперь мы с тобой соединились в новых существах, будем надеяться, что им досталось лучшее от нас — твой божественный разум, моя героическая смелость, твое спокойствие, моя решительность, и харизма, присущая нам обоим.
Что касается Луция и Фульвии, мне странно, но боль прошла. Я спрашиваю себя, почему она прошла? И думаю в этот момент о тебе, о том, что ты могла бы ответить мне. Ты разбираешься в таких вещах.
О моей женитьбе: у меня прекрасная жена, но ты, должно быть, уже навела о ней справки и знаешь, о чем я говорю. Вы совсем не похожи, и тебе незачем ревновать, никто не заменит Антонию Клеопатру, потому как Клеопатра единственная в своем роде и для него и для мира вокруг него.
Будь спокойна, я однажды вернусь, однако сейчас дела не позволяют мне попасть к тебе. Но я храню в сердце все, что между нами было.
Антилл скучает по Цезариону тоже, ему печально без своего друга, но я утешаю Антилла скорой встречей. Здорово, что они подружились. Мое дитя и дитя Цезаря играют вместе — прекрасная картина.
В любом случае, я рад твоему посланию, моя милая детка, и счастлив, что наши дети здоровы.
Твой Марк Антоний."
Сдуру я ляпнул Октавии:
— Представляешь, у царицы Египта родились близнецы.
И тут же я устыдился этой фразы. Но Октавия только протянула руку и коснулась моей щеки.
— Марк, твой роман с ней — давно не новость. Я могу лишь поздравить тебя.
О, моя милая мученица. Она называла меня Марком. Представляешь? Редко кто называет меня по личному имени, разве что ты, Гай или мама, да Фульвия еще, но только по особым случаям. И вот Фульвия умерла, и ты умер, и Гай, а маму я не видел очень давно. Я думал, никто и никогда больше не назовет меня так, а вот.
Октавия называла, и я был ей за это благодарен.
Так или иначе, стоило мне получить письмо от царицы Египта, и вот я думал уже о ней. У Октавии и моей детки было кое-что общее. Обе они понимали, что есть я, и ни одна не стремилась меня изменить. Вот такая вот ситуация, весьма так себе эта ситуация, правда?
Еще одна так себе ситуация сложилась на Сицилии, которую контролировал Секст Помпей. Его огромное влияние на море затрудняло поставки продовольствия в Рим, чего оставлять просто так было никак нельзя.
Кроме того, вся эта бодяга с Секстом Помпеем тянулась еще с незапамятных времен. Уже и Цезарь умер, а Секст Помпей не унимался, и все старался отомстить за бедного своего папашу, столь несправедливо ушедшего.
Тогда мы с Октавианом решили: надо с ним мириться. Во всяком случае, пока у нас полно проблем и в Риме и на Востоке, не имело смысла ввязываться в войну с Помпеем, который, грамотно используя своих ручных пиратов, мог изрядно попортить нам жизнь.
Парень уже объявил себя проклятым Нептуном, можешь себе представить? Впрочем, стоит ли мне говорить, что у него поехала крыша, мне, объявившему себя Новым Дионисом. Все мы друг друга стоили.
Так или иначе, мы с Октавианом отправились на переговоры. Причем, без Лепида, настолько невнятный пацанчик мало значил в этой компашке.
Я сказал Октавиану:
— Мы должны быть готовы ко всему с тобой. В том числе и повоевать прямо там. У Помпея огромные основания нас ненавидеть.
— Да? — спросил Октавиан. — Но у тебя ведь были огромные основания ненавидеть Цицерона, однако ты ждал удобного момента. Мне кажется, не стоит настраивать себя на войну, если ты ее не хочешь. Это может дать тебе повод вести себя грубо.
Я хмыкнул.
— О, дружочек, ты и представить себе не можешь, как много войн развязываются без какого-либо участия разума.
— И все они проигрываются.
— Нет, — сказал я. — По-разному. Зависит от силы, с которой ты хочешь победить.
— И больше ни от чего? — спросил Октавиан с улыбкой. Ох уж мне эти его мягкие насмешки. Но я свято убежден: и больше ни от чего.
Так я ему и сказал.
— Так что, — добавил я. — Зависит от того, кто из нас кого достал больше, мы Помпея, или Помпей — нас.
Встретились мы красиво. У моря — наша армия, на море — многочисленные корабли Помпея, и между ними, в красном шатре, мы втроем. Я люблю это все — зримый облик силы, ощущение собственного величия, явного присутствия в мире. Но в то же время, не скрою, во всех таких мероприятиях есть что-то от игры. Каждый строит из себя непонятно кого, и говорит так серьезно, что это даже смешно. У каждого есть роль, исполнять которую приятно, потому как это роль очень важного человека.
Но за всеми этими безделушками: армиями, кораблями, кубками и пурпуром, знаками отличия, документами, за всем этим не очень понятно, что мы за люди-то такие, чего на самом деле хотим, о чем думаем.
Бывает, обсуждаешь дело государственной важности, а хочется тебе мозгов телячьих в соусе и спать. Или не спать, а трахаться. Или не трахаться, а вернуть кого-то, кто давно умер. Или думаешь: как нос чешется, это ужас, что такое, надо нос почесать, но нельзя, все же смотрят, а я человек серьезный, но нос-то мой чешется.
Правители играют в богов, идеальных существ без человеческих слабостей. И именно потому, что все мы так настойчиво отрицаем наши слабости, любое государство серьезных мужей, любые переговоры, любые совещания — все состоит из лжи. Истинна только война, в ней природа человека, природа мужчины.
Но, что касается Секста Помпея, увидев его, я сразу понял: войны не будет, во всяком случае, ее не будет скоро. Он устал, он чудовищно устал, мы все устали.
Вот какой он, Секст Помпей: изможденный, осунувшийся, с синяками под глазами. Он и так был очень светлый блондин, а теперь выгорел весь на солнце и показался мне совсем бесцветным. Лицо его было выбрито плохо, небрежно, то ли из презрения к нам, то ли из безразличия к себе.
Секст Помпей был моложе меня, но казался старше.
Как же странно писать историю, в которой нет тебя, о которой ты не знаешь ни фактов, ни слухов. Все произошло после того, как ты разучился что-либо знать. И вот Секст Помпей сидел перед нами, серьезный, с некрасивыми, вспухшими от морской работы руками, с опухшими глазами.
Я сказал ему:
— Здравствуй, Помпей.
Он ответил:
— Здравствуй, Антоний.
Мне стало его очень жаль, действительно. Лишенный дома, лишенный земли, лишенный отца — он выглядел очень одиноким и измотанным.
Начались переговоры. Не скажу, что они были легкими, зато в какой-то мере освобождающими. Мы долго гонялись друг за другом, и вот мы встретились, и даже поговорили. Секст Помпей держался мирно, хотя я и видел, что его ведет ненависть к нам.
Это неудобно. Брут и Кассий убили Цезаря, и мы были абсолютно правы, убив их. Что касается Секста Помпея — ситуация вдруг повернулась совсем иначе. Мы убили его отца, и он занимался крайне достойным делом, которое я понимал — мстил за своего отца.
Разумеется, Цезарь защищал себя и преследовал свои цели, сражаясь с Помпеем, и был в своем праве. Да и Помпея зарезали в Египте люди, к Цезарю отношения не имевшие. В общем, было чем оправдать и себя и его.
Но получалось плохо. Впрочем, я делал много чудовищных вещей, так что лишь этим мою сентиментальность не объяснишь.
Полагаю, корни ее лежат в прошлом. Секст Помпей и конфликт с ним уходили далеко в счастливые времена, когда многие из тех, кого я люблю, были живы. Вот почему он вызвал у меня что-то вроде приязни.
Но, приязнь или нет, а решать вопросы с ним все-таки пришлось. Секст Помпей говорил спокойно, без лживой доброжелательности, но и без злости.
Мы договорились отдать ему Сицилию и Сардинию, в обмен на это он обещал приструнить своих ручных пиратов и обеспечить нам бесперебойные поставки продовольствия.
Октавиан все уступал и уступал ему, я даже удивился, в итоге мы договорились до совершенно невероятных, чрезвычайно выгодных для Секста Помпея условий. Даже он обалдел.
— А, может, вы меня еще и в триумвират возьмете вместо Лепида? — спросил он. Голос у Помпея был совершенно безэмоциональный, гнусавый и ровный, так что я даже не понял сначала, шутит он или нет.
— Чего? — спросил я.
— Прости, Помпей, — сказал Октавиан мягко. — Но триумвират состоит из людей, верных Цезарю, из добрых друзей, каждый из которых может положиться на другого.
Тут Секст Помпей впервые рассмеялся. Он хлопнул рукой по столу, запрокинул голову и захохотал так громко, что раб, задумчиво стоявший подле него, вздрогнул и с испугом воззрился на господина. Пожалуй, это означало, что с Секстом Помпеем таких приступов смеха не случалось очень давно.
— Да, — сказал он, вытирая покрасневшие от слез глаза. — Да, верные друзья! Это точно! Я же вижу, какие вы друзья.
Я засмеялся тоже.
— А ведь Помпей в чем-то прав, — сказал я. — Во всяком случае, я понимаю, почему он смеется.
Октавиан, впрочем, отреагировал очень дружелюбно. Он сказал:
— Да. Наши разногласия таковы, что над ними можно лишь посмеяться. В любом случае, Помпей, мы рады тебе, как союзнику, но ты не продолжатель дела Цезаря, как бы хорошо мы ни относились к тебе. Впрочем, взамен этого мы можем предложить тебе стать консулом через несколько лет, если наше сотрудничество будет долговременным.
— А, — сказал Секст Помпей отсмеявшись. Теперь он снова говорил так же безэмоционально.
— Значит, теперь консулом можно стать вот так? И даже за пару лет до срока.
— Да, — сказал я. — И это намного удобнее. Во всяком случае, тебе не надо мучиться с выборами и оправдываться по поводу того, что ты заставлял римлян голодать. Какое облегчение, правда?
— Да, — сказал Секст Помпей спокойно. — Какое облегчение, и правда.
В любом случае, на том мы и порешили: Секст Помпей официально получил земли и кучу поблажек, а мы — безопасность торговли и контроль над пиратами. Все это дело задумали мы отметить славной пирушкой. Мы вышли из шатра. Солнце еще светило ярко, и Секст Помпей надел темные очки. В них он выглядел даже круто, и изможденность будто бы пропала. Дело в глазах, всегда в них. Глаза слишком многое говорят о человеке.
Секст Помпей сказал:
— Как насчет того, чтобы отпраздновать успех наших с вами переговоров?
Да, подумал я, темные очки тебя прямо-таки волшебным образом изменили. Он даже улыбнулся, дернув уголками тонких губ. Вообще идея была хорошая. Мы стали спорить, кто должен быть хозяином пира, Октавиан предложил бросить жребий, и судьба кормить нас выпала Помпею.
— Отлично, — сказал он. — Обедать будем у меня.
— Это где по-твоему? — спросил я.
— А вот там, — он указал на корабль. — Как ты знаешь, никакого другого дома мне от отца не досталось.
Я вздохнул. Да уж, и правда, дом его отца я забрал себе. Но что сделано, то сделано? Решив пропустить мимо ушей колкость Помпея, я сказал:
— Отлично! Очень экзотично, но, надеюсь, кормить ты нас будешь не только рыбой.
Пир удался на славу! Во всяком случае, было весело. К концу вечера разговорился даже Помпей. Своих темных очков он больше не снимал и в них выглядел куда лучше. Чем-то (тонкими губами, наверное) он даже напоминал своего отца, хотя в целом сходство было, я бы сказал, посредственным.
Я рассказывал о своих приключениях в Египте, о диковинных зверях, о пустыне, о царице, в конце концов.
— Правда ли это, — спросил Помпей. — Что царица Египта делает в постели такое, о чем римские женщины не решаются даже говорить.
Я махнул рукой.
— Да римские женщины только говорить и не решаются, а молча делают все.
— Смотря какие женщины, — сказал Октавиан мрачно.
— Да любые, только уговаривать надо уметь.
— Так что с Клеопатрой?
Я пожал плечами.
— Нет вещи, которой она не позволит сделать с собой ради Египта. Такая самоотверженность.
Но говорить о наших ночах я почему-то не хотел. Странная стыдливость, правда? Мне совершенно не свойственная. Первый признак глубокого и сильного чувства, какое охватило меня к ней. Обычно я с готовностью говорил обо всех своих любовных похождениях, да еще и в весьма ярких подробностях, всем, кто желает слушать.
А тут вдруг подумал: это мое, мое и моей детки, и больше ничье, наша любовь, наше время вместе, и пусть она позволяла мне делать с ней такие вещи, которые позволит не всякая шлюха, все равно наши с ней ночи казались мне удивительно чистыми и невинными.
Я уже хотел сказать, что тему развивать не буду из дипломатического почтения к Египту, как к Помпею подошел один из этих его ручных пиратов. Секст Помпей встал и сказал:
— Прошу меня простить, я всего лишь на минуту.
Мы с Октавианом переглянулись. В этот момент я ощутил с ним абсолютное единство. И правда, если уж нам предстояло умереть, то вместе, что объединяет лучше?
И Октавиан и я, мы оба не расслаблялись здесь до конца. Впрочем, смог бы насладиться своей безопасностью на пиру у нас Помпей? Не думаю.
Некоторое время Помпей о чем-то тихо беседовал с этим пиратом, как же его там, уже и не помню, а потом мы с Октавианом увидели, как он качает головой. Как-то мы оба поняли, о чем Секст Помпей говорил с тем пиратом. О том, как легко закончить всю эту долгую войну прямо сейчас. Во всяком случае, будь я тем пиратом, именно это бы и предложил.
Почему Помпей отказался? Я не знаю. Я бы не отказался.
В любом случае, остаток пира прошел хорошо и вполне спокойно, если не учитывать того, что меня стошнило в море. Поздней ночью мы с Октавианом выбрались с корабля. Я был совсем пьяный, он, напротив, почти не пил.
Я сказал:
— Дружок, зачем мы столько позволили этой сволочи Помпею? То есть, мне его, конечно, жалко, и все дела, но разве же мы такие альтруисты? По-моему, нет.
— Нет, — послушно повторил Октавиан. — Конечно, мы не такие альтруисты.
— Тогда что с нами не так?
— Мы мудрые политики, Антоний.
Это мое глупое пьяное "мы" вдруг меня так порадовало. Я забавлялся тем, что есть некоторое "мы", хоть Октавиан и похож на меня меньше всех людей Земли.
— Но мы вгрохали в него такие деньги, — сказал я. — Это окупится?
— О, непременно. Как говорил мой отец, доброта всегда окупается.
Октавиан был трезв, если не абсолютно, то почти. И все-таки я почувствовал, что он чуть ослабил контроль над собой. Конечно, он сказал банальность, но за ней я услышал кое-что другое.
Что-то вроде: это все неважно, я все равно уничтожу Секста Помпея тогда, когда это будет удобно. И никто меня не остановит. Ха-ха-ха-ха. Маленький злодей, правда?
Впрочем, я просто был очень пьян. Но разве можно отрицать это умение Октавиана быть столь милым и очаровательным в ожидании удобного момента для нападения? Он не скупился на уступки, потому что планировал избавиться от Секста Помпея. Если кому-то и предстояло жить с последствиями этого разговора, то очень недолго.
Почему-то я не примерял все эти свои выводы на нашу с Октавианом ситуацию. Почему?
С другой стороны все, конечно, честно. Разве же я не согласился бы уничтожить, наконец, Помпея?
А разве Секст Помпей отказался бы от мести в нужный момент? Умение вовремя ослабить конфликт, уменьшить давление — чрезвычайно важно, может быть, важнее всего прочего. И Октавиан это умел.
— Как поживает Октавия? — спросил он осторожно.
— О, — сказал я. — Мы счастливы. Еще как. Уверен, так и будет продолжаться.
— Все мои надежды на это направлены, — сказал Октавиан. А потом вдруг прошептал мне:
— Ты видел, как он говорил с этим пиратом, да?
— Ага, — сказал я. — Уверен, хотел нас мочкануть. Приколись?
— Да, — сказал Октавиан. — И я об этом подумал. Подумал, я умру. И вот так нелепо. Подумал, как сглупил.
— А я не думал особо, — ответил я. — Просто вот так заметил.
Вдруг вернулось то чувство общности, и мы с Октавианом оба нервно засмеялись.
— Да, — сказал Октавиан. — Тяжелая у нас с тобой работа.
— И небезопасная, — ответил я. — Зато какая хорошая ночь, приятная, звездная. А могли бы сдохнуть на кораблике. Думаешь, он просто сбросил бы тела в море?
— Да, — ответил Октавиан. — Так я и думаю. Передергивает от этой мысли.
— Да, к этому времени нас могло бы не быть. Меня такое наоборот здорово взбадривает.
Октавиан засмеялся:
— И это меня в тебе восхищает, Антоний.
И тут он был вполне честным. Думаю, все другие мои качества, которые он восхвалял, не восхищали его, а это — еще как. Октавиан завидовал моей смелости.
Впрочем, я завидовал его удаче. Вот уж что не давало мне покоя.
Но в остальном, после договора с Секстом Помпеем, стало у нас с Октавианом все очень даже неплохо, во всяком случае, куда лучше, чем до моего отъезда на Восток.
Может быть, стоит благодарить Октавию. Она всегда очень хорошо смягчала мой характер и, подозреваю, ей легко удавалось проворачивать подобные штуки и с Октавианом.
Впрочем, и то происшествие на корабле не надо списывать со счетов — оно объединило нас и показало нам, что он и я — части одной и той же системы, ныне мыслящиеся нераздельно.
Благодаря Октавии, мы много времени проводили вместе. Я уже говорил тебе, что страсть Октавиана — кости, и шире — любые азартные игры. Не было такого занятия, требовавшего удачи и азарта, к которому он бы не питал слабости.
Все-все-все, от игры в кости до петушиных боев. Если ему было скучно, он играл в кости сам с собой, а мог и просто подбрасывать монетку. Очаровательная черта для такого рационального маленького мудачка, правда?
Я тоже люблю игры. Люблю острые ощущения, которые они дают. Люблю это покалывание в кончиках пальцев, когда загадываешь число, бросая кости.
Впрочем, во всех этих играх я проигрывал Октавиану, мне никогда ни в чем не везло. По жизни я довольно удачлив, и долго думал, что Октавиан жульничает, даже пару раз пытался его прижучить, но остался ни с чем.
Ему просто везло.
Во всем он меня обыгрывал, и это меня, центр движущегося вокруг мира, ужасно задевало. Как же так, думал я, не может ведь такого быть!
Ясность внес один египетский прорицатель, которого я как-то пригласил домой, чтобы развлечь Октавию. Он мне так и сказал:
— Сам по себе твой гений высокомерен и кичлив, однако он боится гения молодого Цезаря, вблизи него впадает он в смирение и уныние.
— Но как же может быть так? — спросил я.
Прорицатель ответил мне:
— Звезды, распоряжающиеся вашими судьбами, в конфликте. Небо руководит нашими жизнями, и иногда они входят в противоречие друг с другом. Держись от этого юноши подальше, не то он принесет тебе погибель.
Позже, ночью, Октавия говорила мне:
— Подумаешь, какие глупости. Разве может этот человек что-то понимать?
Но подтверждения были повсюду, за какую бы игру мы ни взялись, я никак не мог положиться на свою удачу.
А так все шло будто бы и чудесно. У Вентидия Басса, которого я отправил на защиту Малой Азии, дела шли прекрасно, мы с Октавианом даже будто бы начали друг друга понимать, Секст Помпей, довольный условиями, на некоторое время притих.
Зиму я провел в Афинах вместе с Октавией. Пожалуй, это была самая спокойная, самая мягкая, самая чудесная зима в моей жизни.
Ничего страшного не происходило, весь мир пришел в равновесие, Октавия воспитывала моих и своих детей, мы проводили время все вместе. А если важно именно это? То, сколь счастлив ты был, и делил ли счастье с другими людьми.
В моей жизни была пара периодов безмятежного, радостного покоя. Всего-то пара. Обычно это все, сколь бы сладостно оно ни было, быстро наскучивает мне. Я люблю другое счастье — счастье победы, счастье, доставшееся через опасность и страх, и даже, и особенно — через кровь.
Я не умею ценить эти моменты легкости и спокойствия, но, может быть, они и важнее всего на свете? Теперь я думаю об этом. С другой стороны, променял бы я свою безумную жизнь на другую, ту, которую провел бы в зимних (или пусть летних, весенних, осенних) Афинах вместе с Октавией и нашими детьми?
Нет, променял бы. Природа моя такова, что я не способен долго сидеть на месте. Но эта зима — она была прекрасна. Часть моей жизни, надо же, наряду с другими.
Признаюсь честно, я покидал Рим в печали, в таком томительном ощущении преходящности всего сущего. Вот был я, прекрасный, в сущности, великолепный Марк Антоний, а вот Октавиан, его жизнь начинается, моя — словно зрелый плод. Скоро этот плод будет сорван с дерева или упадет, брызнув соком на землю. Что касается Октавиана, пройдет еще много времени прежде, чем он поймет, что правила едины для всех.
Да и не в этом дело, я уже говорил такие вещи — они просто случаются, когда понимаешь, что кто-то меньше тебя, а ты там же, где и все, двигаешься в том же направлении и ни в каком больше.
А вот удача — разве она не важна? Разве не чудо и не горе, что Октавиан обыгрывал меня во всем. И не предсказывает ли это мое неизбежное падение?
Я чувствовал детскую ревность, жаждал внимания богов столь же неусыпного, что дарят они Октавиану. Я чувствовал себя игрушкой, с которой боги наигрались. Но я ведь всегда хотел быть таким забавным и интересным, хотел, чтобы боги смотрели на меня и ставили на меня.
Однако, нашелся кто-то смешнее меня.
Октавиан всегда был хорошим актером и всегда работал на публику. Роль у него была, как по мне, скучная, но ведь всем известно, что боги обладают странным чувством юмора. Да, тоска была и сильная, тоска важнейшему ощущению в моей жизни: боги не любят никого сильнее меня.
Да, кроме того, перед самым моим отъездом из Италии умерла мама. Умерла внезапно и просто, во сне. Боги даруют такую смерть лишь избранным, людям праведным и заслужившим их снисхождение доблестью.
Думаю, мама была именно такой. Сквозь все беды ее судьбы, сквозь страх, позор, потерю двух мужей, двоих детей, и разочарование в ребенке третьем, проходила она смело и честно. И ее ни в чем нельзя было обвинить.
А вот я вопрошал богов: ну как же так, как может быть, чтобы три человека, значимых для меня, умерли так скоро?
Снова заболела рана, оставленная тобой. Она и сейчас болит, как видишь.
Октавия очень помогла мне с организацией похорон. И вот как-то мы лежали с ней в нашей постели, и я сказал:
— Даже уехать отсюда не могу.
А она сказала:
— Но скоро ты уедешь, и я уеду с тобой. И в чужом краю ты обо всем забудешь.
— Я сделал свою мать несчастной.
— Ты сделал ее счастливейшей женщиной на свете. Она подарила жизнь троим людям. Жизнь на этой земле не хороша и не плоха, но она все равно — чудо. И это чудо случилось с ней. А потом ты пошел своей дорогой и делал свои ошибки. И ее сердце болело за тебя. Но она, я уверена, никогда не забывала, что однажды ты сделал ее очень счастливой. И была благодарна тебе больше, чем ты ей. И твоим братьям — тоже. Такова природа матери.
Ну, природу матери она, положим, несколько идеализировала. С другой стороны, кто я, чтобы знать, что у них там в голове?
Я положил голову Октавии на плечо.
— Вокруг меня только смерть, — сказал я. — А я мечтаю о том, что не покинет меня.
— Но будешь ли ты это любить? — спросила Октавия. — То, что тебя не покинет, станет привычным и нежеланным очень быстро. Люди, и в особенности люди вроде тебя, ценят лишь то, что боятся потерять.
Теперь это звучит пророчески. Октавия стала всем для меня, и я уверился в том, что она будет любить меня, что бы ни случилось. Я даже думаю, может, Октавия уже и тогда знала, какой жертвой будет ее любовь.
Я молчал, а потом вдруг сказал снова:
— Я боюсь сделать тебе больно. Это неизбежно, что однажды я сделаю тебе больно. Не люби меня. Живи со мной, не любя.
— Это мука, — сказала она. — Жить с тобой, не любя. С кем угодно другим я смогла бы, но тебя мне необходимо любить, чтобы не сойти с ума и не наложить на себя руки.
— Это комплимент или оскорбление? — засмеялся я.
— Как знаешь. Я буду любить тебя, Марк, а ты полюби меня. И, обещаю, мы оба не пожалеем об этом.
И вот мы уехали в Афины, где наслаждались праздной жизнью. Я рад был, что увез Октавию именно в Афины, которые всегда действовали на меня положительно. Мне казалось, я могу не то что обмануть ее, но показать Октавии, что существует и другой Антоний, другой Марк — хороший, приличный человек, способный держать себя в руках. Этот человек, я был уверен, ей понравится.
Впрочем, сейчас мне кажется, будто Октавия полюбила меня именно за то, что я могу причинить ей боль. Я пытался сделать ее счастливой и уберечь, пытался дать ей как можно больше хороших воспоминаний перед тем, как все неизбежно рухнет, но, кажется, она нуждалась не в этом. Нуждалась она в человеке, который ее разрушит. Уж не знаю, почему. Есть такие мученицы, от природы они тянутся к разного рода бедствиям, которые возвышают и закаляют их. Этого моя Октавия хотела от меня.
Звучит как оправдание? В каком-то смысле.
А я все-таки пытался быть хорошим, я пытался любить ее так, как она того заслуживает. В Афинах Октавия забеременела. Октавиан радовался этому событию не меньше нас. Он прислал Октавии письмо. Я нашел это письмо у нее под подушкой и не смог справиться со своим любопытством.
Что-то вроде того:
"Дорогая моя сестрица, милая Октавия, как я рад! Ты неизменно добродетельна, потому боги благоволят тебе. И ты никогда меня не поводишь. Я знал, что могу рассчитывать на тебя. Чудо в твоем чреве скрепит наш союз, нет ничего надежнее и любимей, чем родная кровь, я полюблю племянника или племянницу, Антоний полюбит сына или дочь, и мы оба сможем довериться друг другу больше, чем когда либо, как родичи не только формальные, но и фактические, как защитники твоего сына или твоей дочери. Как я надеюсь, что все пройдет успешно. Ты должна принести жертвы всем греческим богиням, связанным с деторождением. Вообще-то, думаю, чистый воздух Афин повлияет на тебя положительно. Уверен, что сама местная земля благоволит не только посеву, но и всходам. Впрочем, радоваться раньше времени, значит навлечь на себя беду. Я просто хочу, сестрица, чтобы ты знала, сколь много делаешь для Рима. Ты творишь мир на нашей земле, если не навсегда, то надолго.
Впрочем, прости мне все эти шумные восторги. Должно быть, они смутят тебя. Прошу, ответь мне побыстрее, как твое самочувствие.
Твой любящий брат, Гай Юлий Цезарь."
Надо же, а? Я-то думал, найду нечто интересное, интригующее. Думал, Октавиан позволит себе хоть слово против меня в письме любимой сестре, которой доверял, как никому.
Думаю, я бы так и спалился, ты меня знаешь. Несмотря на то, что письмо могло попасть в чужие руки, я выложил бы все как на духу. Но Октавиан не был человеком такого сорта. Мне даже показалось, что письмо предназначено мне лично, что оно должно было быть прочитано вовсе не Октавией или, по крайней мере, не только ей.
Я уверен, Октавиан, возясь с этим письмом, продумывал каждое слово для меня. Вот такой человек. Ни в чем не оступится.
Впрочем, какая разница, чего хотел Октавиан? Я любил свою тихую, нежную, добрую Октавию, любил и готов был в те дни вырвать из себя сердце ради нее. И я хотел увидеть, какой ребенок получится у нас. Это самое интересное — узнать, как причудливо в этот раз смешаешься ты с очередной женщиной в новом совершенном существе.
С твоей кровью внутри.
Да, кровь. Кровь не помогла, но, я верю, Октавиан действительно любит обеих своих племянниц. И он позаботится о том, чтобы их жизнь сложилась правильно. И об их безопасности. Разве что, сделает так, чтобы они забыли своего отца. Но это ничего.
Стоит ли его помнить, думаю я уже и не нахожу ответа.
Теперь вспоминаю наши разговоры с Октавией. Она всегда спрашивала, что я думаю, о чем мечтаю, что чувствую. А я удивлялся, когда не мог дать ей ответа. Словно неразумное животное, я искал еды, тепла, драки и любви, из всех человеческих страстей имелась у меня лишь одна — к вину. И мог ли я сказать, что чувствую, к чему стремлюсь?
Я хочу жить.
Не хочу умирать.
Люблю, когда мне хорошо. И не люблю, когда мне больно.
Я прост, а Октавия видела во мне сложность, видела во мне неоднозначность, какой-то даже героизм. Человек, съедаемый собственными страстями — что-то в таком духе. Мучающийся и наслаждающийся. Новый Дионис, да, кому лучше всего подходит это определение?
Однажды я сказал ей:
— Я не знаю, что будет завтра и не особенно к нему стремлюсь. Мое сегодня волнует меня гораздо больше. Неизвестно, буду ли я завтра вообще, будет ли кому переживать об этом. Грядущее, будущее покрыто тайной и мраком, нужно ли оно мне вообще? Я ничего не планирую наперед. Но люблю копаться в прошлом, я люблю себя и то, чего я достиг.
Октавия неторопливо ответила мне:
— Ты — полная противоположность Октавиана. Его столь мало заботит настоящее, а, тем более, прошлое, что он считает их не более значимыми, чем рассказанные кем-то и когда-то истории. Будущее — вот что главное для него. Он согласен не прожить больше и дня, если сумеет в достаточной степени повлиять на будущее мира. Это меня удивляло с самого детства. Он всегда приносил в жертву будущему свое настоящее. Никогда не жил, как бы это сказать, ради нынешнего часа. Он во всем себе отказывал, зная, что однажды его труды будут вознаграждены.
— Позиция как будто бы достойная уважения, но ужасно скучная.
— Скучная или нет, она противоположна твоей, вот что главное.
На том мы и порешили. Но я все-таки спросил Октавию:
— А твоя позиция? Ты чем живешь?
Она задумалась, прижала палец к пухлым розовым губам. Я с удивлением отметил, что видел подобное движение у Октавиана. С другой стороны, чему я удивляюсь?
— Я живу с ощущением, что никакого времени нет вообще. Мне кажется, я смогу успеть переделать все дела мира, и ни капельки при этом не устать.
— Ты проживешь долгую жизнь. Кто жаждет — умирает молодым. Чувствует, наверное, что жить ему недолго. А ты ничего не жаждешь, а веришь, что все придет к тебе в свое время.
— И ничего не строю, — сказала Октавия. — Потому что еще я верю в то, что мир создает более долговременные постройки, чем люди. И что толку от дворцов, построенных на песке?
Прекрасная она женщина. Октавия не отличалась образованностью, однако же была столь же спокойна и рассудительна, как Октавиан. И в ней мне это нравилось по-настоящему. Я находил радость в этих ее рассуждениях, и часто они утешали меня.
Кроме того, разве можно пожелать лучшую мать для собственных детей? Заботливая, добрая, мудрая, в чем-то она была похожа на мою собственную мать. Однако, я надеялся, что Октавия никогда не допустит тех ошибок, которые допустила моя мама.
В конце концов, я хотел ей только счастья.
Никогда я не желал ей зла. И мне кажется, что даже сейчас Октавия знает это. Мне кажется, она простила меня и поняла. Всех она могла простить и понять.
Я ей никогда не подходил. Вот, что касается моей сущности. Самый мой большой недостаток, так мне кажется, заключается в вечном желании оказаться в центре внимания. Ну не могу, не живу я по-другому.
Расскажу тебе, пожалуй, об одном из моих дурацких поступков. Вентидий Басс сделал для меня решительно всю работу, можно даже сказать не "для меня", а "за меня". Все у него спорилось в руках, и я им действительно гордился. Однако после того, как он напал на Коммагену, небольшое царство, предавшее Рим во время нападения парфян, я строго настрого велел Вентидию не вступать ни в какие переговоры до моего прибытия. Хотелось, так сказать, все-таки отметиться в своей Малой Азии, раз уже все и без того сделал за меня Вентидий.
Что тут сложного, спросишь ты? Да ничего, тем более, что коммагенский царь предлагал весьма внушительный откуп, а силы жителей города стремительно истощались.
Однако, пока я мчался в Коммагену, ребята в осажденной ее столице решили, что переговоров не будет, и у них открылось второе дыхание. Так что, когда я приехал, город оказался не то что не сломленным, даже не погнутым. Первым делом я обрушился на Вентидия, а потом понял, какого дурака свалял сам. Пришлось мне вместо мира на прекрасных условиях выпускать из своих рук город за жалкие гроши и стыдиться собственной медлительности.
— Ну почему? — сказал я Вентидию. — Почему вот так?
А он был человек очень мудрый, о своих заслугах не обмолвился и словом. Он сказал:
— Что поделать, Фортуна переменчива. Однако же победа — всегда победа.
— Да, — сказал я. — Но есть повкуснее, а есть попреснее.
— Надо есть больше чечевицы, — сказал Вентидий. — Чечевичная похлебка успокаивает и придает терпения.
— Ого, — сказал я. — Обожаю корректировать свои недостатки едой.
Мы захохотали, и я понял, что все не так уж и плохо. Я обнял Вентидия и сказал:
— Ты талантливый человек. Очень. И я счастлив, что ты воевал здесь, на моем Востоке. Спасибо тебе. Я сделаю все, чтобы сенат одобрил проведение твоего триумфа. Что значит, сделаю все? Я сам одобряю проведение твоего триумфа!
Вентидий посмотрел на меня осторожно. Седина в его висках и острая, трезвая речь говорили о жизни, проведенной в большом умственном напряжении. Он всегда знал, когда можно говорить, а когда нужно промолчать. Но тут желание получить прекрасную процессию, посвященную ему одному, почувствовать себя богом несколько сбило его с толку.
— Но ведь официально ты…
— Неважно, — сказал я. — Честность, вот что главное. Хочу быть честным.
А важно только то, чего я хочу.
— Отпраздновав триумф над нашими врагами, справедливый триумф, ты искупишь неудачу самого Красса.
А он, талантливый, но никогда не желавший вызывать моей зависти, так обалдел, что и слова вымолвить не мог. Какой военачальник, тем более в моем положении, откажется от триумфа? Но я подумал: сколько у меня еще таких будет, кроме того — правдивых.
Я лжец и лучше всех знаю, что от всякого вранья есть только толк, но никакого удовольствия. Были у меня и другие талантливые полководцы, которые, действуя от моего имени, увеличивали мою славу на Востоке. Впрочем, почему я должен винить себя за это? По-моему, вполне справедливо, что, умея работать с людьми и выбирать из них лучших, ты отчасти, да, только отчасти, принимаешь на себя блеск их славы.
Впрочем, я никогда не был по-глупому мелочен, и всякую победу талантливого человека воспринимал с благодарностью, причем чрезвычайно щедрой. Да и вообще, талантливых людей надо всячески поддерживать и возвеличивать, так я считаю.
Вот, опять этот менторский тон, учу тебя чему-то, словно ты еще жив, и тебе что-нибудь пригодится из бесценного моего опыта.
В любом случае, после спокойной зимы в Афинах, дел вдруг стало немерено. Я решил, желая оставаться Дионисом, Подателем Радости, как можно меньше наказывать и как можно больше возблагодарять.
Все проблемы, возникшие в Малой Азии из-за вторжения парфян, я переложил на правителей союзных государств, произвел несколько изменений в правящих кругах, и все лично обязанные мне люди, приведенные мною к власти, готовы были выказать свою радость на деле.
Разве не удобно? Думаю, я прежний никогда бы до такого не додумался. Сам знаешь, до чего я люблю воевать. Однако, моя детка научила меня кое-каким дипломатическим хитростям. Благодаря им, кстати говоря, она позже получила вкусный и сочный кусок Киликии и аж целый Кипр, однако с тем негласным условием, что она подготовит для меня как можно больше кораблей в как можно более краткий срок.
Я понимал, что однажды они мне очень пригодятся.
Но я не понимал другого — с кораблями еще нужно уметь обращаться, недостаточно, чтобы эти махины просто устрашающе держались на воде.
И где был Секст Помпей, когда стал он мне так нужен?
В могиле, как и большинство тех, кто был мне когда-либо по какой-либо причине нужен. Судьба, что поделаешь.
В любом случае, разобравшись с делами, я вернулся к Октавии, так получилось, прямо в день ее родов. Мне снова вспомнилась моя бедная Фадия. Вспомнилось, как я пришел, пьяный, грязный, а она умерла, и я увидел ее кровь, кровь, которой в ней было неожиданно много.
Вспомнил это, и испугался.
И вот я сидел в атрии и слышал крики Октавии. Это чудовищно и ужасно, неправда ли? Неужто дети не могут появляться так же приятно, как делаются? В любом случае, ото всех этих женских тайн я бледнею. Мне нравится совсем другая кровь.
Я все расхаживал туда-сюда, не в силах хоть чем-нибудь себя занять, в ужасе от происходящего. Так получилось, что меня не было рядом в тот день, когда родился Антилл, а тем более в тот год — когда родился Юл, и моя дочь от Антонии тоже появилась на свет, когда я был Галлии, что уж говорить про Селену с Гелиосом и Филадельфа.
Но моя первая дочка от Октавии, да, за нее я поволновался.
Я спросил Эрота:
— Ты думаешь, с ними все будет в порядке?
Эрот сказал:
— Насколько я знаю, все необходимые жертвы богам были принесены.
— Это хорошо, конечно, но боги есть боги, чего хотят то и творят.
— Господин, разрешишь ли ты мне хлопнуть тебя по плечу?
— А то.
— Все будет в порядке, — сказал Эрот, тяжело опустив руку на мое плечо. — Любой отец волнуется в такой ситуации.
Вдруг меня охватило дурное предчувствие. Моя Октавия, подумал я, она умрет, она так похожа на Фадию, а, кроме того, разве не прекрасно закольцевались бы мой первый и последний (тогда я так полагал) брак.
О боги, подумал я, отдам все, только не забирайте ее у меня, прошу. Жизнь мало чему научила меня, но, видите, как я справляюсь с Октавией, как берегу ее, и дело здесь не в политике, я человечен, смотрите на меня.
О Юнона Охранительница, будь добра и защити свою бедную Октавию. Мою бедную Октавию.
Как беззащитно я себя чувствовал. В этом женском мире ничего не решишь ни словом, ни мечом — в нем правит судьба еще более молчаливая и неприступная, чем в мире мужском.
Наконец, крик Октавии стих, а вместо него расцвел, расплескался крик младенца. Я понесся к Октавии, оттолкнул от двери акушерку и пал на колени перед ложем жены.
— Ну что? — спросил я. — Ты как? Ты в порядке?
Октавия тут же прикрылась, впрочем, я и не смотрел на ее наготу. Я смотрел на ребенка у нее на руках.
— Девочка, — слабо выдохнула Октавия.
— Это ж прекрасно! — сказал я. — Девчонка это отлично!
— А я думала, что будет сын.
— Ну, у меня всего две девчонки, одну я не видел давно, другую — никогда. А тут — дочка. Они смешные и милые. Да и сын вырастет, он уйдет на войну, его могут убить. А дочка будет с тобой всегда.
Октавия улыбнулась мне, губы ее были очень бледными.
— Я не расстраиваюсь, — сказала она. — Просто я думала, что будет сын. Мне снилось. А родилась девочка. Но это неважно. Посмотри на нее.
Ну, признаюсь честно, тогда мне не показалось, что Антония — какая-то неземная красотка. Эти опухшие новорожденные — существа странные.
— Ну, — сказал я. — Может, она умная?
Октавия попыталась засмеяться, но не смогла.
— А можно подержать? — спросил я. — Ты ее потом не съешь?
— Не смеши меня, пожалуйста.
— Не могу, это нервное.
Октавия передала мне на руки малышку Антонию. Столь крошечное, слабое и хрупкое существо, подумал я, и как люди вообще живут на свете, если их дети такие беззащитные?
Глаза у малышки были синие, и я думал: пусть не темнеют. Все дети у меня кареглазые, в мою породу, а я хочу синеглазую девочку, такую, как Октавия.
— Она какая-то сонная, — сказал я.
— Она очень устала.
— Подумаешь, какая работа. Вот ты — устала. Антония, малышка, да? Ты Антония, правильно? Ты еще не знаешь, как тебе повезло, что ты Антония.
Она меня явно не слишком понимала, смотрела безо всякого выражения на маленьком смешном личике. Я велел позвать старших детей и поднял Антонию над головой, по древнему обычаю демонстрируя новорожденную и принимая ее в семью.
Этот обычай работает, если все идеально — если сам отец дома, если собралось семейство, ну и все такое. Однако до того так пафосно и круто я принимал в семью одного лишь моего первенца от Фадии.
И тут мне захотелось как бы закрыть эту смерть новой жизнью, новым рождением, новым таким воспоминанием о том, как я, поднимая ребенка на руки, провозглашаю его своим.
— Вот так, дети, — сказал я. — Встречайте-ка свою сестру.
Юл разрыдался, сказал, что раз он больше не младший, теперь его и вовсе не за что любить. Что за несчастное существо, мой Юл?
Вот как. Хотелось бы мне, чтобы мама узнала, какая у нее родилась милая, синеглазая внучка.
А тебе бывает интересно, как выглядел твой самый первый предок? Похож ли ты хоть чем-то на первейшего Антония, или все уже смешалось, растворилось?
Я всегда думал, что похож на Геркулеса, но сколько крови утекло с тех пор. И все-таки это возможно.
Интересно также, как будут выглядеть Антонии далекого будущего.
И вообще, я тут недавно думал, сколько у меня на самом деле детей. От моих законных жен, это понятно, но сколько по свету бродит маленьких Антониев от всяких моих мимолетных романов, увлечений, от оттраханных мною рабынь и иноземок, и все в таком духе.
А пройдет время, и у этих Антониев, зная темперамент семьи, будет множество своих детей, и однажды Антонии заселят всю землю. Так я, во всяком случае, думаю, может, надеюсь на это.
Приятно, что все исчезает не до конца.
Но, что касается Октавии, да, хочется сказать о ней еще. Однажды, выполняя возложенную на нее великую миссию, она спасла нас с Октавианом от войны. Ненадолго, но все же спасла.
Я возвращался в Италию из Греции (Октавия была беременна дочерью, которую я никогда не увижу), и у меня было твердое намерение проучить щенулю, поскольку дошли до меня слухи, что он настраивает против великолепного Марка Антония сенат.
Октавия была сама не своя, ради нашего нерожденного ребенка она умоляла отправить ее первой.
— Пусть бы, — сказала она. — Я увиделась с братом и вразумила его. Я служу тебе, муж мой, и хочу вразумить брата не возводить на тебя напраслину, если только он делал это в действительности. Взамен, прошу тебя, выслушай моего брата, он кровь моя, и я не смогу жить, думая, что не сделала все, чтобы предупредить вражду между вами.
Не особенно довольный сложившейся ситуацией, я, тем не менее, высадившись в Таренте, отправил ее навстречу Октавиану. Уж не знаю, что Октавия ему там наговорила, да только явился в Тарент он абсолютно шелковый. О его немирных намерениях говорило его сиявшее на солнце войско, о моих — множество прекрасных кораблей.
Но при встрече мы обнялись и назвали друг друга родичами. И вместо войны вышло так, что мы с Октавианом обменялись любезностями, он пообещал мне несколько легионов для моей будущей парфянской войны, войны мечты, Октавиан же получил от меня корабли для его заварушки с Секстом Помпеем, которую я, кстати, не одобрял. Октавия продолжила свою дипломатическую миссию, и наши любезности друг другу даже удалось увеличить.
Но вот что я понял насчет Октавиана — он повзрослел. Он пришел сюда с войском, и я увидел — он больше не боится войны и не избегает ее всеми силами.
На этот раз я разговаривал не с мальчиком, не с юношей, но с молодым и сильным мужчиной, с ним не зазорно было ввязаться в хорошую драку.
Знаешь, что он по этому поводу сказал? Мы с ним возлежали, он по-прежнему мало пил, и я сказал:
— Ты так вырос.
Он сказал:
— Я собирался напасть на тебя.
— Да, — ответил я. — Похвально.
Октавиан покачал наполовину наполненную чашу вина в руке, потом велел добавить еще воды, и только тогда сделал глоток.
— Я предполагал, что когда-то стану сильнее и решительнее. Тогда меня не сможет сдерживать робость или нежелание ввязываться в конфликт с сильнейшим.
Он говорил об этом вот так просто.
— Когда меня не сможет сдержать мой характер и обстоятельства, в которых я нахожусь, мне захочется доказать тебе, что ты должен считаться со мной. И тогда остановит меня не страх, но любовь — моя сестра. Понимаешь ли ты, Антоний, что я настаивал на вашей женитьбе не для того, чтобы удержать от войны тебя. Нет силы, что удержит Марка Антония от обожаемого им кровопролития. Я хотел повлиять на себя.
Я сказал:
— Может, Цезарь не так уж ошибся, когда выбрал тебя.
— Для меня это лучшая похвала, — ответил Октавиан все так же вежливо, будто мы не были в шаге от большой крови.
В любом случае, мы подписали договор, по которому действующая система сохранялась еще пять лет. При всех недостатках, она была нам чрезвычайно удобна.
Однажды, это мы понимали оба, все рухнет, но рухнет не сейчас — и это главное.
Вот так, Луций, а тебя уже не было.
О, милый друг, тебя не было в мире, когда все это случилось.
Тебя не было, но я думал о тебе и вспоминал.
Твой брат, Марк Антоний.
Послание двадцать пятое: Кошмарные травы
Марк Антоний брату своему, Луцию, не знающему ничего о следующей истории.
Здравствуй, милый друг!
Все в жизни повторяется два раза, как тебе кажется? Два раза отступал я, проиграв войну, два раза пытался выжить и два раза голодал вместе со своими солдатами, разделяя их участь.
Вроде бы все похоже, и что-то в моей Парфии есть от моей Мутины, однако, если Мутину я считаю своей внутренней, душевной победой, то Парфии я проиграл и внутри и снаружи. Вот что отсутствовало — это чувство свободы, полета, которое дают смирение и отсутствие всякой надежды.
В моем парфянском проигрыше не было ничего прекрасного, возвышенного, он был истощающим и позорным, продиктованным наполовину моей излишней самоуверенностью, а наполовину — предательством армянского царя.
В любом случае, теперь, когда я вспоминаю об этом периоде моей жизни, я думаю, что мне открылось тогда нечто важное — о смерти и смертности и о вине, нечто, что раньше я не вполне понимал. Однако знание это было горьким.
Ну, Парфия, да. Кто не мечтает о победоносной войне в стране нашего извечного врага. С момента падения Карфагена, римляне грезят о новой эпохальной победе, которая ознаменует начало еще одной эры процветания. Мысли о благоденствии в Риме неизменно связываются с победой над заклятым врагом и присвоении его богатств.
Разве и я не думал точно так же? Конечно, вела меня мечта вернуть орлов Красса, красивая мечта, присущая каждому военачальнику со времен битвы при Каррах. Жизни римских солдат навсегда погребены в чужой земле, и здесь не поделаешь уже ничего, однако наши золотые орлы, символы нашего могущества, еще могут вернуться домой, вместе с памятью о тех, кто пал, и с невидимой цепочкой духов, связанных с этими орлами.
Кстати говоря, Луций, брат мой, скажу тебе по секрету: есть один аспект, который позволяет мне гордиться Парфией — я оказался лучше Красса. Это не очень сложно: чтобы оказаться лучше Красса достаточно было избежать полного уничтожения армии и остаться целым самому. С этим я справился. Немножко лучше, чем Красс прежде, а те, кто придут после меня, может быть, добьются хотя бы спорной победы.
Кроме того, вела меня не только мемориальная необходимость, не только политическая необходимость, но и желание отдать должное военному гению Цезаря. С этим делом я не особенно справился. Ну, что уж тут, придется признать свои ошибки. Хорошего в моем сияющем плане было только то, что когда-то хотел сделать Цезарь.
Я знал, он мечтает о парфянской войне, знал, что он хочет закрепить свою военную славу победой над нашим заклятым врагом и, главное, знал, как он хочет это сделать.
Цезарь всегда говорил, что самой большой ошибкой Красса было вторжение в Парфию через Месопотамию, сам он предполагал действовать через Армению.
— Это же очень просто, — говорил Цезарь. — Чем неспокойнее рельеф местности, тем сложнее будет знаменитой парфянской кавалерии. Чем лучше естественные укрытия, тем легче спастись от великолепных парфянских лучников.
Планируя эту войну, я вспомнил все, что Цезарь говорил о Парфии. Конечно, война Цезаря так и не стала реальностью, и все беседы о ней проходили в приватной обстановке. Сложно было назвать разрозненные мысли Цезаря, используемые, скорее, в качестве темы для разговора за едой и питьем, полноценным планом. Но Цезарь кое-что в мире понимал, и стоило довериться его словам.
Также Цезарь говорил:
— Важнейшая точка всей кампании — ее начало. Что происходит у нас, когда мы начинаем войну? Что происходит у них, когда мы начинаем войну? Только глупец нападет на сильное и единое государство, на страну, которую не раздирают противоречия. Чтобы быть в безопасности, нужно сохранять единство. Чтобы победить, нужно использовать разногласия. Если мы хотим избавиться от столь сильного врага, как Парфия, нужно дождаться момента его естественной слабости. Рано или поздно он наступит, потому что такова судьба всего на свете: возноситься и падать, подобно волнам в море.
Да, Цезарь умел смотреть на политику максимально широко, как на частное проявление природы всех вещей.
В любом случае, я долгое время откладывал парфянскую кампанию, хотя и имел все шансы ее начать. Мне нужен был тот подходящий момент, о котором говорил Цезарь. И он, неизбежно, как обрушение любой великой волны, настал.
Парфянский царевич задушил своего папеньку и таким интересным способом пришел к власти, после этого он принялся убирать неугодных и, что самое главное, несогласных. Парфянские аристократы, естественно, остались этим недовольны. Многие бежали аж до самого меня, можешь себе представить? Впрочем, если наш Лабиен мог утечь в Парфию, почему бы их, несогласной с курсом парфянского корабля, знати не присоединиться к нам? Все справедливо в этом мире.
В любом случае, вот такое вот состояние пафрянского государства, неспокойное, больное, показалось мне тем самым идеальным моментом, о котором говорил Цезарь.
А формальный повод для объявления войны был у меня вот такой: я требовал вернуть наших орлов. Парфяне, конечно, знали, как мы дорожим золотыми птичками, в нормальных условиях никому из них и в голову не пришло бы пойти на уступки в этом плане, тем более, что, помимо орлов, я настоятельно рекомендовал выдать и другие трофеи. Однако же, положение оказалось такое, что парфянский посол всячески уверял меня в том, что все мои требования будут исполнены. Но это, конечно, все дипломатическая уловка с обеих сторон. Ни один из нас не рассчитывал на мир, что я, что парфянский царь — мы оба намеревались начать войну на своих условиях.
Я к тому времени сосредоточил небольшие силы вроде бы как раз-таки для прохода через Месопотамию и, когда парфянская армия принялась подтягиваться туда, сам двинулся через Армению, как и было оговорено у нас с армянским царем.
О, поначалу я мечтал о том, что Парфия станет для меня тем же, чем Карфаген стал для Сципиона Африканского. Этого не случилось и близко. А самое обидное, что в Парфии не было полководца, равного Ганнибалу или хотя бы его брату, Гаструбалу, хоть кого-нибудь, кому не стыдно было бы проиграть.
В общем, с армянским царем Артаваздом я подружился максимально, договорился не только о том, что пройду туда и обратно через его царство, но и о посильной помощи в виде кавалерии. Я бы даже сказал: армянская кавалерия, ориентировавшаяся на местности, имевшая опыт борьбы с парфянами и довольно обширная была для меня предельно важной, если не решающей.
А вот здесь — первая ошибка. Что говорил Цезарь?
— Как бы ни был велик соблазн, никогда не следует полагаться на союзников, потому как отвечать можно лишь за себя самого, а за другого — никогда.
Я же, доверчивое существо, подумал, что царь Армении в действительности пойдет до конца так же, как пошли бы римские воины: за свою страну, за свою славу, за своего военачальника.
Теперь понимаю: какая глупость, с чего бы Артавазду участвовать в том, что, по его мнению, покатилось под откос?
В любом случае, эта хитрость, обман парфянского царя, и сгубила меня. Может быть, я приобрел удобный рельеф и ценных союзников, однако потерял во времени. А кто говорил, что время — главное достояние? Кто бы ни говорил, пусть садится, ибо он молодец, а слова его — правда.
Не буду рассказывать тебе, милый друг, почему и как я проиграл. Это все скучно мне, я готов признать свои ошибки, но не обсасывать их до бесконечности. В любом случае, часть вины я возлагаю на Артавазда, который увел свою кавалерию в особенно тяжелый для меня момент, а часть — на собственную самоуверенность и непоколебимое убеждение в том, что я сильнее всех вокруг.
Я расскажу тебе о другом. О травках.
Казалось бы, это история, значительное событие в жизни мира, какие уж тут травки? Но они кажутся мне чрезвычайно важными.
Впрочем, знакомству с ними предшествовал долгое и мучительное отступление, парфяне преследовали нас на всем пути до самой Армении и набрасывались на нас при любой возможности.
В конце концов, я худо-бедно научился отражать их атаки, однако бывали моменты, когда все предприятие казалось мне совершенно безнадежным, и сердце не могло больше верить в чудо.
Тогда я думал, что стану вторым Крассом. В принципе, как я и мечтал. Помнишь ту мою шуточку: в триумвирате хочу быть Крассом, потому что у него баблишко. Тупая шуточка, но теперь она казалась мне пророческой. Я обречен на ту же судьбу, а Октавиан станет новым Цезарем, как он и хотел.
Так что, мое поражение — победа над судьбой. Моя армия была практически окружена парфянами, как когда-то армия Красса, однако я сумел выбраться и сумел отступить, не потеряв, по крайней мере, всего.
Я сумел, я смог, я выжил, и многие выжили благодаря мне. Но это путешествие не забудется им никогда, впрочем, как и великолепному Марку Антонию. А потом нас ждала Армения, где я вынужден был улыбаться предателю Артавазду. Но это было уже неважно — я готов был улыбнуться и самому Плутону.
Но, да, наше путешествие.
Как-то раз один парень, Флавий Галл, смелый человек и горячая голова, упросил меня дать ему людей, чтобы не только отбить очередное нападение парфян (это уже получалось у меня довольно успешно), но и задать им хорошую трепку. Я, одержимый желанием хоть в чем-то этим наглым ребятам отомстить, согласился, когда надо было проявить осторожность.
Авантюра Флавия Галла закончилась его полным разгромом и смертью от ранений.
Сколько было убитых, не счесть! Сколько тяжело раненных!
Я сам хоронил наших мертвых, руки у меня болели не от плодотворной работы мечом, а от такой вот скорбной деятельности, от создания могил.
Да, могил. Нам было не до погребальных костров.
Но больше рук, куда больше рук — болело сердце. Хочу рассказать тебе один секрет: мы всю жизнь стремимся быть сильными, но люди любят нас слабыми.
Те, кто был со мной в Парфии, в большинстве своем не предали меня до самого конца, напротив, они пойдут со мной и на смерть. Мы уже были вместе на той стороне, по крайней мере, за шаг от границы.
Мы думаем, люди любят нас сильными, но слабость подкупает их не меньше. Может, не всякая, ведь, в конце концов, иначе я сидел бы сейчас, окруженный многими друзьями, как прежде. Не всякая, конечно, но какая-то — подкупает. По природе своей люди существа эмоциональные, за некоторыми исключениями. И они способны сочувствовать друг другу.
Я, во всяком случае, горевал по убитым и раненным, по моим смелым ребятам, по моим бедным ребятам, по ребятам, отдавшим свои жизни в этой безнадежной войне.
Нет страха в том, чтобы отдать себя в залог победы — с ней приходит вечная слава. Страшно умирать, зная, что имя твое будет опозорено, а затем забыто.
Как я жалел их, моих бедных ребят. Стоило нам остановиться на отдых, как я немедленно обходил всех раненных, я знал их имена, знал надежды и чаяния, я плакал вместе с ними, держал их за руки, говорил с ними, кормил их, даже хоронил их.
Это мудрость — знать в жизни скорбь и радость. И мудрость понимать, что одно сменяется другим.
Но самое большое знание в мире, мне так кажется, состоит в том, что в каждой скорби есть зерно радости, как и в любой радости содержится зародыш скорби.
Во всяком случае, никогда я не печалился еще так сильно, никогда столько не плакал, но прежде меня и не любили так. Солдаты говорили мне, что верят мне, что не боятся, пока я здесь, просили меня заботиться прежде всего о себе, не горевать о них так, а думать о том, как сохранить жизнь их императора, Марка Антония.
Никогда я не думал, что поражение может быть в сердцевине своей сладким. Почему-то они не винили меня ни в чем, а только радовались моему приходу и моей заботе, следили, как бы я не погубил себя скорбью о них и переживали за меня больше, чем за себя.
Сияющие глаза, слабые руки, бедные мальчишки.
Я очень хотел их защитить, правда-правда. Да, скорбь воспитывает душу больше, чем радость. Я ни о чем не думал: ни о вине, ни о еде, ни даже о моей детке, разлуку с которой после встречи в Сирии прежде переживал так тяжело.
Думал я о том, как сохранить больше людей и привести их домой, а больше мои мысли особенно ничего и не занимало. Потом прикидываешь: как же тяжело было. А в той ситуации просто нет мыслей о том, что бывает и не тяжело, и легко даже, что вообще бывает еще как-то.
Голова работает строго определенным образом, лишаешься, так сказать, периферического зрения.
Иногда я думаю: а смог бы я так, как они? Смог бы я продемонстрировать ту же верность, доблесть и дисциплинированность, какую продемонстрировали мои солдаты?
Пожалуй, мои ребята — лучше меня. И это, наверное, правильно.
В любом случае, по мере продвижения все острее становилась проблема голода. Мы стремительно теряли наши запасы, а пополнять их не позволяли постоянные атаки парфян. И если в относительно спокойное и одинокое время после Мутины можно было действовать так, как действовали, должно быть, наши предки — охотиться, что-нибудь собирать, то в Парфии мы оказались в тисках, невозможно было ни рассредоточиться, чтобы поискать пропитание, ни расслабиться и провести толковую ревизию остатков наших запасов, дабы составить толковый график их употребления. Почти непрерывное движение тоже мало способствует облегчению страданий от голода.
В какой-то момент, эти голодные страдания стали настолько нестерпимы, что многие солдаты от отчаяния принялись поедать все, что встречалось им на пути. Среди этого всего встречалась также и некая травка, которую мы прозвали кошмарной.
В малых количествах вызывала она галлюцинации и желчную рвоту, в чуть больших — смерть, а прежде нее — нестерпимое моторное возбуждение, отсюда второе ее название, каменная трава, потому как многие, употребившие ее, принимались возиться с камнями, выкапывать их, ворочать, таскать. Полагаю, чтобы снизить нервное возбуждение, которое накатывало на них перед смертью.
Ты скажешь: элементарно, просто не ешьте эту проклятую траву, все ведь так просто. Нет, ты, знавший голод в Перузии, так не скажешь. Но скажут другие: не ешьте проклятую траву и все. И никаких проблем.
Однако, произнести такое гораздо легче, чем выполнить. Голод меняет человека, даже зная о неизбежной расплате, он мечтает о временном облегчении, о том, чтобы запихнуть что-нибудь в рот и пожевать, для него нет ничего важнее ощущения, приносимого едой, любой едой. Ощущения того, что ты проживешь еще немного, что ты не умираешь.
И он не понимает, человек, что поедает яд, он не понимает, сколько ты ему ни объясняй, потому что хочет жить, потому великие древние голоса, поющие в его разуме, твердят ему: ты должен есть, должен есть, должен есть.
О, с тех пор, как голод заставил солдат опуститься до поедания растущих на нашем пути трав, во что превратилась моя армия — это не описать. Отовсюду слышались крики и стоны, вокруг царил хаос. Люди брели, словно в тумане, или занимались все тем же глупым и суетливым переворачиванием всех встречных камней.
Слава Геркулесу, что трезвые товарищи сдерживали опьяненных солдат и не давали им разбежаться, отбирали у них оружие. И все же, с неизменной частотой, возникали потасовки, смертоубийственные драки, которые еще больше замедляли нас и расшатывали дисциплину.
Крики, желчь, люди, падавшие замертво, уставшие, обезумевшие солдаты, один истощеннее другого. Такова была реальность.
Нет, разумеется, не все поддавались соблазну, далеко не все, иначе моя армия превратилась бы в процессию безумцев окончательно. Но я не мог винить тех, кто, несмотря на все запреты, изнемогая от голода, тянулся к кошмарной траве.
Я думал о Дионисе, да, о том, что когда-то была в моей жизни процессия, которую я возглавлял, как Дионис Податель Радости, процессия экстатическая и восторженная. А вот моя новая скорбная процессия, как нельзя подходящая богу, которого я из себя клепал.
Вот я — Дионис Неистовый, а вот мои безумцы, следующие за мной и голосящие, раздирающие себе шеи и руки, переворачивающие камни, молящие богов и взывающие к тем, кого давно уже нет.
Разве не получаем мы все то, что столь желанно нами? А потом вдруг виним за это безжалостных богов, хотя они лишь исполнили, что мы загадали в сердце своем.
Я и сам однажды пал жертвой кошмарных трав.
Я жил не лучше и не сытнее солдат, и, как ты знаешь, сдержанность и способность противостоять соблазнам жизни — не одна из моих главных добродетелей.
Мы остановились для отдыха, так получилось, что, прогуливаясь от одной солдатской палатки до другой, я наткнулся на чахлый кустик, умудрившийся вырасти на этой бесплодной земле. Я прекрасно знал, какова кошмарная трава на вид, прекрасно знал, чем заканчивается ее употребление, прекрасно знал, что не могу позволить себе сжевать ни травинки.
Но еды не было никакой, и вина не было, и я чувствовал, как клацают от голода мои зубы, но не слышал этого, в голове было столь легко и столь пусто, а мысли о еде растянулись во все сердце, как длинные надписи на бронзовых табличках.
Да что себя оправдывать? Я был голоден и подумал: съем лишь одну травинку. Если не съем ее, я умру.
И как-то отвалилась вторая часть: но если съем, то умру тоже.
Осталось лишь повеление тела, которому я не в силах был противостоять.
Честно, я съел лишь одну травинку, не больше. Да и не съел, так-то. Как только я прожевал ее, голова включилась, свеженько так заработала, и я ее не проглотил, выплюнул. Обманул, так сказать, организм, что-то пожевал, но ничего не съел.
Ах, подумал я, как хитер ты, великолепный Марк Антоний. И пошел заниматься своими делами.
Одно время я действительно думал, что избежал худшего, во всяком случае, я долго не чувствовал себя плохо. Первые последствия сделанной мной глупости проявились ночью. Едва только уснув, я услышал голос. Говорила мне моя детка:
— Антоний! — звала она. — Антоний, где же ты? Антоний, я совсем одна!
Спросонья я открыл глаза и увидел ее рядом. Она говорила:
— Милый мой Антоний, ты здесь умрешь, а я останусь одна.
Я попытался обнять ее, но, засмеявшись, моя детка исчезла.
Мы с ней расстались в Сирии. Долгое время я пытался забыть о ней, но незадолго до парфянской экспедиции все-таки не выдержал, велел доставить ее ко мне, и она послушно приехала. Мы провели вместе чудесное и болезненное время. Я ощущал, что предаю Октавию, но не мог иначе, меня тянуло к ней, будто кобеля к течной суке. Она целовала меня, как никто не целовал, и ничего-то нельзя было с этим поделать.
Как я любил ее в Сирии, как обожал, как дарил ей земли, бросал их к ногам блистательной царицы Египта.
Мою детку привезли мне, и я принял ее будто величайший дар. С собой привезла она фотографии моих близнецов. Симпатичные, здоровые дети, знак ее любви ко мне. Мне не терпелось увидеть их вживую.
— Ты никогда не увидишь Гелиоса и Селену, — сказала мне моя детка, хотя ее не было в моей палатке и быть там не могло.
— Клеопатра? — прошептал я. — Клеопатра?
Все было словно в тумане. Я ощущал, как вздымается в теле жар, перед глазами стелился туман. Такое состояние бывает при болезни, однако я не чувствовал никакой боли, даже наоборот, что в голове, что в животе было легко и приятно, а где-то в солнечном сплетении развязался какой-то узел, и я ощущал нежное, едва заметное покалывание, будто изнутри органы мне растерли маслами.
Физически я чувствовал себя прекрасно, зато ощутил невероятную тревогу.
— Клеопатра! — позвал я снова. — Клеопатра!
Кажется, мне что-то говорил Эрот, да только я не слышал его, не только его, а и всех других. Слух мой предельно обострился, но улавливал лишь то, что происходит внутри, и потерял способность воспринимать звуки снаружи.
Зато внутренние мои голоса воспрянули.
Мне повезло, сумасшествие, вызванное кошмарной травой, проявилось у меня не буйно, я погрузился в тот странный внутренний мир, где мы храним своих живых и мертвых. Особенно мертвых. Вместо голоса моей детки, услышал я голос Цезаря:
— Мы не должны чувствовать вину перед победителями. Победители побеждают, но мы обречены не поэтому.
— Что за бессмыслица? — спросил я. — Цезарь, что ты говоришь? Объясни мне! Я хочу понять!
Вдруг я увидел тень его, будто вернувшуюся из подземного царства, бестелесную, едва-едва заметную быструю тень, скользнувшую у выхода из палатки. На коленях я выполз под звездное небо (координация стала негодная), чтобы увидеть, куда двинулся Цезарь.
Передо мной была лишь пустая, безвидная парфянская земля, проклятая земля, на которой растут лишь яды.
Надо всей этой грязью и пылью сияла полная луна. Вдруг тень скользнула и по ней, закрыв ее. И я подумал: что если мы не там, а здесь?
Что это значило, трудно сказать. Когда мы больны, наши мысли перекорежены и извращены. Но тогда я понимал все очень точно.
Эрот выбежал за мной, попытался увести, но физически я даже в таком состоянии был куда сильнее его.
У огня я увидел тебя и Гая, вы грелись, бледные и будто бы очень холодные, во всяком случае, такое у меня было ощущение. Я отмахнулся от Эрота и, с трудом поднявшись, побрел к вам.
Вы молчали, ничего не говорили. Я окликнул вас:
— Солнце и Луна!
Вы не обернулись. Как я хотел увидеть еще раз ваши лица. Пусть в бреду, да хоть бы как-нибудь.
Но вы не обернулись, налетел ветер, и ваши образы исчезли, будто созданы были лишь из пыли, больше ни из чего. Я подумал: а вдруг не помню я теперь ваших лиц? Их ведь нет, мне не с чем сверить образы из моей памяти.
Вдруг я не знаю вас по-настоящему, вдруг не помню.
Тут кто-то (было их трое или четверо) снова втащил меня в душную палатку. Я не чувствовал ног и волочился за ними, все смотря на место у огня, где стояли вы.
Кто-то разговаривал, но я не слышал, о чем. Думаю, говорили они о том, чего не должны знать солдаты. О том, что нужно скрыть мое состояние.
Тут-то меня в первый и единственный раз стошнило желтой, вонючей желчью. Больше этого не случалось — отравляющая доза была слишком мала. К утру я даже почти обрел ясность мысли, хоть в голове и звенело, а челюсть совсем онемела, и я едва мог говорить.
Вот он, мой тайник с мертвыми, его нужно открыть, думал я. Вот где они все, вот о чем говорил когда-то Цезарь — вот мое черное сердце с моими мертвыми.
Мы не могли позволить себе ни малейшей задержки, и поутру отправились в путь. Я едва держался на коне, но мне хватало ума не показывать, что я болен.
Я смотрел на небо, синее, жаркое, безумное небо. Небо с солнцем, которое сжигает все живое.
И я думал: теперь я знаю о смерти все. О мертвых. Рядом со мной ехал Публий. Конь под ним был тощий и больной, с гноящимися глазами. А сам Публий, синий от смерти, которой его подвергли, все равно улыбался, только губы были очень темны, губы и язык.
Он сказал:
— Бедный ребенок.
Я прошептал:
— Прости, я не могу говорить с тобой, мне нужно делать вид, что все нормально.
— И зачем ты сюда полез? — спросил Публий, покачав головой. Как всегда, не ругая и не сожалея, а спрашивая, так сказать, на будущее, чтобы я подумал.
Я пожал плечами. Теперь я и сам не знал. За орлами? За тенью Цезаря, что чудилась мне везде, и никогда не показывалась? А, может, я полез сюда за смертью?
Может, я искал ее?
Публий сказал:
— Любое представление имеет свой финал. Ты должен всех развлечь.
Да, подумал я, финал близок, его нельзя избежать. Я снова взглянул на небо и надолго отвлекся. А потом Публия уже не было. Зато летала передо мной голова Цицерона. Он высунул истыканный булавками язык и смеялся.
— Уходи, — шептал я. — Уходи, кыш! Кыш!
— Антоний — знатный глупец. Он думал, что с ним не случится того, что случается со всеми другими. Он рассчитывал на некоторую особенную судьбу, — сказал Цицерон. Изо рта его вылез кровавый сгусток и шлепнулся на голову моего коня.
Дальше стало совсем уж страшно. Я услышал тихий плач. Под моей лошадью, держась за ее живот, ехала Фадия. Как это было возможно, не знаю. Она прицепилась к коню и вонзила пальцы в его бока, и плакала громко, так, что я подумал: сейчас все услышат.
Услышат и узнают, что я убил тебя, что ты, бедное существо, умерла из-за меня, умерла потому, что я был с тобой сволочью и причинял тебе боль.
Бред, конечно, правда? Фадия умерла, потому что так сложилась ее судьба, умерла потому, что была больна.
Но в тот момент я ощущал себя убийцей, старающимся избежать правосудия. А ее бледные пальцы все дальше уходили в бока моего коня и выступала кровь. Кровь, кровь, кровь, везде кровь.
Видел я и Фульвию. Она вдруг обхватила меня за спину, положила голову мне на плечо, и я почувствовал такой страшный холод.
— Марк, милый, я люблю тебя, — говорила она. — Я так тебя люблю. Я отдам за тебя жизнь.
И я все не знал, как сказать ей, что она уже мертва, и отдавать ей нечего.
Видел я и Куриона, вернее, его голову. Как и голова Цицерона, она летала передо мной.
— О, как я не жалею о том, что умер! — говорил он. — Только умерев, я понял, что все это такая морока. Жить совершенно необязательно, и это большой плюс!
А мертвый Долабелла с большой раной в груди шел за мной и говорил:
— Я трахнул жену твою, Антонию, и что теперь ты мне сделаешь, когда я мертв? Трахать ее было так сладко, и со мной она кончала всегда.
Тут я не выдержал.
— Со мной она тоже всегда кончала.
— А она притворялась, — ответил Долабелла, семеня за конем. — И царица Египта притворяется тоже.
Вот так. Такие видения посещали меня, видения о мертвых. Все, кто был в них, за единственным исключением, уже покинули сей сложный мир.
Единственное исключение — это царица Египта. Я все слышал ее голос, она звала меня по имени и просила вернуться.
Ко второму дню видения ослабли, а к третьему остался лишь этот голос, иногда выплывавший из пустоты.
Голос чудный, голос печальный.
Вот что я узнал о смерти — мой тайник с мертвыми и вправду существовал, однако его наполняли страшные вещи.
Моя мертвая изможденная мама сказала мне, что я ужасный человек.
Я должен бы разочароваться после всего этого в памяти, правда? Возмечтать обо всем забыть. Да только вместо этой красивой и пустой мечты вдруг ощутил я прилив надежды.
Смерть и страх — всего лишь морок, скрывающий любовь и ненависть. В том убедило меня самое последнее видение, а, может, и сон. Я задремал, должно быть, потому что мне приснилось море, и в этом море, бледные и холодные, купались мои мертвые, плескали друг в друга водой, смеялись. А я сидел на берегу и смотрел.
Вдруг ко мне обернулся отец, родной отец, предыдущий Марк Антоний. У него под глазами были синяки, а на животе — длинная рваная рана, которая однажды убила его.
— Иди сюда, Марк! — крикнул он. — Здесь совсем не страшно!
Я смотрел, как солнце золотит мокрые волосы Фульвии, а тут вдруг вздрогнул.
— Не страшно? — крикнул я в ответ. — Совсем?
— Может, чуть-чуть, но не слишком! Вода все смывает, и страх тоже. Тогда остается любовь.
И, наверное, прощение. Я думаю, в подземном мире, каким бы он ни был, можно встретиться с теми, перед кем мы виноваты, и попросить их простить нас.
У меня на этот счет будет очень много работы.
И, смотря на это море, на белых моих мертвых, я вдруг испытал огромную любовь, а кроме нее — совсем ничего. Мне не было больше страшно, я не ждал насмешек, и жуткие картинки перестали быть жуткими.
Я кинулся в море и проснулся на этом, уже окончательно.
А вскоре мы достигли Армении.
Вот что я узнал о смерти в тот раз. Казалось бы, такие страшные видения, но разве не столь же сладостен их финал?
Твой брат, любящий брат, живой брат, Марк Антоний.
После написанного: Есть и некоторая мораль, которая, думаю, могла бы быть мне полезной, если бы моя жизнь продолжалась. Жаль, я не усвоил ее раньше. Многие мои солдаты, попав в гостеприимную и щедрую Армению, сразу же накинулись на еду и питье. И сгубило их именно это. Голод и безмерная трата сил истощили их и не позволили переваривать еду. Болезни унесли многих из тех, кто радовался армянской земле.
О, как люблю я бросаться в крайности, и как это неполезно. Теперь — до скорого.
Послание двадцать шестое: Золоторогий бык
Марк Антоний брату своему, Луцию.
Здравствуй, брат! Видишь, сегодня даже не стал ничего выдумывать, просто не получилось. Пишу и чувствую, как угасает мой разум. Или это только кажется? Может, я просто устал.
Но, ты меня знаешь, уставал я в этой жизни очень редко. Где та неистощимая энергия, как ты думаешь? Или не стоит рассчитывать на нее в столь зрелом возрасте?
Когда я был маленьким, мне казалось, что сорокалетние — старики, когда мне было двадцать — пятидесятилетние были для меня стариками. В тридцать все изменилось, обозрев границу половины столетия, увидев ее издалека, я принялся думать, что в это время человек только в самом своем цветении.
Думаю так и теперь. Мне пятьдесят три, но я пободрее тридцатитрехлетнего щенули. Изрядно пободрее, надо сказать.
Будь я унылым, усталым, печальным старикашкой, какими я долго представлял себе пятидесятилетних, все было бы очень просто. Я никогда и не хотел заканчивать жизнь немощным стариком.
Лучше расскажу другое: вернулся Антилл. Октавиан даже не поговорил с ним. Разве это вежливо? А у сученка всегда было одно единственное постоянное достоинство — вежливость. Все остальное в нем плавуче, изменчиво, но не вот эта выверенная доброжелательность.
Впрочем, хамить он не умеет. Только предположим, что это я на его месте, давай это предположим на минутку, раз уж так оно приятно.
Его сынишку, будь только у него сынишка, я осыпал бы бранью и пнул под зад.
Но убил бы я его сынишку или нет, вот что самое интересное. Потом, после всего, казнил ли бы я его сынишку?
Мне кажется, что нет. Дети всегда вызывали у меня жалость. Пусть даже номинально Антилл уже взрослый юноша (не зря я облачил его в тогу), я прекрасно помню себя в шестнадцать. Безголовый мальчишка.
Правда, буквально моя голова оставалась у меня на плечах, но бывает и по-другому.
Думаю, я не убил бы сынишку Октавиана, нет, не убил бы. А он убьет моего? Это скорее факт, чем предположение.
В любом случае, теперь Антилл снова со мной, меня это и радует и нет. Но я могу на него любоваться, прекрасно смотреть на своих детей — так проживаешь жизнь заново. Бедный мой ребенок особенно не напоминает меня в его возрасте. Я был безмятежен, и все (почти все) у меня было хорошо.
Мой ребенок стал дерганный, нервный, он делает вид, что не боится и готовится сражаться в своем первом бою без надежды на выигрыш.
Ладно, давай-ка с тобой вернемся к истории этого великолепного Марка Антония. В общем и целом, нам остается сделать всего лишь несколько шагов назад.
Как я жил после Парфии? О, с радостью, какой стыд, какой позор? Нет, я ощутил лишь облегчение оттого, что, несмотря на большие потери, мы вернулись домой. Удивительно, правда? Я-то все думал, как буду с этим жить, но путешествие обратно в Армению и через Армению — домой расставило все по местам.
Тем более, меня здорово отвлек Секст Помпей. Октавиан разбил его на западе, и он, как блуждающий чесоточный зудень, двинулся на Восток, чтобы не давать покоя уже мне.
— Нормально! — сказал я Марку Тицию, моему хорошему другу, талантливому военачальнику и, в будущем, позорному трусу и козлу. — И чего он все никак не успокоится?
Марк Тиций, вообще человек резкий, и тогда сказал грубость:
— Да уебать уже надо выблядка помпейского.
— Ну, — сказал я. — Ты очень грубый человек, Тиций, так нельзя.
— А ты бухаешь много, — ответил Тиций. — Свои недостатки есть у всех.
Шпарил мужик, конечно, знатно. Жаль только, что потом сошелся в дружбе с очаровательным и добросердечным с виду обаяшкой Планком.
Ну да неважно, во всяком случае, пока. Я потянулся и зевнул. После Парфии я очень много спал, и ничто не волновало меня достаточно сильно. Все во мне дремало и набиралось сил. Приятное состояние, если не обращать внимания на сопутствующие трудности с работой ума.
Впрочем, когда это у меня не было трудностей с работой ума?
Я сказал:
— Ну, уничтожь его.
И вдруг понял, что Секст Помпей, которого мне было почти жаль, для меня не более, чем кусачая блоха для собаки. Хотелось избавить от него свою шкуру, а больше и ничего. И тогда я понял, да, власть моя здесь, на Востоке, столь абсолютна, что я уже какой-то мудак.
От этого мне почему-то стало грустно. Казалось бы, еще недавно нас с Секстом Помпеем связывало многое: эпоха, в которую нам пришлось жить, история Помпея и Цезаря, желание отомстить за одного и за другого, и вот теперь я вдруг почувствовал, что он мне надоел, и я хочу избавиться от него просто и без шума, от него и от его нелепых попыток поднять восстание.
Как же ж так, а? Когда мне стало скучно со старым врагом, имя которого все время было на слуху? Впрочем, как частенько любил говорить Октавиан, его история должна была закончиться. С другой стороны, разве не все истории должны когда-нибудь закончиться? И все-таки мне Секста Помпея немного жаль. Он и не заметил, должно быть, как оказался в полностью враждебном мире, где все враги, и никто его больше не любит. В этой части у нас немало общего.
В любом случае, Тиций сделал все в лучшем виде, он разбил Секста Помпея и взял его в плен. И почему он, дурень, не захотел свести счеты с жизнью самолично? Я бы сделал именно так. В чем радость дожидаться неизбежного финала, можно покинуть представление в любой удобный момент, можно покинуть его тогда, когда ты еще на вершине, когда тебе еще хлопают, а не свистят.
Я даже разозлился, узнав, что Секст Помпей в плену. Как он мог позволить так с собой поступить? О, Секст Помпей, ты был таким крутым в твоих солнечных очках, и куда все это делось?
Я написал Тицию.
"Убей его немедленно, убей его так, чтобы он пожалел о том, что не сделал это собственной рукой. Глупый, глупый Секст Помпей, как мог он сдаться у Мидейона, как мог так опозорить имя своего великого отца? Как мне печально, сердце разрывается от боли, но придется заканчивать эту историю именно так.
Вероятно, ты уже привык к вольному стилю моих приказов, однако же, повторю еще раз: убей его, убей его, убей его.
Как же досадно.
Твой друг, Марк Антоний.
После написанного: однако, кое-что у тебя попрошу. Доставь мне его солнечные очки, они очень здоровские."
Вот так печально, вот так грустно, вот так уныло все и закончилось. Тиций приказал зарезать Секста Помпея, и все было сделано. Получив эти крутые очки, я обнаружил, что они мне не слишком идут.
В любом случае, эта война была легкой и быстрой, скорее так: единственная искра упала на землю, но костра из нее не вышло, и выйти не могло.
Что еще случилось после Парфии? Еще моя детка родила мне последнего моего сына — Птолемея Филадельфа. Он умный мальчишка, весь в нее, умный и весьма рассудительный, с такой холодностью, присущей тоже его матери. Филадельф совсем малыш, и за него мне не приходится волноваться.
Впрочем, грустно здесь то, что малыш Филадельф — мой последний сын. Все окончательное заставляет меня печалиться. Значит другого у меня не будет никогда-никогда. А я надеялся, что мы с моей деткой сделаем еще кого-нибудь столь же милого и симпатичного.
Да, Филадельф и Цезарион были, пожалуй, любимцами матери. Первый и последний. Она сама вставала к нему по ночам. Помню, в комнате у нас в те времена всегда шипела радио-няня, такая маленькая пластиковая коробочка с динамиком, которую я хотел бросить о стену.
Зато вторая часть этой мудреной штуки у Филадельфа в комнате была с маленьким прожектором, который проецировал на потолок мягко, медленно крутящееся звездное небо. Как же моя детка любила звезды. Почему любила? Любит и сейчас.
Я хотел, чтобы такая штука была и в нашей шипучке, однако взрослым красота не положена по статусу.
Помню, я засыпал под песни рабынь, присматривавших за ребенком, и просыпался от его плача. Моя детка, несмотря на то, что у малыша Филадельфа было полно заботливых нянь, тут же неслась к нему. Такая чувствительность и нервозность вызвана была тяжелой беременностью, малыш чуть не погиб, рождаясь, так что, сердце моей детки всегда за него болело, она переживала, что он может умереть в любой момент, и это уже стало у нее родом безумия.
Что касается меня, то сердце мое ужасно прикипело к малышке Селене, сейчас расскажу, почему.
Когда мы встретились, ей было что-то около четырех лет. Она не поверила, что я ее отец, и сказала, что с ее мамой сочетался бог солнца, и от этого, а ни от чего другого, она родилась.
Моя детка сказала:
— Ты не совсем верно меня поняла.
Селена сказала:
— Нет, я тебя поняла.
— Она — упрямая девчонка. Вся в тебя.
Я сел перед ней на корточки и сказал:
— Ну, если не хочешь, чтобы я был твоим отцом, разве не можем мы быть хотя бы друзьями?
Селена прищурилась. Глаза у нее были так похожи на мои, тут-то я и заметил черную точку на радужке.
— Это как? — спросил Селена.
Я поцокал языком.
— Дай-ка мне подумать, маленькая царевна. Например, у тебя возникнут какие-то проблемы, и я, твой друг, помогу тебе их решить. Или ты захочешь рассказать мне что-нибудь интересное, поделиться со мной какими-нибудь впечатлениями за день. Друзья могут и это.
Селена задумалась. Потом она сказала:
— Обычно я делюсь своими мыслями с мамой и братом. Или с рабами.
— Ну, мама и брат — это семья. А рабы — это рабы, они не заменят друзей.
Эрот кашлянул.
— Что? — обернулся я к нему. — Ты не раб, ты вольноотпущенник, который воображает себя рабом из комедии Аристофана.
Снова склонившись к Селене, я сказал:
— Дружить здорово, ты только попробуй, и тебе понравится.
— Я подумаю, — ответила Селена и унеслась. Гелиос же спокойно стоял рядом.
— А ты, молодой человек, веришь, что я твой отец?
— Да, — ответил он. — Мама мне о тебе рассказывала. Таким я тебя и представлял.
— Так как насчет того, чтобы твой римский папа научил тебя играть в мяч или типа того? Кстати, твоя сестра всегда такая грубая?
Гелиос жестом показал, мол, более или менее.
Пару дней от Селены ничего не было слышно, а потом она вдруг прибежала ко мне в слезах.
— Друг! — крикнула она. — Я везде тебя искала!
— Здравствуй, подруга! — засмеялся я. — Рад тебя видеть. Что такое?
Селена остановилась передо мной, качаясь, как и я в детстве, она была не в силах удержаться на месте.
— У меня случилось горе! — сказала она и показала мне зажатый кулачок.
— Ну-ка, что у тебя там?
Она показала мне мертвую ящерку на раскрытой ладони. Совсем маленькую, очень-очень хрупкую, песочно-золотую, с черными глазками, закрытыми полупрозрачными веками, и открытым ртом.
Селена сказала:
— Она мне так понравилась, я так полюбила ее, это была такая хорошая ящерка. Я только хотела ее покрепче обнять! А она хрустнула и больше не шевелилась! Я хотела показать ей, что я ее люблю! Только показать!
И Селена разрыдалась еще горше. Я прижал ее к себе и сказал:
— Бедная моя девочка, бедный ребенок, ты ни в чем не виновата, ты же хотела, как лучше!
— Но ящерка не шевелится больше! Она не любит меня!
Насколько Селена напомнила мне в тот момент меня самого, не только в детстве, но и сейчас. Мы были схожи во всем. Я любил точно так же, как она, и было в моей жизни довольно мертвых ящерок с красивыми черными глазами под навсегда закрытыми прозрачными веками.
— Она уснула, — сказал я. — Ты обняла ее слишком крепко, и она уснула.
— Когда же она проснется?
Я ответил:
— Если так крепко обнимать ящерку, то она не проснется никогда, Селена, тебе нужно это знать.
И слез, конечно, стало еще больше. Я сказал:
— Ну-ну, малышка, все будет в порядке, главное здесь больше так не делать. Не обнимай живых существ так, чтобы они хрустели. Живые существа этого не оценят.
— А что делать с моей ящеркой?
— Ну, она не твоя, а ее собственная, — сказал я, однако вышло неубедительно. Попробуй убеди ребенка в том, чему сам не можешь научиться уже много лет.
— Она умерла, — добавил я осторожно.
— Значит, это и есть смерть? — спросила Селена. — Я не думала, что так выглядят мертвые.
Я сказал:
— Ее нужно похоронить, как и полагается. Как насчет того, чтобы вместе смастерить для ящерки гробницу?
Селена принялась утирать кулачками слезы, так и не выпустив ящерку, и невольно тряся ей перед собой.
— А если боги не примут ее, как умершую недостойно?
— Ее убила дочь бога солнца, — сказал я. — Как это так, она умерла недостойно? По-моему, самая достойная из смертей. Я и сам бы не против умереть именно такой.
Селена задумчиво посмотрела на меня.
— Я не смогу обнять тебя так сильно, ты слишком большой.
— Придется довольствоваться какой-нибудь другой смертью.
Селена взяла меня за руку и, горя желанием помочь мне, сказала:
— Я могу взять нож и воткнуть его тебе в глаз. Один раб убил так своего хозяина в прошлом месяце, и все об этом говорили.
— Ну спасибо, — сказал я.
— Но мне будет жаль расстаться. Ты же мой друг.
— Тогда давай годков этак через двадцать.
— Тогда я буду уже царицей. И смерть твоя станет куда более достойной.
Тут я понял, что она шутит. А я думал, Селена серьезно настроена. Умеет вот так дразниться в столь юном возрасте. Она засмеялась, и я засмеялся тоже.
— Я не хочу тебя убивать, — сказала она. — Но смастери мне гробницу для бедняжки.
О, моя маленькая убийца. Ты думаешь: чем-то она напоминает Гая. Но это не так, напоминает она лишь меня самого, у нее моя жестокость — случайная, смешливая.
Так мы с Селеной смастерили для ящерки из кедра отличную гробницу и украсили ее золотыми украшениями моей детки.
— Очень здорово, — сказал я.
— Теперь ящерке нужно погребальное платье, — ответила мне Селена. Она взяла эту гробницу, похожую на шкатулку, вдохнула ее запах.
— Как сладко пахнет, — сказала Селена. — Как призрак вкусности.
— Призрак вкусности, — засмеялся я. — Это сказано прямо хорошо.
Еду Селена тоже любила так же, как я. Вот забавно-то, мы не виделись всю ее жизнь, а сколь много она имела моих привычек.
Вот что произошло после Парфии. Селена помогла мне забыть обо всяких ужасах, чудесный, смешной и опасный ребенок.
Что еще случилось после Парфии? Все случилось после Парфии, если уж так смотреть на время. А вообще, ну, Армения. Эту победу мне частенько ставили в вину, хотя я считаю ее прекрасным торжеством разума над идиотами. А, учитывая, что разум тут мой, идиоты заслуживают еще меньше уважения.
Думаешь, я забыл, как оставил меня без кавалерии, без надежды на спасение и без своего прекрасного общества армянский царь Артавазд? Нет, ничего этого я не забыл.
План мести созрел у меня еще пока мы двигались по Армении, разбитые, усталые, страдающие от болезней, безумия и ран, и мне приходилось делать вид, будто никто никого не предал. Нет уж, такого я не мог позволить. Месть моя не была немедленной, я вынашивал ее весьма долго, и закончилась она разграблением прекрасного города.
Короче говоря, сначала я намекнул, что собираюсь начать еще одну войну против Парфии, ненавистной и мне Артавазду одинаково. Артавазд идею поддержал, как ни в чем не бывало, и, будучи моим естественным союзником, разумеется, разрешил мне пройти через его территорию снова. Однако, к его чести, на этот раз многого он на себя не брал и не дал мне ни единого солдата. Что, в конечном итоге, хорошо, ибо зачем храбрым воинам погибать бесславно? Отказался он и от моего щедрого предложения женить моего Гелиоса на его бледной дочурке. Видимо, не желал отягощать свою семью моей наследственностью. Я уже начал было думать, что Артавазд что-то подозревает или, хуже того, ему донесли о планируемом мною вероломном действе. Именно поэтому я с недоверием отнесся к гонцу, который, в конце концов, передал мне согласие Артавазда на нашу встречу.
— Правда, что ли? — спросил я.
— Правда, — ответил он растерянно и повторил все уже сказанное слово в слово, пока я перечитывал письмо Артавазда.
Лагерь наш был разбит недалеко от Арташата, столицы этого чудного царства, весьма богатого и яркого города, ворваться в который мне не терпелось, как в новую женщину.
Когда Артавазд пришел ко мне в сопровождении своей свиты, я сказал:
— Присаживайся, дружок. Сейчас велю подать яства, достойные нашей с тобой компании.
Артавазд держался надменно, но не агрессивно. Он сказал:
— Что ж, Антоний, рад тебя видеть.
А я почувствовал, что не рад.
— И каковы же на этот раз твои намерения в отношении Парфии?
— А, — я махнул рукой. — Сжечь ее дотла и посыпать солью. Сам знаешь, как у нас принято в таких случаях поступать.
— Хороший план, — сказал Артавазд, улыбнувшись. В молодости он был, должно быть, невероятным красавцем — ярко очерченные брови, миндалевидные глаза, светлая кожа и длинный, мужественный нос. Время, однако, уже наделило его морщинами, начало стачивать прекрасные черты. Я подумал о старости, в том числе и о своей.
Тут подали золотые тарелки, на них были кошмарные травы, которые я приказал доставить мне в невероятном количестве. Поначалу я думал заставить Артавазда и его людей отобедать этим изощренным ядом. Однако, в конце концов, решил, что для начала проведу этих знатных пленников в триумфе.
Артавазд не нашелся, что сказать, он встал, но его окружили, перебили охрану. Я сказал:
— Сядь.
Крики, кровь. Мне она брызнула прямо в лицо и, позволив рабу утереть ее, я сказал, стараясь голосом перебороть звуки драки:
— Вот что ели мы в Парфии.
Артавазд, осознавая крайнюю невыгодность своего положения, сидел тихонько и не отсвечивал.
— Ты, дружок, думаешь, я убью тебя сейчас? Я об этом размышлял, и смерть твоя была бы крайне мучительной: видения, желчная рвота и смерть в конвульсиях. Это весьма неприятно. Но сейчас я думаю о другом. Провезу тебя, пожалуй, среди всех других достоинств и богатств твоего города.
Арташат, а за ним и все царство, были взяты практически бескровно. Сколько добра мои солдаты вынесли оттуда. Я и сам, словно мальчишка, впервые дорвавшийся до победы, грабил дома богатеев, храмы и лавки. И не было, скажу тебе честно, ничего вкуснее тех награбленных богатств. Помню, как разрушив какую-то лавку, объедался после этого копченой рыбой, которую, честно говоря, даже не люблю. Объедался рыбой, выедая мясо и оставляя кожу, наблюдая за тем, как солдаты выносят из домов ценности и женщин.
Выедая мясо, оставляя кожу. В этом ведь и суть войны, от города остаются кожа и кости, а наполняющие их вкусности уходят.
Согрешил и я там с несколькими девками, о чем, едва взглянув на меня, узнала царица Египта. Впрочем, она не была зла, ревность ее всегда точна и расчетлива.
Свое возвращение из разграбленной Армении я ознаменовал изумительным триумфом в Александрии. Октавиан позже ставил мне в укор то, что триумф я проводил не в Риме, а значит он ненастоящий. Ну, что поделать, победа ведь тоже ненастоящая. Во всяком случае, военное искусство предполагает тонкую грань между хитростью и предательством.
Но я этой победой, сколько низкой бы она ни была, горжусь, как прекрасным примером изощренной и умелой мести. И те, кто были со мной, мои солдаты, прошедшие Парфию, эту победу ценили тоже. Все мы чувствовали себя одинаково обманутыми, в конце концов.
О, сколь прекрасен был мой триумф, сколь пышен. Восточный размах и римский гонор, какое идеальное сочетание.
Генерал победоносной армии в квадриге, запряженной белыми лошадьми, уподобляется Юпитеру. Однако я оставался Дионисом. Мои любимые бычьи рога мне вызолотили, и они божественно блестели на солнце. В своей процессии провел я Артавазда и немало других знатных пленников из Армении, а сколько золота, сколько предметов роскоши, сколько всего чудесного пронесли повозки, до краев нагруженные всяким добром. Даже лучшие армянские украшения, образцы высокого ювелирного искусства, я навесил на красивейших армянских пленниц. Солдаты мои распевали, как это и полагалось, ругательные песенки обо мне.
— Антоний, Антоний! Он предал Артавазда, за то что предал тот его! Антоний, наш Антоний, лишен фантазии, и оттого монетой той же отплатил царю.
Да-да, там еще было что-то про "не вполне поняв, как это недостойно". И, скажу я тебе, эти песенки были даже менее злобными, чем те, которые распевали солдаты Цезаря на его триумфе.
— Встречайте Диониса, сына Юпитера, выпить любителя!
Ну и все в таком духе. А приветствовала меня моя детка. Она была столь прекрасна, столь гибка и красиво одета, что я не выдержал и поцеловал ее у всех на глазах, а потом подхватил и усадил в свою колесницу.
— Антоний! — крикнула она. — Что ты делаешь?
Я сказал:
— Красивую историю!
И она засмеялась.
— Глупый бычок, это неприлично.
Тогда я поцеловал мою детку снова, и народ радостно взревел.
Ох уж этот народ. Любит он, как тебе известно, всякие разные истории, а особенно — красивые.
Вот так. Отказался бы я от своего сомнительного триумфа по поводу сомнительной победы, зная, как будут меня хаять за него?
Нет, конечно. Прекрасные воспоминания и, надеюсь, не только для меня. Многие люди получили щедрые подарки и огромное удовольствие, а это, в конце концов, самое главное. Как говорил мне мертвый Публий, я должен продолжать развлекать людей.
А как ты думаешь, кстати говоря, будь я рожден незнатным или вовсе рабом, вышел бы из меня актер? Кажется мне, что да, но, может, я не улавливаю какой-то глубинной сути их искусства и безбожно себе льщу.
Но все-таки, я думаю, есть у меня некоторая склонность к хвастливой театральности.
После триумфа я чувствовал себя на вершине мира: люди вновь влюблены в меня, восторженно радуются щедрым дарам, моя детка поражена роскошью моей процессии, а души моих погибших солдат упокоены местью Артавазду-изменнику.
Кстати говоря, после триумфа я не удушил сукиного сына. Меня отговорила моя детка.
— Глупости, — сказала она. — Лишняя кровь. Посмотри, как он унижен. Вряд ли у него остались силы смотреть тебе в глаза.
И правда. Есть люди, которые очень быстро чахнут от позора. Я решил позволить природе Артавазда довершить начатое и посадил его в тюрьму. Однако, он как-то приспособился к своему положению и жил, не очень тужил, еще три года, лишь потом, устав ждать, я приказал срубить уже эту голову.
А приспособился он, думаю, потому, что был человеком творческим — много писал в тюрьме какие-то свои поэмы или трагедии, уж не знаю, что, и в этом удовольствии, в одном единственном, я ему не отказывал.
Можно было, конечно, лишить его рук, глаз или хотя бы просто папируса, однако к людям творческим у меня есть какое-то сочувствие, сердца их находятся не в них, а в том, что они делают, и даже для такого мудака, как Артавазд, было бы слишком большим наказанием лишение способности взглянуть на реальность хоть так.
В любом случае, вот такая это история о том, какой я предатель предателей. Хорошая ли она? Ну, я бы рассказал ее детям. Но не всем. Пожалуй, Селене, Антиллу и Юлу. Может, Гелиосу. Филадельф бы меня не понял, а другим девчонкам, кроме Селены, было бы не особенно-то и интересно. Впрочем, что я знаю о других девчонках?
Если б я только понимал, какое это чудо — дочка, если б понимал это до Селены, то лучше знал бы трех моих Антоний.
Кстати говоря, о матери двух моих дочерей из четырех. С Октавией у меня не ладилось. Она писала мне такие длинные, такие нежные письма, а я, читая их в объятиях царицы Египта, едва не плакал.
Я же предупреждал тебя, думал я, я же сразу тебе говорил.
И почему ты не послушала меня? Насколько меньше проблем стало бы в твоей жизни, если бы, Октавия, ты не любила меня.
Ей единственной я готов был простить измену. Может, потому, что знал: она-то никогда не ляжет в чужую постель. Но, зная это, все равно мечтал о том, что Октавия встретит мужчину, который полюбит ее так верно и тихо, как умеет любить она. Так, как Октавия того заслуживает.
Ни в чем я не мог придраться к ней: она растила не только наших с ней девочек, но и Юла (Антилла я забрал с собой). Никаких, даже самых сомнительных, слухов о ее одинокой жизни без меня до Александрии не доходило. Никогда она не ставила мне укор мою любовь к царице Египта. Зато всегда выгораживала меня перед Октавианом. Чудо, а не женщина, правда?
И я не был ей рад. Другой человек, умнее и дальновиднее, остался бы от такой жены в вечном восторге.
А я любил своей глупой любовью ныне уже совсем другую женщину. Женщину, про которую прекрасно понимал — она приведет меня к гибели. Любил в ней свою будущую смерть.
А Октавия, моя жизнь, моя подруга, моя слуга, в конце-то концов, не могла надолго удержать мое мятущееся сердце.
Я любил в жизни очень разных женщин, да вот только дольше всех задерживались рядом со мной женщины дерзкие и наглые, а к хорошим, правильным существам я остывал быстрее, чем успевал к ним привыкнуть.
Не пойми меня неправильно, когда-то я Октавию любил. Более того, когда-то я любил ее очень сильно, любил ее больше царицы Египта. Однако, как я и обещал ей, как я знал с самого начала, это не продлилось долго.
Ну не могло продлиться, что ты ни говори.
Что она мне писала, можешь себе представить? Прекрасная, добрая, нежная и чудесная Октавия. Она писала мне:
"Здравствуй, Марк!
Ты не пишешь мне, но, думаю, ты просто очень занят. Прости, что отвлекаю тебя своими письмами. Если у тебя совсем нет времени, можешь их не читать.
Дети в полном порядке, Юл делает замечательные успехи в учебе, девочки расцветают, с каждым днем они становятся все милее и очаровательнее, уже и сейчас можно представить этих малышек в свите какой-нибудь богини.
Что касается меня, я стараюсь жить тихой и ничем не примечательной жизнью, чтобы не давать злословам повода. Я жду тебя, Марк, и хотела бы хоть раз разделить с тобой день. Быть может, ты навестишь меня в Риме, когда тебе необходимо будет отправиться туда по делам. Или, к примеру, я могла бы приехать к тебе. Впрочем, пишу это без упрека. Я понимаю, что такова суть женщины — ждать. Мужчины не умеют ждать, женщины — умеют. Я умею.
Как я хочу, чтобы все у тебя было хорошо. Как боюсь того, что может случиться, если ты не станешь достаточно осторожен. Вот единственное, чего тебе не хватает.
Девочкам я все время рассказываю, какой у них замечательный папа, а Юл знает это и сам.
С большой любовью в сердце, жена твоя, Октавия."
Вот в одном только этом чувствовалось мне недовольство и легкая зависть: девочкам я все время рассказываю, какой у них замечательный папа, а Юл знает это и сам.
Наши дочери и вправду едва меня знали, тогда как мои дети от Клеопатры жили со мной, будто полноправные наследники, хотя по римским законам они не имели никаких прав.
— Рим, — говорила моя детка. — Не весь мир, как бы ни желал ты обратного. По египетским законам наши дети — потомки древнего рода, основанного прославленным воином и мудрым царем.
— Да, — сказал я. — Это, конечно, все хорошо, но что они будут делать в римском мире?
Моя детка улыбнулась.
— А должен ли мир быть римским? И если должен, то почему?
На этот вопрос я мог ответить лишь клише, которым из поколения в поколения наслаждались наши предки.
— Потому что римляне благословлены богами и обречены властвовать над миром.
— Римляне — такой же народ, как и все остальные. У него было своего начало, он переживает свой рассвет, и его ждет свой конец.
— Конечно, легко относиться к этому философски, когда твой народ движется скорее к своему концу.
— Все народы движутся только в одну сторону, к концу, — ответила моя детка. — Что, впрочем, не отрицает новые возможности для обитателей этих земель. Египтяне тысячи лет жили здесь до прихода Александра. Птолемей возродил Египет из пепла, украсив его историю своим именем. Однажды Египет снова погибнет, не исключу, что под пятой римского сапога. Но пройдет время, и он вновь возродится, новые люди построят здесь новое царство, а вечным будет лишь имя, и больше ничего. То же самое, хочешь ты этого или нет, случится с Римом.
— Так что ты имеешь в виду? — спросил я.
— То, что ни к одному народу нельзя привязываться, все они исчезнут с лица земли, а твой срок — и того меньше. Но твои дети должны жить в мире, который их принимает. В Риме, который признает их. В Египте, который почитает их.
Я молчал. Все это не очень сочеталось с понятиями о нерушимых римских законах, о римском достоинстве и особенной судьбе, которую Риму прочат боги, начиная со времен Ромула и Рема.
Моя детка, впрочем, никогда не давала мне легких ответов на сложные вопросы.
Говорили мы и об Октавии. Как-то, после долгой и страстной любви, после любви, сводившей нас обоих с ума, мы тяжело и быстро дышали, и я сжал ее маленькую руку в своей большой руке, а она вся дрожала и терла коленку о коленку с каким-то смешным ребячливым упорством.
Я сказал вдруг:
— И почему я не могу любить Октавию?
Моя детка ответила:
— В этом нет никакой тайны. Нам недоступно любить тех, кто не причиняет нам боль.
— Нам с тобой или нам вообще?
— Нам, людям, я полагаю. Думаю, Октавия не смогла бы полюбить такого мужа, какого ты желаешь для нее. Тихого, скромного, добродетельного настолько же, насколько она сама. Октавия полюбила тебя, потому что ты для нее плох. Я полюбила тебя, потому что ты для меня плох. Теперь я понимаю это. И ты полюбил меня, потому что я для тебя плоха.
— Как несправедливо, — сказал я. А, помолчав, добавил:
— Может ли быть так, что я популярен у женщин, потому что я для всех для них плох?
— Выходит, что так, — улыбнулась моя детка.
— Давай-ка выясним, насколько ты плоха. А тебя любят мужчины?
Она ответила:
— Что бы ни говорили обо мне в Риме, мужчин в моей жизни было слишком мало. Или ты спрашиваешь, плоха ли я была для Цезаря?
Она серьезно задумалась и, наконец, сказала:
— Пожалуй, что так. Я приучила его к мысли о том, что он может воспитать в любом человеке любую нужную ему черту. А это чудовищная неправда, и вышло у него лишь со мной, потому что я так ожесточенно его любила.
А я вдруг подумал: ты не любила. Не знаю, почему я так подумал тогда. Сейчас я все понимаю, помнишь, я говорил тебе — моя детка любила в этой жизни лишь меня и свою сестру. И мы не то чтобы с ее сестрой противоположные люди. Цезарь в эту парадигму совсем не вписывался.
— Но что мне делать с Октавией? — спросил я.
— Скажи мне для начала, что ты имеешь в виду? Ты хотел бы поступить правильно или разумно?
— Разумно и правильно?
— Не всегда это бывает возможным.
Мы помолчали. Разумно или правильно? Правильно или разумно? А какие похожие будто бы слова. Всегда кажется, что разумно — и есть правильно. Как поступить?
— Ладно, допустим, я хочу поступить разумно.
— Оставь все как есть. Октавия будет любить тебя, даже если ты бросишь ее крокодилу в пасть. Оставь все как есть, и позволь ей хранить тебя от своего брата. Еще некоторое время, важное время, это будет работать.
— А правильно? — спросил я. — Как поступить правильно?
— Оставь ее. Это будет больно, но ее ожидает большое облегчение, когда она поймет, что жизнь ее не связана больше с тобой. Думаю, до конца Октавия будет боготворить тебя, мой глупенький бычок. Но, если ты оставишь ее, она имеет шанс прожить жизнь не в ожидании твоего корабля. Хорошую или плохую, но — свою собственную.
Я сказал:
— Ты думаешь, я боюсь Октавиана? Что мне нужна от него защита? Я оторву щенуле голову и подам ее на обед.
— Не сомневаюсь, — вздохнула моя детка. — И все-таки, Октавия тебе полезна. Во всяком случае для того, чтобы подготовиться к войне.
— Но я не хочу использовать ее! Я вообще ее не хочу! Ни в чем! Никогда!
— И тебе перед ней стыдно.
— И мне перед ней стыдно, — согласился я. Впрочем, когда мне помогала эта волшебная способность чувствовать вину перед всеми на свете? Она не сделала меня лучшим человеком.
— Так дай ей свободу, — ответила мне моя детка. — Дай ей свободу и забудь, что любил ее когда-то. С моральной точки зрения это так же очевидно, как…
— Как то, что все владельцы бань — греки.
— Чего?
— Ну, ты попросила что-то очевидное. Я подумал: какая вещь в мире очень проста? И вдруг понял, что все бани, в которых я бывал, содержали греки.
— Антоний, — сказала мне моя детка. — Бедный бычок. Хорошо, положим, это так же очевидно, как то, все владельцы бань — греки. Очевидно, в чем состоит твой моральный долг перед хорошей женой.
— В том, чтобы бросить ее?
— Рассуди сам, разве это не лучше, чем мучить ее своим пренебрежением? Так у тебя появится хотя бы одно достоинство — честность.
Голова моя разрывалась, как сложны и чудовищно утомительны были мне эти мысли о бедной моей Октавии. Я так пренебрегал ей, ее достоинством, добротой и открытостью.
Но решить я, однако, не мог. Моя детка не вполне понимала, что такое Октавия, и что будет значить для нее развод со мной. Римские матроны, в большинстве своем, прыгали из постели в постель безо всякого сожаления. Но Октавия — она такой не была. Будь ее первый муж жив, ни за что бы не изменила она ему и единственной мыслью, хоть и, как я понимал, не слишком любила его.
В любом случае, у меня вскоре и без Октавии образовалось полным-полно забот. Я замыслил новый поход, не сумев укусить Парфию в первый раз, я планировал поглубже вонзить в нее зубы ныне, и это занимало почти все мои мысли.
Кроме того, щенуля вдруг изменил свою риторику, он очень резко отзывался обо мне в сенате и надеялся склонить народ на свою сторону. А его сторона, как ты понимаешь, Луций, была противоположна моей.
О, какой скулеж он поднял, какие грязные распускал сплетни. Фантазия у него при этом была просто потрясающая. Сразу видно, что творилось у бедняжки Октавиана в голове. К примеру, он пустил слух, что я умащивал ноги царицы Египта маслом, а в это время мой полководец, на минуточку, танцевал весь синий в виде морского божка. Чего? Звучит весьма бессмысленно, не так ли?
Ну и все в таком духе, мол, и оргии мы с моей деткой устраиваем неслыханные, и египетским богам я поклоняюсь, и совершаю всяческие прочие вещи, за которые приличному римлянину обязательно стыдно.
С другой стороны, были и вполне официальные поводы для недовольства: мое поражение в Парфии, триумф, проведенный в Александрии, то, в конце концов, сколько я умудрялся проматывать денег.
На все у меня был ответ: Октавиан присвоил себе победу при Филиппах, нагло отбирал у людей землю и, в конце концов, Лепид, наш товарищ, по вине Октавиана находился в ссылке, совершенно лишенный возможности как-либо на происходящее повлиять. Мешало ли мне прежде то, как ловко Октавиан разобрался с попробовавшим было вякнуть что-то Лепидом? Нет, не мешало, я был даже рад. Но теперь увидел в этом вопиющую несправедливость.
А, чтобы слухи были погрязнее, приписал я Октавиану и связи со многими высокопоставленными матронами. Так ли оно или не так, я не знаю, таковы были сплетни, доходившие до меня из Рима, но какая разница, если дело касается политики, правда и ложь одинаково полезны.
В любом случае, мы с Октавианом увлеченно поливали друг друга грязью и, по-моему, нам обоим этот процесс очень нравился. И представить себе не могу, что в этот момент чувствовала Октавия, сколь больно ей было смотреть на трещину, все шире и глубже пролегавшую между ее мужем и ее братом.
Я понимал, что дело идет к войне, однако думал, что до самой-самой настоящей войны еще далеко.
Как-то раз Октавиан написал мне вполне дружелюбное письмо. Там сверху были всякие организационные скучности по поводу его консулата, суть не в них, а в захватывающей концовке.
"Марк Антоний, если мы не прекратим нашу бессмысленную вражду, мир расколется ровно напополам. Ты станешь моим врагом, Антоний, а ведь мы так стремились этого избежать."
Я аж обалдел. Ты представляешь? Щенуля сам тявкал на меня в сенате, сам выставлял меня эллинистическим деспотом перед нашим свободолюбивым народом, а теперь посмел что-то там вякнуть. Ну можешь ты себе это представить или все-таки нет?
В любом случае, я проигнорировал всю первую часть письма, а на этот удивительный финал ответил одной только строчкой.
"Ну, как это говорят, на хорошем дереве не жаль и повеситься."
С этого момента все, я думаю, уже не могло свернуть ни в какую другую сторону. Это хорошо, когда события, лежащие перед тобой ясны и понятны, хорошо, даже если сами они — плохи.
Конечно, тянуться все это паскудство могло невероятно долго. Октавиан полон терпения, а я празден и ленив. Октавия, сама того не желая, выступила искрой, от которой разгорелось пламя.
Как-то раз, когда я был весь в заботах по поводу нового парфянского похода, моя бедная женушка решила ко мне приехать, причем предупредила меня, уже отправившись в путь. Я удивился: такая своевольность была ей совсем не свойственна. Теперь я думаю: Октавиан убедил ее приехать без предупреждения. Он для всех умел находить нужные слова.
Я поспешил отправить в Афины, зная, что там она на некоторое время остановится, письмо с предписанием там ей как-то и остановиться, отдохнуть, подождать меня.
Думаю, я оказался весьма строг. Октавия мне в Сирии, где я занимался сбором войска, была совершенно не нужна, так что письмо, можно сказать, было написано в грубом тоне.
Октавия, впрочем, никак не показала ни раздражения, ни расстройства, лишь только спросила, куда деть весьма весомый груз, который она везла мне. И, как назло, эта женщина позаботилась и об обмундировании для моих солдат, и о деньгах для меня, и даже о подарках для моих подчиненных, а, кроме того, везла мне хорошо обученных воинов для моего будущего похода. Короче говоря, Октавия снова превзошла все ожидания.
Ее подарки я, конечно, же принял. Ну как я могу отказаться от денег, милый друг? Если вырыть яму и кинуть туда пару золотых, я сам в нее прыгну. Так и случилось.
Все, что привезла она, велел я ей отправить мне, саму же ее не принял. Оскорбительно, неправда ли? А ведь я легко мог уделить ей пару вечеров для порядка и отправить обратно.
Правда в том, что мне было слишком стыдно. Вот так. Стыдно смотреть ей в глаза, стыдно, что я вот такой, а она — совсем другая. С Фульвией, во многом меня стоившей, все было легче.
После того, как я отправил ее, меня принялись стыдить за то, что пренебрег такой прекрасной женщиной. Я и сам чувствовал себя ужасно и думал было уже вызвать Октавию обратно, как ко мне начали доходить донесения о том, что царица Египта без меня совсем зачахла, ничего не ест, ничего не пьет, однако дни проводит не в постели, а в рабочих трудах, чтобы забыться.
Весьма печально, а тут еще принялись меня стыдить уже с другой стороны, теперь за мое пренебрежение к царице Египта, столь важной особе, с которой я не хочу считаться, которую держу за свою наложницу и не оказываю ей подобающих почестей.
Милый друг, кто, как не ты, знаешь, что я теряюсь в таких ситуациях. Я — глупый бычок, мне тяжело оценить, кто пытается использовать меня, а кто по-настоящему страдает.
Октавия не подавала никаких признаков обиды, тогда как моя детка умирала где-то в Александрии, и, бросив все, я приехал к ней.
Царица Египта встретила меня необычайно нежно, впрочем, стоило мне отлучиться, как, возвратившись, я видел ее глаза, что красны и заплаканны. Я подумал, что она снова беременна, в конце концов, разве не свойственно женщинам в этот период печалиться и радоваться с необычайной силой. Так я ее и спросил:
— Ты носишь ребенка?
— Нет, — сказала она печально. — Я так тоскую по тебе, когда ты не рядом.
Я удивился. Вот уж что ей свойственно никогда не было, так это скучать и тосковать, она была вполне самодостаточно наедине с собой. Через некоторое время я понял, что моя детка ведет себя не совсем искренне.
Даже так: я подумал, что она смешная. Плачет смешно, смешно делает вид, что обижается, и даже ее анемичный вид — забавен, потому что все это неправда. Тогда я спросил ее напрямую:
— Клеопатра, что за херня?
Она сказала:
— Это о чем ты, милый мой?
— Сама знаешь, — рявкнул я. — Тебе все понятно! Ты меня дуришь! Как мальчишку! Ничего ты не переживаешь!
Некоторое время она молчала, на лице ее застыла эта милая, расчетливая печаль, а потом моя детка поморщилась, совершенно как делал Птолемей, ее злобный отец.
— Да, — сказала она. — Не думала, что ты меня раскусишь.
— Какого хера тогда?
Она пожала плечами, выражение ее лица снова стало прежним, любопытным и спокойным.
— Я полагала, что так будет лучше для Египта, — сказала она. — Я надоем тебе, как и Октавия, но ты такой чувствительный, я могла бы привязать тебя к себе виной. Октавия — дурочка, раз не использует этот способ.
Тут я бросился к ней и крепко поцеловал.
— Это ты такая глупая, — сказал я. — Милая Клеопатра, неужели ты думаешь, что можешь надоесть мне?
Она пожала плечами.
— Это случается с тобой постоянно. Раз, и тебе уже все надоело.
И вдруг я действительно пожалел ее. Странное дело, когда моя детка показывала эмоции, ей не свойственные, я недоумевал, а потом злился. И тут вдруг, выказав волнения в своей обычной холодной и жестокой манере, она показалась мне такой хрупкой. Я крепко обнял ее.
— Не стоит переживать, моя Клеопатра, — сказал я. — Никогда прежде не испытывал я ничего подобного ни к одной женщине, что у меня была.
Она смотрела на меня пытливо, чуть склонив голову набок, как умная птичка.
— Клянусь Юпитером, — сказал я. — Или Венерой, лучше Венерой в этом случае. Не видать мне в будущем любви, если я вру.
Она засмеялась:
— Ну вот, чем ты поклялся, ты сам себе противоречишь.
Я поцеловал ее в висок.
— Это шутка.
И такая на меня накатила нежность. Знаешь, Луций, я и до сих пор не могу понять, почему именно к ней возникло у меня такое сильное чувство. Я не думаю, что она соблазнила меня, у меня к тому времени, как я встретил ее, было столько женщин и красивее, и сексуальнее и даже умнее. А эта — маленькая зазнайка с большим носом, неутомимая, но не слишком инициативная в сексе. Ну что ж такое?
Я и сейчас этого полностью не понимаю. Думаю, мы просто были назначены друг другу богами, как две половинки одного целого из старой истории. Противоположны настолько, что, смешавшись, давали идеальный результат, и все это природа, и нечего моей детке ставить себе в заслугу какое-то невероятное обольщение.
Она всегда принадлежала мне настолько же, насколько я принадлежал ей. Со временем я научился не идеализировать царицу Египта. А она научилась меня любить, меня такого, какой ей предназначен, со всеми моими недостатками.
В любом случае, время шло, я забыл о существовании Октавии, мысли мои заняты были исключительно надвигающейся войной, большой войной.
Вдобавок ко всему истекал срок действия договора о продлении триумвирата. Я не хотел упускать своего, тогда как Октавиан, разумеется, цеплялся за то, чего сумел достичь за эти годы сам. И никто из нас не собирался продлять полномочия этого треклятого триумвирата, который и триумвиратом-то уже не был, а превратился в дуэт двух хищников.
В любом случае, ко мне в Александрию сбежали двое новоизбранных консулов, тогда как от меня в Рим сбежали Тиций и Планк, одни из моих самых доверенных военачальников. Два этих придурка, в остальном друг другу обычно противоположные, здесь проявили неожиданную солидарность. Они не только оставили меня без двоих талантливых и нужных людей, нет, они так же разгласили мое завещание.
Оно, надо сказать, было крайне неоднозначным. В нем я, как ты уже знаешь, требовал похоронить себя по египетскому обычаю (в чем теперь, ближе к смерти, весьма сомневаюсь). Были и всякие другие имущественные вопросы, которые тоже не совсем сообразовывались с римским законом.
В любом случае, щенуля забрал мое завещание из Дома Весталок, где оно хранилось, и это изъятие, совершенно незаконное, если не сказать богохульное, дало мне повод на него надавить. Как, мол, так, как мог этот человек совершить такое святотатство, и разве ваши завещания, друзья-сенаторы, теперь в безопасности? Неужели у того, кто мнит себя наследником полубога Юлия, не осталось ничего святого?
Да уж, я прекрасно мог обернуть это себе на пользу, тем более, что такие мысли в сенате бродили и без меня. Но я не стал. Что толку отсрочивать неизбежное? Разве есть доблесть в том, чтобы вечно избегать битвы, тем более, если уж трусливый щенуля Октавиан подтянулся.
Стало понятно, что в Риме меня объявят врагом народа. Ну что ж. Это не повод отчаиваться. Цезаря когда-то ведь тоже объявляли врагом народа, и ничего, он умудрился, пусть и не прожить долгую и счастливую жизнь, но своего добиться. Хотя бы на некоторое время. Но я мыслю короткими расстояниями. Какой прок в долгой прогулке, если виды тебя не радуют?
Взволнованные друзья, не понимая, насколько мне наплевать, как дела обстоят в Риме, отправили ко мне Геминия, моего старого знакомого, дальнего родича и моего и Октавии. Моя детка невзлюбила его сразу. Она не понимала, что в Риме практически кто угодно приходится дальним родичем кому угодно, и с Октавией Геминия мало что связывает.
В любом случае, когда-то мы воевали вместе в Галлии, и один раз я спас Геминию жизнь, по этому поводу я его весьма и весьма любил. Он был блеклый, мягкий и спокойный, рассудительный человек. Не занудный, не скучный, а даже какой-то уютный. Я всегда относился к нему очень хорошо, моя детка же принялась Геминия изводить, отпуская по его поводу всякие шуточки (особенно доставалось отвратительной бородавке у него на носу). Я же, вечно занятой приготовлениями к войне, все никак не мог с ним поговорить.
Наконец, за обедом я сказал:
— Ладно, Геминий, друг, давай уже высказывай, с чем там тебя прислали. Здесь все друзья, всем я доверяю, и то, что ты можешь сказать мне, можешь сказать и им.
Геминий опешил, а потом вдруг совершил самый смелый поступок за все то время, что я его знал. Он поднял дрожащую руку и, от ярости белый, сказал:
— Одно я знаю теперь точно, ты что трезвый, что пьяный — одно не хуже другого. Скажу тебе только: когда царица вернется в Египет, тогда только дела твои выправятся и не раньше. Вдобавок к тому, Октавия, законная твоя жена…
Я, кажется, швырнул в него тарелкой.
— Ты еще будешь указывать мне, какие женщины должны быть со мной, а каких следует отправить обратно?
Орал я на него еще долго, уже и не помню, что именно. По-моему, осыпал я его бранью, а потом ушел в ярости в свои покои. Почему Геминий так разозлил меня?
Думаю, потому, что я понимал — в определенном смысле он, мать его, прав. И я понимал, часть меня понимала — моя детка меня уничтожит. На то она и моя детка.
Знаешь, что она тогда сказала, пока я орал про Геминия и его мать, тихонько, но я услышал:
— Умница, Геминий, что сказал правду без пытки.
Конечно, она не собиралась его пытать, это глупость. Моя детка имела в виду, что с ним не пришлось долго возиться.
А Геминий, что ж, уплыл на ближайшем корабле в Рим. И, полагаю, с тех пор был обо мне не лучшего мнения. Хотя, казалось бы, я спас ему жизнь. И вот, стоило один раз облажаться, как он сбежал, сверкая пятками. Несправедливо. А еще более несправедливо то, что так поступил не он один.
Но не будем об этом. Расскажу тебе лучше о Самосе. Туда мы с моей деткой уехали перед войной. Так как вся эта шняга затевалась задолго до, приготовления были по большей части налажены.
Чего мы хотели? Мы хотели развлекаться, хотели чувствовать себя живыми. Предполагал ли я тогда, что проиграю? Пожалуй, нет. Но была какая-то другая, странная печаль, мне непонятная.
Наверное, я думал о том, как легко все может пойти не так. Или о том, что любая победа таит в себе поражение. Или даже о старости — сказать сложно.
У моей детки были свои печали, печали о Египте, который зажат в тиски между двумя правителями Рима.
В любом случае, мы устроили все так, что развлекались круглосуточно: охотой, театральными представлениями, роскошными пирами. Все происходило с еще большим размахом, чем в Александрии, чужая земля, знаешь ли, располагает к тратам.
Тогда я заметил с очевидной ясностью: я думаю, что Александрия мой дом. А Рим казался мне чужим и далеким, уже даже и непонятным.
И хотя моя жизнь в Александрии отличалась сумятицей и невнятностью, в ней редки были периоды трезвости и воздержания, я быстро позабыл все на свете, кроме нее.
Но Самос, да. Прекрасное время, полное беззаботного веселья и радости. Целыми днями мы с моей деткой смотрели представления, трагедии, комедии, да что угодно, лишь бы оказаться где-то в иной реальности, в ином мире.
Я не просыхал вовсе и иногда вылезал на сцену, вырывал у кого-нибудь микрофон и говорил со зрителями сам, то пытаясь играть, не знаю, Ахилла или Агамемнона, то просто рассказывая, какие чудные мысли бродят в великолепной голове Марка Антония.
— Я и сам актер! — говорил я, и микрофон провожал мои слова свистом и скрежетом. — Не в буквальном, конечно, смысле. Я не умею петь и плясать. Но я тоже играю свою роль! Я тоже развлекаю вас! И очень скоро, все случится очень скоро! Я приготовил для вас чрезвычайную программу, удивительное представление, после которого никто не оправится. Вы будете помнить меня вечно! Я стану героем ваших трагедий! Я развлеку вас как следует, обещаю!
Моя детка смеялась и говорила мне сойти вниз, к ней.
А я сказал:
— Развлеку я и тебя! Весь мир теряет голову! Весь мир!
И все в таком духе. От представлений, от вечных ярких выступлений лучших актеров, собранных по всей Греции, у меня перестала работать голова. Рябили в ней одни лишь мысли о судьбах человеческих. Какова судьба Ясона? А какова судьба Ахилла? А какова судьба Полиника и Этеокла? Какова судьба Эдипа, в конце-то концов?
Люди подвластны злому року, и лучшее, что они могут делать — не унывать, не прекращать своих развлечений и радостей, и постараться сделать весело всем вокруг. С этой точки зрения я абсолютно безупречен, и даже более того.
В любом случае, на Самосе мне было здорово. Я роскошно праздновал победу, которой никогда не случится.
Туда, на Самос, доставили мне кровавый рубин, прекраснейший камень. Если смотреть сквозь него на свет, кажется, что по кровавому небу движутся маленькие звездочки. Чудилось мне, что в камне заключен еще один мир, такой же, как наш, только совершенно алый. Сверкание его было нестерпимым, а сам камень — огромным.
Я посылал своих слуг за чем-то особенным, чем-то достойным царицы Египта, обладающей несметными богатствами. И вот, наконец, где-то на краю света нашли они то, что было ее достойно — рубин с небом внутри. Я преподнес его ей и сказал, что выиграю я или проиграю, весь мир она получит сейчас.
Моя детка все таскалась с этим рубином и смотрела сквозь него на солнце. Иногда она задумчиво говорила:
— Кажется, я могу различить в нем созвездия. Они почти такие же, как наши.
И какой же девчонкой, самонадеянной и счастливой, была она тогда. А больше не была никогда.
Вот тебе целый мир, моя милая детка. Держи его крепко.
В любом случае, как мы развлекались тогда, не развлекался никто. Сколь многое, бывшее непозволительным, стало таким простым.
Цари гнали нам быков для жертвоприношений, и я велел золотить им рога, чтобы быки эти были, как те, каких прогоняют во время триумфа. Если уж мне не случилось победить Октавиана, я, во всяком случае, поиграл в эту победу.
Поиграл и проиграл.
О, золоторогие быки, цари и царицы, клявшиеся в верности и кланявшиеся нам в ноги, рубин, полный звезд, трагедии и комедии, большие и маленькие. О Самос, чья сладость была обусловлена близостью большой крови. О Самос, каждый на этом острове чувствовал разрушительную силу, таившуюся в мире.
А источники Самоса? Чистые, холодные воды, на вкус, будто парфянский сахар. Сладкое-сладкое все: сладкие речи, сладкие ночи, даже звезды, даже солнце похоже на засахаренный мед.
А я — посмешище, как ты думаешь, Луций? Я такой забавный, и ничего серьезного во мне нет.
Что касается Октавиана, я знал, что он и мое отсутствие обернет мне во вред. И вот моя попытка развлечься хорошенько перед тем, как мир погрузится в хаос, была воспринята, как и стоило ожидать.
— Пока мир содрогается и гибнет, он смеет возлежать с царицей Египта в присутствии жалких рабов-актеришек.
И все такое прочее.
А эти рабы актеришки были мне очень милы. Многие из них и сейчас с нами, продемонстрировали они верность куда большую, чем иные бывалые воины.
Да и вообще, я слишком полагался на свою удачу. Я знал, что боги, как всегда, на моей стороне. Они хранили меня в Парфии и сохранят везде. Где бы я ни оказался, на небе, которое одно на всех, у меня есть надежные защитники.
Откуда тогда взялась эта тоска, рвущая сердце?
Помню, как-то мы с моей деткой поговорили начистоту. Теплый ветер дул в окно и шевелил тяжелые шторы. Мы лежали на постели, и каждый делал вид, что спит. У меня в голове еще гудели голоса актеров. Ставили "Медею", и мне вспоминалась Киферида, умевшая пускать кровь из носа.
Вдруг моя детка сказала:
— Я знаю, Антоний, что ты не спишь.
— О, — сказал я. — Хорошо.
Она сказала:
— Как ты считаешь, каковы наши шансы?
— Весьма велики. Я прекрасный полководец, а Октавиан — щенуля, каким и был.
— Он разбил Секста Помпея.
Я пожал плечами.
— А я разобрался с ним еще быстрее. Секст Помпей стал жалким подобием себя самого.
И вдруг меня дернуло от незаданного вопроса: а ты?
— Да, — сказала она. — Ты талантливый военачальник, а Египет — богатая страна, чья сила на твоей стороне.
— Да, — повторил я. — Все именно так.
Мы замолчали. Теплый ветер стал сильнее.
Через какое-то время, время печали, моя детка сказала:
— Но шансы не абсолютны.
— Нет, — сказал я. — Шансы не абсолютны. Ничто не абсолютно, ты сама это говоришь.
— Так стань моим мужем, Антоний.
Я не поверил своим ушам.
— Что?
— Я не настаиваю, но прошу.
Вечно кто-нибудь старается меня на себе женить, забавно получается, правда?
— Зачем это?
— Потому, что я люблю тебя, а ты любишь меня. И потому, что шансы не абсолютны. Если умереть, то твоей женой.
Она нахмурилась.
— Должно быть, это кажется тебе нелепым.
— Совсем чуть-чуть, — засмеялся я.
— И, должно быть, ты думаешь, что я глупа и сентиментальна. Я и сама так думаю. Не ожидала, что меня будут волновать такие мелочи.
Я сказал:
— Это что-то религиозное? Ты хочешь, чтобы мы…
Попали в одно и то же место после счастливого (или нет) окончания жизни. Я не закончил. Сама мысль показалась мне дикой.
— Нет, — ответила моя детка. — Здесь что-то другое. Не проси, я не могу объяснить. Только знай, что моя любовь такова, что я хочу тебя в мужья.
— Хочешь? — спросил я, улыбнувшись, как мальчишка. Притянув мою детку к себе, я поцеловал ее в уголок губ.
— Как только мы уедем отсюда.
— Как только мы уедем, — сказала она. — Кстати, как ты думаешь, куда деваются звезды из рубина ночью?
— Это вопрос с подвохом.
— Не бывает вопросов без подвоха. Ни одного такого не слышала и не задавала.
Я сказал:
— Наверное, они исчезают. Или их просто нельзя увидеть.
Я как-то понял, что это о смерти.
В любом случае, когда наш кутеж на Самосе был окончен, я послал к Октавии послание, в котором велел ей уйти из моего дома, поскольку я даю ей развод.
Как ужасно, как святотатственно я поступил с ней, правда?
Вот как, примерно, выглядело мое послание, отправленное с доверенными людьми, которые должны были проследить, что Октавия уйдет.
"Здравствуй, Октавия!
Прости, что все так, но однажды я сам предупредил тебя. И это сбылось, потому что я знаю себя куда лучше, чем ты меня знаешь.
Тебе не стоило верить мне, напротив, я заслужил твоего презрения, и ты можешь ненавидеть меня до самого конца жизни. Я отношусь к тебе с благодарностью и приязнью, однако я люблю другую женщину, а к тебе во мне любви нет.
Ты родила мне чудесных дочерей, ты воспитывала Юла и показала себя как достойная жена и прекрасная мать. Но этого всегда мало для меня. Я такой человек, что не могу оценить твоих даров в полной мере. О, моя бедная Октавия, покинь мой дом и возвратись к себе, знай, что я не держу на тебя никакого зла, однако ради блага твоей и своей души вынужден расстаться с тобой, чтобы не плодить больше ложь.
Я даю тебе развод. Найди мужчину, которого полюбишь сильнее меня, и будь с ним.
Отныне я не муж тебе.
Марк Антоний."
Вот так-то.
Разве не грустно это все звучит? Разве не предательски?
Впрочем, моя вина перед Октавией безмерна. Как жаль, что все сложилось у нас именно так.
Насколько мне известно, она покинула мой дом без вопросов, впрочем, забрала с собой и Юла и Куриона, уже достаточно взрослого, чтобы жить самостоятельно.
Ну почему же, Октавия, ты так хороша, почему нет в тебе недостатков, за которые я мог бы уцепиться?
В любом случае, после этого мы с моей деткой поженились. Наш брак на римской земле никто и никогда не признал. Но для меня он был настоящим. Я взял ее в жены, мою детку, перед лицом ее богов.
Ее псоглавых и птицеглавых богов. Богов египетских и греческих одновременно. Богов, мне чуждых.
Как счастливы мы были. Будто не стало всех этих лет, будто не было других свадеб, других встреч и других расставаний. Свадьба наша вышла причудливой смесью из греческих и египетских традиций. Мы обменялись браслетами по древнему обычаю, мою детку Ирада и Хармион украсили плющом, как это принято у гречанок. А как красиво было ее расшитое невиданными узорами платье, о, моя царица Египта, прежде она никогда не являлась ко мне в чем-то столь изящном, столь сдержанном и в то же время роскошном.
А как сладка оказалась наша брачная ночь. Я обладал ей по праву, данному мне богами этой земли, обладал ей много раз, уже как женой.
О, мы кричали больше обычного, перебудили, должно быть, весь дворец. Будто бы наша свадьба дала нам право отпустить наши сердца.
Как чудесно и правильно все стало в одночасье. Пусть Рим никогда не признает моей любви к царице Египта, эта свадьба была настоящей, потому как мы обменялись сердцами.
Но, вообще-то, милый друг, не думай, что превознося мою детку, я обесцениваю другие мои чувства, другие мои встречи, расставания и свадьбы.
Мне повезло, в моей жизни никогда не было напрасной любви.
В любом случае, через пару недель после нашей свадьбы, ко мне заявился Курион. Было ему уже что-то около восемнадцати лет и, увидев его, я поразился, до чего похож мальчишка на своего отца.
Тогда я подумал: надо же, вот он Курион-старший.
А потом стало еще горше, когда я подумал: а раньше Курион-старший был отец моего друга, а теперь уже — мой друг, как течет жизнь. Вот и Антилл скоро уже будет Антоний, а я стану Антоний-старший. Как прискорбно и прекрасно, что жизнь продолжается.
Впрочем, пока еще я оставался единственным значимым Антонием в мире. Вероятно, я и останусь. Если только мой трусливый Юл не удивит меня когда-нибудь, впрочем, уже не меня.
В любом случае, я радушно принял Куриона, мы обнялись, и я понял, что движения у мальчишки те же, что и у его отца. Ну как так может быть? Знал ли нынешний Курион Куриона прошлого? Совершенно нет.
— Я уехал, — сказал он. — Хотя Октавия просила меня остаться. Она очень добрая, и я ей благодарен, но…
Он помолчал, и я не стал ему подсказывать, а только велел виночерпию подлить Куриону вина, как взрослому.
— Но я хочу быть здесь, с тобой.
— Знал бы ты, — сказал я. — Как любил хорошее винцо твой отец, попробуй.
Курион чуть ли не залпом опустошил кубок, а потом ответил:
— Я не разбираюсь в вине. Послушай, Антоний, я знаю, где я должен быть.
— И где же? — спросил я. — Какие твои мысли по этому поводу?
Он воскликнул с горячностью:
— Здесь! Я должен сражаться на твоей стороне.
А я подумал, что есть в нем нечто и от Фульвии. Вот эта вот безрассудная смелость, желание пуститься в опасное приключение.
— Да? — спросил я.
— Марк! — сказал он, схватив меня за плечи, и в этот момент напомнил мне уже меня самого в юности. А я, стало быть, превратился в Публия. — Прошу тебя, разреши мне послужить тебе. Да, я неопытен, но я много тренировался.
— А что говорит Октавия? — спросил я.
— Октавия мне не мать, моя мать умерла.
— Но что она говорит?
— Она говорит, что я должен слушать свое сердце.
— Удобно, — сказал я.
— Пожалуйста, Марк, дай мне доказать тебе, что я достоин.
Достоин чего, смерти? Но это сейчас я думаю так. А тогда я сделал для Куриона то, чего не сделал для меня Публий. Я дал ему выразить свою благодарность.
— Ты и в самом деле этого хочешь?
— Многие солдаты моего возраста, — сказал он.
— Но ты же человек особый, я должен поставить тебя на командование.
— Так научи меня или поставь, куда только хочешь, я сделаю все, что нужно.
А я подумал: и почему, малыш, ты так благодарен мне? Что видел ты хорошего от меня, я пил да гулял, изменял твоей маме, воевал в далеких землях. За что любим я тобой, а, тем более, так сильно? Разве же за подарки? Или за какое-то доброе слово?
За что любим я тобой настолько, что ты последуешь за мной куда угодно и отдашь свою молодую жизнь?
Быть может, Публий тоже думал: откуда это? Быть может, он недоумевал. В любом случае, я однажды хотел отдать жизнь за отчима. Таково было мое искреннее и даже осознанное желание. Может, искренней и осознанней ничего в моей жизни потом и не было.
Я обнял Куриона и сказал:
— Спасибо, сынок. С такими солдатами, как ты, я выиграю любую войну.
— Надо было тебе, — засмеялся он, совсем как его отец. — Еще больше детей растить.
— Надо было, — сказал я серьезно. — Я-то уже немного и пожалел. Насчет всех детей мира.
Вдруг я почувствовал, что подготовка к войне для меня закончена, вот именно сейчас, на приезде Куриона. Все самое важное случилось, и начался последний эпизод.
В общем, пойду посплю, ибо говорят, что в смерти, хоть внешне она и напоминает сон, люди больше не спят.
Мне стоило бы больше ценить сон, учитывая мою лень и праздность.
Твой брат, Марк Антоний.
После написанного: вздремнул, а приснилось мне, что я золоторогий бык, бегу, и никто не хлещет меня по спине. Куда бегу — не знаю. Но сам процесс мне очень понравился.
Послание двадцать седьмое: Промедление
Марк Антоний брату своему, Луцию, с великой печалью и всеми прочими атрибутами обреченного.
Здравствуй, милый друг! Так странно, история моя уже ближе к концу, чем к началу, причем весьма радикально приблизилась она к этому самому финалу, что мы наблюдаем сейчас.
А проживать все это было дольше, чем рассказывать. Неужто все и уместилось? Все важное, что я любил, что я ненавидел.
Здесь, у края, у самого края, я вижу ясно. Кажется, будто жизнь моя даже красива, и есть у нее некоторое художественное назначение. Может, всякая жизнь стоит того, чтобы ее рассказать? Интересно, какой была бы твоя история, и в частях, где мы с тобой неизбежно пересекаемся, как сильно отличалась бы она от моей?
В конце концов, наша память все время изменяется, и многое влияет на итоговую картину. Вот, кстати говоря, об этом. Я думал об изменениях, которые привносят люди в нашу жизнь.
Вот, к примеру, мой старший сын, он прожил меньше недели, и я понятия не имею, что это за человек, почему он умер и куда отправился после этого. Я ничего о нем не знаю. В масштабах моей личной истории мы провели вместе лишь мгновение. Но у моего старшего сына есть собственная история, она очень короткая, однако, столкнувшись с ней, я изменился. Не так сильно, как я ожидал, но и не так слабо, как я тоже ожидал. Я стал другим, и все стало другим. Где бы я был, если бы не мой старший сын? Чего бы не случилось в моей жизни? Какие бы я не принял решения?
Мертвые младенцы — это печально, но случается сплошь и рядом. И в то же время не стоит недооценивать маленькие жизни, их вклад в нас.
А мой сын, успел ли он как-нибудь измениться от встречи со мной? Возможно. Дети вообще все впитывают и меняются очень быстро.
Ну все, слишком много уже этого слова, "меняться", "изменяться" — оно будто бы таит в себе какую-то светлую, яркую перспективу, большую даже, чем загробная жизнь, существует она или нет.
В любом случае, знай, я так люблю тебя, я благодарен тебе за все.
Вот еще об изменениях, снова о них. Я думал о своей юности, о том, что она была главным образом спокойной. До смерти Публия меня мало что волновало, да и ты тоже рос беззаботным и вполне довольным.
А вот жизнь Антилла, да и сотен других таких вот мальчишек, омрачена очередной гражданской войной. Все бы ничего, каждого ждет своя судьба, а времена, в которые мы живем, даются лишь один раз, и этого не изменить. Да, все бы ничего, однако же такой мир создал для Антилла именно я. Своими действиями, словами и всем таким прочим. И что теперь?
Пока на роскошных пирах сверху рабы лили на нас благовония, мир менялся — из-за моего попустительства в том числе. Я создал мир для своего ребенка, и вот он такой — не лучший вариант из многих. Это стыдно.
Одна надежда, быть может, хотя бы Филадельф будет жить там, где мои ошибки уже исправлены.
Это при условии, конечно, что Филадельф будет жить.
Всем хотелось бы, чтобы дети их попали в хорошее место, туда, где у них будет шанс счастливо прожить жизнь и умереть лет этак под сотню в окружении милашек-внуков. Не столько себе, сколько моим мальчишкам и девчонкам, хотел бы я именно такого финала.
Что касается меня, не думаю, что с моим характером все могло закончиться как-то иначе. Я никогда и не ждал, что буду жить долго.
Вот, опять он разнылся, этот великолепный Марк Антоний. Сегодня плакала Селена. Моя детка сказала ей, что однажды мамы и папы не будет рядом, а она сразу все поняла. Дети вообще больше понимают, чем нам бы хотелось.
А у меня так разрывалось сердце, но я не знал, что ей сказать. Почему ее братья, единокровный и единоутробный, могут умереть? Почему ее родители? Ну как ей это объяснить?
Твой папочка, хоть ты и любишь его, идиот.
Так что, быстро разлюби своего папу и никогда не следуй его примеру ни в чем.
Впрочем, ладно, опять я думаю о плохом, этого совершенно не надо делать, тем более — сейчас. Весьма скоро все решится, так или иначе, скорее так, чем иначе, и мы с тобой встретимся. И все будет хорошо. Я обещаю. Самому себе, тебе и всем на свете.
В общем, о войне. Да, конечно, после того, как я женился на Клеопатре, все со мной было уже понятно. Впрочем, вряд ли этому кто-то удивился.
Меня боялись. Боялись, что я уже не римский гражданин, но восточный деспот, и воспринимали, как врага. Прошли времена, когда народ не хотел воевать против меня, когда боготворил меня, а я и не заметил. Вот и все, герой Филипп превратился во врага, окутанного дурманом заморских зелий, потерявшего рассудок и одержимого иноземной женщиной.
Так ли это было?
Ну, я любил ее. Любил, люблю. Буду любить всегда. И это не изменится уже, а любовь моя, может, будет только прибывать. Сумасшествие ли она? Не более, чем любовь мужчины к женщине вообще.
Тут уж остается два варианта: либо не любить никогда, либо смириться с тем, что любовь привязывает тебя к другому человеку и заставляет делать глупости. Я умею любить, это все равно хорошо, даже если привело меня к печальному финалу. И глупости делать не боюсь.
Октавиан боится, и любить он не будет никого и никогда, так я полагаю. Для человека политического, может быть, это и есть самое правильное.
Сошел ли я с ума? В своей обычной манере. Не хуже прежнего. Никогда я не отличался ни дальновидностью, ни спокойствием. Мы меняемся больше, чем думаем, но меньше, чем думаем, как я уже говорил. И встреча с моей деткой не сделала меня кем-то другим, хоть и определенно повлияла на мое состояние.
В любом случае, Октавиан объявил войну Клеопатре, хотя это выглядело смешно. Понятно же было, что он имеет в виду меня. Впрочем, мои полномочия сенат вроде как аннулировал. И история, которую Октавиан наплел прежде, стала абсолютно реальной. Я имею в виду: вот он я, прихвостень Клеопатры. Даже война объявлена ей, а я лишь ее ручной воин, который блюдет египетские интересы. Что за глупость, правда? Ничего хуже не придумаешь.
Однако Октавиан всегда умел правильно расставить акценты. Такая постановка вопроса снимала с него обвинения в разрушении нашей дружбы. Казалось бы, он объявляет войну чужеземной змеище-блядище, а я, Марк Антоний, что ж, защищаю ее, а не своего дружочка Октавиана. И кто я после этого?
Вот умеет человек работать на правильную картинку. Это же тоже талант и немалый. Куда уж мне. Смешно, конечно, что я, развратник, каких ищи — все равно не найдешь, не мог придумать, что бы такое вменить ему погорячее. Все эти романчики с чужими женами, по сути, скучно, да половина Рима кувыркается в постелях чужих жен, что теперь-то?
А других грешков за ним будто бы не водилось. Обвинить меня же можно было в чем угодно: пьяница, окончательно забывший себя самого, транжира, следую за Клеопатрой всюду, как кобель за течной сучкой, короче говоря, целый набор потенциального врага народа.
Кто мог понять меня, если даже мои друзья спешили меня покинуть?
Марк Силан, бывший старым и преданным цезарианцем, Деллий, историк, на которого я возлагал большие надежды относительно будущих описаний моей жизни. Теперь, видишь ли, нет у меня историка. Приходится становиться им самостоятельно.
Оба они, и это только для примера, всего лишь двое из бесчисленных полчищ крыс, покидавших корабль, как говорили, не поладили с Клеопатрой. Моя детка действительно была весьма и весьма сложной натурой, с ней бывало очень нелегко.
Однако что-то я не верю в такую слабость моих друзей перед женским озлоблением. Сдается мне, что Марк Силан разочаровался во мне, как обычно и разочаровываются в пьяницах — тут все весьма предсказуемо. Это печально, но такова правда, и лучше принять ее добровольно, как лекарство, чем полной чашей испить позже, уже как яд.
Что касается Деллия, то, напоминаю, этот сученок был историком. Понимаешь ведь? Историком! У него большой опыт в таких делах, хоть и опосредованный. Он сразу понял, за кем будущее, а кто остается в прошлом. И, кляня мою детку, отбыл к Октавиану, писать его версию событий.
Злюсь ли я на них в самом деле? А то! Еще как! Я по-твоему смиренная весталка? Нет уж, предательство есть предательство. Я знаю предателей изнутри, сам будучи повинен кое в чем. Знаю, как работает у таких голова.
Пока ты на вершине, льстецы вокруг тебя, словно кошки, желающие отведать вкусностей: трутся о ноги, мурлыкают, радуются твоему появлению. Но стоит тебе только начать спускаться, или даже просто посмотреть вниз, как они исчезают. Все они исчезают.
Причем всегда говорят, что дело не в тебе, дело в ком-то другом. Но ты правду знаешь, и тебе с ней жить. Или не жить. Так тоже бывает.
В любом случае, знаешь, что меня удивляет? Как Деллий все понял? Армия моя ненамного, но превосходила армию Октавиана, я был куда более опытным и прославленным военачальником, за мной стоял Египет.
Как он понял то, что остальным стало известно только после битвы при Акции?
Нет, не он один, таких было много. Впрочем, еще больше их стало, когда победа Октавиана и мое поражение превратились в очевидные факты. И вот этих, сбежавших позже, я уже ни в чем не виню. Ну спасали ребята свои жалкие жизни, а, может, и не жалкие, по-разному. Не то чтобы хотели оказаться на стороне победителя, но другой стороны вдруг не оказалось. Проигравший у нас, римлян, очень часто и означает — мертвый.
Больше всего виню я тех, кто сбежал заранее, по каким-то своим приметам поняв, что случится далее.
Уроды, да у вас же было достаточно времени.
Тогда я стал думать, а не проиграю ли я? Быть может, в моем окружении есть люди умнее меня? И все-то они сразу поняли.
А бросил бы я Цезаря? Нет, не бросил бы никогда. Однажды я отправился к нему через бурное, безумное море, вполне понимая, что ситуация его крайне тяжела. Потому что так должен поступать друг, и никак иначе.
Впрочем, всем ли я был другом? Даже не так: всем ли, кого я называл друзьями, был я в самом деле другом? Этот интересный вопрос научил меня не судить предателей вот так вот. Кто знает, не было ли у каждого из них своего Цезаря, за которым они пошли бы на смерть.
Просто то был не я. И разве есть тут что-то такое ненормальное? То был не я, всего-то, а кто-то другой. Может, они стали верными друзьями Октавиану.
Впрочем, сомневаюсь, что щенуля им доверится. У него с этим вообще проблемы. И ближе всего к нему все равно будут друзья его юности, проверенные временем.
А друзья моей юности умерли. Как же нужен мне был сейчас Курион. Или даже Клодий с его умением бороться до самого конца, как бы ни была тяжела ситуация.
Да и вообще, много в моей жизни было хороших людей, жаль, что с ними послучалось всякое. Октавиан был окружен верными друзьями, а я, в итоге, непонятно кем. Заметь, я так мало пишу о своем тогдашнем круге общения. Может, потому, что никто не был мне по-настоящему близок, а я в близости нуждаюсь и без нее чахну.
В любом случае, выделялся тогда в моем окружении один лишь Луцилий, тот самый, которого когда-то я пощадил при Филиппах. Он верный друг и знает, каково это — сражаться за проигравшего. Он никогда никого не предавал.
Я и сам не так чист, как Луцилий. О, Луцилий, сочиню тебе оду, прекрасный ты человек.
Да, война. Война есть война, куда же без нее. Война всегда война.
Война, война, война, война.
Вся моя жизнь.
Кто-то утверждал, что стоит начинать войну немедленно, тем более, что у Октавиана, как это с ним всегда и бывало, случились большие проблемы с налогообложением. Народ вновь был им недоволен, и на этом я мог сыграть.
Я, хоть и был многим римлянам чужд, однако же не грабил их. По крайней мере, очень давно. Да и все знают, как коротка народная память. Сегодня ты их убиваешь, завтра они тебя восхваляют.
Иными словами, все возможно. Достаточно не переносить столицу в Александрию, и они уже приятно удивятся, великолепный Марк Антоний.
В любом случае, я придерживался иной точки зрения. Войска мои к тому времени я уже перекинул в Грецию, однако дальше пойти не решился.
Во-первых, не располагала погода, однажды я уже пускался в очень рискованное путешествие, и, хотя тогда мне повезло, я прекрасно знал, чем такое может закончиться.
Во-вторых, мне хотелось выманить Октавиана сюда, ко мне, в Грецию. Туда, где люди любили и поддерживали меня, туда, где Октавиан будет зависеть от поставок с моря, туда, где каждый день боев будет ослаблять его.
Не всегда легче сражаться на своей территории, но лучше начинать войну с удобной тебе точки. Октавиан, видимо, был того же мнения, и оба мы медлили. Мир замер.
Прав ли я был, не напав на него сразу, хотя войска мои были переброшены в Грецию быстро и успешно?
Ну, кто теперь разберет? Быть может, моя смерть была бы еще быстрее и бесславнее нынешней. А, может, я победил бы.
Но разве узнал бы ты тогда о том, что случилось после твоей смерти? О моих печалях и радостях, прежде от тебя скрытых? О, милый друг, может, я проиграл только, чтобы вспомнить. Остановиться и увидеть свою жизнь иной.
В любом случае, все затаилось, притихло. Мир болтался на тонкой ниточке и готовился сорваться в пропасть. Знаешь эту приятную секунду перед тем, как падаешь?
Наверное, знаешь лучше меня. Думаю, такое чувство приходит и по окончанию смертной муки. Так мне почему-то кажется.
Мою детку я никуда не отпустил. Она так желала быть со мной. Не из пустого тщеславия, просто поверь мне. Она тоже нечто видела. Как Деллий. Только вот ей некуда было деваться от меня.
Как-то раз она сказала:
— Я боюсь твоей гибели. Я последую за тобой, куда угодно.
И тут же добавила:
— Хоть и вполне понимаю, как это глупо.
Все свои силы направила она на то, чтобы убедить меня взять ее с собой. Это глупо, женщинам не место на войне, разве что в качестве шлюх. Если честно, так-то я ей все и сказал.
Она ответила:
— Тогда я буду твоей шлюхой.
Что за женщина? Похвальная верность.
— Тебя и так считают моей шлюхой.
— Пусть считают, я стану гордиться этим, лишь возьми меня с собой.
Как же печально думать об этом — она не верила мне. Почему-то не верила в мою победу. В чем же была проблема? Дело в дурных знаниях или в моей собственной природе, уже до безобразия искаженной вином и излишествами?
После Парфии я лишь сильнее ударился в пиры да попойки, Самос же окончательно меня в этом смысле доконал. Частенько я полдня, мучаясь от похмелья, не мог двух слов связать. Еще полдня, дико бухая, болтал без умолку.
Страшно умереть опозоренным. Не хочу, чтобы обо мне так плохо думали.
Нет, не хочу.
А хочу, чтобы думали хорошо. Как все глупо вышло. Не правда ли?
Я видел по ее глазам, она не верит. Боится, ищет пути к отступлению. И в то же время моя бедная детка так привязалась ко мне, мы уже не могли разлучиться.
Расставив как-то раз сети, она сама попалась в них вместе со мной. Не знаю, как объяснить. Слыхал, хоть и никогда не видел лично, такое бывает с крысами. Два или больше существа в младенчестве, обладая мягкой еще кожей, срастаются друг с другом, а затем не могут разлучиться, дерутся, тянут в разные стороны, причиняют друг другу боль.
И не могут расстаться.
Никак не могут расстаться.
Разве могли мы с моей бедной деткой?
Слышал я, бывает такое и у людей. Фульвия рассказывала мне, что у ее бабки родились такие близнецы, они срослись кожей на спине. Сочтя их появление дурным знаком, отец детей не принял их, предоставив богам решать судьбу малышей, как это обычно и бывает с больными младенцами.
Ужасная история, правда? Жизнь подобных существ очень мучительна. Вот и я чувствовал себя, если не таким существом, то похожим. Казалось, даже кровоток мой соединен с ее кровотоком. И если она бледнела, боялась, страдала, я тут же чувствовал, как утекает в нее моя собственная кровь.
Но это любовь, а если нет, то что еще любовь?
Стоило отправить ее в Египет? Быть может. Впрочем, я не верю, что положение бы существенно изменилось. Судьба есть судьба, бежать от нее бессмысленно. Моя звезда угасла, зато явилась другая. Все это произошло не в один день, а постепенно. И мне стоило быть готовым. Нам всем стоит быть готовыми к смерти, всем и всегда. Я этому научился, и теперь я не боюсь. Сегодня — не боюсь совсем.
Ладно, чтобы тебе не было совсем уж скучно, я расскажу о знамениях, что предсказывали мою гибель или, во всяком случае, падение.
Для начала землетрясение уничтожило одну из основанных мною колоний. Причем, скажу тебе честно, людей там погибло много. Вот это бессовестно со стороны богов — давать такие знаки. Я счел бы понятным и более мягкое предупреждение.
Потом одна моя мраморная статуя сколько-то там дней истекала не то потом, не то слезами. Не только печально, но и досадно выглядит. Народ, как ты понимаешь, такое знамение воспринял не с радостью. Благо, случилась такая фигня далеко от места, где я пребывал, и мне не пришлось никому ничего объяснять.
Зато храм Геркулеса в одном греческом городке сгорел чуть ли не при мне, в него попала молния, что недвусмысленно намекало на гнев Юпитера. В тот же день сильный ветер вынес в театр одно из изображений Диониса, прямо на сцену.
Второе, впрочем, я счел, скорее, знаком хорошим. Разве не хотелось Дионису, мне, то есть, Новому Дионису, оказаться на сцене, перед всеми, у всех на устах. Впрочем, в сочетании с разрушением храма Геркулеса смотрелось все-таки мрачно.
Эта же дурацкая буря еще и опрокинула две статуи, подаренные когда-то мною городку.
— Да что ж за херня? — спрашивал я мою детку. — Это просто пиздец!
— Интересно, — задумчиво сказала она. — Видит ли, Октавиан какие-то знаки.
— Уж наверняка. Щенуля верит во всякие случайности, весь этот бред кажется ему…
— Бред? — спросила моя детка. — Значит, ты в это не веришь?
— А ты?
Она сказала:
— Я верю в то, что знамения работают только, если ты веришь в то, что они по-твоему предсказывают. Веришь ли ты в то, что проиграешь?
— Ни хрена! — сказал я. — Ни хрена подобного, не верю!
— В таком случае, это просто ряд совпадений.
— Вполне ли пристойно совпасть разрушению храма Геркулеса и порче изображения Диониса?
— Не вполне пристойно, — ответила она, смеясь. — Но в жизни много непристойностей и, в основном, они тебе нравятся.
Ее уверенность, отсутствие беспокойства на ее лице помогли расслабиться и мне.
— Ладно, — сказал я. — Это просто глупости, ничего такого уж особенного. Должно быть, раньше я таких штук просто не замечал.
— Да, — сдержанно согласилась моя детка. — Раньше за тобой такого не водилось. Ты сам себе дурное знамение, Антоний.
— Что правда, то правда, — засмеялся я. — Но я не особенно по этому поводу переживал все эти годы.
— В этом и есть секрет твоего успеха. Придерживайся этой и позиции, и все закончится хорошо.
В общем и целом, такой подход мне импонировал. Она умела меня успокоить, вот этой своей рациональностью, своим умением взглянуть на ситуацию отстраненно. Взбалмошная женщина? Да ну. Я был очень взбалмошный сам по себе, такой уж характер. Моя детка же холодна как камень.
Почему я написал "был"? Вот странность, а сам не заметил.
А, и еще одно знамение, напугавшее меня больше других, потому как оно соответствовало моим кошмарам. Я стал ему свидетелем.
В общем, дело было так. Я взял Цезариона и Антилла и повел их посмотреть на "Антониаду", наш с царицей Египта самый роскошный, самый дорогой и самый изумительно красивый корабль. Я подумал, мальчишкам следует поглядеть на то, чем располагает отечество.
Они, неразлучные друзья, шли, весело переговариваясь и вырывая друг у друга тетрис. Ожесточенно жамкая кнопки, они соревновались.
— Вы придурки, — сказал я. — Вам еще управлять государством. Хватит херней страдать! Все играют они! Не наигрались!
— Ну пап, — сказал Антилл. — Тут просто важно, мы поспорили.
— Да, — сказал Цезарион. — Девятьсот девяносто девять игр в одном. Мы поспорили, что по разу поиграем в каждую, и будем вести счет.
— На что поспорили, на деньги?
— Нет, — сказал Антилл. — На то, кто позовет на свидание одну девчонку.
— Так эти дела не решаются, — сказал я. — И вообще, дайте посмотреть.
Я вырвал у Цезариона игру, глянул на экран. Надпись гласила: помогите маме Ромула и Рема сделать для сыновей завтрак. Волчица на экране скакала туда-сюда и ловила яйца, нужно было направлять ее движения с помощью левой и правой кнопки.
— Не очень увлекательно, — сказал я.
— Да, — ответил Цезарион. — Полностью с тобой согласен. Тем более, что все игры повторяются. Я бы сказал, что их десять или, может, пятнадцать.
— Но их девятьсот девяносто девять.
— Я бы сказал, что это надувательство.
— Зануда, — сказал Антилл. — Папа тебе совсем не нравится?
Но я уже увлекся игрушкой, поэтому не ответил. Так и ловил завтрак для Ромула и Рема, не смотря себе под ноги, и даже чуть не грохнулся в сине-зеленое, бурное море.
— Ладно, — сказал я. — Понимаю вас, ребята, но такими темпами свидания не будет ни у кого. А что за девушка?
— Ну, — сказал Антилл. — Это неважно.
Я потрепал его по волосам.
— Растет малыш.
— Я не малыш.
— Вот именно, это все потому, что ты растешь.
— Я уже вырос.
Цезарион сказал:
— Эта девушка — дочь одной важной женщины из маминой свиты. Мы не можем тебе сказать без риска, что все дойдет до мамы или, того хуже, до ее мамы.
— Она египтянка или гречанка?
— И то и другое, — сказал Антилл.
— Так не бывает, — ответил ему Цезарион. — Скорее уж не то и не другое.
— Что значит не то и не другое? — спросил Антилл. — Если единицу прибавить к единице…
— Получится двойка, то есть совсем другая цифра.
Я сказал:
— Пацаны, "Антониада".
Развернув их обоих к кораблю, я дернул ребят за уши, заставив запрокинуть головы.
— Смотрите, какой пиздатый огромный корабль, — сказал я. — Когда-нибудь он достанется вам, и совершит для вас немало чудесного в походах. Отличный корабль, вам стоит гордиться им!
— Нам?
— Вам. Это наследие союза Рима и Египта, свидетельство его мощи. Вы оба, и, в особенности, ты, Цезарион — представляете собой плоды этого союза.
— Пап, — сказал Антилл. — Моя мама была римлянкой.
— Я знаю, но ты многое знаешь о Египте, впитал его культуру и все такое.
Цезарион показал Антиллу язык, и Антилл, мрачный, протянул:
— Ну, хороший корабль.
Мы поднялись на него, и я долго объяснял ребятам, зачем нужно то или это, как управляют кораблем, как ведут морской бой. Одним из величайших достижений в моей жизни я считаю то, что ребятки не заскучали. Наоборот, глаза их загорелись, засветились. Да, подумал я, однажды вы сами научите своих детей тому, что представляет из себя корабль, и зачем он нужен в бою.
А потом ваши дети научат своих детей. Ну и так далее, и тому подобное. Жизнь продолжается.
Я изрядно утомился, тем более, что день был жаркий, и мы сели пообедать прямо на носу корабля. Сидели, помню, свесив ноги вниз и глядя в сине-зеленое море. Я раздал мальчишкам сэндвичи с виноградным джемом, и они радостно в них вгрызлись.
Все перемазались, и я перемазался.
— А где эта ваша девчонка? — спросил я. — В Александрии, или ее сюда привезли в свите Клеопатры?
— В Александрии, — вздохнул Атилл. — Мы же туда вернемся, да?
— Ну, разумеется, — сказал я. — По-другому и быть не может. Вернемся, я вам обещаю. И кто-нибудь из вас ее пригласит.
— Да, — сказал Цезарион. — В том-то и проблема. Это разрушит нашу дружбу.
— Ну, — сказал я. — Однажды я сильно поссорился с другом из-за девушки.
— Из-за мамы? — спросил Антилл.
— Да, из-за мамы с папой Клодия и Клодии. Весьма печально закончилось. Никому не советую.
Я перемазал все пальцы и облизывал их, глядя на солнце. Тут по нему мазнули две черные тени.
— О, — сказал я, моргнув. — Это ласточки! Этих ребят я уже видел! Они тут свили гнездо, видите, над нами, на рее. Я развернулся, ступил на палубу и указал туда, где точно помнил гнездо. Оно было там и сейчас — вот эта их странная постройка. Ласточкины гнезда не похожи ни на чьи другие. Они одновременно отвратительны и прекрасны. Я слышал, что ласточки склеивают грязь собственной слюной, и получается нечто, похожее на улей.
— Вот, — сказал я. — Видите, там!
Антилл и Цезарион смотрели внимательно, но все никак не могли углядеть гнездо. Я сказал:
— Да вот же оно! И там птенчики! Слышите, они пищат!
— Немножко слышу.
— Голодные, значит, — сказал я. — О, слыхали эту мудрость родителя, да? Забудьте!
— Да, — сказал Цезарион. — Звучит банально. Я, кажется, вижу птенца.
— Да, они выглядывают. Им тут хорошо, удобно. Вообще эти ребята нам на счастье. Еще сэндвичей хотите? Ирада много сделала.
— Ага, — ответил Антилл. И мы освободили из заключения в полиэтиленовой пленке еще по одному сэндвичу с джемом.
Вдруг на родителей-ласточек, спешивших к деткам, налетели злостные конкуренты.
— Ого! — сказал Антилл.
— Да, — сказал я. — Такое случается постоянно. Кое-кому лень строить свое гнездо. Я их понимаю. Но, уверен, наши ребята справятся.
Однако в ожесточенной драке проиграли хозяева гнезда. Новая парочка прогнала их подальше, сопровождая нападения отчаянным криком. Капля птичьей крови упала мне на сэндвич. Рядом с фиолетовым пятном от джема смотрелась она жутко красной. Я быстро откусил кусок с кровью, чтобы избавиться от ее навязчивого внешнего вида.
Еще капля, еще капля, капля, потом другая. Одна из них приземлилась мне на лоб, я утер его.
— Твою мать, — сказал Антилл. — Вот это махач.
А я расстроился. Наши явно проигрывали, перевес был на стороне незваных гостей. И вот все было кончено. Израненные птички приземлились к нам. Антилл взял одну из ласточек в руки, Цезарион поспешил к другой.
— Выглядят плохо, — сказал он.
Антилл выглядел перепуганным. Что ни говори, он был римлянином и относился ко всему, что связано с птицами и приносимыми ими знамениями, так же чувствительно, как и все наши соотечественники. Включая меня. Я растерянно смотрел, как новые владельцы гнезда сбрасывают птенцов вниз.
Бах, и вот один рухнул, потом второй. Тут я взял себя в руки, стянул с себя белый кроссовок (вот уж чему я хранил верность всю свою жизнь).
— Суки, блядь! — крикнул я. — Вы чего творите, уроды! Суки вы, суки!
Я швырнул в них кроссовок, но не попал, а ласточки продолжили свое злодеяние. Второй кроссовок тоже не достиг цели, и мне стало обидно до слез. Последний птенец рухнул вниз, шмякнулся о палубу, и его писк немедленно затих. Израненные ласточки смотрели на своих мертвых птенцов с обреченностью, хлопали черненькими глазками. А я вдруг захотел их раздавить.
— С хера ли вы им это позволили? — рявкнул я.
— Папа! — сказал Антилл. — Они не виноваты!
— А кто виноват тогда? — рявкнул я.
Цезарион нахмурился.
— Антоний, это просто природа. Она жестока. Тебе ли не знать?
Но я вдруг испытал к птенцам удивительной силы любовь и жалость. К этим маленьким желторотым комочкам, крошечным нелепцам.
— Мы их вылечим, — сказал Цезарион. — И они заведут новых детей. Только не расстраивайся, Антоний.
А я подумал, что сейчас заплачу. И, спрашивается, почему? Из-за дурацких ласточек?
Нет, наверное, нет. Я прижал к себе Цезариона и Антилла, сказал:
— Мои мальчишки!
— Папа, ты чего?
— Того. Ладно, пакуйте своих ласточек. Но, я считаю, лучше их сбросить в море. Они все равно хреновые родители.
О бедные острокрылые ласточки!
Что же будет теперь с вашими детками?
Вот какое еще было знамение. Больше всего на свете я боюсь увидеть, как умрет Антилл. Думаю, Клеопатра думает о Цезарионе примерно в том же ключе.
О, дать бы им возможность сбежать. Дать бы только один маленький шанс, и пусть ищут счастья на чужой земле, пусть забудут родные языки, пусть растворятся среди иноземцев.
Только живут.
Думаешь ли ты, что это знамение было самым худшим? Я, например, считаю именно так.
Впрочем, не будем отчаиваться, нет, не будем отчаиваться. Зато сам день был прекрасен. Мы ели сэндвичи с джемом, чувствовали запах моря, они доверили мне первые тайны своих сердец, а я поделился с ними бесценным опытом мореплавания.
Разве же этого мало, чтобы быть счастливым?
Теперь мне так тепло и хорошо, даже более не тревожно. И я могу идти спать.
Твой брат, Марк Антоний.
Послание двадцать восьмое: Смерти подобно
Марк Антоний брату своему, Луцию, по поводу его поражения, которое он при всех осмеливался называть победой.
Да, битва при Акции, вот, напишу о ней. Казалось бы, это должно быть тяжело. Это и есть тяжело, но будто бы не так, как я ожидал.
Нет, сначала о дне сегодняшнем.
Октавиан прислал к нам, великая радость, своего вольноотпущенника. Парень, однако, пришел говорить только с моей деткой. Беда не в том, что он, по-видимому, убеждал ее предать меня. Этого стоило ожидать, я и сам много раз уверял ее, что такое решение логично и правильно.
Беда была в том, что этот Фирс оказался исключительно хорош собой, по происхождению — грек, и умел держаться в обществе. Короче говоря, я несколько взревновал. Глупо это, правда? Особенно теперь. Однако, когда я увидел, как шепчется он с моей деткой, то пришел в неописуемую ярость.
Я высек его собственноручно, и это доставило мне великое удовольствие. Когда его кожа под плетью лопалась, я ощущал приливы невероятной в такой ситуации радости.
О, сколько злобы выместил я на этом маленьком человечишке.
Моя детка, а ее я заставил на это смотреть, после всего относится ко мне с некоторым беспокойством. Сегодня она сказала:
— Ты пугаешь меня, Антоний.
Окровавленного, едва стоящего на ногах, я послал этого Фирса обратно в лагерь к Октавиану, в рот ему я засунул письмо.
— И смотри не выплевывай, — сказал я.
В письме было сказано следующее:
"Дорогой мой друг Гай Юлий Цезарь, все предыдущие несчастья и неудачи сделали меня вспыльчивым и раздражительным, а твой вольноотпущенник вел себя непозволительно: заносчиво и высокомерно. Я счел уместным наказать его. Полагаю, ты меня поймешь. Если же нет, то у тебя мой вольноотпущенник Гиппарх, высеки его как следует, и мы будем в расчете.
Твой друг, Марк Антоний".
Все это письмо было сплошным издевательством. Сам этот Гиппарх первый из моих вольноотпущенников предал меня и перебежал на сторону Октавиана, будто трусливая собачонка.
Что касается предательства, которое моя детка могла бы совершить — может оно и правильно?
Цезарь у Рубикона, совершая этот важнейший шаг в своей жизни, говорил:
— Если перейду его, умру, скорее всего. Если не перейду, тоже умру, но умру один.
Он выбрал путь сопротивления, положившись на верных друзей, он выгрыз у Рима то, чего желал больше всего на свете.
Я же, то ли от отчаянности моего положения, то ли как-то в целом я другой, выбираю сейчас второй путь.
Пусть умру, но умру один, что уж там, это вполне благородно. Моя детка не должна страдать из-за меня.
Или стоит до последнего губить людей? Как думаешь ты сам? Уже никак, но мне все равно хочется спросить. Все время хочется задавать тебе вопросы, не то чтобы я думаю, что ты ответишь, просто есть ощущение, что так ты рядом.
Вот еще, я поговорил с Эротом. Мы эту тему с ним поднимали уже не раз, но надо было, наконец, сказать все ясно, ровно так, как оно есть.
Мы сидели с ним у меня в комнате. Я чувствовал себя плохо, меня тошнило, я перепил, переел и был одурманен каким-то диковинным зельем из Нумидии, которое, по слухам, доставляло чрезвычайное удовольствие, но у меня вызвало лишь головокружение.
Наконец, освободив желудок от желчи, я откинулся на кровать. Эрот стоял у окна.
— Ты велел мне прийти, господин.
— Чтобы ты посмотрел, как я буду блевать, — сказал я хрипло. — Ладно, на самом деле, я не знал, что меня стошнит.
— Это обнадеживает, господин.
Потолок надо мной кружился, яркие краски, которыми он был расписан, пульсировали.
— Хорошо, — сказал я. — Ты помнишь наш разговор?
— Все до единого, господин.
— О смерти, — сказал я. — Повернись ко мне.
Впервые я заметил на его лице замешательство. Но он сказал:
— Да.
— Забавно, мы знаем друг друга с детства, — сказал я. — Не помню свою жизнь без тебя. И доверяю тебе, пожалуй, мой дорогой друг сильнее, чем кому-либо.
— Мне нравится начало, господин. Но, подозреваю, концовка меня не очень порадует.
Я поднялся с кровати и, шатаясь, подошел к нему. Мы вместе глянули в Александрийское небо, раскаленное, все в искрах звезд.
Кто-то из философов, не помню кто, говорил, что небо — это огонь, и там, наверху, очень горячо. Возможно, это так. Ведь с неба льется на нас тепло, и солнце висит на небе.
Я сказал:
— Ты убьешь меня? Когда будет нужно.
И уже никаких "если". Эрот сказал:
— Ты считаешь необходимой мою помощь?
— Да, — сказал я. — Я много над этим думал. Высшим мужеством было бы сделать это собственною рукой. Но я так люблю жить.
Последняя фраза вышла у меня очень отчаянной, какой-то детской и беззащитной. Эрот нахмурился.
— Разве могу я убить человека, которому служил верой и правдой все эти годы? Как я буду жить после этого?
— Плохо, — сказал я. — Но разве не был я хорошим господином, не наделил тебя всем, чем мог? Разве был я когда-то к тебе несправедлив?
— Никогда, господин, — ответил Эрот.
— Значит, я достоин того, чтобы ты исполнил мою просьбу. Во всяком случае, так мне кажется. Это будет нелегко. И оставит тебе шрам на сердце. Ты станешь убийцей и сильно пострадаешь. Однако, так ты спасешь меня, и этим будешь утешаться.
Эрот помолчал. Потом сказал:
— Если бы ты не был добр ко мне, господин, я бы охотней убил тебя.
— Но ты сделаешь это? — спросил я, схватив его за плечи.
— Я бы хотел, чтобы меня запомнили, как твоего раба.
— Ты вольноотпущенник.
— Но я хотел бы, чтобы все думали: какой верный раб, как служил он своему господину.
— Странная мечта.
Он пожал плечами.
— Но, если ты сделаешь для меня то, что я прошу, ты останешься в истории вернейшим из сердец. Когда-то вольноотпущенник Кассия оказал ему эту услугу. А еще раньше верный раб Филократ оказал такую услугу Гаю Гракху. Прошу тебя, дай мне уйти достойно.
— Да, господин, — сказал Эрот, наконец. — Пожалуй, это первый твой приказ, который я мог бы не выполнить. Но разве в таком случае все мое служение было зря?
Вот такие высокие представления жили у него в голове. Как думаешь ты, выполнит ли он мою просьбу? Я до сих пор в этом не уверен.
Но давай отвлечемся, и я расскажу тебе про битву при Акции.
С самого начала той войны, еще до всякого там Акция, все у меня шло плохо. Октавиан и Пухляш с двух сторон зажали меня в тиски, они были стремительны, лучше маневрировали, и удача, вплоть до направления ветра, все время пребывала на их стороне.
Сначала я смеялся над Пухляшом, над его комиксами, амбициями в строительстве, смешными круглыми глазами и какой-то такой мягкой беззащитностью.
О, думал я, по сравнению со мной, он мальчишка, разве сложно мне раздавить его? По-моему, не нужно и стараться. Все в нем казалось мне глупым. А, в конечном итоге, самое чувствительное поражение мое связано именно с его именем.
Люди навсегда запомнят мальчишку Агриппу, который победил великолепного Марка Антония.
Считаю ли я себя стариком? Ну, мне пятьдесят три. Я этого не чувствую, наоборот, какой же это возраст? Старик из комедии "Хвастливый вояка" говорил, что ему всего-то пятьдесят четыре, и это не возраст. Но в самой-то комедии персонажи считали его стариком.
Публий любил повторять, вслед за своим дедом, что человек становится старым, когда ему перестает быть скучно в тепидарии, и он рад погреться в теплой комнате вместо того, чтобы, подобно молодежи, сразу окунаться в воду.
Согласно этому признаку, я еще не вполне утерял свою юношеский пыл, в тепидариях мне скучно и муторно, я стремлюсь скорее в воду.
И все-таки Агриппа младше меня на двадцать лет, он мальчик, у него нет моего опыта. Проиграть ему стыдно. Я признаю: Акций — мое поражение, тут нельзя сказать иначе. Однако же, когда речь заходит о нем перед нашими гостями, я всегда выставляю дело так, будто и собирался только лишь улизнуть от противника и выиграть время.
Разве это хотя бы отчасти не правда? Не сбеги тогда моя детка, кто знает, может, война закончилась бы намного раньше, и я не располагал бы роскошью убить себя в любое удобное мне время.
Так или иначе, все в этом мире случается правильно и в правильное время. Мое великое поражение — тоже. Не стоит с этим спорить.
В любом случае, я находился в крайне невыгодном положении, стараниями щенка Агриппы, я оказался без продовольствия — он установил блокаду на море.
Хитрости мне не занимать, это уж точно. Я был лишен естественных источников пресной воды, у Октавиана же ее было вдоволь, однако удачно возведенные запруды помогли мне отобрать у Октавиана это преимущество. Людей у меня на кораблях не хватало, однако я для вида вооружал гребцов, чтобы флот мой выглядел внушительнее, и так мне тоже удавалось обвести Октавиана вокруг пальца. Однако, все это временные решения, они ничего не стоят без качественной стратегии. А я, как уже говорил тебе, не стратег. Впрочем, ты знаешь и сам. Вся моя жизнь говорит о том, что я не стратег.
Саму битву я помню плохо. Во-первых, я никогда не был силен в боях на море, что бы ни заливал своим мальчишкам, во-вторых, я уже ощущал, как земля сыпется у меня под ногами, и одна неудача порождала другую.
Помню, как жег корабли. Причем, помню хорошо — запах горящей древесины и горячей воды.
Народу у меня, как я упомянул, не хватало. У Октавиана же людей было в избытке, и я опасался, что он захватит мои корабли и использует их против меня. Вполне разумное решение, не правда ли? Во всяком случае, врагу не достанется то, что не могу использовать я. Уж Октавиан бы нашел моим кораблям применение, поэтому лишние, те, для которых не доставало людей, следовало уничтожить, оставив лишь самые лучшие посудины.
Вот так. Все правильно. Но мне почему-то было грустно. Я наблюдал за горящими кораблями, словно бы видя собственное поражение еще до того, как оно со мной случилось. О, это зарево, о, как взвивался огонь к небу, как легко поглотил он корабли, рыжий, злой огонь. Я подумал о Фульвии.
О, любимая, подумал я, не злись, огонек, дай мне удачи.
Но моей мертвой Фульвии было за что обидеться на меня, так что удачи — как ни бывало.
Да и не только я один чувствовал, что дело плохо. Воины жаловались на то, что морской бой им знаком плохо, что они, дескать, не знают, как действовать. Один ветеран как-то остановил меня и спросил, неужто я, мол, больше не верю мечу и полагаюсь на бревна и доски, а тем более — на коварные волны. И попросил дать им земли, на которой нужно биться, ибо там твердо стоят они на ногах. Я даже не знал, что ему ответить.
Как объяснить простому солдату, что мы нуждаемся в прорыве блокады, в том, чтобы получить преимущество на море, а не то начнем умирать от недостатка воды и пищи? Бедные мои ребята. Многие из них утонули просто потому, что они не умели плавать.
Ничего глупее, чем устраивать битву на море, невозможно было и придумать. Но и ничего кроме мне не оставалось.
А корабли горели. Как же красиво. Будто наложенный на небо искусственный закат.
Нет, прежде Акция, знаешь, что еще было весело?
Хитрюга Октавиан знал мои маршруты, один из которых пролегал по узкой дорожке к берегу. Однажды он решил, так сказать, отделаться малой кровью и отправил своих воинов захватить меня. Впереди шел Лелий, мой старый знакомый и верный воин, и солдаты Октавиана, выскочив из засады, схватили его, видимо, перепутав нас. А я, помню, тогда пустился бежать. И как я бежал — сердце билось, словно у мальчишки, и небо надо мной плыло быстро и сверкало яростно, я боялся, но я и радовался тому, что еще умею так вот удивляться, так переживать, так бежать. И почувствовал, что мне двенадцать лет, не больше.
Я даже благодарен Октавиану за такую выходку. Это щедрый дар, он и не представляет, насколько. Снова победить в детской игре.
Только в детской игре я и победил.
Даже не помню, что говорил своим доблестным солдатам. По-моему, это мне не свойственно, ты знаешь, я освещал чисто технические моменты.
Огонь битвы разгорался медленно, а горел ярко. Но, как бы ни сверкал он, как бы ни сиял — я понимал, что проиграю. Есть такое чувство, готов поспорить, ты испытывал его в тот момент, когда Перузию еще только только осадили.
И в моменты великих побед такое чувство бывает, ты уже знаешь, что все сможешь, едва начался бой. И в моменты великих поражений — такое бывает. Ты уже знаешь, что проиграешь.
Вот и я знал. Смотрел на всю эту раскинувшуюся передо мною картину безо всякого огня, без сомнения. Мне было известно, хотя формальные признаки поражения еще не появились, что битва у мыса Акций станет моим позором на веки вечные.
А потом корабли моей детки подняли паруса, и она устремилась в открытое море, прочь от наших лагерей, бедствий и попыток сладить с Октавианом.
Испугалась ли она? Я не думаю. Но вряд ли у нее так же возникло ощущение близкой беды — она слишком плохо разбиралась в войне.
Думаю, моя детка решила спасать золото, корабли и саму себя. И это наверняка было взвешенное и осознанное решение. Можно сказать, даже по-женски мудрое.
Но какого хера поперся за ней я? Скажи-ка мне! Давай, скажи! Скажи, как все они говорят — Антоний совсем обезумел.
Вот это — правда. Я вдруг испугался, что никогда больше не увижу ее. Совсем-совсем.
Я предал своих солдат, предал друзей. Я не смерти убоялся, а лишь того, что не взгляну ни разу на бедную мою детку.
Я погнался за ней, а когда догнал, с одной лишь целью только раз взглянуть, и когда со своего корабля перешел я на ее корабль, мне вдруг расхотелось смотреть на мою детку вовсе.
Я почувствовал к ней отвращение. А, может, к себе.
За мной гнался один навязчивый парень, Эврикл, кажется, а, может, и нет, и все пытался прикончить меня метким ударом копья, но у него никак не получалось прицелиться. А я так отчаялся, что крикнул ему, главным образом, чтобы его подбодрить:
— Это кто там так упорно гонится за Антонием?
Он крикнул мне в ответ:
— Я, сын Лахара, Эврикл, которому счастье Цезаря доставило случай отомстить за смерть отца!
— А! — крикнул я в ответ. — Помню! Папа твой — пират! Да и хуй бы с ним! Хуй бы с ним, слышишь!
Я надеялся, этот Эврикл меня и прикончит. И история-то красивая, детям своим расскажет, и вот здесь, сейчас, оно лучше всего — в минуту позора, которая еще не превратилась ни в час, ни в день, ни в вечность.
Однако Эврикл, отчаявшись достать меня, переключился на другое судно с драгоценностями.
А я уплывал все дальше и дальше от войны, которую только что окончательно проиграл.
В конце концов, я сел на носу у судна, так же, как мы с мальчишками еще совсем недавно, и стал глядеть в воду. О, ласковый шелк моря, о сине-зеленый его цвет и резкий, острый запах.
Глядя в море, я себя потерял. И то было великое счастье для великолепного Марка Антония — избавиться от великолепного Марка Антония.
Я не злился на мою бедную детку и даже не стыдился ее. Я лишь хотел перестать существовать на какое-то время. Так сказать, очистить разум. Однако, думаю, на корабле все полагали, что я сошел с ума или ненавижу царицу Египта, или еще что-нибудь такое же драматичное.
Что касается меня, я лишь смотрел на море, и море было синее, как мне и хотелось.
Мы причалили в Тенаре. Там я впервые увидел мою детку. Когда корабль остановил свое движение, море отпустило мое сердце, и я вернулся в место, которое стоит назвать реальность. Весьма, надо сказать, безрадостное место.
Ирада и Хармион вились вокруг меня.
— О, — говорили они. — Царица так тоскует.
— Ты не представляешь себе, господин, как она любит тебя сейчас.
— Как боится!
— Как жаль ей, что все вышло именно так!
Я отмахивался от них, как от навязчивых мух.
Я так мечтал об одном взгляде на мою детку, а теперь вдруг не захотел смотреть.
Мы встретились уже на суше. Стояли друг перед другом и смотрели. И я понимал: не видел в своей жизни ничего красивее.
А она, наверное, что-то такое понимала про меня. В конце концов, моя детка бросилась ко мне в объятия.
Мы трахались всю ночь, изучая друг друга заново. И ни словом не обмолвились о том, что случилось.
А наутро стали прибывать друзья, уцелевшие в морском сражении. Я встречал их с тревогой и стыдом. Да, бой был проигран, как я и ожидал. Однако мне сказали, что сухопутные силы, под предводительством Канидия, еще держатся. Я отправил к Канидию послание, в котором ему предписывалось как можно быстрее уводить остатки войска через Македонию в Азию.
Друзья мои были со мной мягки и добры. Ни словом, ни делом не намекнули они мне на ужас, который я сотворил при Акции, сумасшедший.
Тогда я понял, что предатели умнее и дальновиднее верных. Но почему это предатели наслаждаются своим спасением, а верные должны погибать? Я собрал друзей и сказал им:
— Мои дорогие, эта война, в конце концов, окончена. Остаются невнятные телодвижения, но что это все значит по сравнению с вашими жизнями? Мечтаю я лишь об одном, чтобы вы взяли дар, который я хочу преподнести вам, и отправились в безопасное убежище. Будьте добры ко мне и, прошу, не спорьте.
А они спорили и плакали. А я не плакал, хотя я ужасно сентиментален. Так и увещевал их ласково, как отец — любимых детей.
— Прошу вас, будьте благоразумны. Предатели уже спаслись, хочу ли я, чтобы погибли друзья? Мне будет в радость знать, что чистые, добрые сердца продолжают жить. Пусть для этого вам придется помириться с Октавианом, я не буду против, и не сочту это за предательство. Я ведь сам прошу о такой услуге. Для меня. Я буду знать, что спас многих своих друзей.
Мы говорили долго и, наконец, друзья мои (нет смысла перечислять их поименно) согласились практически все.
Я отобрал из спасшихся кораблей моей детки тот, в котором везли самый роскошный груз — деньги и драгоценности. Я сказал:
— Разделите между собой здесь все по справедливости и отправляйтесь в Коринф.
Я сопроводил свое напутствие письмом к моему управляющему с просьбой (не приказом уже, просьбой!) о предоставлении убежища предъявившим его людям.
Все плакали, я не плакал. Не мог плакать.
В конечном счете, после долгих увещеваний почти все согласились со мной и, приняв мои дары, отправились в свой собственный путь. Я же собирался в Африку.
Я сказал: почти все. Двое остались со мной — грек Аристократ, мы с ним учились вместе ораторскому искусству, однако дружба сложилась лишь потом, во время моего путешествия по Греции после битвы при Филиппах, и Луцилий, с которым меня судьба свела при тех же Филиппах, тот самый, что выдавал себя за Брута.
Забавно, да? Триумф, вознесший меня до правителя трети мира, дал мне также и самых верных друзей, которые не оставили меня в беде, как бы я их ни просил.
Просил я искренне, но такая верность, верность до конца, делает честь этим ребятам.
Я отправился в Африку. Там расстался с моей деткой, она отбыла в Египет, я же не знал, куда себя деть. Луцилий и Аристократ утешали меня добрым словом и, как могли, старались поддержать мой боевой дух.
— Не все потеряно, — говорил мне Луцилий. — Скарп еще держит Африку.
Луций Пинарий Скарп, мой добрый друг или, лучше сказать, дружочек действительно был наместником Кирены, и на него я возлагал определенные надежды. Я рассчитывал добраться до него побыстрее и обсудить с ним всю ситуацию. Это был очень мудрый человек, хоть и молодой, он мог мне помочь.
Но, видать, оттого, что Скарп был человек мудрый, он и предал меня. Узнав о том, что Кирена перешла на сторону Октавиана, я был более в горе, чем в ярости.
— О несчастный Марк Антоний! — воскликнул я. — Стоит ли тебе жить, если дружба твоя так мало стоит для людей, а твои надежды тают, как утренняя дымка!
В тот момент, помню, я выхватил меч и попытался вонзить его себе в живот. Луцилий и Аристократ удержали меня, им было сложно со мной справиться даже вдвоем, и я хорошенько наподдал обоим, сопротивляясь.
Жалею ли я, что тогда меня удержали?
Пожалуй, да. В тот момент я ощущал как никогда сильную решимость умереть. Не разум, но чувства мои — они были ярки и готовы. И я на самом деле мог совершить все без страха и сожалений с силой, которая, как я полагаю, помогла бы мне закончить дело быстро.
Друзья держали меня, а я кричал:
— Зачем? Зачем это все нужно? Зачем отдалять неизбежное!
И Аристократ сказал:
— Потому что это и есть жизнь — отдаление неизбежной смерти.
Он всегда был такой философский парень, еще в молодости. А я, в общем-то, нет. Зато Луцилий сказал:
— Потому, что еще нет вестей от Канидия, друг Антоний. Будь добр к своим друзьям, дождись этих вестей. А дождавшись, решай как знаешь. Представь себе нашу боль, если дело твое еще не проиграно, и мы узнаем об этом, когда сам ты окажешься мертв.
О, он нашел нужные слова. Я позволил им увезти меня, отчаявшегося, в Александрию.
Помню, мы с Луцилием беседовали, я говорил ему:
— Не понимаю, чем я все это заслужил, друг мой?
А он отвечал мне честно, безо всякого лукавства.
— Такова была твоя жизнь, Антоний. Если ты не жалеешь о том, как прожил ее, то прими и горькие плоды и сладкие с одинаковым достоинством.
Очень мудрые слова. Стоили ли все плохие вещи, со мной произошедшие, всех хороших? Думаю, да. Те слова Луцилия отпечатались в моем сердце, и они поддерживают меня в минуту тоски.
А тогда Луцилий дал мне еще кое-что. Маленький резиновый мячик из тех, которые называют попрыгунчиками, они легко и игриво отскакивают от любых твердых поверхностей и с радостью устремляются вверх.
Мячик был синий с белыми разводами. Похож был на летнее небо в облаках. Я поигрался с ним и только потом спросил:
— Это чего?
— Игрушка моего сына, — сказал Луцилий. — Он давно умер, еще в совсем юном возрасте.
— Сочувствую, — сказал я.
— Он был очень умный мальчик. Однажды я переживал по какому-то незначительному поводу, в молодости мне это было свойственно, а он играл с этим мячиком. Мы разговорились, и мой сын сказал: когда тебе грустно, смотри на этот мяч. Он подпрыгивает высоко, а потом падает. Но, падая, снова отскакивает от земли. И чем выше он взлетает, тем с большей высоты падает. А чем с большей высоты он падает, тем выше взлетит снова.
Я сказал:
— Мудро.
— Он говорил все это менее гладко, время отшлифовало для меня те слова. Да, даже если в твоем случае мяч больше не взлетит, просто думай о падении как о чем-то, что происходит лишь после полета.
— Какой все-таки мудрый ребенок, — сказал я.
— Дети бывают мудрее нас.
А я подумал: какое счастье, что Цезарион и Антилл отправились в Египет с моей деткой. Как хорошо, что сейчас они в безопасности.
В Александрии меня встретила царица Египта, она была столь взволнована, что я не узнавал ее. У нее был план: сбежать из Египта со всеми своими сокровищами, с остатками войска. Она уже предприняла отчаянный рывок, но он не удался: при попытке выйти в Аравийский залив несколько ее кораблей было сожжено.
Я понимал, что сама идея — глупая. Что будем делать мы в мире варваров с небольшим войском, которое так легко перебить? В лучшем случае, наши головы пришлют Октавиану.
Впрочем, после той беседы с Луцилием, я пребывал в необычайно хорошем настроении. Мне казалось, что после любого падения обязательно последует отскок. Я обнял мою бедную детку и сказал:
— Тебе не надо печалиться. Быть может, нас с тобой постигла неудача, однако мы не утратили еще окончательно нашей с тобою силы и власти.
И вдруг она заплакала. Она сказала:
— Мой милый бычок, я не хочу умереть, как Береника. Я не хочу, чтобы мне отрезали голову!
— Ну-ну, тебе не придется умирать. Я жду вестей от Канидия. Теперь мы дадим бой на суше, а здесь, будь уверена, я мастер.
— Мне отрежут голову. Я узнаю, как голова отделяется от тела. Я так боюсь!
Я прижал ее к себе и сказал:
— Тихо-тихо, бедная моя девочка.
И не стал говорить ей, что, скорее уж, она будет удушена после триумфа Октавиана. Впрочем, Октавиан мог оставить ей жизнь. Когда-то младшая сестра моей детки, Арсиноя, участвовала в триумфе Цезаря, и народ проникся к ней сочувствием и любовью. Цезарь пожалел пленницу, хоть она и была непримиримым врагом моей детки. Позже до нее добрался я сам. Арсиною обезглавили по моему приказу в храме Артемиды Эфесской.
Обезглавили лишь потому, что на этом настояла моя детка. Теперь, думаю, она вспоминала.
Одна сестра умерла, узнав, как голова отделяется от тела, вторую царица Египта сама подвела к той же смерти. Оставалась третья сестра.
И моя детка полагала, что ее ждет та же участь. Это было бы справедливо.
Как она плакала.
— Не хочу! — кричала она. — Не хочу умирать!
Она колотила меня руками, завывала, дергалась. А я, успокаивая ее, как и всегда со мной в таких случаях бывало, обрел покой.
Правда, он длился недолго.
Пару дней спустя я очнулся от страшного ощущения — я не мог дышать. Мне было душно, тесно и страшно. Это ощущение не прошло после того, как я выпил. И не прошло оно даже после того, как я напился.
Я не мог смотреть на людей — от них меня тошнило. Ото всех людей, решительно, включая меня самого.
Я подумал, что могу причинить боль моей детке или кому-то из верных друзей, которые, презрев опасность, остались со мной. Поэтому, ощущая приближение бешенства, я решил удалиться от мира.
Я устроился прямо в море, среди буйных волн, на недавно построенной мною на скорую руку дамбе, которая призвана была стать защитою города при наступлении Октавиана. Там я удобно расположился, взяв с собой лишь вино и никакой еды, никаких слуг, никаких развлечений, кроме, разве что, мячика.
Я ходил по дамбе вперед и назад, играясь с небесным мячиком, и все боялся, что он ускачет в море, но в последний момент мне всегда удавалось поймать его.
Я боялся, но все равно бросал этот мячик. И попрыгунчик отскакивал, устремлялся вверх. Сколь легко было потерять его там! Сколько неизбежно!
Но я ни разу его не уронил. Впрочем, что значит ни разу? В таком опасном месте достаточно лишь одного происшествия.
Да, я бросал мячик и пил вино, и, пьяный, мочился с дамбы в море. Такова была моя нехитрая программа. Всех, кто пытался поговорить со мной, я отсылал, говоря, что люди мне ныне противны и ненавистны, как известному мизантропу Тимону.
Разумеется, это была неправда. У меня легкий человеколюбивый характер. Однако, чувствуя свое бессилие перед накатившей злостью и болью, я старался убежать от людей и успокоиться в одиночестве.
Что до Тимона, в детстве меня этот персонаж всегда смешил. Был такой грек, он ненавидел всех людей, никого не звал в гости и сам в гости не ходил, только настойчиво предлагал всем повеситься на смоковнице, что стоит у него подле дома. Короче, ты наверняка помнишь.
У него еще была смешная эпитафия, что-то вроде: здесь лежу я, Тимон, уйди же скорее! Можешь меня обругать, только скорей уходи!
О, как же смешила меня эта эпитафия, в детстве я хохотал над ней до слез. И, помнишь, говорил, когда не хотел вас с Гаем видеть: можешь меня обругать, только скорей уходи!
На третий день от вина, одиночества и голода стали ко мне приходить видения. Вернее, одно.
Это на самом деле история о нашей короткой встрече.
Мы сидели с тобой на дамбе и болтали ногами над дикими зелеными волнами.
Я сказал:
— Как я проебал-то все, Луций, милый друг?
А ты, совершенно живой и куда моложе, чем в последний раз, когда я тебя видел, мне отвечал:
— Да ладно.
— У меня всего и есть, что этот мячик.
— Красивый мячик, — говорил ты. — Завидую тебе.
— Ну да. Неловко вышло.
— Да ничего, Марк, все нормально.
А я не понимал, живой ты или мертвый. Казалось, будто где-то посередине, еще не там, уже не здесь. Сложно объяснить то ощущение.
Я говорил тебе:
— Я так устал. Даже думаю, может, я достаточно пьяный, чтобы упасть отсюда. Вниз, в море. Я разобьюсь о воду, а если нет — так утону. И ничего уже не случится плохого.
— Брат мой, — ответил мне ты. — Разве не у тебя я учился никогда не сдаваться?
— Я пытался научить тебя, но сдался.
Мы засмеялись, я снова посмотрел вниз, туда, где волны вылизывали дамбу. О, сколь прекрасна жизнь, но сколь трудна.
Наверное, так можно сказать обо всем стоящем. Такова же и любовь. Такова же и война.
Я попытался обнять тебя, но ты исчез и появился с другой стороны от меня.
— Жаль, я мало говорил с тобой в последние годы.
— Мы стали меньше друг друга понимать.
— Но я любил тебя. И люблю.
— Я знаю.
— И я больше не злюсь.
— И это я тоже знаю, Марк.
Так мы и сидели, будто бы на краю мира. Так бесконечно далеко от моих нынешних проблем. Вспоминали маму, и Гая, и Публия. И даже немножко — отца.
— Ты думаешь, — спросил я. — Отдельная человеческая жизнь значит мало?
— Сложно сказать, — ответил ты. — Я исчез, и кто вспомнит обо мне? А ты будешь жить и после всего.
— Как лошара. Как самый отстойный лошара за всю историю Рима.
— Нет, — ответил ты. — Кориолан — самый отстойный лошара за всю историю Рима.
— Ну спасибо. Даже тут я не лучший.
— И шутка не первой свежести.
— С каждым словом все хуже и хуже.
А на самом деле ведь я смеялся с самим собой. Вот что главное. Я так хохотал, но я был один. А ты — где-то, но не со мной. Или нигде вовсе.
— Но жизнь продолжается, — сказал я. — Даже здесь, в моем Тимоновом храме.
— В твоем Тимоновом храме, — эхом откликнулся ты. — Здесь продолжается жизнь. Да чего еще ты хочешь, Марк? Что лучше этого?
— Чтобы все были живы и в порядке, — сказал я. — И чтобы великолепный Марк Антоний — прямо на вершине славы.
— На то он и великолепный Марк Антоний, чтобы всегда оставаться там.
Как приятно было поговорить с тобой, даже зная, что ты лишь снишься мне наяву. Может, оттого даже лучше и слаще.
Встреча с умершим, даже если она страшна, все равно всегда прекрасна. Теперь парфянские видения не казались мне жуткими, я их, наконец, понял.
Я провозгласил:
— Однажды люди скажут: этот великолепный Марк Антоний, почему он так сглупил?
— Потому что был долбаебом, — ответил ты. — Сами ответят на свой вопрос.
— А, может, они скажут: из-за любви?
— А разве не так? И разве одно другое отменяет?
Я рассматривал тебя, пытаясь понять, что же не так. Почему ты живой, но не совсем.
Вдруг понял: глаза совсем тусклые. И волосы, да. Я подумал, что, если сумею прикоснуться к ним, они будут холодные и жесткие.
А ты сказал:
— Все хорошо.
Я сказал:
— Все будет хорошо.
Вот и поговорили.
Ради одного лишь Канидия я нарушил свое уединение. Я пригласил его к себе, и мы стояли на дамбе, глядя на волны.
— Ну, — сказал я, все прекрасно понимая. — И что ты хочешь мне такого интересного рассказать.
Канидий ответил:
— Войска перешли на сторону Октавиана.
— Правда что ли?
— Все правда, — ответил Канидий, мой дорогой друг и талантливый военачальник. — Сам знаешь, почему.
— Сам знаю, — ответил я. — А ты что же? Почему не перешел?
— Потому что буду верен тебе до самого конца. Ты мой друг, и я не могу тебя бросить.
О, Канидий, он нахмурил густые седеющие брови. Брови у него почему-то начали седеть первыми, причем совсем еще рано. Мы познакомились давным-давно, он одним из первых перешел на мою сторону, когда я переманивал солдат Лепида. И никогда меня не покинул.
А говорят: предаст один раз, предаст и второй. Не всегда оно так.
— Хорошо, — сказал я. — Так что с армией?
— Я же сказал.
— Повтори еще раз.
— Она потеряна. Солдаты перешли на сторону Октавиана.
И я сказал:
— А и хуй с ними.
— Царь Ирод тоже перешел на службу к Октавиану вместе со всеми войсками.
— А и хуй с ним.
— Как и остальные правители.
— А и хуй с ними.
— Антоний, ты проиграл.
— А и хуй со мной, — сказал я.
В тот момент я почувствовал прекрасную и великую свободу — свободу от себя самого.
Я сказал:
— Как насчет того, чтобы прибухнуть, друг Канидий?
Он помолчал.
— Брови у тебя совсем белые.
— От ужаса.
— Ну и хуй бы с ними. Пойдем, друг, бухать или не пойдем?
И он, должно быть, решив, что это единственный способ выманить меня из Тимонова храма, ответил:
— Пойдем.
Ах, как мне стало легко и хорошо. Больше ни о чем не надо волноваться — я просто проиграл, и это не страшно.
Бывают и другие победы. Вот, победа над трезвостью — для примера.
Пойду осуществлю ее, так как такого рода бои всегда удавались мне лучше всего.
Думаешь ли ты, что я трус? Жаль, тебе никак не ответить, а то мне очень важно услышать твое мнение. В самом деле, ведь я твой старший брат. С кого, как не с меня, брал ты пример во всем.
И вот теперь мне смертельно надо, чтобы ты меня не презирал.
А ты умер.
Ну да ладно, с моей стороны это все ужасно эгоистично. Спокойной ночи, и будь здоров (что-то я забывал тебе это писать в последнее время).
Будь здоров — обязательно!
Твой брат, Марк Антоний.
Послание двадцать девятое: Приятное времяпрепровождение
Марк Антоний брату своему, Луцию, куда-то туда.
Здравствуй, брат мой, как горячо я приветствую тебя, как желаю, чтобы ты сейчас оказался рядом и разделил со мной мою радость.
О, как мне хорошо, как сладко! Я есть я, я не могу, просто не умею долго унывать!
Да, дорогой мой друг, все еще может повернуться хорошо. Не в общем и целом, а, скорее, для меня самого — для моей жизненной истории. Все еще может наладиться. Я говорю не о жизни, нет, только о правильной, гладкой, приятной на ощупь смерти, смерти, которая меня не опозорит.
Я не жил правильно, но, может, правильно умру.
Впрочем, надо объяснить тебе причину моей радости, она проста. Сегодня случился бой у конского ристалища, бой прекрасный, в стиле великолепного Марка Антония. Находясь в очень невыгодной позиции изначально, я вдруг продемонстрировал свою храбрость в полной мере, и эта сила, эта радость передалась моим солдатам. О, вторгшегося в город Октавиана гнали мы до самого его лагеря, и конь мой был быстрым, а меч — красным от крови, как и положено моему мечу.
Как прекрасно, подумал я, как радостно и чудесно, разве есть на свете хоть что-нибудь лучше, чем нагонять неприятеля?
До самого лагеря, брат мой, до самого лагеря. И по небу надо мной путешествовали облака, так же быстро, как я, они мчались в ту же сторону, что и я. Полнейшая гармония с природой.
С точки зрения войны в общем — эта победа мало что значит. Однако я, как ты знаешь, не стратег, а тактик.
Моя детка говорит, что стратегия состоит из множества удачных тактик, а еще, что нет никакого смысла в хорошей тактике при плохой стратегии.
Но это все такая херня — смысл есть во всем и везде, а мир — радостен и прекрасен. И, главное, он дал мне шанс. Доказать, что я не трус.
Сначала я шел в бой, мечтая умереть хорошей смертью. Но, когда мне удалось переломить ситуацию, оказалось вдруг, что есть что-то помимо смерти: азарт, волнение, присущая мне жажда крови. Все как обычно.
И я расхотел умирать. Пока, во всяком случае, не гляну, как Октавиан убирается в свой лагерь, перепуганный насмерть.
На это мне поглядеть удалось. Жизнь прошла не зря или не совсем зря.
Вот мы вернулись во дворец, и самого храброго из своих воинов я подвел к моей детке. Притянул ее к себе, поцеловал так крепко и так сладко, а потом сказал:
— Вот, гляди, это Марк Фослий, солдат, который сражался храбрее всех сегодня на поле боя. Прошу тебя, милая моя, награди его как можно более щедро.
О, в деньгах у нас недостатка не было, а в могилу их не заберешь все равно. Легко быть щедрым на краю смерти, легче, чем когда-либо.
Моя детка погладила меня по щекам, в глазах у нее стояли слезы. Она отвела от меня любящий взгляд и сказала солдату:
— Хорошо, Марк Фослий, это великая честь — вручить тебе награду.
Моя детка подарила ему панцирь и шлем из чистого золота. Еще ее отец заказал такие занятные вещички — он хотел воспроизвести в золоте облачение Александра Македонского.
Дорогой подарок, а и ладно, и слава богам, что дорогой. Пусть мальчишка радуется, продаст или детям показывает, да как ему больше нравится.
Доблесть и смелость должны вознаграждаться по заслугам, и тогда мы, наконец-то, заживем.
В общем, состоялось торжественное вручение золотых доспехов, и я чуть не прослезился — такая прелесть. После этого я, опьяненный своей победой, вызвал Октавиана на поединок. Говорю, мол, давай решим с тобой это дело один на один, только ты и я, кто победит, тот и прав, в конце концов. Очень по-римски. Можно даже случайно доказать, что ты достойный, смелый человек.
Через пару часов пришел мне такой ответ:
"Марк Антоний, здравствуй!
Я получил твое письмо, рад был прочитать его и узнать, что ты в добром здравии, если уж предлагаешь мне такого рода физическую активность. Однако, я вынужден отказаться. Разве не глупо с моей стороны будет, фактически выиграв войну, согласиться на поединок? Любое подражание прошлому должно происходить не в ущерб дню сегодняшнему.
Впрочем, если ты ищешь смерти, Антоний, тебе открыто к ней множество дорог.
С большим к тебе уважением, Гай Юлий Цезарь."
Опять прочел это имя, опять вздрогнул — да как же так? Что касается его ответа, излишнее понтометство, на мой вкус, предложить мне выбрать другую дорогу к смерти. Как будто щенуля мог победить меня. Он испугался.
Так я и сказал моей детке:
— Он испугался! Испугался!
Я потряс письмом перед ее носом.
— Испугался, можешь себе представить! Ссыкло!
Моя детка положила руку мне на лоб.
— У тебя жар, Антоний!
Она печалилась, а я смеялся. Шутка, по-моему, удалась.
— Это письмо надо спрятать, — сказал я. — Мы его оставим потомкам, которые поймут, какой щенуля все-таки трус.
— Будущее будет таким, каким его хочет видеть Октавиан, — сказала моя детка. — И мы будем такими, какими он хочет нас видеть. Мертвые всегда находятся во власти живых.
— О, — сказал я. — Моя милая Клеопатра, ты говоришь так, будто это какой-то серьезный вопрос. Разве есть какая-нибудь разница?
Она вывернулась из моих рук и сказала, что ей необходимо заняться подготовкой. Так она называла свои эксперименты с ядами.
— Не хочу умирать, — сказала она мне напоследок, вдруг вся отвердев, всем телом, будто бы настоящий окоченевший труп. — Не трогай меня, я не хочу умирать.
Одно с другим вроде бы и не связано, а на самом деле — связано.
Могу ли я утешить ее в горе? Как думаешь? С одной стороны, всегда ты один наедине со своей смертью. С другой стороны, разве не нужны нам тепло и ласка, если уж любовь — такой страшный враг смерти.
Сложно сказать. Думаю, я умру завтра, и теперь всего мне недостаточно — вина, еды, моей женщины. Хочется успеть важное и не тратить время на мелочи. Казалось бы, я не должен тогда писать тебе и разговаривать с мертвым, какой в этом высокий смысл, если уж скоро мы будем вместе или не будем вообще?
Но я этого хочу, не знаю, почему, просто так я успокаиваюсь и радуюсь, и прикасаюсь еще раз к моей жизни, и кидаю на нее последний взгляд.
Завтра я дам бой Октавиану, и это будет финальный бой. Так я умру. Великое облегчение знать, как именно умрешь. И не придется делать это собственной рукой.
За ужином я столько съел и выпил, что теперь мне плохо. Не хватало еще мучиться болями в животе перед финалом всего представления. Но я, опять-таки, не жалею.
Знаешь, чего я хочу? Виноградной газировки. Только стаканчик, не больше, но у нас все закончилось. Надо же, всего вдоволь, а виноградной газировки ни капли даже. Может, поэтому я так сильно ее хочу?
Она такая фиолетовая, поэтому выпить я ее хочу из пластикового прозрачного стаканчика. И чтобы пузырьки лопались на языке. И чтобы сладость еще долго оставалась в горле.
Велел Эроту обыскать все, может, он что-то найдет. Помнишь, мы пили с тобой такую в детстве? Там на бутылке, на этикетке, виноград с мультяшными глазами и дугой-улыбочкой.
Как же ж она называлась?
Хочу такую.
А рабам своим я сказал:
— Давайте мне чего-нибудь пожирнее, кто знает, кого вам потчевать завтра, щенулю Октавиана или его друга Пухляша. А я стану мертвым, а потом обращусь в пепел, и тела моего не останется тоже.
Друзья мои распереживались, и я утешил их, сказав, как люблю и ценю своих людей, всех вместе и каждого в отдельности.
— Завтра, — сказал я. — Никого из вас я не возьму с собой. Я иду умереть, а вы должны жить. И рассказать обо мне потом вашим детям, детям ваших детей и прочим отпрыскам, будьте уж добры.
А ведь когда-то я обещал им, что они умрут со мной.
Да, когда-то — ведь даже не так давно.
После моего возвращения в Александрию. Тогда я первым делом отпраздновал совершеннолетие Антилла, отпраздновал шумно, с народными гуляньями. Мой старший сын надел тогу, надо же! Можешь ты себе это представить? Не то чтобы мне хотелось поддержать так народ — что толку от мальчишки, которому только исполнилось шестнадцать.
Я просто подумал: вдруг не успею увидеть, какой он будет в тоге, какой чувак из него вырастет прикольный.
Совершеннолетие Антилла мы отпраздновали раньше времени и не по правилам. Не думаешь ли ты, что я испортил его величайший праздник? Но ведь хорошо провести его со своим отцом. Да и вообще, такой вот у него был теперь опыт — надеть тогу и стать взрослым.
Скажу тебе честно, я жалел о том, что Фульвия этого не увидела. Мы сделали фотку, зачем-то, никто ведь ей не воспользуется никогда, все причастные умрут. Помню, Цезарион (тоже недавно записанный в эфебы по греческому обычаю) сфотографировал меня и Антилла, а потом долго тряс фотографией, когда она вылезла из пасти фотоаппарата, и ждал, пока снимок проявится. Сперва он посмотрел на него сам, убедился, что вышло удачно и тогда только дал его нам.
Я сказал:
— Странное дело, и на маму и на меня похож, даже так и не скажешь, на кого больше.
Антилл сказал:
— Я нормально выгляжу? Тут прыщ уродский.
— Да его не видно особо. Ты красавец!
— Не очень-то.
— Всем юношам так кажется. Кроме меня, я всегда знал, что выгляжу лучше всех.
— Тяжело конкурировать с таким отцом.
— Это точно! Так, Цезарион, дай сфоткаю тебя с мамой.
Цезарион с великим почтением к громоздкой черной коробочке снял шнурок, на котором висел фотоаппарат со своей шеи и передал его мне.
— Только аккуратно.
Он так любил фотографировать. Не любил, любит. Может часами выслеживать идеальный кадр с какой-нибудь унылой ящеркой. И картинки действительно получаются отличные — талант.
Я никогда не знал, что делать с этой здоровенной коробкой. Моя детка обняла Цезариона, он был уже намного выше ее, и рядом смотрелись они смешно.
— Улыбнитесь, ну! Ну хоть немножко!
Улыбки сделали их очень похожими. Я нажал на кнопку и подождал, пока вылезет фотокарточка.
— А теперь кто-нибудь сфотографируйте нас с Селеной, Гелиосом и Филадельфом, — сказал я. — Маленькая убийца, иди сюда!
В общем, много мы нащелкали. Потом я долго рассматривал фотографии и все время возвращался к нашей с Антиллом. Она принадлежала не только мне.
В конце концов, я сходил в храм местного бога смерти и спросил у тамошнего жреца:
— А можно как-нибудь фотокарточку передать жене?
Помолчав, добавил:
— Бывшей. Нынешней я и сам могу передать. Просто это ее сын, и вот, гляди, он мужчина уже.
Я посмотрел на статую. Так странно про этого Германубиса. У него голова шакала, но не схематичная, как на доптолемеевских изображениях, а очень реалистичная, и одет он на греческий манер, в руке у этого существа жезл Гермеса.
Он меня всегда забавлял — столь точно этот образ выражает слияние старого и нового в Египте, слияние двух культур: совершенства греческого искусства и древней, неизъяснимой сути египетских богов.
Я смотрел на это красивейшее существо и думал: ты ведь проводник душ, помоги мне.
Жрец чего-то долго мялся, мол, это все, конечно, понятно, понятны мои переживания и желание связаться с умершей женой.
Я сказал:
— Октавиан говорит, что я поклоняюсь богам со звериными головами. Это неправда, но я буду, если ты передашь фотку своему богу. Пусть он, когда пойдет еще какие-нибудь души провожать, заскочит к моей жене.
Я настойчиво совал фотокарточку жрецу в руки и, наконец, он сдался.
— Быть может, — сказал он. — Что-нибудь получится, если бог будет милостив.
Я глянул на статую — вполне добрая морда. Вспомнилась мне моя собака Пироженка. Тут же я устыдился — бог все-таки.
— В любом случае, — сказал я. — Будь я в Риме, уже нашел бы способ все ей отправить.
— Не сомневаюсь, — ответил жрец.
На том мы и расстались. Фотокарточка осталась у этого жреца. Кто знает, где она окажется — у бога или у человека. А где она будет через год? Через пять? Через тысячу лет?
Оставив фотку жрецу, я испытал невероятное облегчение.
Как думаешь, будет у этой картинки своя собственная жизнь? И вот сейчас я задумался: а тот альбом наш с детскими рисунками, тот, что рассматривала мать — где он теперь? Я его не забрал, вообще не нашел.
Могла ли она выбросить его в море по пути в Рим? От разочарования в нас или, точнее сказать, во мне, например.
Но там же окровавленная капуста Гая! Не думаю, что мама выбросила бы такое сокровище. Значит, куда-то она его запрятала или кому-то отдала. Жизнь вещей — как же она загадочна.
В любом случае, после того, как я избавился от фотокарточки, со мной что-то случилось. И с моей деткой что-то случилось — по независящим друг от друга причинам, так сказать. Мы ударились в жизнь сказочную и безумную. Организовали "Союз Смертников", куда входили люди, не боявшиеся умереть вместе с нами.
Всех остальных я отпустил. Больше меня никто не предал, во всяком случае, так я считаю. После моего возвращения из Тимонова храма я всем объявил:
— Ребята, кто хочет идти, пусть идет, и не чувствует себя связанным со мной узами дружбы или долга. Больше никого я не заклеймлю предателем, чувствуйте себя свободными идти туда, куда вас зовет разум.
Вот так. Все прощены заранее. Больше мне не хотелось злиться.
И, может быть, до этого этапа моего пути дошли лишь самые верные, а, может, людей подкупила моя искренность, но очень малое количество друзей оставило меня после. И большинство вступило в наш "Союз смертников", единственным условием вступления в который была произнесенная формула:
— Готовлюсь к смерти вместе с тобой, Антоний.
Мы с моей деткой, стоя рядом, приветствовали каждого, жали руки и смеялись. Такая милая, дружелюбная чета обреченных.
Пускали мы всех, и богачей и бедняков, тех, кого знали и тех, кого видели в первый раз. Многих мы озолотили. Не видя смысла в богатстве, мы легко наделяли целым состоянием тех, кому деньги еще могли пригодиться.
Как мы пили, как гуляли! Сколько всего чудесного произошло!
— Друзья! — кричал я. — Мы все здесь умрем, это так же очевидно, как наступление ночи вслед за днем! Однако я хочу подарить вам как можно больше чудесных воспоминаний! Пусть мы с вами не пребудем в мире еще долгое время, как многие, однако же не стоит отчаиваться: ешьте, пейте и развлекайтесь так, будто наживаетесь за следующие двадцать лет! Лучшим из вас, тем, кто покажет истинную жажду жизни, боги подадут спасение. Но не ради него одного, а ради себя, ради своих тел, не жалейте ни вина, ни женщин!
О, скажу тебе я, богатство наше никак не истощалось. Быть может, как раз оттого, что были мы щедры — говорят, боги благоволят тем, кто не жадничает. Это правда. Я всю жизнь не жадничал, и оттого боги подкидывали мне ситуации, на которых можно хорошенько навариться.
Часто я брал с собой Антилла.
— Вот, сынок, — говорил я ему. — Вот как веселятся. Ты теперь мужчина, пей вдоволь, и давай найдем тебе красивую девушку!
— Папа, я не уверен, что нужно…
— Нужно! Обязательно нужно! Я хочу, чтобы ты изведал все лучшие стороны жизни!
Я рекомендовал ему быть расточительным, веселым, учил его закатывать пиры. Может, отец и должен научить своего ребенка бережливости и аккуратности, но только если у искомого ребенка планируется долгая счастливая жизнь.
А если ему некуда будет применить эти чудесные навыки, то, что ж, зачем нагружать ими его голову?
Пусть веселится, в этом и состоит вся радость бытия.
Веселиться, бухать, быть с родными и близкими, что-то придумывать, побеждать, вовремя сказать отличную речь — в мире так много хорошего. Я хотел показать Антиллу, насколько.
А с моей деткой мы часто вспоминали Цезаря.
— Как думаешь, — спрашивал я. — Что бы Цезарь делал в нашей ситуации?
— Самое ужасное, что я все время думаю: он бы нашел какой-нибудь выход.
Мы научились крепко держаться за руки.
Как редко выпускал я тогда ее маленькую лапку.
Моя детка сказала:
— Но, может быть, он бы выдержал это испытание хуже нас. Цезарь всегда боялся ждать смерти. В этом смысле все для него сложилось хорошо.
— Да, — сказал я. — Он мечтал умереть быстро. Но, думаю, не так мучительно.
— И все-таки он сошел бы здесь с ума.
А мы жили и радовались нашей красивой Александрии.
— Прекрасный город, — сказал я. — Спасибо, что показала мне его.
— Да, — ответила мне моя детка. — Лучший в мире.
— Не, лучший в мире — все-таки Рим.
— А ты бы хотел там умереть?
Я тогда задумался. Хотел бы я там умереть? Сказать сложно. Вся моя жизнь была связана с Римом, а умирал я на чужбине.
И Александрия, надо сказать, прекрасный город для смерти — такой исступленно красивый и наполненный мудростью ушедших веков. Один только факт очень отрезвлял: большинство людей, чьи труды хранятся в Александрийской библиотеке, давным-давно мертвы.
Да и вообще, как любила повторять моя детка, во всем мире живет так мало людей по сравнению с количеством почившего и истлевшего народу. Или, как говорят у нас, когда умирает человек: отошел к большинству.
Большинство ведь там, за завесой. А мы маленькие, и нас мало. В Александрии это остро понимаешь. Здесь смерть вообще ближе, может, потому что египтяне так на ней помешаны.
Но как прекрасно это место с точки зрения последнего взгляда — какие рассветы, какие закаты, какие виды в целом.
В Риме, наверное, все было бы тягостно. А в Александрии — легко.
Но люблю ли я этот город больше? Да нет. Нельзя так сказать. Рим — моя жизнь, Александрия — моя смерть. Там все началось, здесь же — закончится.
Люди говорят: все происходит в правильное время. Но они забывают, что также все происходит в правильном месте.
Вот как мы с моей деткой провели много месяцев в нашей беззащитной фактически стране.
Много радовались и иногда забывали о смерти.
Что я могу рассказать тебе о том времени? Я многое понял, но не про себя, а про мир вообще, про то, что жизнь есть жизнь, что бы там ни случилось. И ни одно горе не в силах окончательно меня надломить.
Ну, не скажу, что я образец душевной целостности, но я все еще люблю ту судьбу, которая была дана мне богами. И, серьезно тебе говорю, она не горькая.
Все в моей жизни было как надо. И ее окончание — разумное продолжение ее начала. Невозможно написать дурную историю о самом себе, небесные драматурги знают, что делают.
Вот что я понял: любовь остается, веселье остается, радость остается, остаются друзья и дети, остаются вещи, которые не выскажешь словами.
Ты, наверное, скажешь: а что я тогда ною? А я тебе отвечу: мне все равно больно. Но мне не только больно, и это главное.
Я хорошо провел последние месяцы, я любил, я очень сильно любил. Я успел попрощаться. А что еще нужно человеку в последние времена? Вот, сначала ушел в отрыв, а потом придумал писать тебе, и это тоже правильно — вспомнить все и задуматься.
Не такой уж я поверхностный человек, на самом деле. Это приятно.
Прости меня, пожалуйста, я отвлекся.
Ты, наверное, и не заметишь, ведь для тебя мое письмо непрерывно. Но, вот, я уходил. Марк Фослий, награжденный сегодня золотыми доспехами, дал деру вместе с подарком. И не просто куда-нибудь, а, конечно, к щенуле.
Благостное ли у меня настроение теперь?
Вроде как этот великолепный Марк Антоний только что доказывал тебе, как он счастлив, и как он никого не винит! Разве не чудо он, великолепный Марк Антоний?
А теперь мне так обидно, и я думаю: вот ты паскудный предатель, как мог ты кинуть меня, да еще так мерзко?
Надо справиться с собой, ну почему я такой несовершенный и непоследовательный?
Не знаю, теперь я думаю, надо было быть чуть менее щедрым. А с другой стороны — почему? Разве не сражался этот воин храбро? И разве не заслужил он каждого грана золота?
Молодчина мужик, и все мы правильно сделали с моей деткой. Зачем зря погибать такой смелости? Ему еще жить и сражаться.
Моя детка проводит время со своими служанками, составляет описи ядов. Кажется, у нее есть какой-то подходящий вариант. Я еще спрошу, что она задумала. Впрочем, теперь я все меньше и меньше уверен, что она решится.
Даже самый милосердный яд приводит к смерти, таково уж его назначение.
А она не так боится боли, как хочет думать. Куда больше моя детка опасается исчезнуть без следа.
Хотел закончить это письмо, ибо не знаю, что еще написать тебе, кажется, что все важное уже сказано, и остается только повторить: я тебя люблю, я всех люблю, я люблю любить.
Тем более, что самое невероятное случится завтра утром, и мне надо быть в форме, чтобы показать себя хорошо — не могу позволить себе засидеться за письмом. Я столько пребывал в праздности, хочется подвигаться, размяться, вот как сегодня.
Так вот, я решил выспаться и собирался вздремнуть, а письмо завершить уже утром. Всяко, знаешь, привести мысли в порядок будет полезно.
А потом произошло нечто удивительное и печальное, ты даже не представляешь, насколько. Около полуночи, когда официально начался новый день, вероятно, день моей смерти, я услышал прекрасную мелодию.
Сначала я не понимал, откуда она льется, и все думал, что это внизу продолжается пир. Но звон цимбал и нежный свист флейты доносились не из дворца, дворец, напротив, притих и затаился, все затаилось. Я подбежал к окну, распахнул его как можно шире.
В стройном многоголосии музыкальных инструментов все яснее и яснее проступала знакомая мне по въезду в Эфес мелодия.
Все вспомнилось мне сразу. Я повторил про себя тихонько:
— Я Диониса зову, оглашенного криками «эйа»!
Перворожденный и триждырожденный, двусущий владыка,
Неизреченный, неистовый. тайный, двухвидный, двурогий,
В пышном плюще, быколикий, «эвой» восклицающий, бурный,
Мяса вкуситель кровавого, чистый, трехлетний, увитый
Лозами, полными гроздьев, — тебя Ферсефоны с Зевесом
Неизреченное ложе, о бог Евбулей, породило
Вместе с пестуньями, что опоясаны дивно, внемли же
Гласу молитвы моей и повей, беспорочный и сладкий,
Ты, о блаженный, ко мне благосклонное сердце имея!
Да, определенно, та самая музыка, разбавляемая экстатическими вскриками, хлопками в ладоши, стонами и смехом.
Как стало шумно! Я ощутил сильный аромат плюща, прохладный, нежный и свежий, столь благоприятный для жаркой ночи, что я готов был возблагодарить чудное видение, сколь бы зловещим оно ни было.
Впрочем, что зловещего может быть в том, что известно заранее?
Голосили люди, хотя улица была совершенно пуста — ни человека, ни тени человека. Запах пота, запах плюща, запах погоняемых быков, запах вина, согласно им, Александрия должна была быть наводнена праздничной толпой.
Но дионисийское шествие, если только оно было в самом деле, оказалось невидимым.
Я метнулся к сундуку, достал из него свои позолоченные рога. Мне было нечем их закрепить, но я так крепко прижал рога к голове, что стало больно. Вот так я и подошел к окну снова.
Музыка становилась все сильнее, смех все громче, они доносились до меня так, словно бы по улице в действительности шествовал бог с его приспешниками и почитателями.
Я стоял, прижав рога к голове, и думал: это Дионис, он здесь, мой бог. Какое чудо: хоть раз увидеть бога, а тем более, бога, которому сам поклонялся.
Не увидеть, конечно, нет, но услышать.
Звуки удалялись, будто бы шествие направлялось к воротам города, в ту сторону, где спал, должно быть, Октавиан. Или не спал, а размышлял о завтрашнем дне и слушал. И слышал.
Как печально, думал я, но тоже правильно и красиво. Вот меня оставляет мой бог, не одного лишь меня, а город, который я люблю так страстно.
Завтра закончится вообще все, а сегодня закончился только бог.
Звон, пение, вскрики! Все совершенно реально, я ручаюсь за свои чувства, я не сошел с ума. Может ли быть, что он едет там в колеснице, и рога его такие же золотые, как мои?
И вдруг все смолкло, исчезло, растворилось в жаркой ночи, снова превратившейся в муку. Прохладный запах плюща, нежный свист флейты — пропало все, и я остался один, стоял, прижимая рога к голове. Вдруг я почувствовал: здесь моя детка.
Я обернулся и увидел, что она стоит у двери и плачет.
Я спросил, не убирая рогов от головы:
— Ты тоже это слышала?
Должно быть, я выглядел очень глупо.
Она кивнула.
Я сказал:
— Бог нас с тобой покинул.
Моя детка ответила:
— Никакой надежды.
Я сказал:
— Иди сюда, я так тебя люблю.
И она, послушная мне, подошла и, встав на цыпочки, положила голову мне на плечо. Было тихо-тихо. Так тихо, что звук ее дыхания, биение ее сердца — звучали совершенно очевидно. И от этого больно было вдвойне.
Так мы стояли долго-долго, в глупой надежде, что бог вернется.
Потом я сказал:
— Тебе так неудобно.
А она сказала:
— Это неважно.
И мы снова слушали, но уже только биение своих сердец. Обнимая ее, я подумал: если бог покидает меня, значит он был со мной все это время. Нет, так сказать, худа без добра. Какой великолепный Марк Антоний без собственного бога под боком?
Еще я подумал: умирая, нужно закрыть глаза или наоборот?
Если закрыть — потеряешь последние секунды света, а если не закрывать, то увидишь, как он угаснет — это страшно.
Я поцеловал мою детку в лоб.
— Ты все плачешь и плачешь, — сказал я. — А ведь тебе совершенно необязательно умирать.
— Правда? — спросила она по-детски.
— Ну, конечно, — сказал я и улыбнулся ей. — Я люблю тебя. Я не хочу, чтобы ты умирала.
Она крепко вцепилась в меня, пальцы ее впились мне в плечи, сильно, до белых пятен.
— Я люблю тебя, люблю, люблю, — пробормотала она. И так говорила мне много раз, на моем и на своем языке. Потом сказала:
— Пойдем спать, мой хорошенький бычок. Я хочу уснуть в твоих объятиях еще раз.
Я сказал, что только допишу письмо и сразу же пойду. Она меня ждет, и у нас есть еще несколько часов: это большое счастье.
Хотел еще сказать: когда ты умер, я все время думал, что это не так, что на самом деле ты жив, и все у тебя хорошо. Хотелось бы мне, чтобы кто-то убеждал себя таким образом насчет меня.
Будь здоров и спокойной ночи! Не скучай.
Твой брат, Марк Антоний.
После написанного: закрыть или открыть глаза, вопрос так и не решен, но об остальном зато и переживать нечего.
Послание тридцатое: Оконченное представление
Луций! Не могу ни молчать, ни говорить, схожу с ума! Сейчас постараюсь привести мысли в порядок. Наверное, это необходимо. Не хочу умирать в таком состоянии, не хочу все вокруг ненавидеть, хочу наоборот.
Постарайся меня понять.
Я такой дурак, думал, все у меня получится, думал, умру сегодня, как воин, и это будет просто!
Представь себе, с рассветом я, расположившись на холме, наблюдал, как мои корабли, блестящие в хрупких лучах утреннего солнца, встречаются с кораблями Октавиана. Я думал, гляну напоследок, какой будет бой. Морские бои очень красивые, этого у них не отнять.
А остатки флота, уже не моего, а Клеопатры, проклятой Клеопатры, раз — и сдались щенуле с потрохами. Какой позор!
Впрочем, не справедливо ли? Один раз я кинул флот, другой раз — флот кинул меня. Как странно! Я испытал боль и разочарование, снова почувствовал себя ребенком, и в груди у меня так горело, и горит сейчас! Надо сосредоточиться, вот что я хочу сделать — Цезарь всегда говорил, что записывать свои мысли полезно.
На кой мне эта полезность сдалась?
С другой стороны — не хочу умирать в обиде, не хочу умирать в печали.
Как это было красиво — медная обшивка кораблей вспыхивала под все разгорающимся солнцем, Октавиан принял знак капитуляции — поднятые весла.
И вот корабли, чужие и мои (теперь тоже чужие), смешались и поплыли к Александрии, оставшейся безо всякого защитника. Я так ругался, знал бы ты только слова, которыми я поносил Октавиана и моряков.
— Видали, блядь?! Видали!
Но безнадежно указывать на море. Жаль только, что слишком легко было отличить египетские суда от римских — это добавляло всей ситуации трагизма — никак не представишь, что столько кораблей у Октавиана и было изначально.
Сука, блядь, как говорил Клодий Пульхр, как же можно так?
Но можно и еще как.
И даже нужно. Хочу ли я, чтобы люди умирали зря?
Да, хочу. Я такой мелочный! До сих пор такой мелочный! Мне нужно срочно стать другим! Не надо умирать недостойным, обидчивым, мелким человеком. Когда умирал Александр Македонский, разве же он вел себя так низко? Впрочем, он умер победителем по причине, от него не зависевшей. А вот о чем думал Брут?
Казалось ли ему, что жизнь несправедлива, судьба жестока, а сам он — такой дурак, что доверился им?
Мне надо привести себя в порядок, надо причесать свои чувства. Не хочу, чтобы кто-нибудь видел меня таким слабым и отчаявшимся. Почему я должен умереть так позорно?
Приятнее было бы, должно быть, однажды после попойки захлебнуться рвотой.
Вот я глядел на это, а над Египтом вставало такое великолепное солнце. Понятно, почему они так любят, так превозносят его — ни над какой землей оно не поднимается с такой удивительной красотой.
Может, это из-за песка. Весь Египет на рассвете кажется золотым.
Да, подумал я, теперь точно — все. А дальше переметнулась конница. И я спросил Луцилия, руководившего пехотой.
— А ты?
— Что я? — ответил он. — Я останусь с тобой до конца.
— Если хочешь — иди тоже. Октавиан всех примет с распростертыми объятиями. Чем больше людей перейдет на его сторону — тем больше мое унижение.
Луцилий взвился.
— Не смей оскорблять меня, Антоний, называя предателем.
Мы помолчали. Тут Луцилий сказал:
— В служении проигравшим больше доблести, чем в служении победителям. Для того, чтобы остаться верным, нужна смелость.
Я вспомнил слова Цезаря: мы должны относиться к победителям и проигравшим с одинаковым милосердием.
— Да, — сказал я. — Достойный поступок. Хотя тебе не очень везет на друзей.
— А по-моему — наоборот, — сказал Луцилий, и я улыбнулся ему.
— Ладно, — сказал я. — Славное поражение лучше бесславной победы. Пойдем поработаем над этой историей.
Мы с Луцилием обнялись и повели войска в атаку.
Я рассчитывал на хорошую смерть, однако, ее не вышло. Первое время мне все везло, на мне не осталось, веришь ли, ни царапины, а, когда дело стало совсем плохо, я понял, что никто не будет меня убивать. Просто доставят к Октавиану, и тот казнит меня в лучшем случае как римского гражданина, в худшем — проведет в триумфе.
Для римлянина нет греха хуже, чем любовь к иной земле.
Но это неправда, Луций, я не разлюбил Рим, не перестал думать о нем, и сейчас я тоскую. Мне хочется снова увидеть Палатин, храм Юпитера Капитолийского, свой собственный дом, бурный Тибр в блеске солнца.
Но не об этом мы с тобой говорим, нет. Словом, когда я понял, что смерти мне не видать и легко не отделаться, дал оттуда деру, и в горле было горячо от гнева.
Я думал об этой суке, что предала меня в последний момент. Вот почему она так плакала, теперь ты понимаешь? Почему она так плакала, и плечи ее были так неподатливо жестки, и тело негибкое, словно у окоченевшего трупа.
Она отдала приказ своим проклятым кораблям. Она не хотела умирать, а я хотел?
Разве я хочу умирать, Луций?
Нет, надо взять себя в руки. Я жил долго и хорошо, не страшно умирать, если все было не бессмысленным.
Но эта сука, можешь ли ты поверить? Как хочется ей спастись, даже если для этого придется пожертвовать великолепным Марком Антонием. Знаю, не нужно ее винить. Она не хуже всех тех, сбежавших ранее.
Сука, сука, сука, сука! Проклятая сука!
Пусть бы ужасная тварь сожрала ее сердце, что точно окажется тяжелее пера!
А как же я? Как же любовь, которую она испытывала ко мне? Да и была ли она правдива?
В какой я был ярости, как болело в груди, как сильно я хотел отрезать ее прекрасную голову.
О, я представлял себе это во всех подробностях. Как она, бедняжка, боялась такой смерти. И именно так и поступил бы я с неверной царицей. Клянусь тебе, Луций, Юпитером, Минервой и Юноной, что я бы отрезал ее красивую голову, отрезал бы и выбросил на улицу, пусть бы она испачкалась в песке, пусть бы песок налип на белки глаз, на сохнущий язык.
Я выбросил бы эту проклятую любимую голову, как мусор.
Во дворец я ворвался, браня ее на все лады. Сердце рвалось из груди, мой окровавленный меч требовал последней жертвы (или предпоследней).
— Где эта сука! — рычал я, распугивая изумленную прислугу. — Где эта блядь?!
Наконец, одна из ее рабынь (не Ирада, не Хармион, а других я по именам не знал) решилась заговорить со мной.
— Царица умерла, господин, — сказала она.
Тут я опешил.
— Как умерла? — спросил.
До того, как она заговорила со мной, я плевал во фрески птолемеевского дворца, переворачивал мебель, бил сосуды с благовониями, словом, наводил беспорядок, не зная, куда себя деть.
А тут просто замер и уставился на нее, как ребенок, ничего не понимая.
— В смысле? — повторил я. — Умерла совсем?
А как еще?
Рабыня кивнула и опустила голову, опасаясь удара. Но вместо того, чтобы ударить, я погладил ее, как кошку, по голове.
— Как?
— Яд змеи, господин. Она не захотела жить без тебя.
— Но зачем? Она же…
И тут до меня дошло, что моя детка могла быть вовсе не виновата. В конце концов, у командующих и своя голова на плечах есть. Они решили спасти себя и свои корабли, так все и вышло.
А моя детка ничего об этом не знала. Когда ей принесли вести о поражении, должно быть, она подумала, что я погиб. Быть может, кто-то так и сказал.
И вот теперь я бесчинствую во дворце ее предков, оскорбляю их память — глупый Антоний. Я сел на пол и долго плакал. Силы совсем оставили меня, милый друг. Я ощутил, что мир уходит из-под ног, все тает, все рассыпается, но в этом было так мало важного.
Бедная моя детка, мы ведь даже не попрощались. Когда я уходил, она спала. Я не стал будить ее, всю ночь ворочалась она, перепуганная наступающим днем. И вот — нашла покой. Я поцеловал ее легонько в лоб и всего-то, а она не проснулась.
В уголках глаз у нее все еще блестели слезы, такое бывает — глаза часто увлажняются во сне.
Бедная моя девочка, маленькая девочка, боявшаяся смерти.
Не она меня предала, я, глупый, сам ее предал.
Вот такая это история, о нас, о том, как мы любили с ней и ненавидели друг друга.
Я не хотел смотреть на ее тело, даже не подумал об этом. Вид ее бледной, с заостренными чертами лишенного всяческого выражения лица, разорвал бы мне сердце окончательно.
Я хотел запомнить ее теплой, золотой и спящей. С яркими тонкими губами, не бледными, не холодными, а красными и горячими. Не хочу, чтобы она умирала.
Горе мое ты не можешь себе и представить.
О несчастный Марк Антоний, за что тебе это — пережить женщину, которую ты любил больше всех на свете?
И вот она в твоем тайнике с мертвыми, там, куда не проникает солнечный свет, там, куда в силах добраться только мысль.
А она всегда боялась. Я боялся меньше, чем милая моя детка.
И сейчас мне хочется плакать, хотя момент нашей встречи все ближе.
Впрочем, сильно ли горе потерявшего любимую, если ему не придется с этим жить? Почему тогда так больно? Почему это все равно так больно?
У меня есть теория: так и выглядит любовь. Когда больно тебе не за себя самого, не за свою печальную судьбу, а за кого-то другого. О, эта тоска, освобожденная от мыслей о будущем. Так выглядит чистая смерть, картина, в которой нет уже страдающего тебя.
Больно мне оттого, что с моей бедной деткой случилось то, чего она так боялась.
Больно мне оттого, что она ничего не чувствует.
Больно мне оттого, что ее сердце не бьется.
А не за себя.
В любом случае, я, когда мне поднадоело горько плакать, вскричал:
— Что же ты еще медлишь, Антоний? Ведь судьба отняла у тебя последний и единственный повод дорожить жизнью и цепляться за нее!
Конец игры. Финал представления.
И все-таки, хитрю, немного я себя пожалел — некому было поцеловать меня на прощание и проводить до самого порога смерти. Я-то надеялся, что мы будем вместе. Я собирался убить ее, а потом себя — в ту же минуту. Или, например, она выпила бы яд, а я вонзил бы меч себе в живот, и была бы у нас еще пара драгоценных секунд вместе.
Может быть, я даже успел бы взять ее за руку и почувствовать, как она холодеет.
Страшно? Еще бы.
Но и хорошо, и правильно. А в одиночестве не стоит ни жить, ни умирать.
Впрочем, для всех этих рассуждений у меня не так уж много времени. Я пишу тебе и забываю, что должен умереть. А ведь скоро Октавиан будет здесь. Ему не придется долго осаждать дворец — я не стану его утомлять своим упрямством. В конце концов, зачем терять его и мое время?
В общем, я отряхнул коленки и пошел в нашу спальню. Там я скинул доспехи, переоделся в чистое и натянул свои белые кроссовки.
Хотелось выглядеть красиво. Я призвал слуг облачить меня в тогу, потом передумал и снова взял красный военный плащ. И снова передумал.
Раз уж я собрался уйти римским способом, необходимо было одеться соответственно.
С другой стороны, попорчу тогу кровью. Ее ведь жаль.
И кроссовки жаль, но уж без них я никак не мог обойтись. Я спросил у раба:
— Плащ или тога?
— Не знаю, господин, — ответил он.
Я сказал:
— Ладно, если плащ, надо опять переодеваться, а мне лень. Давай-ка облачи меня в тогу опять, и складки сделай красивые на этот раз.
Когда дело было сделано, я взглянул на себя в зеркало, но вдруг не узнал. Что это за человек? Кто он такой? Красив он или безобразен? Я ничего не понимал — собственное лицо казалось мне совсем незнакомым.
Я спросил у раба:
— Прекрасен ли я?
— Да, господин, — ответил он. — Ты прекрасен.
Но чего еще ждать от проклятого раба?
Захотелось надолго замереть перед зеркалом, посчитать седые волосы, родинки, шрамы — все это исчезнет так скоро.
О, если бы у меня было столько времени, чтобы изучить себя. Почему я не проводил у зеркала целые дни? Почему, например, не знаю я сейчас, за левым ухом у меня родинка или за правым. Фульвия говорила, что за каким-то ухом, но все-таки — за каким? Она часто целовала эту родинку, но я не помню, на какой стороне.
Впрочем, довольно скоро меня накрыла новая волна горя, и я вскричал:
— Ах, Клеопатра, не разлука с тобою меня сокрушает, ибо скоро я буду в том же месте, где ты, но как мог я, великий полководец, позволить женщине превзойти меня решимостью?!
И тут же добавил:
— Сука, ну почему мне так больно?
Почему так больно?
Вот и все, подумал я, теперь — уже окончательно. Красивый финал? Как ты считаешь? Тебе он нравится? Или нужно написать что-то еще?
Я призвал Эрота и, вот, слышу теперь его шаги. Сейчас я вручу ему меч, и он сделает все, что нужно.
Хотел написать тебе: спокойной ночи. Но сейчас ведь раннее утро.
Впрочем, если я не ошибаюсь, у тебя всегда ночь. Письмо, пожалуй, оставлю при себе.
Один только вопрос остается: открыты должны быть глаза или закрыты?
Впрочем, думаю, оставлю его на откуп Фортуны, как получится, так и получится.
Прощай, Луций. Или теперь лучше сказать: здравствуй?
Твой брат, Марк Антоний.
После написанного: можешь себе представить, я еще жив! Настроение хорошее, самочувствие — лучше, чем я ожидал. Даже не уверен, что умираю. Впрочем, пишу я не сам, а диктую письмо Хармион. Надеюсь, она не допускает ошибок.
Странно, мы так боимся чего-нибудь, а когда это с нами случается, то все оборачивается далеко не так страшно, как казалось. Наоборот, сейчас я чувствую такую легкость. Если это смерть, то она приятнее многих моих ранений.
Впрочем, рана оказалась недостаточно глубокой.
С другой стороны, стоит все рассказать с самого начала.
Я позвал Эрота и сказал ему, мол, пора, друг мой, теперь без выполнения твоего обещания мне уже никуда.
Я протянул ему меч и сказал:
— Давай, сделай уже, и весь день свободен.
Не было ни слез, ни дрожи — я как будто и не осознавал важность момента. Эрот помолчал. Я всучил ему этот ебаный меч, и только тут он поднял взгляд.
— Господин, я не могу.
— Все ты можешь, не пизди.
Мы посмотрели друг на друга. Я улыбнулся ему, а он сказал:
— Я рад, что мне выдалось служить тебе.
Я сказал:
— Точняк. Ты один из лучших моих друзей.
— Если бы я был достоин.
— Прекрати делать вид, что ты еще раб! Все так и будут про тебя думать!
Мы захохотали, я чуть не упал, и еще долго мое тело сотрясали спазмы. Еще, и это важно, я впервые видел, как Эрот смеется.
И вот он сказал:
— Я сделаю это.
— Сделаешь? — спросил я. Он кивнул. Я хлопнул его по плечу.
— Даже не знаю, что сказать напоследок, — вдохнул я.
— Скажи: благодарю тебя, Эрот, за твою верную службу.
— Ну, это само собой разумеется.
— Но ты скажи.
Я торжественно произнес:
— Благодарю тебя, Эрот, за твою верную службу.
И вдруг понял: сейчас я умру. Вот он, этот момент, страшное таинство. Сейчас я узнаю самый главный секрет. Отойду, так сказать, к большинству.
Сначала я закрыл глаза, потом подумал: это же нарушит мой уговор с самим собой, все не произойдет случайно, если я решу зажмуриться. Тогда я отвернул голову и крикнул:
— Бей!
Я ждал боли, но ее не последовало. Никакой боли, никакого удара — вообще ничего. Зато меня обрызгало теплой кровью.
Я повернулся и увидел Эрота, весь он был в крови — меч он воткнул себе в горло, очень брутально. Я не успел его поймать прежде, чем он упал, хотел разозлиться, а не смог.
Тем более, что Эрот был уже мертв — глаза неподвижны и, кстати, открыты. Я поаккуратнее уложил его на полу и вытащил меч.
— Бедный друг! — воскликнул я. — Спасибо, что учишь меня, как быть, раз уж не можешь мне помочь!
Спасибо.
Нет, в самом деле.
Я смотрел на него и думал: какой ты смелый. Куда смелее меня.
Тога моя была забрызгана кровью и совсем потеряла свой вид. Ну вот. Зря переодевался. Зато белые кроссовки чудом остались чистыми, веришь ли — ни пятнышка.
Я обтер меч о тунику Эрота, посмотрел на него задумчиво.
Как-то ведь справился Брут, правильно? И Катон справился тоже. И многие до них. В конце концов, собственноручно разобраться с самим собой, великолепный Марк Антоний, не мечтал ли ты об этом никогда?
О, ты мечтал.
Но я решил не вспоминать всю херню, за которую себя когда-либо ненавидел. Встал у кровати, чтобы умереть, упав на мягкие подушки, глянул в окно — на разгорающееся утро и, наконец, сделал это.
Не буду тебе лгать, я колебался, то отводил меч, то снова приставлял к животу, не сразу нанес удар. Но я смог, Луций, милый мой друг, смог. Сначала я вовсе не почувствовал боли, только мерзкое ощущение расходящейся плоти, ни на что в мире не похожее и ни с чем не сравнимое.
Я не поверил, что справился, и вдруг услышал стук крови по полу, увидел красные пятна на своих белых кроссовках.
Нет, больно не было совсем. Я бывал ранен, разумеется, и часто оно чувствовалось куда неприятней. А тут я, скорее, просто растерялся. Но надо было еще вытащить меч.
И с этим, хоть оно и было куда отвратительнее, я справился тоже. Упал на кровать и уставился в потолок. Когда я вытащил меч, кровь хлестнула из меня бурным потоком, но стоило лечь, как она унялась, и я почувствовал, как холодеет в животе. Это могло значить, что я умираю. Или что горячая кровь больше не течет. Я не знал и предложил себе не вдаваться в подробности.
Закрыть или открыть глаза, вот что волновало меня больше всего. И еще: а как же значимость момента?
Потолок кружился, меня тошнило, сердце в груди бешено скакало. Но ничего особенно ужасного не происходило. Неужели смерть не страшная, подумал я.
Ну ладно бы не очень, а так — совсем-совсем.
Я почувствовал, что меня клонит в сон, очень приятно, так бывает, когда решаешь вздремнуть после обеда — разморило, вот как оно называется.
И никакой боли, я тебе клянусь.
В таком случае, подумал я, смерть весьма неплохая, и бояться ее не надо. И я решил закрыть глаза, раз уж мне вздумалось уснуть.
Через какое-то время очнулся, и дело обернулось уже совсем по-другому. Я проснулся (давай назовем это так) весь в холодном поту, меня трясло, а боль была нестерпимой, словно резали меня прямо сейчас. Все тело горело, только руки и ноги были невероятно холодными, в животе же разливался чистый огонь.
Теперь я подумал: как мучительно умирать!
Как страшно!
Вокруг меня собрались люди, но я видел их будто бы сквозь туман, и до сих пор мое зрение не наладилось вполне и уже, я полагаю, не наладится. Но этот туман мягок и приятен, тогда же он, молочно-белый, неровный, где меньше, где больше — испугал меня.
— Друзья! — крикнул я. — Прошу вас! Помогите мне! Мне больно! Кто-нибудь, вонзите меч мне в грудь! Прошу вас!
Я даже не понимал, к кому я обращаюсь. Были то слуги или в действительности мои друзья, или друзья моей детки — неважно.
Я кричал, просил, умолял, ругался.
— Блядь! — рявкнул я. — Какие ж вы все трусливые суки! Прикончите меня уже кто-нибудь! Ну хоть бы один еблан согласился!
Но все они, кто раньше, кто позже, покинули спальню и я, сгорая от боли, остался совсем один. Я попытался встать и поднять с пола меч, но ноги отнялись, я их совершенно не чувствовал, все равно, что пытаться опереться на воздух.
Тогда я горько заплакал, оставшись абсолютно беспомощным, я принялся молить богов о смерти. Мне было так больно.
Не знаю, сколько я там пролежал, совершенно никому не нужный, пока дверь вдруг не открылась, и ко мне не вошел Диомед, один из царских писцов в сопровождении рабов.
Я хотел крикнуть ему:
— Привет!
Но вырвались из горла какие-то невнятные звуки, спустя пару секунд, я совладал с языком.
— Диомед! Пожалуйста, дружок, ты не мог бы мне помочь?
Видишь, как я облажался? Какое нелепое самоубийство. У Брута получилось куда лучше, он умер достойно.
Диомед замер на пороге в нерешительности. Он был совсем еще молодой человек, и я видел, что ему противен вид крови.
Он сказал:
— Я от царицы.
— О боги, неужто ты — мое предсмертное видение?
— Она жива.
И я, хоть это и значило, что моя детка меня предала, обрадовался, как ребенок.
— Правда? — крикнул я так, что огонь в животе разлился прямо до груди. — Тогда забери меня с собой! Дай мне увидеться с ней!
— Для этого я и пришел, — ответил Диомед, ему явно было неловко, а я стал таким невероятно счастливым, что готов был его расцеловать. И пусть привкус крови во рту становился сильнее, я продолжал болтать.
— Она жива, да? Жива? И здорова? С ней все в порядке?
Диомед только кивал.
Когда слуги несли меня на руках в царскую усыпальницу, где укрылась моя детка, я поднимал руку, с большим трудом, к слову, и махал всем проходящим мимо, приветствуя их.
Приветствуя и прощаясь. Да, в конце концов, нужно уметь оканчивать представление, и быть приветливым даже в момент расставания.
В гробницу меня поднимали на веревках. Это было весело. Кровотечение еще больше усилилось, но боль неожиданно почти прошла. Помню мою детку, она тоже была в тумане, в приятном белом облаке, и сквозь неясные очертания проступали ее нежные руки, вцепившиеся в веревки.
А я весь тянулся к ней.
— Клеопатра, — бормотал я. — Клеопатра, здравствуй.
Когда я оказался внутри, она принялась целовать меня и вся перемазалась в крови. А на ладонях у нее были длинные ссадины от веревок.
— Бедный мой маленький бычок, — говорила она. А я отвечал, что теперь мне намного лучше. А она все кричала, царапала себя, и я говорил:
— Будь осторожнее, тебе же больно.
И от этого бедной моей детке становилось еще хуже.
Я потерял способность различать запахи, кроме запаха крови, зрение стало странным и туманным, звуки доходили до меня будто сквозь вату, руки онемели.
Но сознание оставалось ясным.
— Мой господин, супруг и император, — говорила она, плача, и терлась, как кошка, о мой живот. — Тебе больно, о как тебе больно.
— Совсем нет, — сказал я. — У тебя вся щека в крови.
Я протянул руку и пальцем вывел на ее щеке неприличное слово. Она засмеялась сквозь слезы:
— Ты прежний.
— Откуда ты знаешь, что там?
— По выражению твоего лица.
Мы не говорили о предательстве. Разве это нужно?
Ни о чем особенно важном мы вообще не беседовали. Вот сейчас она лежит рядом со мной и уже не плачет. И я не плачу. И вообще мне даже хорошо.
Теперь я думаю: глаза должны быть открыты. Это совсем-совсем не страшно — умереть, не закрывая глаза.
Вот, со скуки я и решил надиктовать конец этого письма. Скучно погибать, не думал, что так будет. Не столько мучительно, сколько уныло.
Но, в целом, настроение почти хорошее, просто поверь мне.
Не знаю, что написать еще. Что-то важное? Или красивое? Я все время думаю о том, как буду выглядеть — этого слишком много в моей жизни. Но у меня нет никаких идей — смерть это просто смерть.
Разве что одна мысль, которая меня донимает, хочется ее высказать, хотя и не знаю, почему. Казалось бы, все это не относится к ситуации напрямую, но будто бы не скажу этого — не успокоюсь.
Вот, перед смертью думаю о смешных историях, можешь себе представить? Помнишь ли ты, откуда у Публия взялось прозвище "Сура"? На латыни значит "голень", если вдруг это решит перечитать моя детка — не самое употребляемое слово, вряд ли она его знает и запомнит.
Как-то раз (по-моему, тогда он служил квестором, и было это еще при Сулле) Публий знатно проворовался, утащил из казны так много, что это заметили даже несмотря на то, что был он родственником самого диктатора. Когда на суде его спросили, какие же он приведет оправдания по поводу вышеизложенного, Публий пожал плечами и сказал:
— Никаких оправданий не приведу. Кроме как, подождите-подождите, вот!
И он стукнул себя по голени, как делают пацаны, пропустив мяч в игре.
Я, мол, промахнулся, но ничего — бывает.
Бывает.
Какой же он мудрый человек, наш с тобой отчим. Думаю, так и нужно реагировать на все на свете. Упустил мяч — бывает.
Если б я мог стукнуть себя по голени, то так бы и сделал. Представляешь себе, как глубокая правда жизни заключена в этой истории?
Но, впрочем, я начинаю уставать.
Будь здоров, хотя это нам обоим уже совершенно необязательно. Как бы так завершить не слишком пафосно, я даже и не знаю. До скорого!
У меня весьма трепетное отношение к историям, и я не люблю те из них, которые не завершены по-настоящему. Для сохранения композиции, мне стоило бы адресовать письмо Беренике или, может быть, брату Антония, однако я не уверена, что могу играть с мертвыми так же ловко, как и он, а тем более — сейчас.
Может быть, письмо должно предназначаться самому Антонию. Впрочем, этого я тоже не хочу. Теперь, незадолго перед тем, как этот мир покину и я, меня заботит окончание его истории.
Через полчаса после того, как он завершил свое письмо Луцию, ему стало хуже. Он попросил вина и напился вдоволь, жажда и голод, присущие этому человеку, всегда поражали меня. Говорят, раненные в живот ни в коем случае не должны пить, однако же для тех, кто не собирается задерживаться здесь, стоит сделать исключение.
Напившись, он взял меня за руку и сказал, что мне следует жить, а он ни о чем не жалеет. Я не так хорошо запоминаю слова, как он, однако постараюсь воспроизвести то, что услышала тогда:
— Милая моя, бедная Клеопатра, не надо печалиться по моему поводу, ибо я жил счастливо, и многое в моей жизни было прекрасно, ты — в том числе. Радостей я испытал куда больше, чем горстей, боги дали мне великую славу, великую любовь и великую войну — все это я употребил плохо, но приятно. А проиграл я тоже хорошо и не без славы, и это здорово. Не бойся и не печалься, а среди друзей щенули доверяй Прокулею, если кто тебе и поможет, то он. Прошу тебя, не хочешь — не умирай, это муторно и больно.
Приводить его слова, сказанные после, не вижу смысла — он впал в забытье и называл меня чужими именами. Я, по римскому обычаю, поймала его последний вздох, когда-то давно он этого просил, и я вспомнила.
Он крепко вцепился в жизнь, и все никак не мог успокоиться, чем только продлевал свои мучения. Его смерть заняла примерно одиннадцать часов.
В этом весь Антоний.
Удачно не только жить, но и умереть самим собой.
Конец