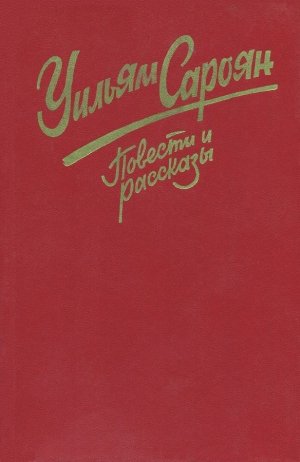
Приглашение к чтению вместо предисловия
Мне кажется, я написал не предисловие к настоящей книге Уильяма Сарояна в переводах Наталии Гончар и вовсе не послесловие (поставленное в другом месте и прочитываемое после прочтения книги, оно, наверное, меньше мешает этому прочтению), а просто приглашение к чтению дивной книги.
Достоевский сказал однажды, что дело нужно делать так, словно собираешься жить вечно, а молиться нужно так, словно собираешься умереть тотчас же.
Уильям Сароян писал и жил, — по всей видимости, всю жизнь, — так, словно собирался жить вечно, и вместе с тем так, словно собирался умереть тотчас же.
Вот почему в его тексте живет всегда своей жизнью какая-то застенчивая и победительная единственность, чарующая и почти неправдоподобная.
Когда вы читаете Уильяма Сарояна, вас охватывает необъяснимое, но не отпускающее от себя ощущение поначалу страшащей простоты, когда все граничит с невозможным, и вместе с тем загадочного, цепенящего волшебства неразгаданной и непознанной сложности — только не в тайниках подсознания, а в живой — до боли — жизни, в ее бесконечности — временной и пространственной, глубинной и иссеченной молчанием и криком человеческим, комедией и трагедией человеческой, заставляющими то смеяться («Человеческая комедия», «Что-то смешное»), то холодеть от ужаса («Что-то смешное», «Человеческая комедия»). В произведениях Сарояна, кажется, живет и мечется не только человеческая комедия, но и трагический восторг от этой комедии — ради увеселения самого господа бога, даже когда кажется, что это то ли утопическая идиллия, то ли идиллическая утопия («Приключения Весли Джексона»), в то время как это и в реалиях своих и фантомах мудрый реализм доброго, светлого и прекрасного и трагического писателя (Сароян восхищался Диккенсом — великолепный, восхитительный стиль, дивное смешение глубокой, почти безутешной печали и безудержного, подчас до упаду, веселья и смеха).
Читая Уильяма Сарояна, вы настраиваетесь на ожидание, только ждете вы чего-то неожиданного, и это ожидание и встреча с тем, чего не ожидал (только не весело и веселяще, как у О’Генри). Все это влечет и волнует, и погружает вас в мир людей, вечный и быстролетный, сегодня живущий и жизнью дарованный и жизнь дарящий. И еще погружает вас в мир искрометного фарса XIII века, сжигающего романтизма XVIII века, доброго и жестокого реализма XIX века, к двум сдвигам искусства XX века от классической в наших глазах завершенности и общности искусства XIX века, — с одной стороны, к высшей абстрактной всеобщности, с другой, — к пиршественной, избыточной телесности. И еще — в мир предренессансного трагизма и ренессансной гармонии, и пародии как жанра и как изнаночного состояния художественного слова, которое в прозе Сарояна всегда остается самим собою и вместе с тем уходит в иные миры, в «образов иных существованье».
Уильям Сароян — художник интимного, а не отчужденного авторства, и именно поэтому лиризм здесь равноправно организует произведение, которое, кажется, не творится писателем, а творит себя само («Я ли начал писать? Не само ли оно начало писаться?» — это говорит сам Сароян) — вот почему это не модная литература «поверх жизни, населенной отсутствующими людьми» (Пиранделло), не надличная человечность, не «проклятие собственной формы», не беллетристический комфорт. Это веселое и грустное царство стилевой свободы и полной тайн формы, их, по слову поэта, «съединенье, сочетанье, и роковое их слиянье, и поединок роковой» (без модной надрывности и надсадности стиля — Сароян назвал это произведениями без формы, а мы оставляем это на его «теоретической» совести). Это проза поразительно целостная и поразительно освобожденная от целостности, это разрушение гармонии и снятие разрушения гармонии одновременно («Если вещи вокруг него в полном порядке, он делается от этого несчастнее, чем когда-либо» — это слова Сарояна об одном из его персонажей, но дело тут даже не в словах, а в мироощущении, жизнеощущении и даже самочувствии писателя, разлитых в его произведениях и захлестывающих их).
Художественная мысль сарояновской прозы никогда не скована «многослойным церемониалом слова», здесь нет эпатирующего великолепия формы или слова или даже словорасположения, как нет и модной мистерии словесного творчества, хотя и есть очень глубоко запрятанная, незримая для всего мира уникальная «инструментовка» вещи, которая порою просто кажется подробно развернутой метафорой, редкостной и вместе с тем включенной в художественное сознание времени. И здесь одинаково совершенны и целеположенная завершенность, и импрессионистическая незавершенность текста Сарояна. Сам писатель сказал однажды: «Вот драма, простая, как уличный перекресток. Естественная, как земля или камень под ногами. Правдивая, как любая сказка в мировой литературе. Смысл этой пьесы тот же, что и смысл жизни». В этом, может быть, тайна совершенства произведений Сарояна, этого, как о нем пишут критики Запада, «недисциплинированного гения».
Сароян сказал однажды о том, что мечтает написать пьесу без слов, с культом безмолвия, но это, как он думал, будет Книга человеческая, или Книга человека. Такую книгу он написал — это все его творчество, адресованное к контексту мировой культуры и человеческим ценностям, которые всегда казались ему пребывающими в парадоксальной ситуации «соединения тупика и бесконечного странствия».
И еще одна адресация есть в прозе Сарояна — к армянской, согласно марксову определению, субстанции национального стиля, и здесь живут как бы исчезающая традиция и ее бессмертие — в ситуации мировой непрерывности, когда мир созерцается в его обыденном существовании и вместе с тем в какой-то предельности, несмотря на всю открытость прозы Сарояна добру и свету.
«Мы — римляне XX века, …а я всегда хотел быть греком» — этого хотел Джон Дос Пассос. Сароян был этим греком в американской литературе, потому что его творчество было движимо, как я уже говорил, в конце концов армянской национальной субстанцией, которая несла в себе на протяжении веков феномен созидания, а не разрушения.
Армянская национальная субстанция ощущается в истории армянина-бакалейщика Ара и в том, что в его лавке есть все на свете, но нету плюшек, а в этот момент не нужно ничего на свете, кроме плюшек («Человеческая комедия»). Она ощущается во всем строе мышления и жизнеощущения и во всем строе повествования в этой сцене — поразительно армянской. Она ощущается во всей истории чудака-армянина, который ездит за капустой, но, увлеченный чудной мелодией, забывает обо всем на свете («Веселая прогулка»). Она ощущается даже в том, как собираются члены большой армянской семьи, заброшенной на чужбину, в том, как они разговаривают, как они рассаживаются и как обращаются друг к другу, в том, как относятся друг к другу разные поколения армян на чужбине. Она ощущается во всем облике армянина Бен Александера — то ли гениального, то ли негениального неудачника и чудака. Она ощущается даже в образах заброшенных на чужбину словака Козака и шотландца Мак-Грегора, в чужбинской тоске по родным горам, в мотиве «В горах мое сердце», в мотиве «Эй, кто-нибудь». Она ощущается в истории с соломенной шляпой пленного солдата-музыканта из «Приключения Весли Джексона». Она ощущается в самом человеческом типе Весли и в концепции войны этого романа. Она ощущается в том, что бабушка Джонни разговаривает только по-армянски, а сам Джонни понимает, но не говорит по-армянски, — это судьба народа. Она ощущается в том, что Бен Александер обращается к матери по-армянски, а к Джонни — по-английски, — это тоже судьба народа. Она ощущается в укоризненном вопросе бабушки: «Почему ты не говоришь по-армянски, сынок?» Она ощущается в грустной истории одинокого, стареющего, милого человека, который в какой-то полушутовской веселой грусти фантазирует — ради увеселения самого господа бога («Гастон»). Она ощущается в повести «Что-то смешное», раскрывающей трагические грани армянской национальной субстанции. Персонажи повести «кинуты» в типично американские жизненные ситуации. Но сквозь жизнь и смерть, судьбу, чувство потерянной родины, трагедию, счастье, злосчастье, утраты, прозрения, доброту, прощение и страдания этих персонажей проходит еще один персонаж — родной язык («Братья разговаривали на языке, которого Рэд не понимал, но он в этом и не нуждался. Он понимал их голоса. Он понимал, что Дейд брат Ивена»). И поэтому совершенно неслучайно очень важное признание писателя: «…Я армянин и армянский писатель».
Человек в прозе Уильяма Сарояна — разрушенный, разгромленный до основания и непобедимый, униженный и оскорбленный и неистребимо гордый властитель своего реального-нереального мира и его зачарованный странник и пленник. Вспоминается галерея русских героев классического прошлого века — маленький, кроткий, смиренный, лишний, бывший, странный, своевольный, бедный человек, человек из подполья, и встает перед глазами какая-то очень тайная и таинственная, и напряженная, и неспровоцированная установка на русскую литературу (Чехов, Толстой и Достоевский — любимые писатели Сарояна).
«Почему все и всегда так загадочно, странно, так опасно, хрупко, готово разбиться вдребезги» — это тоже говорит сам Сароян (в рассказах — очень часто в открытом тексте, в повести «Что-то смешное» — в самой ее структуре, в трагизме судеб героев, в их пустынно экзистенциальной вброшенности в мир XX века, когда даже Синяя Борода на Западе был объявлен всего лишь жертвой меланхолии).
Величайшие книги остаются ненаписанными. Так думал Анатоль Франс, так, и в тех же словах, говорил Сароян. Эти книги, если даже они написаны, не позволяют себя прочесть. Так думал Эдгар По. Скорее всего, это неправда. Но книги Уильяма Сарояна, во всяком случае, кажутся ненаписанными (они вызывающе непритязательны!) и не позволяющими себя прочесть (они как бы даже не книги, но сама жизнь, рассказывающая о себе, только рассказывающая до сумасшествия хорошо, и умонепостигаемо глубоко, и неповторимо, даже когда это внешне обращено к каким-то литературным именам или явлениям).
Рене Клер как-то сказал, что Дуглас Фербенкс смеется над тупостью. Чарльз Чаплин — над бессмысленной неизбежностью. Уильям Сароян проживает и переживает и выплескивает на страницы своих произведений трагическую неизбежность человеческой комедии, и потому она трагичнее человеческой трагедии. Она бессмысленна. Сарояновский Весли достигает счастья, ремарковский Равик и хемингуэевский Джордан — нет. Но ведь бессмысленность счастья всегда трагичнее бессмысленности несчастья. И здесь — в самом стиле прозы Сарояна — происходит, творится даже, обнаружение «божественного как иронического», уходящего всем своим внутренним смыслом и всей сущностью своей к ироническому как божественному. Я повторяю — все это происходит в самом стиле прозы Сарояна, в его сердцевине, обращенной к миру, склонному к неустойчивости и вместе с тем навечно устоявшемуся.
И не аскеза это и не экстаз безличной человечности, модные в некоторых литературах (если говорить об интеллектуально-эмоциональной стихии текста), и не провоцирование и испытание идеи (если говорить о стилевой стихии текста), а жанр последних вопросов, в котором вопросов всегда больше, чем ответов. И здесь, в прозе Сарояна, ничто не повторяет ничего и не повторяется, а, кажется, творит собственную неповторимость, в которой царит не жизнь в ее простой фактичности, а жизнь в ее художественном инобытии.
Проза Сарояна только кажется живописью открытого цвета, на самом деле это потаенное по стилю письмо, непостижимо сложное и глубокое (в частности, в рассказах «Возвращение к гранатовым деревьям», «Брат Билла Макги», «В теплой тихой долине дома», «Охотник на фазанов», «Званый вечер» — они о сути, которая дает жизнь и поэзии поэтов и игре актеров, и о том, что не только жизнь проживает свое в человеке, но и человек в жизни свое).
Очень часто даже авторские ремарки пьес У. Сарояна — образы. Вот встреча поэта Бен Александера и трагического актера, чье сердце в горах, в пьесе «В горах мое сердце»:
«Отец (наслаждаясь тем, что живет). Мы — один человек… Он — сердце моей юности… Вы заметили, какой он живой?
Мак-Грегор (наслаждаясь тем, что еще живет). А как же?»
И то, что в прозе Сарояна может показаться «слегка чудовищной» навязчивостью повторности, оказывается высочайшей и высшей, верховной какой-то неповторяемостью и неповторимостью — раз и навсегда.
Персонажи Пиранделло живут иногда в поисках автора. Сарояновские персонажи живут в поисках друг друга (в ситуации нечеловеческого разъятия человека и человека, отчуждения и неконвенционности личности) и самих себя (в ситуации «потерянных поколений» и нивелирования индивидуальности человека) даже в потоке порою гнетущей обыденности, устрашающей будничности, беспорывной существовательности человека, вброшенного в комформистски размывшую сознание ситуацию пустынной стандартности и мифического предназначения. Сарояновские персонажи ищут друг друга и обретают себя.
Итак, приглашение к чтению. Но не только книги Уильяма Сарояна, но и переводов Наталии Гончар. А это — чтение Сарояна как бы в оригинале, — перевода, кажется, и вовсе нет, и случилось это, кажется, просто для расширения круга читателей. В переводах Наталии Гончар, как и в оригинале, проза Сарояна живет своей жизнью — до жути сарояновской, и жизнь в ней как бы сама рассказывает о себе, и рассказывает все, и еще что-то. Переводы Н. Гончар непостижимо хранят и это «все» и это «еще что-то».
Ни одно слово, ни одна фраза, ни одно словорасположение в переводе (как и в оригинале, естественно) не останавливают на себе внимания, не стараются не отпустить от себя, их текстовая и внетекстовая реальность кажется независимой и от писателя, и от переводчика, словно не творится она ими, а творит их.
Однажды об одном писателе было замечательно сказано, что в его прозе нас поражает ее в широком и общем смысле язык, чувствуется, что самый процесс высказывания, выражения жизни в слове — первейшая внутренняя проблема этой прозы, выражение в слове — внутренняя проблема одновременно жизни этого писателя и прозы этого писателя.
В настоящей книге талантливо и истонченно переведен не вообще Сароян, а именно этот язык — язык одновременно сарояновской жизни и сарояновской прозы.
Ар. ГРИГОРЯН
ЧТО-ТО СМЕШНОЕ
Серьезная повесть
— Пить хочется, — сказал мальчик.
— И мне, — сказала девочка.
— Мы уже почти что дома, — сказал мужчина. — Скоро дойдем, и пейте, сколько вам пожелается.
— Вон тот наш дом?
— Нет, чуть подальше.
Они двинулись дальше по пыльной дороге, вдоль узкого канала, заросшего травой. Стоял жаркий полдень, и воздух был полон мошкары и запаха листьев, воды и плодов.
Дом был старый, белый, уже порядком поблекший и какой-то нелепый на вид, но тут, видно, у всех дома были такие.
— А ключ ты захватил? — сказала женщина.
— Конечно, захватил.
— Покажи-ка нам его.
— Даже если я и без ключа, — сказал мужчина, — мы все равно войдем, так что ты не волнуйся.
Он показал ключ.
— Иначе как пешком нам добраться, конечно, нельзя было?
— А разве для тебя такая прогулка не удовольствие? — сказал мужчина. — Для меня это удовольствие. Что ж хорошего в жизни за городом, если и погулять неохота?
— После пяти часов тряски в поезде?
— Почему бы и нет? Ну, вы устраивайтесь, а я пойду обратно за чемоданами.
— И конечно, вернешься пешком?
— Да.
— С двумя тяжелыми чемоданами?
— Они не тяжелые.
— Ох, возьми такси!
— Я хочу пройтись. Нравится тебе дом?
— Снаружи не бог весть что, — сказала женщина.
— Ты погоди, — сказал мужчина. — Рэд, тебе он нравится?
— Он вот-вот как будто повалится, а? — сказал мальчик.
— Да. Со смеху.
Они поднялись по ступенькам на крыльцо, мужчина вложил ключ в замочную скважину, повернул его, потом толкнул дверь. Мальчик обернулся посмотреть еще раз на виноградник. В дом он вошел последним. В доме было сумрачно и прохладно.
— Где тут вода? — сказал мальчик.
— Ты можешь попить из крана, — сказал мужчина. — Но если минутку потерпишь, я запущу насос и накачаю тебе воду из земли.
— Я потерплю, — сказал мальчик.
Скоро они спустились во двор, где были насос и рядом с ним бочка. Мужчина взялся за дело, насос заработал, вода переполнила бочку и стала литься на землю.
— Ну давай, — сказал он, — побудем здесь немного. Скинь ботинки и походи по воде.
Мальчик скинул ботинки и зашлепал по луже.
— Славно! — сказал мужчина. — Теперь подставь-ка лицо сюда под струю и пей сколько захочешь.
— Без чашки?
— Без. Смотри, вот так.
Мужчина наклонился к воде и напился, мальчик сделал то же самое — и все лицо у него стало мокрое. Девочка и женщина вышли из дома, девочка тоже попробовала попить и тоже вымочила себе лицо.
Девочка сняла туфли и зашлепала по луже вместе с мальчиком. Мужчина подошел к инжирному дереву, ухватился за ветку, пригнул ее, потянулся выше. Женщина следила за ним, а мальчик и девочка разгуливали по луже. Мужчина поискал глазами и нашел на ветке четыре спелых инжира; один из них он съел сам, не очищая, второй очистил и протянул его женщине, потом очистил два других для мальчика и девочки.
— Что это? — сказала девочка.
— Инжир, — сказал мужчина. — Ну ладно, я пошел за чемоданами. А вы тут пока поболтайте.
Он повернулся и зашагал к дороге. Мальчик очутился с ним рядом.
— И я с тобой.
— Идти не меньше мили. И столько же обратно.
— Мы ведь туда же?
— Туда же. На станцию.
На станции какой-то человек улыбнулся мальчику и сказал мужчине:
— Вы, если не ошибаюсь, брат Дейда? Я — Уоррен Уолз. А это, конечно, ваш сын, очень уж похож на вас.
Отец мальчика стоял на платформе, возле путей, и разговаривал с Уорреном Уолзом. Уолз был в негнущейся соломенной шляпе, и когда он снял ее, Рэд увидел, что на макушке у него совсем нет волос.
Чуть подальше стоял локомотив, и из него высунулся человек и смотрел прямо на Рэда.
— Эй! — сказал Рэд.
А тот спросил:
— Это твой отец?
— Вот этот, — сказал Рэд.
— Его-то я имел в виду, — сказал машинист. — У того другого три дочки.
— Тебе бы сострить, — сказал Уолз Коди Боуну, машинисту. — Коди, это брат Дейда, Ивен.
— Вы, кажется, профессор?
— Преподаю в университете.
— А по какой именно части вы профессор?
— По части английского.
— У них и по этой части профессора имеются?
— У них профессора по чему угодно имеются.
— И даже профессора по паровозам?
— Нет, но, пожалуй, надо бы.
— Возьмите меня туда, — сказал Коди, — все равно, где это.
— В Станфорде.
— В Станфорде? Такой молодой и учите в Станфорде?
— Сорок четыре мне.
— Совсем не похоже. Дейду ни за что не дашь пятидесяти или сколько ему, и вам ни за что не дашь сорока четырех.
Коди Боун перевел взгляд вниз, на Рэда, который так и уставился на него, стоя у самого паровоза.
— Отчего он такой горячий и черный?
— Это один из старых «малышей», — сказал Коди. — Сам я гоняю его здесь, в Кловисе, лет уже двадцать пять. Ты что, тоже собираешься стать профессором, вроде отца?
— Да.
— Надеюсь, вы поживете тут сколько-то времени?
— Неделю, наверно.
— Ну вот и хорошо. Непременно приходи сюда покататься со мной, прежде чем уедешь с отцом обратно в Станфорд.
Машинист посмотрел из своего окошечка на мужчин, помахал им рукой и двинул машину. Рэд стоял и смотрел, как идет паровоз. Он увидел, как уже далеко на путях огромный черный «малыш» подкатил к товарным вагонам и толкнул их. Потом он увидел, как паровоз, протолкнув вагоны ярдов на сто вперед, перешел на другую колею и умчался вдаль. Он смотрел до тех пор, пока смотреть уже стало не на что, кроме виноградников, раскинувшихся по обе стороны железной дороги.
— Рэд, — позвал его отец. — Хочешь поехать домой в машине мистера Уолза?
— А ты?
— Видишь ли, нам предлагают поехать, а решай ты.
— Мне все равно.
— Он хочет прогуляться, — сказал мужчина Уолзу. — Большое вам спасибо.
— Хорошо. Но давайте я хоть чемоданы подкину.
— Отлично, и еще раз спасибо. Может, увижу вас, когда мы доберемся?
— Нет, — сказал Уолз. — Мне нужно домой, но я уверен, что Мэй захочет прийти как-нибудь вечерком повидать миссис Назаренус и детишек. Я хочу сказать, ей будет приятно, если мы встретимся. И мне, конечно, тоже.
— И нам, — сказал отец Рэда, — так что давайте сделаем это сегодня же.
— Я оставлю их на крыльце. — Уолз поднял оба чемодана и быстро зашагал через станцию к своей машине.
— Ну как, плиты не очень горячие? — сказал Ивен мальчику.
— Не холодные.
— Ногам приятно?
— Да. Посмотри-ка туда, на рельсы. Там тоже трава.
— О, да.
— Почему всюду трава?
Они пошли назад, к дому, неторопливо, с ленцой.
— Трава — могучая штука, — сказал мужчина. — Я как-то ехал на поезде через Францию, и он остановился возле какого-то замка. Замок был из твердейшей горной породы. Один из камней его дал трещину. И прямо из трещины росла трава.
— Как она туда попала?
— Ветер.
— Ветер вдул траву в треснувший камень?
— Нет, он занес туда пыль, песок и тому подобное, — сказал мужчина, — и семена травы. Дождик проник в эту смесь, к семенам, и из камня проросла зеленая травка.
— По-настоящему зеленая?
— Да. Тебе нравится все это вокруг?
— Нравится. Особенно трава.
— А инжир тебе понравился?
— Я и раньше ел его.
— Ел, но не с дерева. Разве это одно и то же?
— Нет. С дерева лучше.
— Покатаешься как-нибудь с Коди на паровозе?
— А куда мы поедем?
— Ну, скажем, объедете железнодорожный парк.
— Я подумаю.
Теперь они шли через город, который назывался Кловис. В повозке, запряженной лошадью, проехали мимо старик и старушка.
— Здравствуйте, — сказал Ивен и кивнул старой чете, а те улыбнулись проезжая.
— Кто это такие? — сказал Рэд.
— Не знаю.
— Разве не все люди знают друг друга?
— Нет. Но с той минуты, как они встретились, они почти друг друга знают. Главное — встретиться.
— Если я вижу их, я их знаю.
— Ты любишь их?
— Люблю?
— Да.
— Не знаю, — сказал Рэд. — Я вижу их. Я знаю их. Но я не знаю, люблю я их или нет. Ты хочешь сказать, люблю ли я их, как маму и тебя?
— А про сестру забыл?
— И так, как ее? Ты хочешь сказать, люблю ли я их так или же по-другому?
— Нравятся ли они тебе вообще, так или по-другому?
— Мне нравится их видеть.
— Но ведь понравился тебе Коди Боун?
— Да.
— А почему?
— Ну, потому… Ну, разве ты не видишь, я не знаю, почему он мне понравился. Мне нравится трава, но почему — не знаю. Тебе обязательно знать — почему?
— Нет. Нравятся тебе деревья?
— О, да.
— Виноградники?
— Тоже.
— А что скажешь о солнце?
— Я люблю солнце.
— Это сильное слово.
— Я люблю солнце больше всего на свете.
Полдень прошел давно, и солнце начало уже опускаться. Оно было ближе, чем мальчику приходилось видеть когда-нибудь, ближе было и горячее. И даже ступнями ног он любил это солнце в мягкой пыли на дороге.
— Посмотри-ка туда, папа, — сказал он. — Вон мама и Ева босиком идут встречать нас. Ты чудесно выглядишь, мама, — сказал он, когда они все четверо сошлись на дороге.
— Правда? — сказала женщина.
— Ты выглядишь прекрасно.
— А ты как думаешь? — сказала женщина мужчине.
— Он сказал и за меня, — ответил мужчина.
В доме пахло кофе, кожей и камнем. Кофе Рэд отыскал: он был молотый и оказался не на кухне, вопреки ожиданиям, а в гостиной, в открытой баночке на книжной полке.
— Почему кофе на книжной полке? — сказал Рэд.
— Дейд не любит держать вещи в полном порядке, — сказал мужчина. — Если вещи вокруг него в полном порядке, он делается от этого несчастнее, чем обычно.
— Разве он несчастен?
— Ты ведь помнишь своего дядю?
— Да, но разве он несчастен?
— Ну, может и нет.
— Он несчастен? Скажи мне.
— Во всяком случае он не придает этому значения, так что, может, и не несчастен.
— А почему он несчастен, если несчастен?
— Так уж бывает.
Тут есть что-то такое, что нужно выяснить, подумал Рэд. Всегда есть что-то такое, что нужно выяснить о каждой малейшей вещи вокруг тебя. Сначала ты видишь вещь, потом что-то о ней узнаешь, потом оказывается, есть что-то еще, что надо бы выяснить, и если ты не выяснил, то чувствуешь себя несчастным.
— Где розы? — сказал он.
— Розы? — сказала женщина. — Какие розы?
— Которыми здесь пахнет. Разве ты не чувствуешь, как пахнет розами, мама?
— Ты чувствуешь, чтоб здесь пахло розами? — спросила женщина мужчину.
Мужчина понюхал воздух.
— Что-то вроде, — сказал он.
Женщина тоже понюхала воздух.
— Не чувствую, чтоб тут пахло розами, — сказала она. — Впрочем, я ни черта не смыслю в запахах. Никогда не смыслила. — Она обернулась к девочке: — Как по-твоему, тут пахнет розами, Секси?
— Ева, — сказала девочка.
— Как по-твоему, тут пахнет розами, Ева? — сказал мужчина.
— Нет, папа, — сказала она. — И спасибо, что ты так хорошо со мной разговариваешь.
— Ладно, — сказал мужчина.
Девочка повернулась к матери:
— Меня зовут Ева Назаренус, — сказала она.
— Я сама дала тебе имя, — сказала женщина. — И уж наверно его знаю.
— Тогда почему ты сказала Секси?
— Это твое прозвище, так же как Рэд [1] — прозвище твоего брата.
— Его имя Рэкс.
— Ладно, — сказала женщина. — В наши дни каждый хочет быть кем-то, никто больше не желает быть никем. Ты — Ева Назаренус. Твой брат — Рэкс Назаренус. Твой отец — Ивен Назаренус.
— И моя мать Суон Назаренус.
— Все верно, — сказала женщина. — Ну а теперь ступай поищи розы.
— Не хочу я их.
— А что же ты хочешь?
— Ничего.
— А мальчика, который тебя любит, хочешь? Принца?
— Ничего не хочу.
— А лимонаду?
— Нет.
— А помадку? Я приготовлю сама, а ты мне поможешь.
— Помадку?
— Да, Секси.
— Ничего не хочу.
— Почему?
— Ты опять сказала то слово.
— Прощу прощения.
— Что оно значит? — сказала девочка.
— Оно значит «красавица», — сказала женщина. — Разве не правда? — обратилась она к мужчине.
Мужчина посмотрел на маленькую девочку, сидящую на полу с тремя книгами, которые явно уже надоели ей.
— Правда, — сказал он. — Это значит «красавица».
Девочка поднялась, взяла мать за руку, и они вместе направились к двери. Выходя, девочка остановилась, чтоб сказать что-то отцу.
— Мы девочки, — сказала она.
Женщина засмеялась, и «девочки» ушли на кухню.
— Весь дом хорошо пахнет, — сказал Рэд. — Но я не могу найти розы.
— Они должны быть где-то тут, — сказал мужчина.
— Я знаю. Я чувствую их запах.
Он как рыжий сеттер, подумала женщина. Он улавливает все запахи.
— Вы не поколете для нас орехов? — позвала она из кухни.
— Нет, — сказал мужчина.
— А ты, Рэд?
— Нет, мама. Мне нужно отыскать розы.
— Зачем, Ивен? Зачем ему отыскивать эти розы?
— Затем, что они где-то здесь, а он хочет узнать, где именно.
— Ox, — сказала женщина.
— Я найду их, мама, — сказал мальчик. — Они, наверно, старые, засохшие и заложены куда-нибудь в книгу.
С миской в руках женщина вошла в комнату, и девочка стала рядом с ней, крепко держа деревянную ложку.
— Ну неужели, Ивен?
— Вполне возможно.
— Да, но откуда ему в голову могло прийти такое?
— Он видел розы, заложенные в книгу.
— Ты видел, Рэд?
— Конечно, видел, мама.
— Где?
— Дома. Две белые розы, заложенные в словарь, и четыре маленькие красные — в библию.
— Кто же их заложил туда?
— Ты, мама! Ты что, не помнишь того, что сама же сделала? Ты не помнишь, как я однажды нашел их и стал тебя расспрашивать?
— А зачем ты их положила туда, мама? — сказала девочка.
— Ох, не знаю. Наверно, я когда-то обнаружила в книге засохшие розы и решила при случае тоже так сделать.
Они ушли обратно на кухню, но мужчине было слышно, как они там хлопочут и разговаривают, и мальчику тоже. Время от времени мужчина и мальчик все оставляли, чтоб только послушать. Они знали, что девочки говорят для того, чтоб их слушали, а девочки знали, что к ним прислушиваются. Они забавлялись. Было так прекрасно — находиться в деревне, в доме на винограднике, в доме хоть и стареньком, но прохладном и чистом.
— Вот они, — сказал Рэд. — Не в книге. Вот маленький букетик роз, перевязанный и брошенный в эту серебряную вазу на камине. Они были красные, наверно. То есть ярко-красные, не такого цвета, как сейчас. — Он направился к кухне: — Хочешь понюхать их, мама?
Женщина посмотрела на розы.
— Сейчас я заплачу, — сказала она.
— Нет!
— Да, заплачу.
Она подошла к пианино в гостиной, опустилась на скамеечку и — заплакала, мальчик подошел и стал рядом, вглядываясь в ее лицо, девочка оказалась тут же, мужчина поднялся со стула.
— Ты не плачешь, мама, ведь ты не плачешь? — сказал Рэд. — Мама не плачет, ведь нет, папа? — Он обвил руками мать и сказал: — Мама, ради бога, ведь ты не плачешь?
Девочка обняла своего брата.
— Мама, — сказала она, — не плачь. О чем она плачет, Рэд?
— В чем дело, Суон? — сказал мужчина.
— Я не могу смотреть спокойно на прекрасные вещи, которым пришел конец, — сказала женщина. — Один только вид их пугает меня до смерти.
— Перестань, Суон, — засмеялся мужчина.
— Хочу инжир с дерева, — сказала женщина, — как это было сегодня днем. Хочу, чтоб так было все. И навсегда.
— Навсегда? — сказал Рэд. — Что это значит?
— Ах, Суон, — засмеялся мужчина. — Перестань, пожалуйста.
— Нет, — заплакала женщина.
Мужчина широко раскинул руки и заключил в объятие всех троих.
Женщина перестала плакать и рассмеялась, обнимая их одного за другим и целуя.
— Мои малютки, — смеялась она. — Мой муж и мои малютки.
Она быстро встала и вернулась на кухню, словно ничего не произошло особенного. Что было на уме у матери? Почему она плакала, а потом смеялась и обнимала и целовала их всех? Рэд забрал розы и положил из назад, в серебряную вазу на каминной плите. Потом, не слезая со стула, он обернулся к отцу, который стоял сейчас спиной к нему, в открытой наружной двери, и глядел на дорогу.
— Папа?
— Да, Рэд.
— Почему мама плакала?
— Не знаю. Суон, — сказал он вдруг, — я пойду погуляю.
Она выбежала из кухни.
— Подожди меня!
— Хорошо, Суон.
— К черту эту помадку! — сказала она. — Кому нужна помадка? И зачем это я вдруг взялась за нее, не знаю. Куда пойдем?
— Ну, скажем, в город. До станции и обратно.
— Обратно на такси?
— На такси, конечно.
Почти всю дорогу до города Ивен нес девочку на руках. Но когда они дошли до города с его огоньками, она слезла, чтобы хорошенько осмотреться вокруг. Что-то особенное было здесь, но что именно, она не могла разобраться, пока не увидела над собой неба, похожего на вспышку фейерверка.
— Я сейчас достану их, — сказала девочка. — Достану, схвачу себе все эти звездочки.
— Ивен, — сказала женщина, — взгляни на небо. Взгляни на звезды в небе.
— Да, я смотрю.
Пока они все четверо, стоя на улице, смотрели вверх на звездное небо, из кинотеатра вышла женщина с тремя девочками и, завидев их, подошла и сказала со смехом в голосе: «Я Мэй Уолз».
Рэд и Ева оторвали глаза от звезд и увидели рядом трех девочек. Вскоре они все вместе играли, вертелись, скакали и прыгали по тротуару, Мэй и Суон беседовали, а Ивен стоял рядом и слушал. Потом их новая знакомая, очень полная и крепкая и, как видно, очень добродушная женщина, предложила своим дочкам поймать ее, и они тут же, схватившись за руки, зажали ее в кольцо.
— Приходите к нам, — сказала Суон.
— А не слишком ли поздно?
— Нет. Приходите, посидим на веранде, поболтаем.
Мэй и ее девочки попрощались и ушли.
— Они все — девочки, — сказала Ева. — Где же их мальчик?
— Их папа не пошел в кино, — сказала женщина. — Он остался дома.
— А где другой их мальчик?
— Другого у них нет. Только отец.
— Почему он не захотел с ними в кино?
— Не знаю. Наверно, он уже видел картину.
В Кловисе, помимо звезд, были и огни, мерцающие огни. Освещение улиц и магазинов было не очень яркое, и все-таки город выглядел весело.
Рэд услышал, как несколько человек смеются в баре.
Мужчина, проходивший по улице, попросил у Ивена мелочи, а Ивен дал ему четверть доллара.
— Удивить хочешь? — сказала женщина.
— Нет, — сказала Ева. — Человек потерял свою маму. Папа дал ему денег, чтоб он смог ее найти.
В такси, уже почти засыпая, девочка сказала:
— Папа, когда он ее найдет?
— Завтра.
Она заснула, прежде чем они доехали до дому. Он отнес девочку на руках в ее комнату, раздел и уложил в постель.
Рэд стоял один в гостиной. Женщина была на веранде, в качалке.
— Может, это вода здесь пахнет камнем? — сказал Рэд. — Как ты думаешь, может быть? Или этот запах идет снаружи? Ведь дом из дерева. Откуда же пахнет камнем? Здесь есть стулья, обитые кожей, гладкой черной кожей, но здесь, в этом доме, нет никакого камня.
— Запах может быть и снаружи, — сказал мужчина. — И может, это не камень и даже не вода, или, во всяком случае, не только вода. Может, это и вода, и земля, и трава, и листья — все, что есть вокруг живого. Ты не устал?
— Устал, папа.
Он посмотрел на отца, и глаза его улыбались, но лицо было грустное.
— Мама смешная была в Кловисе. И когда она сказала, что ты удивить хочешь, и когда разговаривала с Мэй и девочками. Она все время там была какая-то странная и смешная.
— Неужели?
— Очень она была странная и смешная. Она любила там все. И была очень грустная. Когда ты все вокруг любишь и тебе грустно, ты делаешься от этого каким-то особенным, смешным каким-то, разве неправда?
— Что ты хочешь сказать?
— Я хочу сказать, когда ты видишь, что кто-то так любит все и такой грустный, тебе, ну и вообще всякому, кто видит, делается смешно и весело. Он грустный, а ты смотришь на него, и тебе весело.
— Ох!
— Вот что, папа, — сказал он, — завтра я буду искать и найду этот камень или же выясню, откуда тут запах камня. Сухого камня.
— Хорошо, Рэд.
— Мама, — сказал мальчик.
— Да, Рэд.
— Ты была очень смешная в Кловисе.
Мальчик вышел на веранду, припал к сидевшей в качалке матери, взял ее руку и повернул и поцеловал в ладонь, потому что ему приходилось видеть, как это делал мужчина, и потому что это было приятно. Женщина сжала руками его голову, посмотрела на него, и в глазах ее он увидел грусть.
— Ты тоже был странный и смешной, Рэд.
— Значит, я тоже любил там все?
— Любил все?
— Да, как и ты, когда мы были в Кловисе.
— Разве в Кловисе я любила все?
— Да, мама, я это видел. Но скажи, я тоже любил там все?
— Конечно же, Рэд. Конечно, любил.
— Спокойной ночи, мама. — Он поцеловал ее в обе ладони, выпрямился и, не посмотрев на нее, медленно направился в дом.
Она услышала, как он сказал в гостиной:
— Спокойной ночи, папа.
— Тебе помочь не нужно? Справишься сам? — спросил мужчина.
— Мне шесть лет! Шесть с половиной!
— Ладно, Рэд.
Ивен мыл на кухне под краном персики и черный виноград, оставленные Дейдом в холодильнике.
С Дейдом было так: у него была семья, и он потерял ее, и все, что осталось, был этот дом, построенный для многих, дом, который Дейд построил сам, когда ему было двадцать девять, — две большие спальни и три маленькие — три маленькие для малышей, для тех, кого он едва успел увидеть, одна из больших для него и его жены, другая для его брата Ивена с женой на случай, если им захочется навестить его.
Ну вот он и помыт и уложен на блюдо — черный виноград с виноградника Дейда. Ивен уже собрался идти с виноградом к Суон, как вдруг на кухне опять появился Рэд и сказал:
— Папа, а может быть, это сам Дейд и вовсе не камень? Как по-твоему, может быть такое, а?
— Да, — сказал мужчина, — возможно, что это и так. Если и не вполне, то отчасти. Дать тебе персик?
— Нет, папа, спасибо.
Мужчина вышел на веранду, в одной руке неся маленький столик, в другой фрукты. Он пристроил столик около женщины и поставил на него блюдо.
— Может, ты предпочитаешь выпить, Суон?
— С удовольствием напилась бы.
— Хорошо. А на фрукты мы будем смотреть.
Он снова пошел на кухню, откупорил бутылку, наполнил серебряное ведерко льдом из холодильника, достал высокие стаканы, очистил лимон и набрал в графин холодной воды. Вернувшись к жене, он налил ей и себе, и они выпили. Он зажег сигарету, и Суон потянулась за ней. Он дал ей сигарету и закурил другую. Они пили и курили молча. Мужчина сел на перила, чуть в стороне от жены. В молчании они прислушивались друг к другу, и каждому было слышно дыхание другого, и наконец женщина произнесла его имя. Не прошептала — произнесла, но так тихо, так мягко, как это получилось бы только у Евы Назаренус, и то не сейчас, а годик тому назад, — такой мягкой речи они не слышали ни у кого, никогда.
— Да, Суон?
— Я боюсь.
— Чего ты боишься?
— Я до смерти боюсь.
— Не надо бояться.
— Я и сама не хочу, но боюсь. Я знаю, какие люди и ты, и Дейд, и каким был твой отец, и какой будет Рэд.
Мужчина спрыгнул с перил и наполнил стаканы — себе и ей. Он знал: она хочет сказать ему что-то еще. Он весь как-то внутренне сжался, чувствуя, до чего трудно ей это сказать. Он протянул ей полный стакан и заглянул в глаза. Потом отставил стаканы в сторону, поднял ее из качалки и обнял. Он не стал целовать ее, а только крепко прижал к себе. Он еле подавил в себе ярость, когда услышал ее рыдание. Он отпустил ее, взял стакан и сошел по ступенькам.
— В чем дело, Суон?
— О господи, Ивен.
— В чем дело?
— Лучше б я умерла.
— Почему, Суон?
— Дай мне чуточку выпить, — сказала женщина. — Пожалуйста, дай мне сначала выпить.
Он вспрыгнул на веранду, схватил бутылку и стал лить из нее виски на лед в свой стакан и, наполнив его до краев, поднял и осушил до дна.
— Выпей немного, Суон, — сказал он и наполнил ее наполовину пустой стакан, и она выпила залпом, так же как он.
— Я знаю, что ты за человек.
— Что я за человек?
Теперь он уже почти догадался, что именно она никак не может ему сказать. Он бросил кусочки льда в свой стакан, налил себе снова виски и снова выпил и — не поверил. Отказался поверить.
— Послушай, — начал он. — Может, будет лучше, если ты не скажешь мне?
— Нет. Я должна.
Она кончила пить и смотрела на него, не отрываясь.
— Мальчик сказал, что в Кловисе ты любила всех. Он сказал, что в Кловисе ты была особенно красивая. Он сказал, что ты была странная и смешная, потому что любила там всех и все.
— Да, — сказала женщина.
— В чем же дело, Суон?
— Налей мне еще. Ну, пожалуйста, налей мне!
— Нет! — крикнул он. — Говори, в чем дело. Скорее! Кончай! Выкладывай все!
— Я жду ребенка, — сказала женщина быстро, решившись. — Он не твой.
Мужчина схватился за горлышко бутылки. Женщина сжалась от страха, подумав, что сейчас он ударит. Он налил свой стакан на четверть, добавил воды и протянул его женщине. Потом взял ее стакан, налил почти до краев и, откинувшись, выпил.
Он снова сел на перила, со стаканом в руке, и еле слышно заплакал. Женщина встала с места и подошла к нему.
Он отпрянул, спрыгнул с перил на землю, отшвырнул стакан далеко в виноградник и зашагал прочь. Выйдя на дорогу, он остановился, посмотрел назад и увидел, что женщина спускается по ступенькам.
Он бросился бежать по той же дороге, по которой всего какой-то час назад они вчетвером возвращались с прогулки. Пробежав немного, он снова остановился и обернулся и увидел, что женщина упала и лежит на ступеньках лестницы.
Навстречу ему быстро приближалась машина. Она замедлила ход, стала. Он увидел, что в машине Уоррен Уолз и его жена Мэй, но повернулся и пошел в сторону. Машина медленно поехала дальше, перед домом остановилась, и он увидел, как Уоррен выскочил и поспешил к женщине.
Тогда он бросился бегом через дорогу в виноградинки.
Рэд услышал крик своего отца, но ему приходилось слышать его и раньше, много раз. Крик отца всегда пугал его и немножко злил. Однажды он даже исполнился внезапной ненавистью к отцу и бросился на него, но тот только поднял его на руки и сказал:
— Ты не понимаешь.
Ивен опустил Рэда, и мальчику стало стыдно, потому что в эту минуту он понял. И все же ему не хотелось, чтоб Ивен так на нее сердился. Когда Суон сердилась на Ивена, это тоже ему не нравилось, но в этом было всегда и что-то забавное. Рэду неприятно бывало видеть разозленного Ивена, а вот гнев Суон никогда не представлялся ему серьезным, за ним всегда чувствовалось что-то другое, или, во всяком случае, так Рэду казалось.
Мальчик рывком поднялся и сел на постели. Потом слез с нее, подошел к двери и остановился, чувствуя, как его охватывает слабость и дрожь. Наконец он выбрался в темный коридор, потом в гостиную.
Когда подоспел Уоррен Уолз, он увидел, как мальчик силится поднять свою мать, то хватая ее за руку, то поддерживая под голову.
— Я — Уоррен Уолз, — сказал он мальчику, — мы познакомились на станции.
— Что с мамой?
— А ну-ка, — сказал Уоррен. — Дай-ка я подниму ее.
Подбежала и Мэй, муж и жена подняли женщину на ноги и медленно повели по лестнице. Она увидела Рэда, распахнувшего перед нею дверь, рванулась к нему, схватила на руки и вошла в дом. Она захлопнула дверь и с мальчиком на руках двинулась через погруженную во тьму комнату. Где-то она натолкнулась на стол и, не удержавшись, упала. Рэд высвободился из ее объятий и помог ей встать.
— Мама, — сказал он, — включи свет.
— Нет, — прошептала она, — я не хочу света.
Оставшиеся за дверью муж и жена переглянулись.
— Это он был на дороге? — спросила жена.
— А то кто же.
— Не лучше ли тебе пойти за ним?
— Не знаю. Не наше это дело.
— Тебе, пожалуй, надо пойти за ним, — сказала жена. — Мы просто не имеем права сесть сейчас в свою машину и укатить домой. Я побуду здесь, на веранде, пока она не почувствует, что снова может выйти, или пока ты вернешься назад.
— Поехали домой, — сказал мужчина. — Я думаю, лучше нам не встревать.
— Что-то случилось, — сказала женщина. — Почему она не включает свет?
— Поехали домой.
— Ступай-ка ты за ним. А я подожду здесь.
— Черт подери, — сказал мужчина. — У них была маленькая стычка. Им обоим стыдно, и лучше оставить их в покое.
— Ступай за ним, Уоррен.
— О господи, — сказал мужчина.
— Его брат — твой друг, — сказала женщина.
— Ничей он не друг — его брат, — сказал мужчина. — Не наше это дело.
— Заткнись ты, ради бога, и ступай за ним, — сказала женщина.
— А ну тебя к дьяволу! — сказал мужчина и пошел к машине. Он развернулся и поехал назад по дороге. Женщина проводила глазами машину, потом, с тревогой и страхом в сердце, на цыпочках поднялась по ступенькам и подошла к двери. Из дома не слышно было ни звука.
Мальчик снова лег в постель, и женщина была где-то рядом, во тьме.
— Не плачь, — сказал он.
— Он твой отец, — всхлипнула женщина. — Он любит тебя. Он любит Еву.
— А тебя, мама, он любит?
— Да, любит.
— Тогда почему ты плачешь?
— Я не могу сказать тебе, Рэд. Я не могу сказать тебе этого, но я люблю тебя.
Почему она плачет так, как не плакала никогда? Что происходит? В чем дело? Почему все не так, как должно быть, как надо? Почему все и всегда так загадочно, странно, так опасно, хрупко, готово разбиться вдребезги?
— Я люблю и тебя, и его, Рэд, — сказала женщина. — Я не люблю Еву, потому что она такая же, как я. Я ненавижу Еву.
— Мама!
— Я люблю ее. Я ее тоже люблю, Рэд.
— Она показала нам звезды.
— Да, я люблю ее.
— Никто не замечал их, и только она заметила. Разве нет?
— Да, только она.
— Что случилось, мама?
— Не могу я сказать тебе.
— Ты не знаешь?
— Знаю.
— Тогда скажи мне.
— Я не могу сказать тебе.
— Что же мы будем делать?
— Не знаю, Рэд, — заплакала женщина.
Когда он пересек виноградник и выбрался на другую дорогу, он перестал бежать и пошел медленно, весь горя в огне, чувствуя, как захлестывает его теперь опьянение и смертельная усталость. Вдруг он споткнулся обо что-то — «моя гнусная жизнь!» мелькнуло в голове, — и больно упал. Он остался лежать как упал, вдыхая поднявшуюся от падения пыль, чувствуя ее привкус. Он потянулся вперед, вцепился пальцами в землю, поднялся на ноги.
Он поплелся дальше, снова споткнулся обо что-то, снова упал и на этот раз вскрикнул: «О, Рэд, мой сын! О Ева, моя дочь!» — и заплакал, не стыдясь своих слез, и слезы смешались с кровью на его разбитом лице.
Рядом остановилась машина, кто-то подошел и наклонился над ним.
— Я еду во Фресно. Если хотите, подвезу.
Он поднялся, не дожидаясь помощи. Ему хотелось поблагодарить, но он просто был не в состоянии смотреть сейчас на кого бы то ни было. В машине он вытер с лица кровь и слезы.
— За городом не часто попадаются пьяные.
— Я страшно благодарен вам, — сказал он шепотом. — Мне не хочется разговаривать.
— Но вы не против, если буду говорить я?
— Нет.
— Так вот, я увидел вас не только что, а еще раньше, когда вы вышли из виноградника. Я решил, что должен подъехать и справиться, каково вам тут. Не знаю почему. Не мое ведь дело. В другой раз я проехал бы мимо. Вот и все.
Водитель замолчал и больше уже не проронил ни слова до самого города. Они приехали в центр, он поставил машину на стоянку, и мужчина повернулся посмотреть на него — в первый раз — и поразился, увидев совсем молодого человека, почти юношу.
— Ивен Назаренус, — сказал мужчина.
— Знаю, — кивнул юноша. — Я сын Коди Боуна. Я знаю Дейда. Вы очень похожи. Коди сказал мне, что видел вас на станции. — Он улыбнулся и вылез из машины.
Мужчина тоже вышел и зашагал прочь. На углу был бар, он вошел туда, окинул взглядом пьющих у стойки, потом снова вышел на улицу. Подъехало такси, из него высадились молодой человек и девушка, и Ивен занял их место.
— В аэропорт, — сказал он.
В аэропорту он попросил билет на Сан-Франциско, потом зашел в телефонную будку и попробовал дозвониться к своему брату. В отеле сказали, что брат его вышел. За пять минут до отлета он позвонил еще раз и услышал в телефон голос своего брата.
— Я вылетаю в Сан-Франциско. Можешь меня встретить?
— Конечно. Когда?
— Через час, я думаю.
— Я буду там. — И через мгновение: — Ивен?
— Расскажу, когда встретимся.
— Хорошо.
Он вышел из кабины и направился к самолету.
Он увидел своего брата, мужчину лет пятидесяти, — тот стоял у выхода, чуть в стороне от группы человек в семь-восемь, в которой были мальчик лет четырех и девочка лет шести. Подойдя к выходу, Ивен Назаренус взглянул на этих малышей и почувствовал, что любит их и страшно жалеет.
Братья быстро оглядели друг друга. Ивен предложил:
— Может, пройдемся?
— Давай.
Они молча пошли по шоссе в сторону Сан-Франциско.
Он рассказал брату тихо, вдруг.
— Как Рэд? — сказал его брат.
— Из-за него у меня сердце надрывается, Дейд, но она его мать.
— Как Ева?
— И из-за Евы.
— Как Суон?
— Что?
— Как Суон?
Младший брат остановился. Он не был уверен, что не повернется сейчас и не уйдет.
— Ты, может, шутить вздумал, а, Дейд?
— Как мать твоих детей, Ивен?
— Ты не слышал, что я тебе рассказал?
— Все слышал. Как Суон?
Они молча зашагали дальше и вышли на перекресток.
— Куда ведет эта дорога? — сказал Ивен.
— В Сан-Бруно.
Младший брат повернул на дорогу в Сан-Бруно, старший за ним.
— О чем же мне спросить тебя?
— О чем угодно, Дейд. Спроси, почему я не убил ее.
— Ладно. Почему?
— Потому что люблю. Что это с нами такое?
— Как она?
— Не знаю. Наверное, умирает. Что это с нами такое, а, Дейд?
— А дети что-то знают?
— Рэд не может докопаться, отчего в твоем доме пахнет камнем. Что это такое с Рэдом, Дейд?
— Он знает?
— Знает. Сейчас он уже знает. Запах кожи от стульев в твоей гостиной. Кофе он нашел на книжной полке, а букет засохших роз на камине, в серебряной вазе. Он хотел узнать, откуда же запах камня — не от тебя ли, от одинокой жизни в доме, в котором когда-то было трое детишек — два сына и дочь. Сейчас он уже знает. Что-то знает. Он очень привязан к ней. Он любит ее, как я, и вдобавок еще по-своему, больше, сильнее. Что это такое с нами, Дейд?
— Я знаю, откуда запах камня, — сказал Дейд.
— А что это за букет?
— Ее.
— Как она? Как твоя жена, Дейд?
— Не знаю, Ивен.
— Меня легко было спрашивать, — сказал младший брат. — Меня ты спрашивал, но вот я спрашиваю тебя, а ты в ответ — не знаю. И это все? Мне уже жаль ее. Все это не из-за нашей ли гордости? Ты не знаешь. И это все?
— Это все, Ивен.
— Спустя столько времени? Спустя девять лет?
— Да.
— Почему? Кто мы такие, в конце концов? Кем себя мним?
— Все это так или иначе скверно, — сказал старший брат, — но еще скверней, если у человека нет гордости.
— Ладно, Дейд, — сказал он. — О господи, ладно. Но неужели нам нельзя быть сквернее? Неужели нам нельзя быть скверней других?
— Не знаю. Можно ли нам? Нельзя ли?
— Я сказал тебе, что уже жалею ее. Что же это такое с нами, Дейд? Ты хочешь, чтобы я жалел и дальше, раз уж проснулось во мне это чувство. Ты не принимаешь всего, но хочешь, чтоб я все принял.
Они вышли к домам, к тротуарам, миновали три квартала, потом младший брат повернулся, и они зашагали назад. В аэропорту Ивен направился к кассе и взял билет во Фресно.
Было пять утра, когда он добрался до дома в Кловисе. Вошел сначала к дочке: она лежала на кровати, совсем голенькая, крепко спала — раскинувшись в покое, которого, казалось, ничем не нарушить. Он подумал, что теперь нужно взглянуть на мальчика, но мальчик и мать оказались вместе. Мальчик лежал почти так же покойно и безмятежно, как и его сестра, но в позе женщины была напряженность. Он долго стоял, не отводя от них взгляда, и наконец женщина открыла глаза. В первое мгновение она не помнила ни о чем, потом вспомнила, быстро привстала. Лицо ее исказилось, она беззвучно заплакала, голова свесилась, волосы упали на грудь. Она соскочила с постели, обвила его руками и прошептала что-то, не похожее ни на какие слова. Он повел ее в предназначавшуюся им двоим комнату, откинул покрывало с кровати. Она легла, все еще вздрагивая, всхлипывая, а он сел рядом и стал ждать, хотя и невозможно было представить себе, чего он ждет, чего ему еще ждать.
Он сидел в мертвом оцепенении, уставившись в пол, — глаза его были широко открыты, но слепы, — слушал бедную женщину, ни о чем не думая. Так прошло больше часа. И тут в комнату вбежала их дочь, бросилась к нему на руки — так, словно это не она была, а ее мать, но уже прощенная. Он обнял дочь, прильнул губами к ее шее, прижался к ней в том же мертвом оцепенении, все еще неспособный думать, понимать, говорить. Женщина перестала плакать, потому что она знала, что при дочери нельзя.
— Ты встал раньше меня, папа, — сказала девочка, — а я всегда встаю первая. — Она обернулась к женщине. — Мама! — сказала она. — И ты проснулась!
Женщина попыталась улыбнуться. Девочка забралась к ней в постель и мигом устроилась так, чтобы потеснее прижаться к матери.
— Папа, — сказала она, — что это с твоим лицом?
— Я споткнулся.
— Папа! — сказала девочка, ничуть не поверив. — Ты не мог споткнуться! Это Рэд спотыкается! Это я спотыкаюсь! Ты никогда не спотыкаешься, папа.
— А вот споткнулся.
— Ты упал? Ударился?
— Да. Лицом.
— О, папа! — сказала девочка, слезая с кровати.
Она кинулась целовать его. Он следил за женщиной и по глазам ее видел, что сейчас она расплачется. Он качнул головой, и она сдержалась.
— Бедный папа, — сказала девочка. — Ты споткнулся и упал, как маленький мальчик?
— Нет, — сказал он. — Я споткнулся как муж, как отец. — Он внезапно обнял девочку, ожесточенный, злой на себя, и потом сказал почти со смехом: — Каждый может споткнуться.
— А это больно, папа?
— Нет.
— Мама, — сказала девочка, — в другой раз, если папа опять споткнется, ты помоги ему.
— Хорошо.
— Можно, я пойду скажу Рэду, папа?
— Конечно.
Девочка выбежала из комнаты, и тогда женщина снова прошептала его имя — так тихо, как могла бы только их дочь.
— Ты лучше встань, — сказал мужчина. — Дай им позавтракать. Поспишь, когда они будут во дворе.
Женщина спрыгнула с кровати и побежала в ванную. Девочка вернулась вместе с мальчиком.
— А ну, покажи мне.
Рэд внимательно изучал лицо своего отца.
— Папа?
— Да, Рэд.
— Я слышал тебя ночью.
— Мы поговорим об этом в другой раз. А теперь ступай одеваться.
— Ты мне поможешь одеться, папа? — сказала девочка.
— Помогу.
Он встал и отправился с девочкой в ее комнату, через минуту туда прибежал и мальчик, прихватив свою одежду, чтоб одеться тут, с ними.
— Ночью я слышал, как поют птицы, множество птиц, — сказал он.
— И я, — сказала девочка.
— Я не слез с постели, чтоб посмотреть на них, — сказал он. — Я даже не проснулся как следует, чтоб послушать их, но все равно я их слышал. Они пели долго и до сих пор поют. А одна птичка — по-моему, это была одна и та же — пела в темноте, среди ночи, все время, пока мама плакала, плакала и ждала, когда ты вернешься.
— Рэд!
Мужчина посмотрел на сына и покачал головой.
— Да, папа, — сказал мальчик. И потом: — Что такое птица?
— Видишь ли, — сказал мужчина, — чем бы она ни была, она существует на свете по воле случая, так же, как и все живое.
— Случай? — сказал мальчик. — Это как тот несчастный случай на шоссе, который мы с тобой видели? Когда две машины наехали друг на друга и перевернулись вверх колесами?
— Нет, — сказал он. — Это как случай, по воле которого ты встречаешь ту, кого раньше никогда не видел, и она нравится тебе так, что вы вместе создаете семью. Твоя встреча с ней — случай, и твои дети — какие они у тебя родятся, какими окажутся, — тоже случай.
— Не понял.
— А я поняла, — сказала девочка.
— Нет, — сказал мальчик. — Ты только так говоришь.
— А вот и поняла, — сказала девочка. — Да!
— Тогда объясни, — сказал мальчик.
— Ну… — сказала девочка. — Ну…
— Ну…
Мальчик рассмеялся.
— Она ничего не сказала, папа.
— Не смейся, — сказала девочка. — Я что-то все-таки сказала. Разве нет, папа?
Женщина вошла в комнату, умытая, чистая, аккуратно причесанная, в голубеньком ситцевом платье.
— Я приготовлю вам роскошный завтрак, — сказала она, изо всех сил стараясь вести себя так, словно ничего не произошло. — Будет жареная свинина, яйца и молоко. А еще я сорву несколько инжиров с дерева, помою, разрежу и полью кремом.
Выходя, она бросила взгляд на мужчину, но Ивен не смотрел на нее.
Он пошел в ванную, принял душ, и когда оделся, дети были уже во дворе, мальчик взобрался на дерево, а девочка стояла под ветками и ловила спелые плоды, которые он отыскивал для нее. Они разговаривали — громко, громче, чем обычно, потому что они были сейчас за городом, в таком счастливом месте, где все росло и созревало и где солнце было близкое и горячее.
Он подошел к телефону и попросил соединить его с Уорреном Уолзом. Уоррену он сказал: «Приходите сегодня к нам на обед. Приведите девочек. Приходите к шести, мы с вами выпьем».
Он вышел на крыльцо и постоял там на солнце. Подъехала машина, из нее вылез Коди Боун.
— Я встретил ночью вашего сына, — сказал Ивен.
— Он говорил мне, — сказал Коди. — Я каждый день проезжаю здесь по пути на работу, вот и подумал: дай-ка остановлюсь — может, мальчик захочет покататься на паровозе.
— Он хочет знать, куда вы поедете.
— Объедем железнодорожный парк.
Они подошли к дереву, и с высоты его мальчик увидел Коди. Вначале он не был уверен, что это Коди, потому что, когда он видел его в первый раз, Коди был частью паровоза, но мужчина улыбнулся, и, увидев его ровные зубы, Рэд узнал, кто это.
— Вот моя дочь, Ева, — сказал Ивен.
— Ева, — сказал Коди.
— Здравствуйте, — сказала девочка.
Мальчик спустился с дерева, чтоб хорошенько посмотреть на человека с паровоза вдали от паровоза — такое вот действительно интересно понаблюдать! Разница была огромная, но Коди и такой, какой он был здесь, понравился Рэду.
— Хотите инжир? — сказал Рэд.
— Хочу, конечно, — сказал Коди и целиком сунул ягоду в рот. — Я заглянул пожелать вам доброго утра.
— Нет, — сказал Ивен. — Мистер Боун зашел узнать, не хочешь ли ты прокатиться на паровозе. Объехать парк.
— Когда? — сказал Рэд.
— Сейчас, если ты, конечно, согласен.
Мальчик перевел взгляд с отца на Коди, раздумывая над предложением и, может, чуточку испугавшись.
— Хорошо, — согласился он. — А ты хочешь прийти посмотреть, Ева?
— Хочу, — сказала девочка.
Обойдя дом, они направились к машине Коди Боуна. Женщина перешла из кухни в гостиную, чтоб видеть их лучше. Машинист помог детям поместиться на переднем сиденье, а Ивен сел сзади. Когда они укатили, она горько заплакала. И все плакала, бродя по дому и что-то прибирая и расставляя.
Она слышала, как муж ее говорил по телефону с Уолзом, и знала, что к шести часам ей придется взять себя в руки. Но как ей справиться с собою? И что ей делать? Что?
— Он точь-в-точь как его брат, — сказал Уоррен Уолз своей жене. — Ни слова об этой ночи. Ни слова о том, чего мы натерпелись, стараясь помочь им. Даже не спросил ради приличия, захотим ли мы прийти на обед к ним. Приказ. Прийти на обед. Прийти в шесть. Привести девочек. Мы с вами выпьем и точка.
— Что-то необычное стряслось у них, — сказала Мэй Уолз. — Не могла она быть так груба, будь это что-нибудь обычное. Она хлопнула дверью прямо в лицо мне.
— Я объездил весь Кловис, разыскивая его, — сказал мужчина. — Побывал во всех заведениях, которые еще были открыты. Бары, парк, биллиардные, дом Сюзи.
— Сюзи? Ты этого не сказал мне.
— Я был слишком занят попытками успокоить тебя. Ты была так напугана.
— Я не сомневалась, что она вернется и откроет дверь. Ссорятся ведь многие, но другие ухитряются все же сохранять приличия. В конце концов, они сами нас пригласили. А ты… Не настолько ты был занят, чтоб не рассказать мне всего. И про дом Сюзи. Как он выглядит?
— Погано.
— Был там кто-нибудь?
— Два мексиканских парня и какой-то старик.
— Что за старик?
— Не знаю.
— Как бы не разнеслось повсюду, что тебя там видели.
— Мне это и в голову не пришло.
— От таких вещей потом не оберешься неприятностей, — сказала женщина. — Это не большой город, как Фресно, и не огромный город, как Сан-Франциско, где такие вещи проходят незамеченными. Ведь Дейд ездит в Сан-Франциско не затем, чтоб музеи посещать, как ты думаешь, а?
— То есть?
— Каждые два месяца он уезжает на недельку, а то и две, не так ли?
— Да.
— Он никогда не занимается этим с кем-нибудь, кого мы все тут знаем.
— Ничего я о Дейде не знаю, — сказал мужчина. — И знать не желаю. Не мое дело, зачем он ездит в Сан-Франциско. Я люблю его брата не больше, чем его самого. Я позвоню и скажу, что мы не сможем прийти.
— Мы должны пойти.
— Почему?
— Чтоб помочь им соблюсти хотя бы видимость приличий, — сказала женщина. — В конце концов, если они не умеют вести себя, то мы умеем.
— Оба они поставили меня в дурацкое положение, — сказал мужчина. — И даже в унизительное. Не пойду я.
— Мы должны пойти, — сказала женщина.
— Ну конечно, ты жаждешь выяснить, что у них стряслось, — сказал мужчина. — А мне это безразлично. Он сумасшедший, вроде своего брата. У них была стычка, и он ушел. Он вернулся, и все в порядке. Не желаю я идти. Не люблю, когда мне велят явиться на обед.
— По-моему, он старался быть настолько любезным, насколько возможно при таких обстоятельствах, — сказала женщина. — По-моему, он оказал нам доверие, дав тебе понять, что ему совестно. По-моему, он надеялся, что ты поймешь, и потому пригласил так просто и коротко. В конце концов, он помнил и позвонил. Значит, не так уж ему безразлична наша причастность к этой истории. Он позвонил с утра. Мы оскорбим их, если не пойдем все вместе к шести.
— Не нравится он мне, — сказал мужчина.
— Даже если так, — сказала женщина. — Я думаю, у нас достанет вежливости пойти, как если бы ничего и не было. У них милые ребятишки, и они так хорошо поладили с нашими. Дети-то уж повеселятся во всяком случае.
— Мне эта идея не нравится и точка, — сказал мужчина. — Я предпочитаю придумать мало-мальски приличный предлог и отделаться.
— Отделаться от этого можно легко, — сказала женщина, — но отделаться от этого, не нарушая приличий, нет никакой возможности. Наш отказ скажет им слишком многое. Не проще ли будет забыть эту ночь и пойти?
— Разумеется, — сказал мужчина. — Но я не уверен, что хочу забыть ее. Мне нелегко пришлось из-за тебя. Да ты и сама помучилась. Какого черта ради? Ты пришла из кино и сказала, что они просят нас непременно зайти. Мы уложили спать детей, оставив с ними миссис Блотч, и поехали туда. И что же? На дороге мы встретили этого пьяного психа, который даже поздороваться с нами не соизволил. Жену его мы нашли в обмороке перед домом, а сына — пытающимся поднять мать. Жена захлопнула дверь перед самым нашим носом. Я обыскал весь город, заглядывая в такие местечки, где вовсе не хотел быть увиденным. И все из-за него. Ты простояла там, на веранде, перед дверью, полночи, напуганная до смерти. Да еще дома мы просидели до трех утра, потому что были взвинчены, потому что полагали, что они могут позвонить. Я не уверен, что хочу забыть эту ночь. Я охотнее забуду его заодно с братом.
Мэй Уолз никогда раньше не видела своего мужа таким разговорчивым и таким раздраженным.
— Я знаю, что мы сделаем, — сказал он. — Мы сегодня же уложим вещи и уедем на неделю в Йосемит. Мы ж собирались поехать туда в конце лета. Почему не поехать сейчас? Я съезжу и скажу ему, вместо того чтоб звонить. Это будет достаточно вежливо. Он поймет. Ему же так лучше. Я скажу, что девочки давно мечтали попасть летом в Йосемит, а теперь им уже невтерпеж стало, и мы решили на сей раз угодить своим детишкам.
— Мы так часто им угождаем, не правда ли? — сказала женщина.
— Это неважно, — сказал мужчина. — Я даже предложу им поехать вместе с нами. Он, конечно, откажется. Я хочу поскорее покончить с этой историей. Не нравится мне она. Поеду сейчас же. А ты пока собери вещички.
— И не подумаю, — сказала женщина. — Все это не так страшно, как ты расписываешь.
— Нет, Мэй. Не желаю я здесь околачиваться.
— Ну, это уже глупо.
— Что ж, — сказал мужчина. — Пускай так, но можно ведь иногда и ради меня что-то сделать? Пожалуйста, собери вещи.
— Не понимаю, — сказала женщина. — Что случилось?
— Мы сами себя ставим в дурацкое положение.
— Мы?
— То есть они нас ставят в дурацкое положение.
— Они?
— Мы растравляем себя из-за людей, которые не питают к нам ни малейшего интереса, которые считают нас тупыми и скучными, думают, что мы страшно забавны, и потешаются над нами.
— Вот что я тебе скажу. Давай не будем пока решать. Еще рано. До Йосемита мы всегда доберемся за три часа. Можно мне взять машину? Я хочу съездить во Фресно, сделать покупки. Когда вернусь, тогда и решим.
— Сколько ты там пробудешь?
— Часика два.
— Ну хорошо. А я тут уложу вещи.
— Уоррен, — сказала женщина удивленно. — Давай решим, когда я вернусь.
— Ладно.
Она посмотрела на него холодно, как чужая, и он заметил это.
— Мэй, — сказал он, — я просто не люблю унижаться.
— Мы решим, когда я вернусь, — сказала женщина.
Она надела желтую кофту, застегнулась и вышла. Уоррен последовал за ней. Он отправился искать пилу, чтоб заняться пока работой. Дети играли под старой оливой, ветки которой как раз и требовалось подрезать.
— Мама едет во Фресно, хотите с ней? — сказал он им.
Вскоре он стоял один под деревом и высматривал мертвые ветки. Потом полез на дерево и принялся подрезать самую нижнюю из высохших ветвей, но вдруг бросил это дело, спустился, вошел в дом и позвонил другу в Мадеру, человеку, которого он знал лет двадцать, еще раньше, чем Дейда Назаренуса. Он позвонил этому человеку неспроста, но пока они болтали, он решил не раскрывать ему причину звонка. Вместо этого он попросил своего друга выбраться к ним как-нибудь на днях, чем скорее, тем лучше. Потом он снова пошел к оливе, — надо же было хоть что-то на ней подрезать.
Сидя за рулем своего «бьюика», женщина не переставала удивляться: что могло так задеть и расстроить ее мужа? Щебет детей, — обычно она так любила его, — теперь раздражал. Шлепнув вдруг самую маленькую за то, что та не притихла, даже когда мать дважды ее попросила, Мэй Уолз свернула машину с шоссе и затормозила. Она молча заплакала вместе с ребенком, и спустя мгновение плакали уже все четверо, словно знали — о чем и почему.
Ева Назаренус сидела между Коди Боуном и Рэксом Назаренусом, с одного боку машинист, с другого мальчик. Третий мужчина, ее отец, сидел сзади.
Она была с тремя мужчинами, с тремя мальчиками, и ехала в машине по жаркой дороге, по обе стороны которой тянулись узкие оросительные канавы, заросшие всякой травой. Позади канав были виноградные кусты и деревья, посаженные в таком прекрасном порядке, что каждый раз, когда ты смотрел на них, перед тобой открывалась первым делом одна единая широко раскинувшаяся картина, а потом уже и малые отдельные ее куски.
Место здесь было совсем иное, совсем иною была и дорога. Солнце и птицы ранним утром — вот какой была здесь дорога. Не суматоха, не толпы людей, а ряды деревьев — вот какая дорога. Каждое дерево стояло на своем месте. Оно стояло так долго, что если бы какому-нибудь мальчику захотелось взобраться на него, то для этого понадобилось бы сделать только то, что сделал ее брат Рэкс: подняться по стволу вверх и потом подниматься все выше и выше и, добравшись до спелых инжиров, бросать их вниз так, чтобы они падали из рук в руки. Большую часть инжиров она не поймала. Те, что поймала, помялись немного, но она все равно их съела — целых три. Остальные же припрятала для отца, для матери и для человека, потерявшего свою маму, — на случай, если он где-то тут появится.
Она давно слышала о Кловисе. О Дейде Назаренусе и о Кловисе. И вот она здесь и едет в машине на станцию — посмотреть, что будет делать Рэд.
Интересно, что он собирается делать? Не иначе как что-нибудь особенное. Человек рядом с ней тоже был особенный. Она не знала его, но чувствовала, что он хороший. Рэд вначале сидел спокойно, но вдруг увидел зайца, переметнувшегося через дорогу, и сразу же заерзал, заговорил.
— Заяц, папа! — сказал он. — Ты увидел зайца? Почему он такой?
Ева слышала, как ее отец, прилагая все усилия, старается ответить на вопрос Рэда, — так он делал всегда: всегда старался ответить и Рэду, и ей, и маме, и к каждому вопросу относился серьезно, раздумывал, искал для них правильного ответа. Ей захотелось хоть как-то ему помочь, и она встала, чтоб перелезть к нему.
Ивен помог девочке перебраться через сиденье, все еще продолжая отвечать Рэду, но, отвечая, он заглянул ей в глаза и потом усадил рядом с собой. Она обняла его крепко-крепко, потому что он был единственный, он был самый хороший, лучше, чем все остальные на свете, он был тот, кто действительно понимал и любил ее, тот, от кого пахло совсем особенно, так, как — она знала — должно пахнуть от мужчины, тот, в котором ей нравилось все — и этот запах, и лицо, и руки. Она обняла его крепко-крепко, а потом оторвалась и — села спокойно рядом, сложив на коленках руки, и всю дорогу оставалась на заднем сиденье, с ним.
Коди Боун знал Дейда Назаренуса лет двадцать с лишним, с тех пор, когда Дейд прикатил сюда в фордовском родстере с открытым верхом и ездил по всей округе, подыскивая себе виноградник. Наконец он выбрал превосходный участок Орвала Олби. Свои шестьдесят акров Орвал приобрел почти задаром. Дейд приехал из города, из штата Нью-Джерси. Он ничего не знал о виноградниках, ничего о ценах на землю, он просто хотел места, где можно поставить дом, ему понравился Кловис, ему понравилось за городом, и ему понравились шестьдесят акров Олби. Он купил землю — его, конечно, надули, — построил себе прекрасный дом, поболтался тут пару лет, обрабатывая участок один и заводя помощников только при уборке урожая, а потом уехал куда-то на месяц. Вернулся Дейд с девушкой, она была невысокая, темноволосая и казалась очень влюбленной в него. Она была городская девушка с умными глазами и с горячей, нетерпеливой страстью добираться до сути вещей или просто забавляться, не вникая в суть, когда это не интересно. При виде ее каждый испытывал радость. Она умела быть милее и обходительней любой другой женщины в Кловисе — но только в первые минуты, а потом ей становилось скучно, до смерти скучно с кем бы то ни было. Она любила цветы и уговорила Дейда привезти садовода и разбить целый сад — там были все сорта роз, сирень, олеандр и еще много чего другого. Ее звали Беатрис, но Дейд называл ее Трикс. Коди слышал, что у Дейда есть младший брат, преподающий где-то в университете, но оба раза, когда этот брат приезжал к Дейду, Коди упустил его из виду. Из года в год он видел вместе Дейда и Трикс, двух мальчиков и девочку и уверен был, что ничего на свете не может разбить того, что соединяет Дейда и Трикс. Но в один прекрасный день до него дошла новость — Дейд живет на винограднике один, Трикс с детьми уехала, и Дейд не желает этого обсуждать.
А потом Коди увидел наконец его брата — тот стоял на станции с Уорреном Уолзом, и Коди сразу же узнал его, а рядом с ним был сын, как две капли похожий на отца и на дядю. Придя домой, Коди рассказал своему младшему, Барту, о брате Дейда и его сыне, которого зовут Рэд.
— Братья, ну, просто во всем одинаковые, одинаково стоят, одинаково двигаются, одинаково разговаривают, — сказал он. — Он профессор в Станфорде. Я предложил покатать его сынишку на паровозе. У мальчика на редкость умненькие глаза. Я знаю, он боится, но поездить ему все равно захочется, очень.
Барт вернулся из Фресно, как раз когда Коди собирался уже лечь. Отец и сын вдвоем занимали весь дом, мать Барта умерла десять лет назад, а его братья и сестры обзавелись уже семьями и жили кто в Лос-Анджелесе, кто в Сан-Франциско.
— Ну вот, — сказал юноша, — и я с ним повстречался.
— С кем? — сказал Коди.
— С братом Дейда, — сказал Барт. — Еду я себе на машине и вдруг вижу: кто-то пересек дорогу и бегом в виноградники. Я сделал круг, подрулил к виноградникам с другой стороны, смотрю — он выбежал, споткнулся и упал, потом поднялся, потом снова споткнулся и упал и больше уже не поднялся. Я и понятия не имел, кто это. Подъехал, подошел посмотреть. Отвез его во Фресно. В скверном он был состоянии, по-моему.
— Пьяный, что ли?
— Не думаю, чтоб в этом было дело. Хоть он и выпивши был.
— Где ты его оставил?
— Возле публичной библиотеки. Он вошел в бар на углу.
— Говорил он что-нибудь?
— Ничего. Сказал, что ему неохота разговаривать.
— Днем он был в порядке. Значит, так-таки ничего?
— Назвал свое имя, когда мы остановились. Ну вроде как выразил благодарность.
— Не иначе как ссора, — сказал Коди. — Дейд и Трикс вечно ссорились. Скорые они на ссору. К утру все забудется.
— Никогда никого не видел я в таком отчаянном состоянии, — сказал Барт. — Испугался даже.
— Ничего, — сказал Коди. — Больно скорые они, вот и все.
— Это само собой, — сказал Барт. — Но тут, по-моему, было что-то еще.
— Я утром поеду мимо и загляну на минутку, — сказал Коди.
Утром Барт сказал:
— Что-то все-таки произошло там. Не знаю, что именно, но что-то там было. А испугался я, наверно, вот почему: я почувствовал, что он может сейчас умереть на месте или убить кого-нибудь, так в нем кипело все.
— Кипело?
— Вот именно. Похоже, он был в ярости. И это было всерьез, ничего смешного. В такой ярости человек способен убить.
Сейчас, катя в машине с Ивеном и его детишками на станцию, на товарно-сортировочную станцию Кловиса, Коди Боун прислушивался к разговору отца с сыном и по тому, как разговаривал с ним отец, понял, что Барт был недалек от истины. Он не хотел вмешиваться не в свое дело, но когда его машину чуть было не стукнула другая, не затормозившая у знака «стоп», и Коди пришлось свернуть и наехать на кусты, от чего их всех здорово подбросило, он сказал: «Что поделаешь, жизнь полна неожиданностей, не так ли?»
Он вовсе не думал затевать своим замечанием разговор, а так только — обронил словечко, но после того как Ивен Назаренус не ответил ему тут же каким-нибудь пустяком — значит, вопрос этот для него не пустяковый, — Коди понял, что Ивен и вправду был в отчаянном состоянии и что ему до сих пор еще не полегчало.
— Я хочу сказать, — поспешно добавил Коди, — никогда не угадаешь, что тебя ждет и откуда что выскочит. Вот хотя бы этот глупый мальчишка, который чуть было не врезался в нас. Но слава богу, он этого не сделал, так что мы целые и невредимые едем все вместе дальше, к нашему паровозу.
Он повернулся посмотреть на мальчика рядом с собой. Глаза у Рэда были огромные, испытующие. Испуг уже исчез из них, но волнение осталось.
— Где я сяду? — сказал Рэд.
— Справа от меня.
— А можно будет мне посидеть на вашем месте и высунуться, как вы, из окна?
— Конечно.
— Ева, — сказал Рэд, — ты будешь смотреть снизу, будешь смотреть, как я поведу паровоз.
— Хорошо, — сказала девочка.
Коди Боун остановил машину перед станцией.
— Я переоденусь в рабочее, — сказал он, — и буду здесь минут через пять со своим большим черным бэби.
— Мы подождем на платформе, — сказал Ивен.
Через улицу, в доме над биллиардной Гарри было шесть комнат, зала, кухня и две ванные. Дверь на улицу была заперта — с четырех утра. Сюзи, пожилая, дородная негритянка, и две ее «девочки» сидели в комнате, выходящей окнами на станцию, курили и попивали кофе и смотрели, что там на станции происходит.
— Вон Коди Боун, — сказала Сюзи.
— Он когда-нибудь бывал здесь? — сказала «девочка», которую звали Пегги.
— Коди? — сказала негритянка. — О господи, нет! Мы с ним друзья с тех пор, как я нанимаю этот уголок. Он всегда помнит мой день рождения. Только потому, что я однажды сказала ему: «У меня сегодня день рождения, Коди». Я вся была разодетая, да еще как! Но в тот день у меня был такой же день рождения, как и сегодня. Смотрите, там есть еще кто-то. Там этот мужчина с мальчиком и девочкой.
— А тот, что ночью заходил? — сказала «девочка», которую звали Той, полумексиканка-полуяпонка. — Уоррен Уолз? Он раньше бывал здесь?
— Минуточку, — сказала Сюзи. — Мои девочки не знают, кто приходит сюда. Хорошо, что ты сболтнула здесь, а не где-нибудь еще. Мужчины бывают у нас не за тем, чтоб об этом весь свет прослышал.
— Знаю, — сказала Той. — Мне только интересно, бывал ли он тут и раньше.
— Вон они идут, — сказала Сюзи. — Остановились на платформе, мужчина держит за руки мальчика и девочку. — Она обернулась к девице: — Не бывал. А что?
— Он плакал, как мальчик.
— Взгляните-ка туда, — сказала Сюзи. — Коди Боун подъехал на своем большом черном бэби. Так он называет машину. Но этим он вовсе не хочет обидеть черных. Он любит своего большого черного бэби. Посмотри-ка, Той. И ты, Пегги. Вот Коди спустился. Вот он поднимается обратно с мальчиком. Он был всегда моим другом. И в беде выручал. Вон мальчик сидит уже на месте Коди. Смотрите-ка, сейчас они поедут.
Три женщины увидели, как паровоз выпустил пар и пошел, и мальчик помахал рукой мужчине и девочке.
— Все они плачут. Не в этот, так в другой раз, — сказала Сюзи, когда паровоз исчез из виду, и мужчина с девочкой пошли вслед за ним. — Сначала они сдерживают слезы, потом дают им волю. Ты только не называй имен где-нибудь на людях. И ты, Пегги, тоже.
— Нужно мне очень его имя, — сказала Пегги.
Она всегда была чуточку склонна к самообороне, потому что, хоть она и блондинка была и фигуру имела получше Той, большинство мужчин, посещавших заведение, особенно которые поинтереснее, выбирали Той, а ей доставались мексиканцы, метисы, филиппинцы, негры, словом, все те, кто мало чем отличался от бессловесных тварей. Никогда ей не доставались такие, что умеют плакать. Такие, по крайней мере, люди, а не твари, — думала она.
— Отправляйтесь-ка вы обе к доку Роха. У вас есть часик, приведите себя в порядок, вымойтесь, приоденьтесь и отправляйтесь к доку, — сказала Сюзи. — В полдень жду вас обратно, на перерыв заглянут, наверно, рабочие.
Каждый раз, собираясь покинуть свой дом в Кловисе, Дейд Назаренус звонил брату и уговаривал его приехать со всей семьей и пожить там, пока он не вернется.
И раньше как-то, в начале декабря, Ивен собрался поехать в Кловис, но Суон слегла от гриппа. К тому времени, когда она поправилась, подоспели рождественские дни, и они не поехали, потому что рождество хотели провести в своем доме.
Дом был не бог весть какой. Они купили его в рассрочку под заклад облигаций фронтового займа, с обязательством внести всю сумму в течение двадцати лет, то есть за двести сорок месяцев. Из двухсот сорока прошли пятнадцать месяцев. И все-таки это был их дом. Во всяком случае, им нравилось считать его своим. Дом стоял обособленно, но двор был маленький и до соседей рукой подать. Что там ни говори, а он был неплохой, хотя, правда, не годился для большой семьи, а Ивен уверен был, что семья у них разрастется.
Университетского жалованья Ивена хватало только на взносы по дому и оплату счетов из бакалейной и других лавок — словом, на самую скромную жизнь. О собственной машине они и не помышляли. Когда из университета Небраски Ивену предложили приехать поработать у них в летние месяцы, он посоветовался с Суон и принял предложение, рассчитывая по возвращении обзавестись машиной, уплатив за нее первый взнос. Он привез домой девятьсот долларов и уже собирался купить машину, как вдруг Суон попросила его повременить с этим или потратиться пока на машину попроще. К тому же в это самое время, в начале августа, всего через несколько дней после возвращения Ивена из Небраски, позвонил Дейд и снова пригласил их к себе.
— Тут приходила женщина, все прибрала, так что дом готов к приему гостей, — сказал Дейд. — Ключ я выслал по почте, сегодня получите. В холодильнике у меня полно всякой всячины, в морозилке найдете мясо — какое захотите. Инжир поспел. Мне б, конечно, всех вас хотелось видеть, но сейчас никакой возможности. Приезжайте и оставайтесь здесь сколько пожелаете. Мне нужно в Сан-Франциско. По меньшей мере на неделю. Может, на две. А может, и на три. Когда у тебя начало занятий?
— Через месяц, — сказал Ивен, — но мы так долго не пробудем.
— Приезжайте пока, а там уж решите — надолго вы или ненадолго. Я знаю, Суон и детишкам будет весело. Здесь сейчас жара.
— Ты не сможешь заехать к нам по пути в Сан-Франциско?
— Я лечу, — сказал Дейд. — Машина в капитальном ремонте. Домой ее пригонят дня через три-четыре. Когда она будет дома, свези Суон и детей на пикник. Тут в окрестности есть несколько чудных местечек.
— Утром мы выедем поездом, — сказал Ивен. — Хорошо бы застать тебя. Надо ведь детям повидать своего дядю.
— Мы как-нибудь устроим это, — сказал Дейд. — Может быть, на рождество.
В Патерсоне, еще совсем молодым, Дейд перепробовал всякую работу, он нанимался куда попало, но каждый раз в конце недели, когда выручка была в кармане, надевал дорогой костюм и исчезал из вида. И куда его только ни заносило. Он находил вещи, каких Ивену в жизни не найти было. В семнадцать он уже знал такие закоулки в городах Джерси, о которых ни Ивен, ни старик понятия не имели. Он стал куда-то ездить и в перерывах между поездками навещал Ивена и старика на недельку, две, иногда на месяц. Потом он снова уезжал на очередные полгода.
— Он игрок, — говорил старик Ивену. — Он уезжает играть. Я хочу, чтоб мой сын зарабатывал деньги трудом. Азартная игра — штука недобрая. В молодости я сам был игроком, и я знаю своего Дейда.
Проходили годы. Когда Дейд приезжал на побывку, они со стариком разговаривали спокойно. Старик не сердился на Дейда, но Ивен знал — ему хочется, чтобы Дейд взялся за работу, как все другие.
Когда Дейду было двадцать пять, а Ивен учился в Принстоне, старик как-то позвонил рано утром Ивену и на их собственном, родном языке попросил его сейчас же приехать домой.
Приехав домой, Ивен нашел Дейда в постели, старика же тщетно пытающимся сделать что-то с его простреленной у плеча левой рукой.
— Я вызову доктора, — сказал Ивен.
— Нет, — сказал Дейд. — Я не хочу, чтоб об этом узнали. Покопайся тут и посмотри, нельзя ли вытащить пулю.
— Не могу я, Дейд, — сказал Ивен. — Это дело хирурга.
— Открой верхний ящик стола, там у меня в коробке кой-какие инструменты, — сказал Дейд. — Вскипяти их в воде. Потом покопайся тут и достань пулю. Достань ее и дай мне поспать. Я гнал машину всю ночь.
Ивен сделал так, как ему было сказано. Наконец брат его уснул. Он потерял очень много крови. Он пролежал в постели две недели. Потом, все еще слабый и неоправившийся, встал и уехал. А через несколько дней вернулся назад на поезде и провел дома три месяца. Он оставил старику три тысячи долларов и тысячу Ивену на учебу.
— Ради бога, — сказал Ивен, — хоть изредка присылай ему весточку о себе. Он знает, что у меня все в порядке, но за тебя тревожится. Он слишком горд, чтоб попросить самому. Звони, или телеграфируй, или пиши иногда.
— Не могу, — сказал Дейд. — Но это будет последний раз. Потом я приеду домой, и мы что-нибудь придумаем. Может, переберемся в Калифорнию. Многие из его друзей с родины живут там. Скажи ему это, если хочешь. Сам я не хочу говорить, — а вдруг не получится. Хотя, я думаю, получится. Правда, на это понадобится время. Ты не мог бы на выходные ездить домой?
— Я и так приезжаю при каждой возможности.
— Мы придумаем что-нибудь, как только я возвращусь. Как у тебя с учебой, все в порядке?
— У меня все в порядке.
— Мы поедем в Калифорнию, — сказал старший брат. — Купим виноградник. У всех его друзей с родины там виноградники. Построим дом. Это будет его дом. Купим машину. Будем ездить на машине к его друзьям. Не знаю, чем ты намерен заняться, но, думаю, ты сможешь делать свое дело и там. Скажи ему все это. Я не сумею.
— Ладно, Дейд.
— Спасибо. Так чем же ты все-таки намерен заняться?
— Попробую писать.
— Книги?
— Да.
— Ты знаешь, как это делается?
— Пока нет, но это то, что мне хотелось бы делать. А на жизнь буду зарабатывать преподаванием.
— Что будешь преподавать?
— Литературу, наверно.
— Неплохо, — сказал Дейд. — Назови мне несколько книг — почитать иногда.
— Возьми с собой вот эту, — сказал Ивен.
Он протянул брату маленькую книжицу. Дейд опустил ее в карман, даже не посмотрев названия.
— Спасибо, — сказал он. — Я ее прочитаю. От корки до корки. Честное слово. Только приглядывай за стариком, пока я вернусь.
Ивен приглядывал за стариком по мере возможности, приезжал домой на все выходные, беседовал с ним о том о сем, ел состряпанные стариком обеды — такие ели у них на родине. Но Дейд что-то очень задерживался с возвращением. Приехав однажды в конце недели, Ивен застал старика в постели.
— Что ж ты не позвонил? — сказал Ивен.
— А, — сказал старик. — Это ничего. Пройдет.
Однако «это» оказалось воспалением легких, и через шесть дней Петрус Назаренус скончался. А еще через три месяца Дейд Назаренус вернулся домой, и Ивен впервые в жизни увидел брата плачущим.
Дейд стоял в комнате старика и плакал, как маленький мальчик. И Ивен услышал, как он сказал:
— Гнусная моя судьба!
Спустя годы, спустя больше чем двадцать лет, подходя к самолету на обратном пути к Суон, к Рэду и Еве, младший брат вернул старшему его же слова.
— Что же это такое, скажи мне, Дейд? За что? Что мы сделали? Я. Ты. Что сделал наш старик? Он приезжает в Америку, трудится до седьмого пота, через три года вызывает жену и сына. Они приезжают, рождается второй сын, и он думает, что вот теперь наконец сложится у него семья, такая, какую ему хотелось, — эти мальчики и еще другие, и еще девочки, и все они — дай бог какие хорошие, и мать живет довольная, и отец довольный, словом, порядок. Но не прожив и двух лет в Америке, жена его умирает, и после этого он даже смотреть не желает на женщин. Он превращается в печального старика в глупой маленькой табачной лавчонке в Патерсоне, Нью-Джерси, и живет только для своих сыновей. Ты знаешь, что случилось с тобою, Дейд. И вот то же самое теперь со мной. За что, Дейд? Что сделал он плохого? Или ты? Или я?
Он замолчал, потом заговорил опять, тихо, но торопливо.
— Ведь ясно же, Дейд, ты хочешь увидеть своих детей. Ведь ясно же, единственное, о чем ты думаешь, твои дети. Единственное, ради чего ты живешь, твои дети. Ты сейчас здесь, в Сан-Франциско, с одной целью — добыть побольше денег и послать своим детям. Но правильно ли это — жить жизнью гордой и одинокой?
— Это правильно, — сказал старший брат на их родном языке.
— Тебе уже пятьдесят, — сказал Ивен. — Ты уже не тот проворный парнишка, которого куда только ни заносило из Патерсона. Что ты намерен делать дальше? Неужели ты конченый человек, Дейд? Неужели все мы конченые?
Брат только посмотрел на него.
— И что теперь делать мне? — сказал младший. — Тоже кончиться?
Ивен снова замолчал, но ненадолго.
— Я не могу покинуть Рэда. Я не могу покинуть Еву. Я еще и не знаю их. Я не имею ни малейшего понятия о том, кто они и какие? Что я напутал? В чем провинился, Дейд? Я уехал на восемь недель работать, добывать деньги на машину, чтоб у нас была возможность куда-то поездить и что-то повидать. Всего два месяца, и она каждый день мне писала. Да, каждый день. И я отвечал ей. Что же это такое, Дейд? Что такое с нами?
И вдруг:
— Послушай. Я не вернусь обратно. Я не могу на нее смотреть. Я никогда больше не смогу на нее смотреть. Нет смысла возвращаться. Пусть так. Все кончено. Рэд умер, Ева пропала. Пусть так. Я не могу вернуться туда.
И все таки он направился к самолету, быстрыми шагами и не оглядываясь.
Дейд видел, как он поднялся по трапу и вошел в самолет. Дейд видел, как самолет повернулся на колесах и медленно покатился к взлетной площадке. Когда самолет поднялся и полетел, Дейд медленно направился к стоянке такси.
Маленькая книжица с тоненькими страничками — оксфордское издание Блейка [2] — была при нем. Дейд до сих пор еще не прочел ее всю, но каждый раз, когда он уезжал из дому, книга была при нем. Сейчас, возвращаясь в такси в Сан-Франциско, он достал ее из кармана, раскрыл и всю дорогу читал ее.
Рэд был слишком занят, чтобы бояться, но вообще-то это была опасная штука. В этой штуке пылал громадный огонь и нагнеталась масса жару. Эта штука была на громадных колесах. Она была слишком тяжелая, чтобы двигаться, потому что движение — это сама легкость, но она все-таки двинулась, и именно он привел ее в движение. Коди Боун опустил руку Рэда на рычаг управления, помог потянуть его книзу, и тогда машина зашипела, засвистела и тронулась. Отец и сестра Рэда помахали ему рукой и теперь наблюдали за ним, стоя далеко внизу.
Он дернул ручку гудка только раз — хватит и раза. Он потянул за шнурок свистка, тоже только раз — тоже хватит и раза. И вот они замедлили ход и стали возле паровоза, отдыхавшего на соседнем пути.
— Эй-эй! — сказал Рэд машинисту, высунувшемуся из окна соседнего паровоза.
— Эй-эй, — откликнулся машинист. Он был моложе Коди Боуна, жевал табак и сплевывал, лицо его было сплошь в саже, и улыбался он одними глазами.
Два машиниста поговорили о чем-то с минуту, потом новый сказал:
— Внучок твой, Коди?
— Да, — сказал Коди. — Сынишка Пэта. Мы зовем его Рэд.
Когда их машина отъехала, Рэд сказал:
— Разве я ваш внук?
Рэд подумал, что, может, он и внук Коди, но до сих пор не слыхал и не знает об этом.
— Ну, не то чтобы в самом деле, — сказал Коди. — Я так ответил потому… ну, видишь ли, мне б хотелось, чтоб ты был моим внуком.
— А если я буду, — сказал Рэд, — я потеряю моего отца?
— О нет, — сказал Коди. — Ивен твой отец. Ты никогда его не потеряешь. Твой отец останется всегда твоим отцом, а дедушка дедушкой.
— А кто мой дедушка? — сказал Рэд.
— Отец Ивена.
— Но он умер.
— Отец твоей мамы. Он тоже тебе дедушка.
— Почему дедушек у меня двое, а отец один?
— И бабушки у тебя две. Мать твоего отца и мать твоей матери. Сейчас мы должны проехать чуть дальше, подцепить три товарных вагона и подтащить их к станции. Ты там снова увидишь своего папу. Тем и кончится твое катание на черном бэби. Как он тебе нравится?
— Ужасно большой он, — сказал Рэд. — И горячий. И мрачный. Вы его не боитесь?
— Боюсь, — сказал Коди.
— Я тоже, — сказал Рэд. — Если вам хочется, будьте моим дедушкой, я согласен.
— Хорошо, — сказал Коди. — Я твой дедушка и ты мой внук, но называй меня Коди. Будь ты сынишкой Пэта, я бы обязательно попросил тебя называть меня так.
— А сынишка Пэта называет вас Коди?
— У Пэта нет мальчика. У него две девочки, но когда у него появится мальчик, он будет называть меня Коди. Теперь внимание, Рэд, прицепляемся к товарным вагонам. Ты готов?
— Готов, — отозвался мальчик.
Они зацепили три товарных вагона. Человек, стоявший возле путей, быстро прошел туда, где произошла сцепка, повозился там с чем-то, потом просигналил Коди, и тогда только они двинулись обратно.
Через несколько минут показалась станция, и там была его сестра Ева и его отец Ивен Назаренус.
Спустившись вместе с Коди с паровоза, Рэд подбежал к Ивену, обнял его и молча прижался к нему лицом, так как — и это была правда — в последнюю минуту в нем проснулось такое чувство, будто он может больше не увидеть своего отца.
Вернувшись домой, Ивен нашел жену лежащей на кушетке в гостиной и увидел, что она плачет. Он увидел, что она в отчаянии, что ей нужна помощь. Он увидел, что глаза ее так и просят: «Помоги мне, ты мой муж, ты отец моих детей, какая б я ни была, что б я ни сделала и что бы ни стала делать, если ты мне поможешь, — помоги, это не грех помочь и тем, кто тебя предал, они тоже одиноки, они тоже преданы, помоги мне, Ивен!»
— Я управлял паровозом, — сказал Рэд. — Сам. Коди Боун сидел рядом, но управлял паровозом я. Правда, папа?
— Да, ты.
— Да, он, — сказала Ева. — Я видела. Он поднялся вместе с Коди, и это он повел паровоз, мама. Он сам. Правда, Рэд?
— Ах, Ева, — отмахнулся Рэд, — я же только что сказал. — Он отвернулся от Евы к женщине, которая теперь уже встала. — Если б ты видела, мама! Папа видел меня. Но если б и ты увидела!
— Звонил мужчина, — сказала Суон, и в голосе ее было: помоги мне!
— Какой мужчина?
— Я забыла его имя. Сказал, что ему очень жаль, но дети хотят уехать.
— Ничего не понимаю.
— Ты пригласил их на обед. Он сказал, что они, к сожалению, не смогут прийти.
— Кто это, папа? — сказал Рэд.
— Уоррен Уолз, — сказал Ивен.
— Да, он самый. Сказал, что они будут рады, если мы как-нибудь навестим их. — Она смотрела на него взглядом, молящим о помощи, но он не смотрел на нее, не мог. Он посмотрел на нее, войдя, но дальше уже не мог. — Завтрак для детей на столе, — сказала она. — А после завтрака, по-моему, им хорошо бы соснуть. Такой жаркий день и столько происшествий… Вам не хочется полежать после завтрака, Рэд?
— Хорошо, — сказал Рэд. — Хорошо, мама. Если надо, я могу уйти в свою комнату, закрыть дверь и побыть там немного. Могу даже и лечь. А засну или нет, я не знаю.
— Может… — сказала она мужчине, — может, нам удастся поговорить спокойно, пока они поспят?
Мальчик наблюдал за ними, чувствуя что-то неладное. Запах паровоза был все еще с ним — запах угля, огня, пара и стали, — и к этому примешался еще и запах камня, хотя в доме Рэд так и не нашел никаких камней. И теперь здесь запахло чем-то еще, чем-то, таящимся не в вещах, а в людях, чем-то совсем не веселым.
— Я думала… — сказала она.
— Тебе, пожалуй, надо умыться, Рэд, — сказал мужчина. — И тебе, Ева.
Рэд и Ева вместе ушли в ванную.
Они остались одни в гостиной, и женщина ждала, что он на нее посмотрит, но он был не в силах. Оставаться в комнате — вот все, что он мог. Ни уйти, ни говорить он был не в состоянии.
— Я думала… — сказала она снова.
— Ничего ты не думала, — сказал он. Сказал спокойно — может быть, потому, что говорить с ней сейчас иначе было нельзя, а может, просто не хотел, чтоб слышали дети. — Ничего ты не думала, так что помолчи.
Она ушла на кухню, а он на веранду, но это было то самое место, где она призналась ему, так что он сошел по ступенькам вниз, пересек зеленую лужайку и вошел в виноградник. Листья на лозах уже потемнели и погрубели. Виноград поспеет через неделю, другую. Уже и сейчас попадались спелые грозди. Виноград был великолепный — крупный и черный. Ивен отвел в сторону листья, чтоб поглядеть на притаившиеся под ними грозди, и нашел несколько совсем налившихся, зрелых. Листья сейчас высыхали, но те, что оставались в тени, были еще по-молодому зеленые.
Пожалей ее, подумал он. Нехорошо быть безжалостным.
Я попрошу Дейда найти человека, который поможет ей, подумал он. Дейд, наверно, знает кого-нибудь такого. Кого-нибудь в Сан-Франциско. Я возьму ее туда. И тот, кто поможет ей, кто бы он ни был, не будет знать ни ее, ни меня и не будет знать, почему он ей помогает, только поможет и все. Он помогал и другим. Он каждый день это делает. Такие вещи случаются каждый день. Случаются с кем угодно.
Он побродил среди виноградных кустов и незаметно для себя дошел до конца виноградника, окаймленного ровной полосой деревьев — гранатовых и оливковых вперемешку. Гранаты были еще маленькие, и оболочка их еще целая и гладкая, а не в трещинах, которые появятся позже, когда они созреют. Они были красные, маленькие и гладенькие и копьеца у них на макушке еще прямые, а не изогнутые, как у созревших. Маслины тоже были маленькие и зеленые, и ветки гнулись под их тяжестью. Он брел вдоль деревьев, пока не пришел к другому краю шестидесяти акров. Здесь границей служил оросительный канал, воды в нем было лишь на одну пятую, и текла она очень медленно. Он сел на краю канала, стал смотреть на сорняки, растущие на дне, растущие в самой воде и чуть сгибаемые медленным ее течением.
Мы не могли дождаться, когда у нас появится третий, подумал он. Ну вот и он, третий. Если он и не мой, то он ее, это, по крайней мере, наполовину Рэд, наполовину Ева. Что же делать теперь? Как быть и с этим третьим, и с нею? Уехать? Вернуться в Патерсон? Вернуться в захолустье, где мы жили когда-то, снять меблированную комнату и начать писать историю моей смерти и писать ее. до тех пор, пока не умру? Что мне делать? Взять Рэда и Еву и с ними уехать в наш дом в Пало-Альто, а ей сказать, чтоб шла к своему любовнику? Попросить ее познакомить меня с этим самым любовником, так чтоб я мог поговорить с ним о случившемся? Сказать ему: «Что ты намерен делать? Создать с ней семью? Так ли это?» Сначала побеседовать тихо и мирно и потом вдруг в одно мгновение расправиться с ним?
Он поднялся и зашагал обратно к дому, по пути остановился, сорвал десяток спелых инжиров и взял с собой. Он положил их на изразцовый стол в кухне, потом пошел в гостиную. Женщина снова лежала на кушетке. Он увидел, что она встает, и отвернулся.
— Что мне делать? — сказал он.
— Только что звонила Мэй Уолз, — сказала она, — была очень любезна, сообщила, что они все-таки придут. Младшая девочка слегка простужена, поэтому они решили, что лучше пока не выезжать. Они будут у нас в шесть. Простуда у девочки не сильная, просто они подумали, что поездка будет не на пользу ей.
— Для тебя это много должно значить, очень много, — сказал он. — Больше, чем что-либо еще на свете. Больше, чем Рэд, больше, чем Ева, больше, чем…
— Раз уж они приезжают, — сказала она, — то нам, я думаю, лучше попытаться поговорить до обеда. Я не хочу, чтобы повторилось что-нибудь вроде случившегося ночью. Я хлопнула дверью ей в лицо. Я не хочу быть грубой с людьми, которые обращаются с нами так мило.
— Не хочешь?
— Попытаемся поговорить сейчас. Чем раньше, тем лучше. Я знаю, ты не можешь смотреть на меня.
— Знаешь?
— Есть средство. Я слышала о нем еще в школе. Но не могу я так. Это слишком жестоко. Не могу.
— Не можешь?
— Я так надеялась, что скажу тебе и… Я так надеялась, что ты сумеешь…
— Что сумею?
— Понять.
— Нет, — сказал он. — Нет. Я не понимаю. Говори, пожалуйста, но я не пойму. Я буду слушать, если тебе так легче, но не пойму. Я уехал на два месяца. Ты чувствовала себя неважно. Я думал, что для тебя же лучше побыть немного одной. Судя по твоим письмам, ты стала чувствовать себя лучше. Это не шутка. Ты его любишь? Он любит тебя?
— Не знаю, — сказала женщина.
Мужчина кинулся к ней, замахнулся, ударил по голове, снова замахнулся, снова ударил. Не по лицу. Даже и в гневе, в бессильном своем гневе он не ударил ее по лицу. Он хотел сдержаться, хотел перестать и не мог, даже помня о Рэде — не мог.
Женщина упала на кушетку, потом на пол. Он набросился на нее снова, не в силах остановиться.
Он не мог остановиться даже и тогда, когда услышал за спиною крик Рэда: «Перестань, папа! Будь ты проклят! Перестань же!»
Он не мог остановиться даже и тогда, когда Рэд, уже рыдая, колотил его по спине и вскрикивал: «Будь ты проклят, папа! Я убью тебя, папа!»
Старшую девочку звали Фэй. Ей было двенадцать, и она начинала походить на женщину. Рэду она понравилась. Она была как будто в испуге, и Рэду хотелось сказать ей: не бойся. Еве она тоже понравилась, потому что была уже почти как женщина и все еще девочка.
Среднюю звали Фанни. Ей было девять, и походила она скорей на мальчика, чем на девочку. Рэду она понравилась, потому что все, что она ни делала, все у нее получалось совсем как у мальчишки. Еве же Фанни не очень понравилась, потому что умела делать все что угодно и была не задумчивая, а чересчур шумная.
Самую маленькую звали Флора. Ей было около семи, и она была очень хорошенькая. Рэду она казалась красивой даже и тогда, когда улыбалась и он видел, что у нее не хватает переднего зуба, того же зуба, что и у него самого. Она была очень спокойная, совсем не испуганная и, что бы она ни делала, всегда оставалась красивой. Рэду Флора не просто понравилась, он полюбил ее. Каждый раз при взгляде на нее он смеялся. Ева тоже полюбила Флору.
— Она моя лучшая подруга, — сказала Ева Рэду.
Играли в прятки. Рэд первой обнаружил Еву, привел ее к инжирному дереву и теперь собирался найти кого-нибудь из сестер, может и двух заодно, а может и трех.
— В следующий раз искать тебе, — сказал Рэд. — Стой здесь, пока я найду еще кого-нибудь.
— Темно, — сказала Ева.
— Вовсе не темно, — сказал Рэд. — Это от того, что ты под деревом. Иди постой около насоса.
— Не хочу стоять тут одна, — сказала Ева. — Разыщи скорее Флору, мою лучшую подругу, чтоб мне не стоять тут одной.
Ева отошла к насосу, Рэд отправился искать остальных. Они могли забраться куда угодно. Они могли притаиться за углом дома, за этим или за другим, а может и перед домом, там, где сидели взрослые, или же в винограднике, или за гаражом, или за сараем.
Он быстренько обежал — сначала гараж, потом сарай. И когда выскочил из-за сарая, с ним была Фанни. Они мчались вперегонки к инжирному дереву. Успех был как будто на стороне Фанни, но вдруг она споткнулась и упала. Рэд остановился помочь ей, поднять. Но она в мгновение ока вскочила на ноги, первая добежала до дерева и расхохоталась над Рэдом, над тем, что он, видите ли, хотел ей помочь.
— Я думал, ты ушиблась, — сказал Рэд. — Тебе не больно?
— Мне никогда не бывает больно, — сказала Фанни.
— У тебя губа в крови, — сказала Ева.
Фанни пососала рассеченную губу, потом сплюнула кровь, как мужчина сплевывает табачный сок.
— А ну ее, — сказала Фанни. — Пускай течет.
Рэд ушел искать еще одну из сестер.
— Если ты разобьешь себе голову, — сказала Ева, — тоже будешь смеяться?
— Да, — сказала Фанни. — В прошлом году я ее разбила.
— Ой, покажи мне, — сказала Ева. — В каком месте?
Старшая девочка нагнулась к ней, чтоб показать рубец на макушке.
— Здесь, — сказала она. — Видишь? Это доктор зашил рану.
— Вижу, — сказала Ева. — И ты смеялась?
— Ну да, — сказала Фанни. — Мне ни от чего не бывает больно.
— А мне бывает, — сказала Ева.
— Это потому что ты маленькая.
— Но я расту, — сказала Ева, — и становлюсь большой. От еды. От инжира. Мы днем поспали, а после этого я съела их шесть штук. Рэд залез на дерево и нарвал для меня. От инжира делаешься большой.
— Не от инжира, — сказала Фанни. — Большой делаешься от картошки, от мяса и чего-нибудь вроде этого.
— Ты не любишь инжир? — сказала Ева.
— Терпеть не могу, — сказала Фанни. Она снова пососала ранку и снова сплюнула.
— Вот бы мне уметь так!
— Ты что, даже сплюнуть не умеешь?
— Нет, — сказала Ева. — И курить не умею.
— Курить? — сказала Фанни.
— Сигареты, — сказала Ева. — Я попробовала однажды. Папа разрешил, потому что мне захотелось. Я не могу курить сигареты.
— О! — сказала Фанни. — А пить можешь?
— Виски не могу, — сказала Ева. — Я его тоже пробовала. Папа разрешил мне. Я могу пить вино, разбавленное водой, но не люблю.
— Ну, ясное дело, — сказала Фанни. — Вино ведь приятнее без воды?
— Не знаю, — сказала Ева. — Я и без воды его не люблю.
Они увидели Рэда, появившегося из виноградника и намного обогнавшего Фэй, потому что Фэй хоть и бежала, но из кожи вон не лезла, чтоб первой оказаться у дерева.
— Отлично, — сказал Рэд. — Вот вас и трое.
— Но меня ты не перегнал, — сказала Фанни.
— Я перегнал бы, если б не остановился помочь, — сказал Рэд.
— Нет, не перегнал бы, — сказала Фанни. — Я бы все равно пришла первая, если б даже мы бежали еще целую милю.
— Ах, — сказал Рэд.
Смешная все-таки эта Фанни. Он стал прикидывать, где бы поискать теперь Флору. Куда бы она запряталась? Он был рад, что последней осталась Флора. Сейчас она, наверно, ушла куда-нибудь далеко, так что нелегко ему будет охотиться за ней, придется попыхтеть. Он решил пересечь виноградник напрямик.
Он бежал быстро, оглядываясь по сторонам. Два перепела всплеснули крыльями и взлетели, и он задержался на мгновение посмотреть на них. Потом он увидел большого кролика — тот неторопливо отпрыгнул, остановился, обернулся, помедлил и отскочил чуть подальше.
Раз уж он задержался из-за кролика, почему бы не попробовать заодно винограду? Рэд выбрал густую черную гроздь и начал есть прямо с лозы, а кролик следил за ним. Виноградины были с крупными косточками. Рэд обсасывал косточки и выплевывал.
Он вспомнил одного из друзей своего отца, темноволосого смуглого человека, который захаживал к ним в Пало-Альто. Однажды он зашел к ним, а Дейд прислал как раз ящик вот такого вот черного винограда. Суон поставила перед гостем тарелку с виноградом, и тот начал есть, но косточек не выплевывал. Он разжевывал косточки. Рэду слышно было, как он жует их. Этот человек знал еще с родины дедушку Рэда. Он не очень хорошо говорил по-английски. Он разговаривал с Ивеном на другом языке — на языке, который Рэду хотелось бы знать. Рэд спросил его, почему он не выплевывает косточки. Гость сказал: «Очень уж они маленькие, сынок. Некогда мне». Рэду он понравился, понравилось, как он говорил и как ел виноград, разжевывая с хрустом косточки и проглатывая их. Он съел всю гроздь до последней ягодки, словно иначе никак нельзя было, после чего положил черенок на тарелку и, протянув ее матери Рэда, сказал: «Спасибо тебе, Суон Назаренус».
Рэд съел с десяток ягод, кролик убежал, и теперь уж надо было искать Флору. Он пошел через виноградник к оросительному каналу. Если Флоры там не окажется, что ж, он посидит немножечко в одиночестве, посидит и посмотрит на траву, на всякие растущие в воде сорняки. Но добравшись до канала, он увидел, что Флора сидит на краю его, без туфель и без носков, опустив ноги в воду.
— Ты не прячешься, — сказал Рэд.
— Прячусь, — сказала Флора.
— Во-первых, ты ушла слишком уж далеко от дерева. Во-вторых, когда я нашел тебя, ты должна была вскочить и бежать со мной наперегонки к дереву.
— Знаю.
— Ты не хочешь играть?
— Хочу, но не все время. Сначала я спряталась не здесь. Я пряталась по разным другим местам. Я устала прятаться и, когда нашла это миленькое местечко, села отдохнуть и остудить ноги.
— Ох, — сказал Рэд. Он просто не мог придумать, что бы еще возразить, до того разумно она говорила.
— Как ты считаешь, надо нам вернуться назад? — сказал он наконец. — Надо нам вернуться и продолжить игру?
— Ну конечно, — сказала Флора. — Нам надо вернуться, но лучше останемся, мне здесь нравится гораздо больше.
— Тебе нравится сидеть одной, вот как сейчас?
— Да. А тебе?
— Иногда нравится.
— Мне всегда нравится, — сказала Флора, — а бывает, что я просто не могу иначе.
— Когда это?
— О, я не знаю. Когда тебе хочется побыть одному?
— Когда я сердит.
— А ты ни на кого сейчас не сердит?
— Сердит.
— На кого же?
— На своего отца.
— На отца? За что?
— Он ударил маму.
— Неужели ударил?
— Да.
— Почему?
— Он делается иногда злым и сердитым, — сказал Рэд. И подумав, добавил: — Иногда он делается ужасно сердитым.
— Это она его так сердит? — сказала Флора.
— Не знаю, — сказал Рэд. — Но когда он такой, он старается не тронуть ее, не ударить. Я сразу это чувствую. Он старается очень долго, потом вдруг не выдерживает и ударяет ее. Она плачет, а он снова ее ударяет. И тут уже я не выдерживаю и ударяю его. Вот после такого мне и хочется побыть одному. А тебе когда хочется?
— Видишь ли, — сказала Флора, — мой отец никогда не бьет мою маму, но случается, что мама дает ему пощечину.
— Твоя мать дает пощечину твоему отцу?
— Да. Сегодня днем она закатила ему пощечину.
— А он что?
— Он вышел из дома. Он спустился во двор к старой оливе и поработал там немного. Подрезал мертвые ветки. Потом ушел в виноградник. Он долго с ней не разговаривал.
— А почему она закатила ему пощечину? Почему они делают такие вещи?
— Не знаю. Я думала об этом, но ничего не надумала. А ты знаешь?
— Я? — сказал Рэд. — Я знаю, что отец мой иногда сердится. Наверно, мама сердит его. Иногда она даже меня сердит. Иногда она ужасно меня сердит.
— И ты тоже ее ударяешь?
— О нет! — Он замолчал, подумал, потом сказал: — Но я очень хотел бы поверить всему тому, что она говорит мне. Я никогда не знаю, чему верить.
Девочка послушала, подумала минутку, потом обернулась посмотреть на него. Рэд увидел, что он явно понравился ей, хотя вовсе о том не думал и не старался. Он обрадовался, потому что она сама ему очень нравилась, он как-то сразу почувствовал, что она особенно ему нравится.
— Давай лучше вернемся, — предложил он внезапно.
— Хорошо. — Флора вытащила из воды ноги, надела носки, потом туфли и, потянувшись к Рэду, сказала: — Помоги мне, пожалуйста.
Рэд взял ее за руку и помог встать, охваченный неведомым ему до сих пор ликованием. Ах, как хорошо было держать ее руку! Она поднялась и сказала почти шепотом:
— Совсем не хочу возвращаться.
Они пошли через виноградник.
— Почему? — сказал Рэд.
— Ох, — сказала Флора. — Если б ты только знал, до чего ужасно я себя чувствую, когда вижу, что папа и мама несчастливы друг с другом.
— Разве они несчастливы друг с другом?
— Очень. А твои?
— Не знаю, — сказал Рэд. — Наверное, да. Но и счастливы тоже. Большей частью они счастливы. А твои нет?
— Мои никогда, — сказала Флора. — Они только притворяются. По-моему, они ненавидят друг друга. Они думают, мы не знаем. Они думают, мы не понимаем, но мы понимаем, особенно Фанни. Фанни понимает больше всех. Фэй тоже понимает, но ей не хочется понимать. Фанни говорит мне все, что понимает сама. «Они ненавидят друг друга, — говорит Фанни. — Они просто противны друг другу. Но вряд ли сами сознают это, из-за одной только привычки». Фанни понимает больше всех. Они действительно ненавидят друг друга.
— Нет, не ненавидят, — сказал Рэд.
— О да, ненавидят, — сказала Флора. — А мы притворяемся, что не знаем, особенно Фанни. Она одна всегда становится на сторону мамы. Мы на стороне папы, Фэй и я, Фанни на стороне мамы. А ты на чьей?
— Ни на чьей, — сказал Рэд. — Разве может быть, чтоб они ненавидели друг друга?
Никогда раньше в своей жизни ни с кем он так не разговаривал. Ему больно было оттого, что мать и отец этой хорошенькой девочки не любят друг друга, что они даже, может быть, ненавидят друг друга.
— Наверно, Фанни говорила это просто в шутку?
— Нет, это не шутка, — сказала Флора. — Это правда. Ну вот, мы уже близко. По-моему, будет лучше, если отсюда мы побежим.
— Хорошо, — сказал Рэд.
Он дал ей пробежать вперед, потом пустился следом и очень скоро ее обогнал. Он увидел остальных девочек — они стояли во дворе, возле насоса, и разговаривали. Он побежал прямо к дереву. Но добежав, не остановился, чтоб подойти к девочкам или подождать, пока к нему присоединится Флора. Он миновал дерево и помчался дальше. Он услышал, как Фанни окликает его: «Эй, Рэд, куда ты?» Но он, не оглядываясь, бежал дальше, пока еще были силы, потом перешел на шаг. А когда был уже далеко, когда достиг полосы гранатовых и оливковых деревьев, здесь он остановился наконец, чтоб побыть одному.
Он сорвал с ветки маленький красный гранат и со всего размаху швырнул его в дерево — гранат налетел на ствол и разбился.
— Будь ты проклят, папа! — сказал мальчик. — Будь ты проклята, мама! Будьте прокляты вы оба!
Они были вместе, все четверо — двое мужчин и две женщины, кто из них сидел, кто стоял на веранде, и каждый без церемоний наливал себе и пил, что ему хочется, и все они привыкали к близости друг с другом, к странности того, что они все вместе — болтают о чем-то, пьют, проводят время. Но минут через десять мужчины спустились во двор, а женщины остались вдвоем на веранде. Так каждая пара могла видеть другую, но разговора уже не слышала. В самом начале, когда дети были еще рядом, взрослые обменивались любезными улыбками, понимающими взглядами, а чуть спустя уже и смеялись.
Первым засмеялся Ивен Назаренус.
Средняя девочка Уолза вдруг громко обратилась к старшим:
— Ну, вы, детки, играйте тут, а мы — детишки — поиграем за домом.
Ивен засмеялся и, обращаясь к Мэй Уолз, сказал:
— Ну и девочка! Какая она у вас вообще?
Мэй Уолз отмахнулась, мягко и любяще, на вопрос о том, какая вообще ее Фанни, и сказала с теплотой — не для Фанни, а для Суон и Ивена: «Бог знает, во всяком случае зовут ее — Фанни» [3]. Эти слова, сами по себе так мало значащие, для Суон, которая всего минуту назад чувствовала, что она не в силах будет смотреть на Мэй и Уоррена, не в силах будет говорить, не в силах будет даже двигаться, — значили невероятно много.
— Она очень славная, — сказала Суон. Потом обернулась к Уоррену Уолзу и, не глядя на него, добавила:
— Вы должны гордиться вашими дочками.
Уоррен Уолз, не глядя на свою жену, сказал, почти смеясь:
— И все-таки они — дочки. Но я верю, что когда-нибудь у нас будет и сын.
— Мартини, шотландское, бурбон? — сказал Ивен. — Я буду пить шотландское.
После этого все уже шло так, словно ничего плохого на свете не существует и раньше не бывало и никогда не будет.
Ивен и Суон до обеда приняли душ и оделись во все свежее. То же самое сделали у себя дома Уоррен и Мэй. Они намылили свои тела, а потом пополоскались теплой водой, и вода смыла с них пену и пот и грязь, а заодно — пускай только на время — ярость и гнев, стыд и отчаяние.
Жаркий день потихонечку шел на убыль. Скоро наступит вечер — самое лучшее время. Скоро спустится прохлада, все примолкнет и потемнеет, и будут недолгие сумерки, с красной полоской неба — там, где закатится солнце.
И тогда они все — еще вчера незнакомые, еще совсем чужие друг другу люди — сойдутся между собой. Они сойдутся и сблизятся и будут друг к другу добры. Им будет приятно смотреть друг на друга. И голоса их зазвучат, живо откликаясь друг другу. Каждый про себя они припомнят что-то хорошее и, припомнив, обрадуются, что оно было в их жизни. Они выпьют еще и потом еще. Они будут веселыми и остроумными, серьезными, задумчивыми, понимающими. Они и посмеются друг с другом. Может, кто-то из них вставит в разговор что-то такое, что рассмешит всех остальных. Они будут смеяться так громко и весело, что, наверно, и сами немного смутятся. А может быть, смех этот разбудят просто сумерки. Сумерки, красная полоска неба, тишь и покой виноградника, внезапная память о детях, играющих в свою игру во дворе за домом, память об огромном их милосердии, о доброте и чуткости к папам и мамам, даже память о вспышках дурного и уродливого в их детях, временами как будто уже оставивших позади детство.
Каждый из них четверых будет по-прежнему знать все самое худшее о себе и о жизни, но на то время, пока они вместе, плохое будет отодвинуто в сторону и почти что забыто. Почти, но не совсем. Что-то укрытое нет-нет да отразится у них в глазах.
И все же на мгновение им дано будет знать блаженство благополучия и покоя. Дано будет знать и то, что благополучие — ложь, что оно полно безнадежности и печали, но они не станут расстраивать себя из-за этого. Они будут пить и поддерживать разговор — быстрый, легкий, без особых раздумий.
— Вы не расскажете мне что-нибудь о Дейде? — сказал Ивен.
— Он же ваш брат, — сказал Уолз.
— Мне интересно узнать, какой он фермер.
— Сначала я думал, что хуже меня не может быть, — сказал Уолз, — но теперь полагаю, что в чемпионах Дейд. Во всяком случае мы оба держимся, и все как будто в порядке. Дейд старается вовсю, и я тоже. У нас было три неудачных года подряд, но если мы не разбогатели, то и не разорились. Когда земля твоя оплачена — а у Дейда она оплачена, и у меня тоже, — то ничего уже не страшно: как бы плохо ни шли дела, ты все равно не пропадешь. Правда, расплатиться за землю трудновато, но если с этим ты покончил, то все наладится. Бывает скучно, конечно, но кому не бывает?
— Чем занимается здесь Дейд?
— В каком смысле?
— На винограднике своем работает?
— А как же, — сказал Уолз. — Подрезает кусты. Шестьдесят акров виноградника — это значит четверым работать по подрезке целых шесть недель. Дейд нанимает троих, а сам за четвертого. И чтобы вдруг среди дня он бросил работу ради отдыха, сна или чего-то еще только потому, что он хозяин? Ничего подобного. Он начинает тогда же, когда и они, с ними завтракает в перерыв, с ними и кончает. Я знаю, ему нравится это дело. Время подрезки приходится обычно на конец декабря, январь и февраль. Он начинает каждый год первого января. В этот день он работает один, а на следующий к нему присоединяются три работника.
— Значит, он взаправду трудится на винограднике?
— О да. Когда я сказал, что он худший из фермеров, я имел в виду, что он обходится без всего того, чему учат всякого в сельскохозяйственном колледже. Я как-то спросил его, почему он не очистит от сорняков канал, и Дейд сказал, что сорняки ему нравятся. А вы думали, что сам он не работает, что ли?
— Вообще-то ведь он не любитель работать, — сказал Ивен. — В молодости кое-что перепробовал, ну и все.
— Виноградник — дело другое, — сказал Уолз. — Здесь он сам себе хозяин. Разве это не лучшее, чего каждый себе желает?
— Да, пожалуй, — сказал Ивен. — А как с вином?
— С вином тут не бог весть, — сказал Уолз. — Виноделов у нас нет. Одни аптекари. Вино у них получается вроде шампуни.
— Я про вас и про Дейда. Вы делаете вино?
— Я-то делаю по нескольку галлонов в год, просто так, удовольствия ради, — сказал Уолз. — А про Дейда не знаю. — Помолчав минутку, он спросил: — Хорошо мы живем, что скажете?
— Не знаю, — сказал Ивен. — Наверное, хорошо. В каком-то отношении. Не в одном, так в другом. А вообще я не знаю. Тут всегда и все от чего-нибудь да зависит, и вся жалость в том, что ты или не знаешь, от чего же именно, или, если знаешь, то оказывается, что тут впутан кто-то еще, кто должен поддержать тебя, но не хочет или не может.
— Дейд читал ваши книги? — сказал Уолз. — Я спрашиваю потому, что раза два заговаривал с ним про них, но ничего не добился. Он что, не читал их?
— Их всего три, — сказал Ивен. — А отмолчался он не потому, наверно, что не читал их. Скорее потому, что читал.
— По-моему, они были очень даже хорошие, — сказал Уолз. — Особенно первая. Хотя и две другие понравились мне.
— Они плохие, — сказал Ивен. — Но лучше я тогда не умел. Величайшие книги остаются ненаписанными. Люди, которые могли бы их написать, не знают, как писать и в чем тут хитрость. А любой дурак, приноровившийся ловко строчить, может сделать себе имя, пожелай он только работать. Дейд успел уже забыть много такого, чего я никогда не увижу и не узнаю. Он весь в себе, одиночка. Никто никогда не узнает того, что изведал Дейд. Того, что он знает про все на свете. Про каждого из нас. Про нашу ложь и притворства, про плохое и про хорошее. Я знаю, как надо писать, но что из этого? Я бросил писать, потому что это всего лишь сноровка.
— Вот не думал! — сказал Уолз. — Ничего более как сноровка? То есть, скорее техника, чем что-то другое?
— Вот именно, — сказал Ивен.
Он взял стакан у Уоррена и поднялся на веранду, чтобы снова налить и себе, и ему. Он вытряхнул осадок и кусочки льда на лужайку, бросил между делом, наполняя оба стакана, несколько слов Мэй Уолз, не глядя на Суон, не глядя даже на Мэй, потом вернулся к Уолзу.
— А все-таки, — спросил Уолз, — что это значит — одиночка? Я не уверен, что понял, какой вы вкладываете в это смысл.
Ивен Назаренус рассмеялся, скорее над собой, чем над вопросом.
— Каждый человек — одиночка, — сказал он. — Особого значения в этом слове нет. Я рад, что Дейду нравится подрезать кусты. Мне бы и самому это, наверно, понравилось. На рождество и Новый год у меня каникулы. Было бы неплохо приехать зимой сюда и поработать с Дейдом.
— Интересно, придется ли вам по вкусу эта работа, — сказал Уолз. — Очень уж она однообразная. Я каждый год пробую. Но хватает меня на десяток кустов, не больше.
Женщины спустились на лужайку не с тем, чтобы непременно присоединиться к мужчинам, но чтобы все-таки быть поблизости. Вскоре они уже стояли вместе все четверо, а потом и заговорили друг с другом.
— Я думаю, мы можем поесть на лужайке, — предложила Суон, обращаясь к Уолзу. — Нужно только перенести сюда со двора стол.
— Я согласен. А вы? — спросил Ивен у Мэй Уолз.
— По мне, это будет чудесно, — сказала Мэй.
— Раз так, переносим стол, — сказал Уолз Ивену.
Они пошли и притащили вдвоем стол. Суон и Мэй отправились в дом за скатертью и посудой. Когда они вышли и принялись накрывать, Суон сказала:
— На обед будет салат и бифштексы. Девочки любят бифштекс?
— Еще бы, — сказал Уолз. — Бифштекс — это замечательно.
Женщины хлопотали у стола, уходили в дом, возвращались. Мужчины медленно направились на задний двор, там были дети, и Ивену Назаренусу, почти вконец потерянному, почти беспомощному, хотелось еще разок взглянуть на них — на Рэда и Еву.
К концу обеда приехал Коди Боун с Бартом. Ивен сам их позвал, он хотел, чтоб все, кто столкнулся с ним ночью, увидели его снова и как можно скорее. Для него было крайне важно хоть что-то уладить, чтобы потом можно было заняться другим. Со станции, пока Рэд катался на паровозе с Коди Боуном, Ивен позвонил Дейду в Сан-Франциско.
— Сделай мне одолжение, — сказал он. — Прилетай сегодня вечером. Хоть на два часа, но прилетай непременно.
— Постараюсь, — сказал Дейд. — Но освобожусь я очень поздно. Ты не заснешь?
— Не засну.
— Постараюсь. Но раньше полуночи не смогу, а может, в час и даже в два или в три, если это не слишком поздно.
— В любое время, Дейд.
— Я постараюсь.
Со стола скоро убрали. Дети снова затеяли игру на лужайке, взрослые сидели за столом, а кто стоял возле со своим стаканом в руке.
Ивен стоял с Бартом, потягивавшим пиво. Отец и сын оба были чистые, бритые и во всем свежем: белые рубахи нараспашку, белые спортивные брюки и мокасины. Юноша, как и Уоррен Уолз, ни словом не обмолвился о минувшей ночи. Он расспрашивал о Станфорде.
— Приедешь туда, позвони мне, — сказал Ивен. — Я сведу тебя к людям, которых надо будет тебе повидать. Сколько тебе еще учиться в твоем колледже?
— Год, — сказал Барт, — но я хочу уже сейчас что-то себе наметить. Вполне может случиться, что в последнюю минуту я надумаю ехать учиться где-нибудь на востоке. Я бы очень даже надумал, если б не Коди. Профессию себе выбрать я все никак не могу, так что раз уж просто ехать учиться, то лучше — в другой конец страны.
— Пожалуй, что так, — сказал Ивен. — Может, попробуешь в адвокаты?
— Нет, — сказал Барт. — Я ненавижу препирательства. Не по мне это дело. Тут, насколько я понимаю, задача в том, чтобы добиться истины и… ну, я так думаю, правосудия. Но это совсем не то, что происходит в действительности. Для адвокатов дело чести и гордости укрыть истину, исказить ее, помешать ей. Кто-то может, конечно, стать и настоящим адвокатом, заинтересованным в истине и правосудии, но я сомневаюсь, чтоб он продержался долго или далеко пошел.
— А медицина?
— Не для меня. Я не могу быть рядом с чужой болью и не чувствовать ее. Я буду чувствовать ее все время, так что серьезной помощи от меня не дождешься.
— Учителем?
— Ну, это было бы прекрасно, если б я мог надумать, чему учить. — Поразмыслив с минуту, он сказал: — Больше всего мне хотелось бы путешествовать, но это не профессия. Кроме того, на это нужны деньги. Денег же иначе как работой не добудешь.
— А ты не подумывал о море? Ну, например, кругосветное плавание? Я знаю одного парня из Главного пароходства, который может устроить тебя матросом. Немного тренировки, и ты отлично справишься.
Глаза у юноши заблестели.
— Я всю жизнь мечтал о чем-нибудь в этом роде, — сказал Барт. — Вот что мне действительно подошло бы! В колледж возвращаться не обязательно. Мне, наверно, и платить будут, как вы думаете?
— Разумеется.
— И у нас будут стоянки в больших городах и можно будет отлучаться на берег?
— Я не уверен, но, видимо, да.
— Так значит, вы потолкуете с этим человеком? — казал юноша. — Я готов ехать. Я готов пройти необходимую тренировку. Прислуживать у стола или что-нибудь такое мне не подойдет. Я хочу иметь дело с самим судном. — Он извлек из заднего кармана конверт, вынул из него письмо, а конверт дал Ивену: — Здесь мое имя и адрес. Телефон — Кловис, 121, но если вы забудете, оператор соединит и так. Вы думаете, есть у меня шансы? Ведь это как раз то, чего мне хотелось бы.
— Шансы у тебя есть, — сказал Ивен. — А ты не хочешь сказать отцу?
— Нет. Я подожду, пока все выяснится, — сказал Барт. — Не хочу, чтоб он зря расстраивался. Ведь дело может не выгореть. А если выгорит, я объясню ему все так, чтоб он не тревожился. Я поговорю с ним, как только мне станет известно, когда я отплываю и когда вернусь. Если все насчет этого будет ясно, тогда что же, тогда все ясно и беспокоиться не о чем. Я даже смогу узнать, в каких местах побываю, откуда и когда ему ждать моих писем. Он не станет беспокоиться, если все будет ясно, но если нет, он будет беспокоиться, и может, даже так сильно, что я сам начну беспокоиться за него, а это, черт побери, глупо. Сколько продлится плавание?
— Месяца три, я думаю. Допустим, четыре. А может, и все пять.
— Что такое пять месяцев? — сказал юноша. — Что шесть? Что год? Конечно, если дело тебе по душе. Я хочу ехать. Я просто не дождусь, когда поеду. Главное не то, что вокруг света. Главное поехать. Всю свою жизнь я провел здесь, почти восемнадцать лет. Не то чтобы мне осточертело или наскучило, но, если хотите, я вам кое в чем признаюсь. Я никогда не встречал здесь девушки, на которой захотел бы жениться. Мне нравились те, которых я знал, но хочется посмотреть и на других. На самых разных и в разных странах. Хочется увидеть, какие они бывают. Может, я вернусь домой и женюсь на здешней, но прежде чем я это сделаю, я хочу увидеть других. Хочу перевидать их всех. Хочу знать, что делаю и почему. То есть, я не хочу, чтобы то, что я должен сделать, сделалось бы так, а не иначе потому только, что я оказался в это время там-то, а не где-нибудь еще и так далее и тому подобное. Вы понимаете, о чем я?
— Понимаю, — сказал Ивен. — Я завтра же позвоню этому человеку. Завтра воскресенье, он будет дома. Я сообщу тебе сразу же, как только переговорю с ним.
— Я весь день буду дома или поблизости, — сказал юноша. — Надеюсь, дело выгорит.
— Я тоже надеюсь, — сказал Ивен. — Выпей-ка еще пива.
У стола Ивен, откупоривая новую бутылку и наполняя стакан, увидел, что Коди Боун беседует о чем-то с Рэдом. Рэд стоял в стороне от остальных, перед Коди, который сидел спиной к столу и держал в руке стакан с виски. Ивен услышал только обрывки их разговора, но и этого было достаточно, чтоб понять, что его сын расспрашивает Коди Боуна о личном опыте Коди по части гнева.
Через минуту к Ивену с Бартом присоединился Уоррен Уолз, который без каких-либо предисловий сказал:
— Что же все-таки происходит? Что творится? Можешь сказать мне, Барт? Ты можешь, Ивен?
Сын Коди рассмеялся — возможно, потому что он был чересчур взволнован идеей плавания вокруг света. Он рассмеялся и потому, что вопрос Уоррена был очень уж странный. Никогда прежде Барт не слышал, чтоб Уоррен Уолз задавал подобные вопросы. Барт обернулся к Ивену, словно ожидая, что ответить возьмется он.
— Слушай, Уоррен, — откликнулся Ивен. — Я, кажется, догадываюсь, что ты хочешь этим сказать.
— Я хочу сказать, — подхватил Уоррен, — что творится, что происходит? Вот и все.
— Ясно, — сказал Ивен. — И ответ такой: ты знаешь сам, ты и больше никто.
— Я? — сказал Уолз. — Знаю ли я? Нет, я не знаю. Я и не думал, что знаю. Я уверен был, что не знаю. Но, если поразмыслить, то, может, и знаю. Все время знал. В самом деле знаю.
— Ну хорошо, если вы знаете, — сказал Барт, — то я не знаю, скажите и мне.
— О нет, — сказал Уолз. — Я знаю сам для себя, и тебе тоже придется выяснить самому для себя.
— Ладно, тогда расскажите мне, что вы знаете для себя, — попросил Барт.
— Еще чего! — усмехнулся Уолз. — Будь тебе двадцать первый, я, может, кое-что и рассказал бы, самую малость, но сейчас — нет.
Барт разразился смехом. Уолз рассмеялся тоже. Подошла Фанни.
— Над чем смеетесь? — сказала она.
— А ну-ка марш отсюда, иди играть, — сказал Уоррен дочери, напустив на себя суровость, а может, ничего напускного и не было, а было именно то, что давно из него просилось.
— Ладно, — сказала Фанни. — Я думала, может, какая шутка, может, и я послушаю.
Она тут же отошла, ничуть не задетая.
— Заведите себе трех девочек, и можете считать, что вы завели себе еще трех жен, — сказал Уолз Ивену. — Ей, видите ли, надо знать, над чем я смеюсь! Четыре жены — не слишком ли это много для одного мужчины? — Он посмотрел на свой стакан так, словно впервые увидел. — Что же все-таки творится? — сказал он снова. Потом он сказал, посмотрев на Ивена несчастными, виноватыми, расстроенными глазами: — Я кажется, напился, черт подери. Не могу больше ни капли. — И разом проглотив все содержимое стакана, сказал: — Бога ради, вы не против, если я чуточку напьюсь?
— Напивайтесь, — сказал Барт. — Я обещаю доставить домой в полной сохранности и вас, и вашу семью.
— О черт! — сказал Уолз. — Может, я и тебе налью заодно? — сказал он Ивену.
Ивен протянул ему свой стакан. Уолз направился к столу, и по тому, как он шел, Барт убедился, что и в самом деле он пьян.
— Я никогда раньше не видел его таким, — сказал Барт. — То есть, таким симпатичным. Он всегда держался немного натянуто. Вы знаете, как живут в городках вроде нашего. Шесть-семь семей время от времени обмениваются визитами. Так вот, каждый раз когда Уоррен и Мэй посещали Коди и я был тут же, он, Уоррен, всегда казался, ну… как бы вам сказать… скучноватым, что ли. Вы славно на него повлияли. То есть…
Он вдруг осекся, смутился. Смутился от того, что сказал все это о человеке, который был ровно вдвое старше него, и от того, что говорил сейчас о нем так, будто Уолз чудак какой-то или чем-то хуже других.
— Я, должно быть, и сам чуточку опьянел, — сказал он тихо и застенчиво. — Стакан пива — и я, как видите, пошел молоть языком. Да и мысль о плавании вскружила мне голову.
Уоррен вернулся с полным стаканом для Ивена, Барт отошел от них поговорить с Фэй Уолз, словно хотел показать тем самым, что прекрасно знает, когда ему следует придержать язык или просто исчезнуть.
— Мне нужно кое-что сказать тебе, — выпалил Уолз. — Надеюсь, ты не против. Так вот. Я знаю, вам сейчас плохо приходится. Знаю, потому что и мне плохо. Я понимаю все это дело. Я не хотел приходить. Я и предлог состряпал, что, мол, детям не терпится уехать. Так вот, если я что-нибудь могу сделать… Только не думай, будто я не знаю, каким дураком могу показаться… Так вот, я даже и представить себе не могу, что бы для вас сделать. Я не в силах сделать что-нибудь для себя, где уж там для другого. Я хочу сказать вот что… А впрочем, к черту все это! Оставим. Забудь. Мне жаль, что я завел всю эту болтовню. Посмотри-ка на мою распроклятую среднюю дочку: стоит себе на голове, вверх ногами и простоит так час, если только захочет.
— Чудная девчушка, — сказал Ивен.
— Я без ума от нее, — сказал Уолз. — И пусть она это знает.
Он направился к девочке, стоявшей на голове, уронил свой стакан в траву и попробовал стать на голову рядом с Фанни. При первой попытке он, не успев выпрямиться, упал, вернувшись при этом в первоначальное положение, то есть став на ноги. Он тут же попробовал снова, и на какое-то мгновение у него вышло, но потом он грохнулся прямо на спину. И все-таки он пробовал опять и опять, и всякий раз с самым серьезным видом, но постепенно уставая. Его жена и Суон подошли посмотреть. Девочка, все еще стоявшая на голове и посмеивавшаяся каждый раз, когда отец ее падал, сказала:
— Не выйдет у тебя, па. Ты слишком толстый.
— Не такой уж я толстый, — сказал Уолз.
Все теперь собрались вокруг них, и Ивен увидел, что Рэд стал на голову справа от Фанни. Он продержался всего несколько секунд. Уолз попробовал еще раз, у него вышло, и Коди Боун захлопал ему вместе с женщинами. Потом Уолз свалился на спину и устало зевнул, словно спать собрался.
— Ох, милый, — сказала Мэй Уолз. — Он пьян.
Уоррен открыл глаза.
— Я не пьян, — сказал он чуть слышно. — Просто хочу полежать, поспать. Не волнуйся за меня, Мэй.
Все еще стоя на голове, Фанни крикнула:
— Кто не умеет держаться на голове, тот кретин.
— Что такое кретин? — спросил Рэд Коди Боуна.
— Что бы это ни было, — сказал Коди, — пусть таким меня и считают, потому что я и не попробую даже.
— Вы не умеете? — сказал Рэд. — Я умею. Вы ведь видели, как у меня получается?
— Видел, — сказал Коди. — Я и сам, конечно, сумею, если захочу, но лучше уж быть кретином.
— Тогда и мне лучше быть кретином, — сказал Рэд.
Он подбежал к Фанни, нагнулся пониже к ней и сказал:
— Мы все кретины, Фанни, кроме тебя.
— Знаю, — сказала девочка.
Все расселись на лужайке вокруг Фанни, и Уолз через минуту поднялся, чтоб выпить еще, и каждый из них полон был благодарности к девочке, все еще державшейся на голове.
Ивен зашел в дом взять еще бутылку шотландского, и как раз в это время раздался телефонный звонок.
— Я в аэропорту во Фресно, — сказал Дейд. — Нельзя ли нам встретиться здесь? Часа через полтора обратный самолет, и мне надо улететь на кем. Мою машину еще не пригнали?
— Нет, Дейд.
— А поблизости одолжить не можешь?
— Здесь Уоррен Уолз с семьей, — сказал Ивен, — и Коди Боун с сыном.
— Попроси у Барта.
— Хорошо. Я сейчас же выеду.
Он взял бутылку, отнес ее на стол, откупорил, налил по свежей порции тем, кто пил шотландское, потом сказал:
— Звонил мой друг. Он ждет меня в аэропорту, у него всего полтора часа. Можно мне взять машину и съездить? Я задержусь ненадолго.
— Кто это? — сказал Рэд. Он стоял прямо перед отцом.
— Мильтон Швейцер, — сказал Ивен. — Ты помнишь его, Рэд. Он работает со мной в Станфорде.
— Берите мою машину, — сказал Барт.
— Можно?
— Конечно.
— Я задержусь ненадолго, — сказал Ивен.
— Я с тобой, — сказал Рэд. Он был чуть не в панике. Он бросился к Суон: — Я хочу поехать с папой! — крикнул он. — Мама, не говори, что мне нельзя.
И Ивен услышал, как Суон сказала:
— Поезжай, Рэд.
— И я хочу, — сказала Ева, подбежав к Суон.
— Поезжай и ты, Ева.
— Нет, моя хорошая, — сказал Ивен. — Ты оставайся здесь. Я ненадолго.
— Нет, папа! — сказала девочка. — Я хочу ехать.
— Нет, моя хорошая.
— Папа! — вскричала девочка, когда он отошел.
Барт направился с ним вместе к машине.
— Нужно, конечно, время, чтоб освоиться с этой старушкой, но я уверен, вы справитесь быстро, — сказал он.
Ивен запустил мотор и сквозь шум его услышал крик Евы:
— Папа! И меня возьми! И меня!
И еще он услышал, как Суон сказала:
— Ивен, если хочешь, возьми и ее.
Девочка стояла рядом с Бартом, глядя вверх на отца. Когда машина тронулась, девочка, расплакавшись, побежала за ней.
— Чего он хочет? — сказал Рэд.
— Хочет просто поговорить со мной, — сказал Ивен.
— Почему? — сказал Рэд. — О чем он хочет поговорить?
— Мы работаем на одном факультете в Станфорде. Мы старые друзья.
— Вы друзья, папа?
— Разумеется, друзья. У тебя голос какой-то испуганный. Чего ты испугался?
— Не знаю, — сказал Рэд.
Ивен гнал машину вовсю, удивляясь, почему Рэду так приспичило ехать с ним и почему он кажется таким перепуганным. Мили две он правил в молчании, когда же машина покатила по ровному шоссе, он мысленно вернулся к последним пяти минутам. Он думал о своей собственной нелепой выдумке — почему он назвал на вопрос сына первое же пришедшее в голову имя, почему назвал имя Мильтона Швейцера, который приехал в Станфорд читать лекции по драматургии спустя семестр после того, как Ивен начал читать там лекции по роману. Ивен не добился настоящего успеха как романист, а Швейцер точно так же не добился успеха как драматург. Были у него две пьесы, попавшие на Бродвей, но обе провалились, и были еще две другие, которые дальше Бостона и Филадельфии не пошли. Он приходился ровесником Ивену, разве чуть постарше. Родом он был из Нью-Йорка и окончил Колумбийский университет.
Пожалуй, Ивен мог бы сказать Рэду и еще кое-что, но он немножко побаивался. Сейчас он всего немножко побаивался. Впереди двигалась машина, и хотя он был уверен, что сможет обойти ее так же легко, как обошел до сих пор все остальные, он все равно немножко побаивался. Машина двигалась очень медленно, а водитель медленной машины способен выкинуть вдруг любую несуразицу. Ну, скажем, ни с того ни с сего вильнет вдруг влево, когда ты его обгоняешь на полной скорости. Однако этот ничего такого не сделал, и Ивен без труда обогнал его. Он увидел на миг, проносясь мимо, старого человека, а рядом жену, едут со скоростью двадцать пять миль в час в машине, которой тоже лет двадцать пять, покоротали, видно, вечер с друзьями и возвращаются к себе домой. Обогнав ехавших впереди, Ивен стал немножко побаиваться машины, которая шла сейчас ему навстречу, но она проскочила мимо, издав короткий гудок — таким обмениваются при встрече машины, двигающиеся в противоположном направлении, — и теперь все, чего оставалось ему бояться, была «старушка» Барта. У нее и покрышки могли оказаться старые, а при семидесяти милях в час лопнувшая покрышка не такой уж пустяк.
И еще он немножко побаивался того, что у Рэда, как видно, потребность поговорить о Мильтоне Швейцере.
— Это не Мильтон Швейцер, — сказал он наконец.
— Что, папа?
— Его я назвал просто так. Не хотел, чтобы узнали, с кем я еду повидаться.
— Кто же это?
— Дейд. Мой брат.
— Почему же ты сказал, что это Мильтон Швейцер?
— Не хотел, чтоб узнали, с кем я еду повидаться.
— Почему? — сказал Рэд. — И почему ты так гонишь?
Он сбавил скорость до шестидесяти, потом до пятидесяти, потом до сорока и, наконец, до тридцати. Он сделал это, потому что так было нужно ему самому. Очень уж он был взвинчен, чтоб так разгоняться. Очень уж разогналось сейчас все у него внутри. Значит, ехать ему следовало по возможности тише.
— Рэд, — сказал Ивен. — Выслушай меня, пожалуйста. (Он поймет, когда я скажу ему, что это нечто такое, о чем я не в состоянии говорить. Он поймет). Рэд, — сказал он. (Нет, не могу. Будет лучше, если я просто возьму себя в руки. Будет лучше, если я сделаю это для своего сына, будет лучше, если я поскорее сделаю это). — Рэд, — сказал он. — Твой отец слегка подвыпил. Ты видел только что, как Уоррен Уолз пытался стать на голову. Это было оттого, что он слегка подвыпил. Но это ничего не значит. Все прекрасно. Ничего особенного не случилось. Просто когда человек немножко выпьет, ему начинает казаться, будто что-то случилось, будто что-то вокруг не то. Дейд тебе обрадуется.
— Почему ты сказал, что это Мильтон Швейцер? Почему ты не сказал, что это Дейд?
— Я чуточку подвыпил, — сказал Ивен так, чтобы вышло повеселее. — Это ничего. Ты ведь уже не боишься?
— Не пойму, — сказал Рэд. — Тебе нравится Мильтон Швейцер?
— Конечно. Мне нравится Мильтон Швейцер.
— Я его ненавижу, — сказал Рэд.
— Почему? — сказал Ивен. (Что толку прикидываться перед Рэдом? Что толку делать вид, будто ничего не случилось? Он все равно знает. Я не могу его оградить…)
— Помнишь, как ты спросил, нравится ли мне Уоррен Уолз?
— Да, Рэд. Это было вчера.
— И еще спросил, почему мне понравился Коди Боун.
— Да, Рэд.
— И я сказал, что Коди Боун мне просто понравился, а почему — не знаю. Так вот, мне теперь нравится и Уоррен Уолз. Он мне особенно понравился, когда старался подержаться на голове. Но Мильтон Швейцер не нравится мне. Я его ненавижу. — Он помолчал с минутку, потом сказал: — И знаю — почему.
— Почему, Рэд? — Ивен уже не прикидывался веселым. И голос его прозвучал совсем тихо.
— Мама сказала, что возьмет меня и Еву в цирк. Мы приготовились, но она почему-то позвала Мейбл, и Мейбл увела нас. Нам не хотелось идти с Мейбл. Я не знал, почему мама раздумала идти. Мне вовсе не понравился цирк с Мейбл.
Рэд умолк.
— И из-за этого ты возненавидел Мильтона Швейцера? Но при чем тут он? — сказал Ивен.
— Разве ты не понимаешь? — сказал Рэд. — Когда мы вернулись из цирка, он был у нас. А еще в другой раз мама обещала повезти меня и Еву на пикник в университетский городок. В то самое место, где мы однажды так хорошо повеселились. Она наготовила сандвичей, самых разных, и когда мы совсем уже собрались, она снова позвала Мейбл и отправила нас с нею.
— Когда это было?
— Когда ты уехал зарабатывать деньги на машину, — сказал Рэд. — Когда же мы наконец купим ее?
— Не знаю, — сказал Ивен.
— Вернувшись после пикника, я вошел в комнату и увидел его, — сказал Рэд. — Я сразу же вышел оттуда и пошел во двор, потому что ужасно разозлился. Я только сказал: «Почему вы не сидите у себя дома?» Ева осталась с мамой и с ним.
— Что же ты не рассказал мне раньше, Рэд?
— Не знаю, — сказал мальчик. — Забыл, наверно. Потом он уже больше не приходил к нам. А разве тебе приятно было бы услышать, что я так зло с ним разговаривал? И чтобы я сам рассказал об этом? Мне было стыдно. Я не хотел сказать такое. Я просто не удержался.
Ивен подрулил к стоянке аэропорта и остановил машину.
— Твой дядя Дейд очень тебе обрадуется, — сказал он.
Дейд выглядел усталым, он выглядел таким усталым, что Рэд сказал своему отцу: «Это и есть Дейд?» Дейд читал книгу, прислонившись к стойке. Когда они подошли, он захлопнул книгу и посмотрел на мальчика.
— Привет, Рэд, — сказал он. — Ты выглядишь прекрасно. Ты выглядишь превосходно, мальчик. — Он обернулся к брату. — Знаешь, на кого он похож? На нашего старика. На твоего дедушку, Рэд, на Петруса Назаренуса. Ты похож на него. — Дейд снова посмотрел на брата. — Я подумал, что лучше так, чем совсем ничего. Но через час мне нужно улететь с обратным самолетом.
Дейд улыбнулся мальчику. Он заговорил на языке, который Рэду хотелось бы знать. Единственное слово, понятое Рэдом из всего, что сказал Дейд, было «эй». С него Дейд начал. Эй, потом еще что-то на незнакомом языке, слова — быстрые, твердые и как будто сердитые, но в то же время и забавные.
Глядя брату в глаза, Дейд очень спокойно сказал что-то еще на своем языке. Рэд услышал, как отец его ответил на том же языке.
Они направились к скамейке в дальнем углу, сели. Рэд оказался посередине, между отцом и дядей. Дейд обнял его одной рукой, прижал к себе.
Братья разговаривали на языке, которого Рэд не понимал. Но ему это и не нужно было. Он понимал их голоса. Он понимал, что Дейд брат Ивена.
— Говори помягче, — сказал Дейд. — Говори помягче, ради своего сына. Я вижу в нем моего отца.
— Хорошо, — сказал Ивен. — Что мне делать, брат?
Дейд обратился по-английски к Рэду.
— Ты — мой отец Петрус Назаренус. — Он притянул к себе голову мальчика и поцеловал в лоб. — Если ты устал, если хочешь пройтись, если хочешь посмотреть на людей или выйти и посмотреть на самолеты, иди, мы будем здесь, ты найдешь нас на этой скамейке.
Рэд обернулся к отцу, и в глазах его снова было смятение.
— Я не хочу, — сказал он.
— Я и надеялся, что не захочешь, — сказал Дейд, — но не был уверен.
Он снова перешел на родной язык.
— Нам нужна целая жизнь, чтоб понять простейшие вещи, — сказал Дейд. — Нам нужны две жизни, чтоб исправить хоть малую ошибку. Каждый день наш бывает прожит с ошибкой, и за всю жизнь мы не исправляем ни одной из них. Что тебе делать, мой брат? Что бы ты ни сделал, ты не сам это сделаешь. Ты сделаешь то, что тебе уготовано. Как ты ни поступи, все будет правильно. Если ты ненавидишь — это правильно. Если убьешь — тоже. Брат, если ты любишь — это правильно. Если ты любишь ее, хоть даже себе на пагубу, — это правильно. — Его усталые глаза испытывали глаза брата. — Делай то, что ты должен, — сказал он. — Делай то, что ты хочешь. Это правильно.
— Если я муж женщины, которая… — заговорил Ивен.
— Это правильно, — быстро произнес Дейд, и голос у него был бесконечно усталый.
— Если я отец чужого ребенка… — сказал Ивен.
— Это правильно, — сказал Дейд.
— Что мне делать? — сказал Ивен.
— Может, выспаться? — спросил Дейд. — Не это ли тебе нужно?
— Выспаться? — сказал Ивен. — Я не усну. Сон для меня потерян.
— Я тоскую по моим детям, — сказал Дейд. — Тосковать — это правильно. Я хочу их увидеть, и это правильно. Я их не увижу, и не видеть их — тоже правильно.
— Почему, Дейд?
— Это игра, — сказал Дейд. — Играешь свою игру. Играешь, как тебе выпало. Что выпадает мне? Какое выбрать решение? Быть гордым и потерять то, что я люблю, или быть мягким, без гордости, и мягкостью сохранить любимое? И то и другое правильно. Что же я выбираю? Быть гордым и потерять тех, кого я люблю. И если даже они любят меня и стремятся ко мне, что требуется от меня? Быть гордым и не подпускать их к себе. И если они умирают от этой любви и тоски, что требуется от меня? Быть гордым и приучить себя к мысли, что они умерли. Так ли это? Так ли должно быть? Да, так, мой брат.
— Ты устал, Дейд, — сказал Ивен. — Ты очень устал. Тебе нельзя лететь обратно.
— Игра есть игра, — сказал Дейд. — Сейчас она ждет меня. Она всегда меня ждет. Я не испытываю волнений. Никогда не испытывал. Волнения из-за денег, приходящих и уходящих, они никогда не владели мною. Игра поджидает, чтобы взволновать, удивить, вознести или унизить. Она никогда не волновала, не удивляла, не возносила и не унижала меня. Ты понимаешь, брат?
— Нет, не понимаю.
— При случае я разъясню тебе, — сказал Дейд. — Вот. — Он засунул руку в карман, вытащил кипу бумажных денег и протянул их Ивену. Рэд увидел деньги. Он знал, что это такое, но он не понимал языка братьев. — Вот мой выигрыш, — сказал Дейд. — Я не спал, потому что в то время, когда другие игроки сдаются, я продолжаю играть. Глупая игра, и выигрыш глупый. Но это правильно. Что тебе делать? Отправляйся домой.
Он снова повернул к себе голову мальчика, снова коснулся его лба сухими губами.
— Рэд, — сказал он. — Разве это не странно и чудесно, когда сын твоего брата — твой же отец? — Он улыбнулся мальчику, ласково сжав ему подбородок. — Разве не странно это, Рэд? Я был плохим сыном. Может, потому и отец из меня не получился. Как ты думаешь? Скажи мне.
— Я хочу говорить на вашем языке, — сказал Рэд.
— Да, — сказал Дейд. Через голову мальчика он взглянул на его отца. Ивен все еще держал деньги в руках. Дейд сказал по-английски: — Надо его научить.
— Кто будет учить меня? — сказал Рэд.
— Твой отец, — сказал Дейд. Он снова обратился по-английски к брату: — Научи его нашему языку. Но учи не словам, а мыслям. К тому времени, когда тебе исполнится девять, — сказал он мальчику, — ты будешь говорить на нашем языке так же, как на английском, а может и лучше. Спрячь эти бумажки в карман, — сказал он брату по-английски и добавил на родном: — У меня есть еще, эти ты забери и поезжай домой. Если есть там кто-то, кого ты хочешь убить, оружие найдется в моей комнате. Почему бы и нет? Это правильно. Если же есть там кто-то, кого ты хотел бы простить и понять и снова любить, ты найдешь оружие в собственном сердце.
— Рэд, — сказал Ивен сыну, — я хочу, чтоб ты прогулялся немного, посмотрел бы на самолеты.
Рэд взглянул на отца. В глазах у мальчика все еще было смятение, но тут же оно исчезло, и Ивен увидел, что его сын и вправду похож на Петруса.
Рэд соскользнул со скамейки — ноги его не доставали до земли — и медленно направился к широкой застекленной двери. Он открыл ее толчком, вышел на лестницу, стал спускаться по ней и пропал из виду.
— Ради бога, Дейд, — сказал Ивен по-английски. — Она надрывает мне сердце. Мне жалко ее. Я не знаю, что делать. Клянусь богом, я боюсь, что убью ее. Ты не должен возвращаться, скажи — нет. Останься. Помоги мне. Не возвращайся, Дейд.
— Тут ничем не поможешь, — сказал Дейд. — Если ты должен убить, я сказал тебе, где оружие. Ты найдешь его сразу. Хотя тебе вполне хватит и рук. Что угодно сгодится. Мы никогда не безоружны. Никто из нас. И мы все беззащитны. Тут ничем не поможешь. Разве помог Петрус? Разве мы ему помогли? Никто не поможет. Но и не помешает никто. — Он достал из кармана серебряный доллар. — Вот жребий, — сказал он, — спроси его: добрым быть или гордым? Вот к чему все это сводится. Называй. — Он высоко подкинул монету и, пока она летела, кружась в воздухе, сказал снова: — Ну же, называй.
— Решка, — сказал Ивен.
Монета ударилась о мраморный пол, подпрыгнула, покружилась на ребре, помедлила мгновение и потом — легла. Выпал «орел».
— Будь добрым, — сказал Дейд. — Почему бы и нет, старина? Почему бы и нет? Так тебе выпало. Будь добрым. Добрым ко всем. И к себе.
— То есть мягким, не так ли?
— Почему бы и нет? И мягким тоже. Будь добрым. Это правильно — быть добрым.
— Я сегодня чуть было не убил ее, — сказал Ивен. — Но ворвался Рэд и удержал меня.
— Будь добрым к Рэду, — сказал Дейд. — Будь добрым к его матери. Мальчик любит ее.
— Ради бога, Дейд, неужели ты не понял, что произошло?
— Понял, — сказал Дейд.
— Нет, ты не понял, — сказал Ивен. — Мы разговаривали с ней. Я думал: кто нам сумеет помочь? Я думал о докторе. Чтоб помочь ей. Помочь Рэду, Еве, помочь мне. Помочь другим, тем, кто еще мог бы у нас появиться. Я спросил, любит ли она этого человека. Она сказала: на знаю. Я убил бы ее, не удержи меня Рэд. Я хотел быть добрым. Хотел простить, хотел быть мягким, Дейд. Я хотел, чтоб это скрылось и сгинуло, я хотел верить, что мы забудем об этом, и я, и она, и что Рэд и Ева никогда ничего не узнают. Я спросил ее. Я думал, может, это была случайность, минутная слабость. Я спросил ее. Я был уверен, что она знает и сейчас скажет, как ненавистна ей эта слабость. Она сказала: не знаю. Останься, Дейд. Останься и помоги мне. Остановись в отеле во Фресно. Ты обязан мне помочь.
— Я прилечу сейчас же, как только смогу, — сказал Дейд. — Может быть, завтра утром. Может быть, завтра ночью. Я постараюсь тебе помочь.
— Ты уверен, что выиграешь?
— Уверен.
— Сколько ты дал мне?
— Не знаю. Сам сосчитаешь.
— Я оставлю их для тебя.
— Нет, — сказал Дейд. — Возьмешь их себе. Ты такой же участник игры, как и всякий. — Он встал. — Я соскучился по мальчику. Выйду, пожалуй, и побуду с ним до отлета. — Ивен тоже поднялся. — То, о чем вы говорили с ней… — сказал Дейд. — Поговорите об этом еще раз. Ее ответ мог ничего и не значить. Просто слетело с языка. Бывает же непроизвольное движение губ. Поговорите об этом еще раз. Тогда я и помочь тебе смогу.
Они вышли на лестницу, и Дейд увидел одиноко стоящего Рэда.
— Вон он стоит, — сказал Дейд. — И непохоже, чтоб плакал. А ведь ты, наверно, думал, что он сейчас плачет, не так ли?
— Да, думал.
— Почему?
— Он как Петрус Назаренус, а я видел Петруса плачущим.
— Когда? — сказал Дейд. — Когда это ты видел моего отца плачущим?
— В последний твой отъезд, — сказал Ивен. — Он плакал несколько раз. Он был уверен, что больше уже не увидит тебя. И Рэд сейчас думал о том же — что, может быть, никогда больше не увидит меня.
— Мне следовало вернуться, — сказал Дейд. — Я знал, что он старик уже. Но думал, что он сможет подождать еще чуточку.
Когда они подошли к Рэду, мальчик не обернулся.
— Рэд? — сказал Ивен.
— Да, папа, — сказал мальчик, но и тут не обернулся. Дейд Назаренус посмотрел на брата. Его твердые глаза были сейчас тверже, чем когда-либо, но и полны боли. — Будь добрым, — сказал он на родном языке. — Будь добрым к нему. — Стоя позади мальчика, он опустил руки ему на лоб. Его пальцы прошлись по глазам, носу, губам Рэда и насухо вытерли влагу.
— Это правильно, — сказал мальчик на их языке, все еще не оборачиваясь. — Что значит это слово, Дейд? — спросил он по-английски. — Ты повторил его столько раз.
— Оно значит: это правильно. Это — правильно. Скажи еще раз.
Мальчик еще раз произнес эти слова на их языке.
— Молодец, — сказал Дейд. — Теперь ты это усвоил. Ты сказал это отлично. Твой отец научит тебя еще многому другому.
Мальчик повернулся к отцу.
— Научишь, папа?
— Да, Рэд, — сказал Ивен. — Да, научу.
— Я хочу говорить так же, как ты и Дейд.
— Твой отец тебя научит, — сказал Дейд.
— На это требуется время, — сказал Рэд отцу.
— Ну конечно, — сказал Ивен.
— Научишь?
— Да.
Они двинулись дальше, Рэд между ними. Дейд неожиданно подхватил мальчика на руки и, смеясь, обнял его. Мальчик тоже рассмеялся. Дейд сказал те самые слова, за ним их сказал Рэд, и тогда наконец Ивен Назаренус сказал их тоже.
— Это правильно, — сказали они все трое на своем языке.
На обратном пути в Кловис мальчик сказал:
— Запах камня в доме — от Дейда. Я не знал этого точно до тех пор, пока вы с Дейдом не подошли ко мне, когда я стоял там один. Пока мы были в здании, я думал, что это, наверно, от мраморного пола, а не от Дейда, но запах остался и тогда, когда мы вышли наружу. От Дейда пахнет камнем. От Евы — сеном и медом и еще чем-то другим, только чем, я не знаю. От Флоры Уолз пахнет холодной водой и зелеными листьями.
— Тебе нравится Флора? — сказал Ивен.
— Если хочешь знать, она мне нравится по-настоящему, — сказал Рэд. — Фэй и Фанни мне тоже нравятся, но по-настоящему — только Флора.
— Почему?
Ивен хотел это знать. Он хотел знать, почему его сыну понравилась Флора. Почему понравилась Суон ему самому, Ивену? Почему он решил, почему поверил, что из всех женщин на свете Суон — та единственная, которая для него и с которой ему иметь сыновей и дочек, та единственная, с которой он просто и с удовольствием покорится бессмыслице жизни? Почему он все еще любит Суон?
— Я люблю ее, — сказал Рэд, — потому что мне хорошо с ней.
— Что же она такого делает, от чего тебе хорошо с ней? — сказал Ивен. — И как?
Что делала такого Суон, от чего ему было хорошо а ней? Как она превращала для него в веселье и радость эту жизнь со всей ее горечью и нелепостью? Как она заставляла его радоваться тому, что и он живет на свете, что ему это выпало? Как? Как она это делала?
— Послушай, папа, — сказал Рэд, — она любит меня и все, от этого мне и хорошо с ней. Понимаешь, мне очень хорошо от того, что такая девочка, как Флора, любит меня. Я никогда раньше не встречал такую девочку, как Флора.
— Она особенная?
— Да. Она не такая, как все девочки, которых я встречал. Она совсем другая.
— Чем же она другая?
— Ну… во-первых, она хорошенькая, разве нет?
— Да, конечно.
— А ведь сколько девочек совсем не хорошеньких, — сказал Рэд. — И еще — когда она разговаривает, мне хочется смеяться. Меня смешат и ее губы, и ее голос. И вдобавок она говорит вещи, совсем не похожие на то, что говорят другие девочки.
— Ну и что она говорит?
— О, она говорит особенные вещи. Я забыл что, но она говорит их так, будто понимает. А самое главное — она особенная, потому что я нравлюсь ей.
— Ты уверен?
— Ну-у… я не уверен, — сказал Рэд, — но думаю, что нравлюсь.
Был ли сам он уверен, что Суон хоть когда-нибудь его любила? Не было ли это всего лишь предположением? А что если было так: ему показалось, что она его любит, оттого что сам он ее полюбил, и ни у кого из них никогда не было уверенности в другом, каждый строил догадки, предполагал и рассчитывал на вероятность того, что предположение его — не пустое. Он поверил в то, что она его любит. Не оттого ли, что им разговаривалось друг с другом весело и, приглядываясь друг к другу, они подмечали одинаковость чувств и желаний? Но не могли ли одинаковые желания и чувства проснуться в каждом из них по отношению к кому-то другому? Могли, конечно. Так что же то было — то, из чего рождалось и росло убеждение, что они любят друг друга? Не их ли вера, что сложившееся между ними должно иметь продолжение, длиться всегда, с появлением на свет сыновей, дочерей, как уже появились Рэд и Ева? Не из этой ли веры создалась их любовь, создалось нечто — ясное и осмысленное?
— Ты бы чувствовал себя несчастным, если б не нравился Флоре? — сказал мужчина. — Или если бы нравился ей не больше, чем другой какой-нибудь мальчик?
— Какой другой мальчик? — сказал Рэд.
Ивен рассмеялся, ну, просто разразился смехом, потому что вопрос был точно такой, какой в подобных обстоятельствах он задал бы сам, в свои сорок четыре.
— Не знаю, — сказал он. — Любой мальчик. Любой другой мальчик. Если бы ты нравился ей не больше, чем любой другой знакомый мальчик, ты бы почувствовал себя несчастным?
— Мне б этого не хотелось, — сказал Рэд. — А разве ей нравится другой мальчик? Ты что-нибудь знаешь, папа?
— Нет. Мне просто интересно, сделаешься ли ты от этого несчастным? Вот и все.
— Конечно, сделаюсь. Я ее люблю, а если я люблю ее, значит хочу, чтоб и она меня любила. Если она моя любимая, я не хочу, чтоб у нее был другой любимый.
— Ну а если она тебя любит, — сказал Ивен, — но при этом ей нравятся и другие мальчики?
— Как же так может быть?
— Не знаю, но допустим, что так случилось. Допустим, что это так.
— Я б не хотел такую любимую.
— Может, и не хотел бы, но предположим, она по-прежнему остается твоей любимой, хоть ты и знаешь, что ей нравятся другие мальчики. Сделаешься ли ты от этого несчастным?
— Страшно несчастным, — сказал Рэд. — Я хочу, чтоб моя любимая любила меня так же, как я ее.
— Почему, Рэд?
— Не знаю. Просто хочу и все. Я собираюсь сказать ей — до того как мы уедем в Пало-Альто, — что я люблю ее, и собираюсь спросить, сама она любит меня или нет. Если да, то когда мы в следующий раз приедем к Дейду, я пойду к ней домой один, чтоб увидеть ее, потому что она моя любимая.
— Один?
— Да, — сказал Рэд и погодя добавил: — Она сказала, что ее папа ненавидит ее маму. Она сказала, что ее мама ненавидит ее папу. Почему они ненавидят друг друга? Они — отец и мать Флоры. Как они могут ненавидеть друг друга?
— Ну, — сказал мужчина, — она, наверно, ошиблась. Может, бывает, что они спорят, дерутся между собой — как муж и жена, отец и мать, мужчина и женщина и даже мальчик и девочка, — и когда это происходит, они, вполне возможно, и ненавидят что-то друг в друге, но это вовсе не значит, что они перестают друг друга любить. Это не значит, что они не любят друг друга гораздо больше, чем ненавидят.
— Мне не нравится ненависть, — сказал Рэд.
— Почему?
— Не нравится. Что-то в ней не то, нехорошее. Почему люди ненавидят?
— Не знаю, — сказал мужчина. — Не знаю, почему они ненавидят? Почему бы, а?
— По-моему, это от страха, — сказал мальчик. — Чего-то они боятся, но чего — не знаю. Я боялся Мильтона Швейцера, но почему — не знаю.
— Люди пугают нас, — сказал мужчина. — Некоторые из них в самом деле пугают нас.
Когда машина подъехала и остановилась на том же месте, где стояла раньше, он взглянул на часы. Они отсутствовали два часа. Сейчас было около половины двенадцатого. Все выглядело по-прежнему, только Флора лежала на коленях у матери, наверно, спала. Рэд прямиком направился к девочке, посмотрел на нее. Она открыла глаза, приподнялась, села.
Ивен Назаренус пожелал всем доброго вечера, быстренько разлил по стаканам виски, и сам со своим стаканом направился в дом. Еву он нашел в кровати, спящей. Он сел рядом с ней на кровать и выпил, потому что ему страшно нужно было выпить.
— Я не хотел, чтоб ты плакала из-за меня, — сказал он спящей девочке.
Обернувшись, он увидел в дверях Суон.
— Они уходят, — сказала Суон.
— Я сейчас.
Он вышел и увидел, что Рэд и Флора стоят рядышком и разговаривают.
— Нет, — сказал он Уоррену Уолзу, Мэй, Коди Боуну и Барту. — Еще рано. Не уходите. Пожалуйста, не уходите.
— Дети устали, — сказал Уолз, сейчас уже трезвый.
— Мы чудесно провели время, — сказала Мэй. — Спасибо, что пригласили нас. Мы с Суон так славно побеседовали. Пожалуйста, загляните к нам как-нибудь вечерком до отъезда, только я, право, благодарила бы бога, если б вы никогда уже не уезжали отсюда. Перебирайтесь в Кловис и живите на винограднике.
— Верно, — сказал Коди Боун. — Перебирайтесь сюда, так чтобы я мог приглядывать за Рэдом. Это совсем не худшее местечко в мире. Где вы еще найдете такой вечер? Посмотрите на звезды. Такого неба вам всюду не увидать.
Они разместились в машинах и уехали. Стало тихо, пустынно, мертво.
Рэд сидел на ступеньках, уткнувшись в ладонь подбородком. Суон принесла поднос и собирала посуду.
— Они славно провели время, — сказала Суон, ни к кому в частности не обращаясь. — Очень она милая. И ум в ней есть, и чуткость, и манеры.
— О ком ты? — сказал Рэд.
— О Мэй Уолз, — сказала Суон.
Ивен Назаренус подошел к столу, поставил на поднос еще два-три стакана, поднял его и понес в дом.
Женщина перемывала посуду на кухне.
— Когда ты управишься, — сказал мужчина, — я хотел бы поговорить с тобой.
Ивен произнес это совсем тихо — стоя в глубине гостиной у пианино, — но он знал, что Суон услышит его.
Суон появилась из кухни.
— Вода очень шумит, — сказала она.
— Когда ты управишься, я хотел бы поговорить с тобой.
— Я боюсь с тобой разговаривать, — сказала она. — Я не знаю, какие у тебя мысли. Не знаю, чего от тебя ждать.
— Я тоже боюсь с тобой разговаривать, — сказал он, — и все-таки, я думаю, нам лучше поговорить.
— Хорошо.
Она ушла обратно на кухню.
Он сел к пианино. Посидел так минуту, потом тронул клавишу и услышал высокий ее звук. Потом тронул ее снова, и снова тот же звук. Он опустил голову на руки и, закрыв глаза, мгновенно провалился в сновидение без сна.
Очнулся вдруг, почувствовал, что Суон рядом — стоит и ждет. Встал, двинулся к холлу — подальше от ее глаз — и оттуда сказал:
— Если в твоей душе есть хоть крупица милосердия к себе самой, знай, что в моей есть милосердие к нам обоим. Пойми это и, пожалуйста, дай мне помочь моему сыну и моей дочери, дай мне помочь тебе, кто бы ты ни была — моя жена, мать моих детей или совершенно чужая женщина, — кем бы ты ни предпочла быть. Пойми это и дай мне спасти нас от краха, кем бы мы ни были друг для друга. Пойми, что в душе моей только милосердие и ничего другого к каждому из нас. Пойми, я не представлял, что мы настолько чужие, что до такой степени не знаем друг друга.
Он вернулся из холла и в первый раз за весь этот день посмотрел на нее.
— Что ты хочешь делать, Суон?
— Не знаю, Ивен.
— Днем, — сказал он, — услышав эти слова, я обрушился на тебя, но и только, потому что я не знаю тебя. Я не могу любить или ненавидеть человека, которого не знаю. Если тебе есть что сказать, скажи это, как чужой чужому.
— Я не знаю, Ивен, ничего не знаю, — сказала она. — Иногда я думаю, что мне следует обратиться за помощью к врачу, как бы жестоко это ни было. Иногда же мне кажется, что не следует. Не знаю.
— Я хочу помочь тебе.
— Не знаю, — сказала она. — Не могу решить. Он не наш. Он не твой и мой. Но так ли это? Так ли несомненно, что он не наш?
— Ничто теперь не наше, Суон.
— Я жила просто, — сказала она. — Я жила бездумно, даже глупо. Я жила телом. Я не могу думать. Я не знаю, Ивен. Когда ты ушел с Рэдом и Ева захотела поехать с вами, я была уверена, что ты возьмешь и ее и уже не вернешься. Я решила, что именно так ты и сделаешь, и почувствовала облегчение. Я решила, что останусь одна и умру одна, без ничего, без никого, кроме себя самой, и почувствовала облегчение. Я была рада, Ивен. Но Еве ты отказал, и она плакала так, как никогда раньше, и это меня испугало. Я боюсь любви. Я боюсь любви больше, чем ненависти. Я боюсь милосердия больше, чем презрения.
— Что ты хочешь делать, Суон?
— Я женщина. Я не знаю. Любящий спасет меня — как угодно, пусть хоть обманом. Ненавидящий — погубит. Я не знаю, что делать, Ивен. А что хочешь делать ты?
— Спать, — сказал он.
Он ушел в свою комнату и сел на постель. Женщина последовала за ним.
— Возненавидь меня или люби, — сказала она.
Он повернулся к ней пораженный.
— Ты с ума сошла, — сказал он.
— Ты устал, Ивен? — сказала она.
— Суон, — сказал он. — Я не хочу обижать тебя. Я не хочу кричать. Не хочу причинять тебе боль. Ты в беде. Все мы сейчас в беде.
— Неужели ты так устал?
— Ты не можешь быть жестокой к Рэду и Еве, — сказал он. — И меня ты не толкнешь на такую жестокость. Их это не должно задеть, не должно, ты слышишь?
Она припала к нему со стоном, с рыданием.
— Помоги мне, — прошептала она.
— Я и стараюсь помочь тебе.
Он поднял ее и уложил на постель. Она схватила его за руку.
— Перестань, — сказал он.
Он повернулся и быстро вышел в гостиную — подальше от нее.
— Не оставляй меня, — сказала она. — Пожалуйста, не оставляй меня, Ивен.
— Я не оставлю тебя.
— Никогда не оставляй меня. Ни на минуту. Никогда больше не оставляй меня одну, Ивен.
— Ты бы уснула.
— Ты не оставишь меня?
— Нет.
Пение птиц разбудило девочку.
Ева Назаренус, пели они. Так называл ее отец. Отец не взял ее с собой, он взял Рэда, и она заплакала. Она была сердита на своего отца. Если он мог взять Рэда, то почему не взял ее? Ей так хотелось поехать, и она была уверена, что он возьмет ее, а он не взял. Он уехал с Рэдом, без нее. Он оставил ее стоять на дороге, одну и в слезах. Она была очень сердита на отца. Нехорошо он поступил с ней, совсем нехорошо. Она считала, что всегда может положиться на него, что он всегда будет хорошим. Он был единственный, на кого она всегда могла положиться. Ее мать умела быть и бывала хорошей, но только тогда, когда ей самой захочется, а не тогда, когда хочется Еве. Иногда матери захочется быть хорошей, а для Евы это все равно не хорошо. Но чуть погодя хорошо становилось и Еве. Просто ей нужно было немного времени, чтоб привыкнуть, что ее мать бывает хорошей, когда сама того хочет, не заботясь о том, чего хочет Ева. Ее мать была ужасно хорошая. Но она умела быть и плохой. Иногда ее голос делался таким жестким, что Ева пугалась. Иногда глаза у ней делались такими сердитыми, что Еве не хотелось смотреть на нее. Но через минуту мать снова становилась хорошей. Она была самой хорошей на свете, лучше, чем мать Фанни и Флоры, и это было так чудесно, что из всех матерей на свете Еве Назаренус досталась самая лучшая, и это было такое счастье, что, будучи самой лучшей, она была к тому же ее собственной матерью, не чьей-нибудь, а именно ее матерью. Ева чувствовала жалость ко всем тем, у кого не было своей матери. До чего это должно быть тоскливо, когда нет у тебя своей матери! У Евы был также свой собственный отец. Некоторые девочки, имеющие своих собственных матерей, не имеют собственных отцов. У нее были оба. У нее был и свой собственный брат. И теперь здесь, в доме Дейда, в целой спальне — только для нее, у Евы были еще и свои собственные птички. Они знали ее имя и только что его пропели.
Она послушала птиц, потом спустилась с постели и подошла к окну посмотреть, какая это птичка называет ее имя яснее всех остальных. За окном, на кусте сирени, она увидела не одну птичку, а пять. Они резвились, радуясь утру, перепархивали с ветки на ветку, гонялись друг за дружкой и распевали, улетали и снова прилетали обратно.
Но скоро они наскучили девочке, и ей опять стало грустно, очень грустно. Почему отец не взял ее с собой? Почему он оказался недобрым к ней именно тогда, когда она нисколечко не сомневалась, что он будет добрым, хорошим, когда ей особенно сильно хотелось, чтоб он был хорошим? Почему он оттолкнул ее, оставил, покинул совсем одну, обиженную и плачущую?
Она подумала: интересно, проснулся ли Рэд? Было ужасно рано. Она это знала точно. Она всегда просыпалась первая. И все-таки, может быть, Рэд уже проснулся?
Она отправилась в комнату Рэда и увидела, что он лежит с открытыми глазами.
— А ну иди обратно в постель, — сказал он.
— Давай оденемся, выйдем и нарвем инжиров.
— Еще очень рано. Иди спать.
— Уже светло, — сказала Ева. — Давай постоим около насоса и поболтаем.
— Нет, — сказал Рэд. — Дай маме поспать. Дай папе поспать. Мы разбудим их.
— Почему?
— Потому что будем одеваться, разговаривать, ходить по дому и вокруг. Иди обратно в постель.
— Давай выйдем на лужайку и постоим на голове.
— Нет. Еще очень рано. Пусть они поспят. И ты иди спать. А когда снова проснешься, приходи, и мы вместе оденемся.
— И выйдем поесть инжиров или постоять на голове?
— Поесть инжиров. Еще очень рано, чтоб стоять на голове.
— Да, — сказала Ева. — Еще очень рано.
— Ну, идешь ты обратно или нет?
— Почему папа тебя взял с собой, а меня не взял?
— Ты девочка, — сказал Рэд.
— Я мальчик, — сказала Ева.
— Ты девочка, — сказал Рэд.
— Я девочка, — сказала Ева, — но я и мальчик. Я лучше, чем мальчик. Я лучше всех.
— Не лучше меня, — сказал Рэд.
— Лучше, — сказала Ева.
— Не говори так, — сказал Рэд.
— Я лучше, — сказала Ева.
— Ну ладно, иди обратно и еще немножко поспи, — сказал Рэд. — Когда проснешься, приходи, мы вместе оденемся. Но только смотри, шума не поднимай. Дай им поспать.
Она ушла. Рэд вспомнил слова, которым он выучился вчера: это — правильно. Он обрадовался, что вспомнил их, что сумел их произнести и что отец научит его всему языку вообще. Потребуется куча времени, чтоб усвоить весь язык и говорить на нем так, как говорили Дейд и отец. Он вспомнил отдельные звуки и как их произносили Ивен и Дейд, разговаривая друг с другом. Рэду понравились эти звуки и хотелось бы знать, что они означают. Хотелось бы, чтоб его отцу было сейчас хорошо. Хотелось бы, чтоб его матери было сейчас хорошо.
Сестра снова заглянула к нему в приоткрытую дверь.
— Ева, — сказал он. — Иди ты спать.
— Я пошла, — сказала Ева. — Я пошла обратно, забралась в постель и поспала. Теперь уже не рано. Уже поздно.
— Ты вовсе не поспала.
— Поспала.
— Неправда.
— Правда. Я поспала.
— Ты же выдумываешь, Ева.
— Совсем и не выдумываю. Давай одеваться.
— Нет, — сказал Рэд. — Пускай они поспят. Иди к себе и полежи. Скоро мы встанем и оденемся.
— Я не могу пойти к себе.
— Почему?
— Там кто-то есть.
— Никого там нет.
— Есть, говорю тебе.
— Нет, Ева. Опять ты выдумываешь.
— Кто-то мертвый, — сказала Ева.
— Кто? — сказал Рэд, потому что поди разберись, когда она выдумывает, а когда нет. Все, что она сказала, звучало как правда.
— Не знаю кто, но мертвый.
— Ты не выдумываешь, Ева? Только честно.
— Нет, это правда.
Рэд посмотрел на нее, силясь угадать, правду она говорит или выдумывает.
— Мне страшно, — сказала она.
Рэду тоже стало страшно. Он соскочил с постели. Он направился по коридору к комнате сестры, и Ева за ним, и оба они шли медленно, как из-под палки, словно их подстерегала большая опасность. Рэд был здорово испуган. И Ева теперь уже и сама не сказала бы со всей уверенностью, что там, в ее комнате, нет мертвого человека. Дойдя до двери, Рэд ринулся в нее напролом, почти ослепший от безумного страха. Когда же в глазах у него опять прояснилось, он убедился, что в комнате никого нет.
— Исчез, — сказала Ева.
— А где он был?
— Вот тут, — сказала Ева. Она ткнула пальцем в самую середку пустой фруктовой вазы.
— Вечно ты выдумываешь, — сказал Рэд. — Ну ладно, одевайся.
— Тебе придется помочь мне с туфлями.
— Хорошо.
Он ушел обратно в свою комнату и справился с одеждой за каких-нибудь две минуты. Вернувшись к Еве, он нашел ее почти одетой. Он помог ей застегнуть туфли, и они выбрались в гостиную, а оттуда, очень тихо, через входную дверь — из дому. Они обогнули дом и вышли на задний двор, к инжирному дереву. Рэд сорвал с нижней ветки спелую ягоду и дал Еве, она очистила ее и съела. Потом он взобрался на дерево, и там инжиров было множество, он срывал их и один бросал сестре, а другой съедал сам.
С полчасика они поболтали про выдумки и про мертвецов, а потом, когда наелись инжиров, Рэд спустился с дерева и повел Еву к тому месту, где нашел вчера Флору Уолз. И здесь они провели с полчасика. Но когда вернулись к дому, родители их все еще спали. Дом все еще молчал.
— Давай разбудим их, — сказала Ева.
— Не надо, — сказал Рэд. — Пускай поспят.
— Уже поздно, Рэд. Ужасно поздно.
— Не поздно. Пускай поспят.
Они постояли у насоса и опять завели разговор, но голоса их могли разбудить спящих, и поэтому Рэд повел Еву посмотреть на гранатовые и оливковые деревья.
— Мы совсем одни в целом мире, — сказала Ева. — Только ты и я, Рэд.
— Нет, мы не одни.
— Одни, — сказала Ева. — Ни отца, ни матери. Только брат и сестра, совсем одни в целом мире. Ты убьешь их, если они придут схватить меня?
— Кого их?
— Тех, кто приходит за нами.
— А кто они?
— Не знаю. Ты их убьешь?
— Да, — сказал Рэд.
Девочка задумалась о тех, кто приходит за ними, и о том, как брат ее их убьет, одного за другим, а затем ее глаза обратились к гранатовым деревьям.
— Дай мне гранат, — сказала она.
— Они еще не спелые, — сказал Рэд.
— Все равно, дай мне.
Рэд прыгнул, чтоб поймать нижнюю ветку, но поймал только листик. Листик оторвался от ветки, а сама она распрямилась и задрожала, и гранаты заплясали на ней, но вниз не упали. Рэд прыгнул снова, поймал веточку, одной рукой пригнул ее как можно ниже, другой потянулся за гранатом. Он сорвал самый большой, отпустил ветку и протянул гранат Еве. Она внимательно рассмотрела его со всех сторон и сказала:
— Я сохраню это навсегда.
— Зачем?
— Чтоб вспоминать тебя, когда ты умрешь.
— А ты мне что дашь, чтоб и я вспоминал тебя, когда ты умрешь? — сказал Рэд.
— Я дам тебе что-нибудь, — сказала Ева. — Ты мой маленький брат.
— Я твой большой брат.
— Ты мой большой брат. Я дам тебе что-нибудь.
— Когда?
— Когда достану, — сказала Ева.
Они побрели назад к дому, все еще разговаривая о памяти, о любви и смерти и надеясь, что отец и мать уже проснулись, потому что и Рэд, и Ева уже стосковались по ним и хотели снова увидеть, услышать их и ощутить их запах, и даже, может быть, немножко помочь им в том, что касается памяти, любви и смерти.
Он спал, так что она могла говорить ему что-то, говоря это и себе, — говорить сквозь сон, она и сама еще не совсем проснулась, и тело ее было охвачено дремой, оно было оцепенелое и бесчувственное, и голос ее был медленный, сонный шепот, и сон то отпускал ее, то снова сковывал.
— Ивен? — говорила она. — Я не знаю, что случилось, но и знаю тоже. Я знаю, что случилось. Я не хотела этого и хотела. По моей вине это случилось. По моему желанию, а не само собой. Я сделала это, потому что хотела, Ивен. И не раздумывала, с кем я, потому что мне было все равно, потому что я не люблю раздумывать, все раздумывают слишком много, а я не раздумываю совсем.
Ивен все еще спал, лежа спиной к ней. Дети были то ли во дворе, то ли в винограднике: она слышала их шаги и голоса.
Она привстала, оперлась на локоть, придвинулась ближе к кровати рядом, к мужу.
— Ивен? — сказала она.
Мужчина пошевелился.
— Ты не спишь, Ивен?
Он наконец повернул к ней лицо, непонимающее, сонное.
— Я одинока, Ивен, — сказала она. — Я очень одинока.
Она следила за его глазами, едва открывшимися и закрывшимися снова.
— Я умираю, Ивен.
Мужчина открыл глаза, в одно мгновение все вспомнил и подскочил, словно пораженный безумием.
— Я одинока, — сказала женщина. — Больна и одинока. Сжалься над больным животным, Ивен. Я выброшена куда-то. И не могу так жить. Не могу дышать. Сжалься над умирающим животным, Ивен.
Она бросилась к нему на постель, ее руки обхватили и сжали его. Она прильнула к нему всем телом в отчаянном порыве — вернуть его себе, вернуть ему себя. Ее боль обожгла его. Ее животное великолепие в стремлении во что бы то ни стало добиться любви и продолжения жизни привело его в изумление, и ее тело, теплое ото сна, белое и мягкое, даже и сейчас, после всего, заразило тело Ивена желанием, словно дух был вовсе не властен над ним.
— Мне жаль, — сказал он. — Мне жаль, что ты так испугана. Мне жаль, что ты чувствуешь себя больной и одинокой. Я жалею тебя, да, я люблю тебя, да, но я не могу быть мягким и добреньким. Тебе придется встать и уйти. Уйти к своей жизни.
— Нет, Ивен, нет. Как ты можешь такое просить?
— А я не прошу.
— Я мать Рэда. Он любит меня. Я мать Евы. Она нуждается во мне.
— Я требую.
— Нет. Это убьет их. Это не принесет добра никому из нас. Это убьет меня. Это может убить и тебя, Ивен.
— Ты должна уйти, — сказал он. — Мне безразлично, кого это убьет. Твое присутствие тоже убьет нас всех. А раз уж так, то лучше умереть благопристойно.
— Нет, — сказала она, стараясь не расплакаться. — Ты никогда не был недобрым. Зачем быть недобрым сейчас, когда твоя доброта всего нужнее? Пойми, это не сулит нам ничего хорошего.
— Я не могу жить в одном доме с тобой, — сказал он. — Есть вещи, на которые даже добрый человек не способен.
— Нет, — заплакала она. — Мы справимся с этим. Мы все начнем сначала. Я стану совсем другой. Я стану жить для тебя. Стану женщиной, какой ты не знал. Я и есть эта женщина. Я всегда была ею. Но только теперь поняла. И никогда больше у нас не будет так, как теперь, или так, как раньше, не будет всех тех неприятностей, которые я каждый день тебе доставляла. Я не для себя буду жить. Мне опротивело это. Я буду жить для тебя.
— Я не могу оставаться в одном доме с тобой, — сказал он. — Твоя близость внушает мне отвращение.
— Нет, — сказала она. — Мы сумеем хоть как-то помочь друг другу. Разве нет? В нас обоих есть доброе чувство друг к другу. Если мы родители Рэда и Евы, отец и мать, значит мы должны быть добры друг к другу.
— Будь доброй, — сказал он.
— Буду, — сказала она. — Буду, Ивен.
— Будь доброй и уходи.
Он оттолкнул ее от себя. Она упала на спину, перевернулась, зарылась лицом в подушку, снова и снова повторяя свое «нет».
— Ладно, — сказал он наконец. — Вставай. Надень свое лучшее платье. Приготовь завтрак. Мы сядем и позавтракаем все вместе. — Она подавила рыдание, чтоб слушать его. Она подняла голову, чтоб посмотреть на него. — После завтрака мы вместе пойдем в Кловис. Мы вместе возьмем наших детей в церковь. Будь их матерью, а я буду отцом. Ладно. Вставай и будь их матерью.
Она встала и ушла в ванную, оставив дверь открытой, чтоб он мог ее слышать.
— Да, — сказала она. — Я буду им матерью. Теперь я буду им настоящей матерью. Мы забудем все. Сколько у нас времени?
— Времени достаточно.
— Я мигом оденусь, — сказала она. — Мигом приготовлю завтрак. Мы выкупаем их и возьмем в церковь. Мы будем их родителями, Ивен.
Он пошел в комнату Дейда и побрился. Потом он принял душ и надел свой лучший костюм. Суон была на кухне. Она надела платье, которое он купил ей год назад у Рэнсхоффа, а поверх платья повязала фартук, который кто-то подарил ей на рождество. Она готовила завтрак — кофе, гренки, бараньи отбивные. Он вышел во двор и увидел Рэда и Еву, возвращающихся с виноградника. Они обрадованно закричали и бросились к отцу. Суон оставила все и поспешила во двор, чтоб встретить их вместе с Ивеном. Они подхватили детей на руки и сказали им, что все вместе пойдут сегодня в церковь.
Они сели завтракать. Глаза детей наполнились радостью — от всей застольной церемонии, оттого что их отец и мать были здесь, рядом, и держались так сердечно и просто и с ними, и друг с другом. Глаза детей наполнились и удивлением — оттого что они разговаривали так весело и легко. И даже в глазах у мужчины и женщины появилось удивление и почти что слезы, оттого что они знали, оба знали, до чего это ненадежно — заставить себя и разыграть на мгновение мир и согласие, лишь бы видели дети, тогда как согласие это притворное. Оба они сознавали, до чего это ненадежно — стараться поддержать приличия в несчастье. И все же они старались изо всех сил и даже с радостью, и ни один из них в разговоре не произнес ни словечка, которым задел бы другого. Они старались. Ради своих детей, ради себя самих — они старались.
Достигнутая гармония была настоящей, несмотря на причину, заставившую достичь ее. Они действительно были единой семьей. Они действительно любили друг друга. Для них была надежда. Ничто не могло затронуть или расстроить их единство. Больно и удивительно было сознавать это, но это было действительно так. Каждый из них по-прежнему оставался самим собой, таким, каким и прежде был, но главное — они были вместе, в согласованности друг с другом, а все остальное не имело значения. Это было почти невероятно, чтобы из-за несчастья, ее подрывающего, семья могла еще больше сплотиться в семью, чтоб из позора и муки она могла бы выйти еще более гордо и неодолимо — семьей.
После завтрака Суон занялась девочкой — нужно было выкупать ее и одеть, а Ивен приготовил воду для мальчика в ванной комнате Дейда. Пока мальчик мылся, Ивен Назаренус привел в порядок деньги, которые дал ему Дейд. Среди них были купюры по пятьдесят и сто долларов, шесть-семь бумажек по десять долларов и множество по двадцать. Считать он денег не стал, а сложил их аккуратно в стопки, открыл бюро Дейда, выдвинул ящик и увидел в нем три пистолета. Он положил самый большой пистолет на стопки и задвинул ящик. Потом достал свой бумажник и пересчитал что в нем было: две бумажки по двадцать долларов, две по десять, две по пять и еще три доллара.
Мальчик выкупался и надел свой лучший костюм — из серой фланели. Когда они с отцом появились в гостиной, Суон с девочкой уже ждали их там. На девочке было желтое платьице с вышитыми голубыми цветочками. Видно было, что она порядком взволнована — и из-за платья, и из-за ожидавшего ее приключения, которое называлось «пойти в церковь».
На них на всех была новая и чистая одежда, и в том, как они вышли из дому и двинулись по дороге, была воскресная чинность. Но девочка вскоре устала, и мужчина взял ее на руки. Мальчик шел чуть впереди, разглядывая траву. Женщина шла и разговаривала, как молоденькая, и мужчина не позволил бы сейчас ни единой мысли, ни единому воспоминанию проскользнуть между ним и ритуалом, состоявшим в том, что они — все вместе. Он и с женой, и с детьми разговаривал с радостью в голосе.
Они пришли в Кловис как раз вовремя, чтоб успеть поглядеть сначала на все три церкви, подумать и обсудить, какая им больше подходит. Они остановили свой выбор на пресвитерианской, потому что хоть эта церковь и не была такой большой и красивой, как католическая, и не выглядела так трогательно одиноко, как методистская, но зато у нее были огромные окна с цветными стеклами, на которые Рэду и Еве захотелось посмотреть изнутри, и вообще всем им показалось, что с виду она как раз такая, какой должна быть церковь, — вся из дерева, белая, с чудной колокольней. И когда они уже входили, колокол зазвонил.
Они вошли и, пройдя через центральный придел, сели на скамейку в первом ряду справа, потому что Рэду и Еве хотелось сидеть поближе. Народу в церкви было на треть. Какая-то женщина играла на органе. Окон было четыре, и каждое из них — красивая картина, одна — голубая, другая — красная, третья — зеленая и четвертая — желтая. Свет, наполнявший церковь, сочетал в себе все цвета. Тут было ослепительно и в то же время спокойно.
Приключение началось с человека, появившегося из-за двери и остановившегося перед кафедрой, на которой лежала книга. Человек этот сказал несколько слов, потом все встали с мест, раскрыли книги и запели. Рэд с удивлением оглянулся вокруг. Пели все. Он услышал, как поет его отец, потом запел и сам, без слов, потому что в словах он пока не разобрался. Мать Евы пела тоже, и Ева запела вместе с ней. Она исподтишка кинула взгляд на Рэда, прыснула и прикрыла рукой рот. Глаза Рэда посмотрели на нее сердито, и она тотчас же приняла серьезный вид. Но только на минуту. Потом она снова прыснула и снова прикрыла рукой рот. Ее мать тоже чуть было не рассмеялась и тоже прижала руку ко рту. Глаза Рэда посмотрели сердито на них обеих.
Когда пение кончилось, они сели, и священник сказал еще несколько слов. Люди вокруг раскрыли на этот раз другие книги, священник снова сказал что-то, и тогда люди заговорили все вместе и что-то ему ответили. Священник выглядел очень величественно, и то, что он сказал, и то, что все вместе ответили ему люди, прозвучало тоже величественно.
Какой-то мужчина затянул соло. Восемь женщин и восемь мужчин, стоявших позади него, пропели вместе с ним часть песни.
Потом священник молился и много чего говорил.
А потом четверо мужчин в белых перчатках прошли туда, где стояли стопкой четыре деревянные тарелки, взяли их и протянули людям. Ивен Назаренус принял тарелку, положил на нее полдоллара и передал Рэду, стоявшему рядом. Рэд положил четверть доллара и передал тарелку Еве, Ева положила еще четверть доллара я передала ее Суон, и Суон положила свои полдоллара и держала тарелку до тех пор, пока мужчина в белых перчатках подошел забрать ее. А Рэд повернулся и смотрел, что вокруг делается.
Священник поднялся и заговорил снова. Он говорил долго, но все равно здесь было очень хорошо, потому что цветные окна оставались на месте, и Рэд мог все время смотреть на них и на людей тоже. Ева заснула. Суон уложила ее головой к себе на колени.
Немного погодя все кончилось. Они поднялись с мест и, стоя, смотрели, как народ покидает церковь. Наконец они вышли и сами и зашагали по направлению к дому.
Возвращение из церкви домой тоже прошло весело, если не считать жары, которая все усиливалась. Стало так жарко, что Рэд попросил разрешения снять с себя куртку, носки и ботинки, а Еву почти всю дорогу пришлось нести на руках. Дома дети получили холодной каши и молока и, поев, оба ушли вздремнуть.
Когда они уже заснули, мужчина сказал женщине:
— Спасибо за то, что ты сделала сегодня.
— Я могу делать это каждый день, — сказала женщина.
— Мне нужно позвонить приятелю в Сан-Франциско насчет сына Коди Боуна, а потом я бы полежал тут на диване и тоже подремал бы.
— Я сама охотно посплю, — сказала женщина.
Он подошел к телефону, позвонил своему приятелю, поговорил с ним, а потом позвонил Барту и доложил ему, как и что. Денек надо подождать, завтра все выяснится, и тогда Гарольд Трейбинг позвонит Ивену, а Ивен сразу сообщит Барту.
— О господи, — сказал юноша. — Я весь истаю, дожидаясь вашего звонка.
— Я позвоню сразу же, как только поговорю с Трейбингом, — сказал Ивен.
— А вы не почувствовали по разговору, есть у меня шансы?
— Есть, — сказал Ивен. — Ты непременно отправишься в плавание, но постарайся забыть об этом до завтра.
— Ладно, — сказал юноша. — Я сию минуту заберусь в свою машину и проезжу на ней остаток дня и ночь. — Он замолчал. И вдруг: — Послушайте, а что если я пригоню машину к вам и оставлю на дороге? Возьмите своих на воскресную прогулку. Свезите их к реке, тут недалеко до Пиедры. Машина мне не нужна. Я пойду в Кловис и посижу в кино.
Повесив трубку, Ивен лег на диван и почти уже засыпал, как вдруг раздался телефонный звонок. Это был Дейд.
— Они только что сдались, — сказал он. — Игра окончена.
— Ты хочешь сказать, что до сих пор не спал?
— Сейчас пойду спать.
— А что будешь делать, когда проснешься?
— Засну снова.
— Когда окончательно выспишься, прилетай сюда, а?
— Хорошо.
— Мы вместе позавтракали, потом ходили в церковь. Через часок я собираюсь свезти их к Пиедре.
— Машину уже вернули?
— Еще нет. Но сын Коди одолжил мне свою. Когда ты прилетишь?
— Мне нужно отоспаться, — сказал Дейд. — Так что в лучшем случае завтра ночью, а может, послезавтра.
— Я положил деньги в верхний ящик бюро, — сказал Ивен.
— Они твои, — сказал Дейд. — И вообще это чепуха. Переложи их к себе в чемодан. Я позвоню тебе из аэропорта, когда буду во Фресно. — И перейдя на родной язык, он попросил брата: — Ну, говори же.
— Я стараюсь, — сказал Ивен на том же языке.
— Это правильно. — И снова по-английски: — Научи сегодня Рэда, как говорить: «Меня зовут Рэд Назаренус». Учи его чему-нибудь новому каждый день.
— Хорошо, — сказал Ивен.
Он пошел обратно к дивану, растянулся на нем и скоро уже спал глубоким сном, но не настолько глубоким, чтоб от всего отрешиться. Он умолял свой сон не терзать его больше, дать ему забвение, дать ему отдых, так чтобы потом у него хватило бы сил решить, что ему делать сегодня ночью и завтра днем и потом все следующие ночи и дни, что ему делать и как это делать, решить что и как — на весь остаток своей жизни.
Проснувшись, он вышел на крыльцо и увидел на дороге машину Барта. Он зашел к Суон, она еще спала. Потом он зашел к Рэду, разбудил его и сказал про поездку. Рэд соскочил с постели, и через минуту весь дом был поднят на ноги, и Суон уже готовила сандвичи, а дети торопили ее, потому что им не терпелось поскорее отправиться в путь.
— Я тоже еду, — сказала Ева. — Папа берет и меня.
Мужчина отвел Рэда в сторону и сказал:
— Мне хочется, чтоб ты сел сзади с мамой, потому что вчера вечером я обидел Еву, не взяв ее с собой. Мне хочется, чтоб она одна сидела со мной впереди. Я уверен, что ты поймешь.
А когда они были уже совсем готовы, мужчина сказал:
— Теперь давайте разберемся. Мама с Рэдом — сзади, папа с Евой — впереди.
Он посмотрел, что на лице у девочки. Она даже слова не смогла выговорить, до того была изумлена и обрадована. Она вскарабкалась на свое место, села, сложила руки на коленках и несколько раз оглянулась на мать и брата. Наконец она сказала:
— Я впереди с папой.
Они были одеты совсем легко. Они вдыхали чистый воздух, струившийся в окна машины. Мужчина ехал медленно, то и дело останавливаясь полюбоваться на какой-нибудь виноградник, на какой-нибудь тихий, покинутый дом или просто на дерево. Раз он даже вылез из машины сорвать несколько спелых персиков, и Рэд вышел вместе с ним. Персики были нагретые солнцем, но зато сочные и сладкие. Они поели по одному и еще три он захватил для Суон и детей. Доехав наконец до реки, Ивен повел машину вдоль прибрежной дороги, пока они не выбрали себе зеленый уголочек с тремя ивами. Они расстелили под ивами свое одеяло и сели.
— Вот было бы блаженство жить здесь! — сказала женщина.
— Сейчас лучшая пора года, — сказал мужчина. — Все созревает, и воздух полон ароматами созревания. Послушай-ка, что я хочу сделать. Я хочу воспользоваться этим прекрасным камнем вместо подушки, вытянуться на земле и вдыхать этот воздух. — Он пристроил у края одеяла гладкий валун, лег на землю и положил на него голову.
— Смотри на папу, — сказала девочка. — Он сделал подушку из камня.
— Я хочу в воду, — сказал Рэд.
— И я, — сказала Ева.
— Отлично, — сказал мужчина. — Разденьтесь и полезайте. Но камни в реке скользкие, так что осторожно, не упадите.
— Не нужно нам надевать купальных костюмов? — сказал Рэд. — Другие их надевают.
— Купайтесь в трусах, — сказал мужчина.
Дети скинули с себя одежду и вошли в реку, у берега она была совсем неглубокая — фута два глубины, а то и меньше, — и чистая вода быстро бежала по гальке, среди которой выступали большие гладкие валуны, даже такие большие, как валун под головою их отца. Ивен слышал, как часто и прерывисто им дышалось, оттого что вода была студеная, слышал, как они вскрикивали и смеялись, и видел, как Рэд поскользнулся на гальке и шлепнулся в воду, а потом встал и сказал: «Будь проклят этот камень!»
Порезвившись в реке минут пять-десять, они вышли и уселись на горячий песок как раз там, где кончалась тень от деревьев. Они зарылись ногами в песок, а руками стали сгребать его в кучки. Время от времени они посматривали на отца и мать, отдыхавших в тени деревьев. Женщина сидела возле мужчины, почти касаясь его, скрестив ноги, — так она сидела всегда, если не было стула.
— Ивен? — сказала она тихо.
— Мне не хочется говорить об этом, Суон. Мне даже думать об этом не хочется. Один хороший день может стать для них решающим. Это их день. Я хочу, чтоб он весь, целиком был их.
— Я тоже хочу, Ивен. Можно мне сказать одну-единственную вещь?
— Пусть весь этот день будет их, Суон.
— Я хочу только сказать…
— Не говори, Суон.
— Ты же не знаешь, о чем я.
— Все равно. Не говори. Не надо сейчас. Давай-ка просто подышим хорошим воздухом. Подышим этим воздухом вместе с нашими детками.
— Я люблю тебя. Это все, что мне хотелось сказать.
— Я знаю, Суон. Не говори больше ничего. Пусть весь этот день будет их день. Когда они проголодаются, поедим сандвичи.
— Я прихватила для тебя бутылку вина.
Она порылась в корзине и достала вино. Он сел, вытащил пробку и отхлебнул глоток прямо из бутылки.
— Спасибо, что не забыла, — сказал он.
Женщина тоже отпила из бутылки и, отставив ее в сторону, тоже легла, не совсем рядом, но все же достаточно близко, чтобы они могли расслышать друг друга, как бы ни говорили — тихо или громко.
— Боже мой, какие мы дураки! — сказала она.
— Да, Суон.
— Я думаю, люди все сумасшедшие, а почему — не могу понять.
— Давай не будем вдаваться в это сейчас. Я хочу прислушиваться к Рэду и Еве, вот и все.
Они оба стали прислушиваться к Рэду и Еве. Они не слышали слов — только голоса. Они долго прислушивались к детям, и их собственные голоса затихли, успокоенные голосами детей. Мужчина привстал — посмотреть на Рэда и Еву, на их тела. Через мгновение он снова опустил голову на камень и закрыл глаза, продолжая прислушиваться к их голосам, к летним голосам своего сына и своей дочери. Он лежал так, не открывая глаз, не спал, но и не бодрствовал.
— Что ты делаешь, Рэд? — сказала Ева.
— Песчинку рассматриваю, — сказал Рэд.
— Дай и мне посмотреть.
— Вот.
— Где она?
— Вот здесь, на ладони. Ты разве не видишь?
— Где?
— Вот. — И он показал на песчинку пальцем.
— Вижу, — сказала девочка. — А зачем ты ее рассматриваешь?
— Это частичка песка.
— Покажи мне еще раз. Какая она малюсенькая!
— Но ты ее все равно видишь, правда?
— Я вижу ее, — сказала Ева. — Я вижу ее и еще много других. — Она посмотрела на свои ладони, сплошь облепленные песком. Она смахнула песок с ладоней, но сколько-то песчинок все равно осталось. Она внимательно посмотрела на них. — Рэд, — сказала она, — а ну-ка взгляни, сколько их у меня?
Рэд посмотрел на песок, прилипший к ее ладоням.
— Так, — сказал он. — У тебя их много.
— Сколько?
— Раз, две, три, — сказал Рад. — Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать и еще очень много.
Ева снова отряхнула ладони, потом сказала:
— А теперь сколько?
— А теперь три.
— А вообще сколько их?
— Где?
— На свете.
— Ну, — сказал Рэд, — на свете сотни мест, таких, как это, и в каждом, наверно, миллион песчинок.
— Что они там делают?
— Ничего.
— А сколько в мире частичек неба?
— Небо не песок, Ева.
— А что?
— Что-то совсем другое.
— А сколько в мире частичек воды?
— Вода тоже не песок.
— Вода — это дождь, — сказала Ева. Она посмотрела на свою ладонь, снова покрывшуюся песком. — А сколько в мире частичек людей?
— Ты что, думаешь, все в мире песок? — сказал Рэд.
— Нет, я так не думаю, — сказала Ева. — А теперь посмотри на мою руку. Каждая песчинка — человек. Вот это мужчина, вот это женщина, вот это мальчик, вот это девочка. А вот это… А кто вот это, Рэд?
— Другой мужчина?
— Нет, это собака, — сказала Ева. — А вот это… — Она показала на большую черную крупинку песка. — Это мой папа, — сказала она.
— А ну-ка, — сказал Рэд. Он взглянул на крупинку песка в ее руке, потом на своего отца, который лежал на одеяле, положив голову на камень. Девочка тоже посмотрела на отца. — Да, — сказал Рэд. Потом он нашел в ее руке очень светлую, блестящую крупинку. — Кто это, скажи?
— Моя мама, — сказала Ева. — Это мой папа. А это мама. Вот они здесь — в моей руке. Но они и там, под деревьями. Папа посадил меня в машину рядом с собой, впереди. Правда, Рэд?
— Да, — сказал Рэд.
— Папа хороший человек, — сказала Ева. — Хороший и печальный.
— Печальный?
— О да, — сказала Ева. — Я знаю. Когда он нес меня, я смотрела в его лицо. Оно было печальное. — Она задумалась, и Рэд увидел, как на глаза ее набежала тень. — Что такое «печальный», а, Рэд? Что это такое?
— Ты же знаешь, что такое «веселый», — сказал Рэд. — Ну вот, печальный это значит не веселый.
— Почему папа печальный?
— Он не всегда печальный.
— Сейчас он печальный, — сказала Ева. — Посмотри на него.
Они оба посмотрели на Ивена, и Рэд сказал:
— Нет. Просто он отдыхает, вот и все.
— Мне надоело сидеть, — сказала девочка. — Пошли обратно в воду.
Они встали и снова вошли в реку.
Когда мужчина приподнялся, чтобы глотнуть еще вина, он увидел, что жена его, закрепив платье повыше колен и держа детей за руки, спускается вместе с ними вниз по реке.
Она старалась. И это делало ее прекрасной. Никогда раньше он не видел ее такой светящейся. Он отпил долгий глоток холодного вина и продолжал наблюдать за Суон с ее детьми, с ее собственным сыном и ее собственной дочерью — плоть от плоти ее, кровь от крови. Они были прекрасны, все трое были прекрасны — мать со своим сыном и дочерью. Их фигуры, их тела были прекрасны. Никогда раньше он не видел таких живых, так сладостно волнующих, таких до боли, до восторга прекрасных тел. Он подумал: это не только их я люблю, я люблю и ее, я все еще люблю ее.
А потом они все вместе сидели на одеяле и ели сандвичи. Суон прихватила для детей по бутылке садовой шипучки, которую им нравилось пить на пикниках, и они пили ее прямо из бутылок, как Ивен свое вино. Сандвичи были тонкие, и есть их было легко. Когда с едой было покончено, Ева улеглась на одеяло рядом с отцом. Он обнял ее за плечи и взял ее руку в свою. Рэд лег рядом с матерью, и она тоже забрала его руку в свои. Вскоре и мальчик, и девочка заснули, и женщина сказала снова, на этот раз совсем, совсем тихо:
— Ивен?
— Нет, — сказал он. — Не говори ничего. Вслушивайся в их дыхание. Это все, что нам остается.
Они вслушивались в дыхание уснувших детей. Они вслушивались в свое прошлое и настоящее. Они услышали, как вздохнуло их прошлое — вздохом сожаления. Они услышали, как вздохнуло их настоящее — вздохом прощания.
— Ивен? — сказала женщина.
— Что, Суон?
— Если ты любишь меня, Ивен, я буду жить. Если не любишь, не буду. Сможешь ты любить меня? Сможешь ты любить меня теперь, Ивен?
— Не знаю, Суон. Но я хочу любить.
— Свое умеет любить всякий, но человек любви любит и не свое, любит и то, что не его и только его. Разве мужчина, который неспособен любить не своего ребенка, разве такой мужчина — отец?
Он слушал ее тихий голос. Он слушал, то готовый поддаться, то снова охваченный смятением и болью.
— Суон?
— Да, Ивен.
— Их множество — незнакомцев, из которых мы выбираем. Мои незнакомцы пусть будут моими. Кто б они ни были, пусть они будут мои и твои. А этот пусть уйдет. Суон, я хотел бы его полюбить, но это мне не удастся. Невозможно, чтоб удалось. Еще не поздно. Для таких незнакомцев есть средство.
— Но для таких, как я, нет иного средства, кроме любви.
— Суон?
— Да, Ивен.
— Я знаю его отца.
— Нет, Ивен, — сказала она. — Ты не знаешь. И я не знаю. И сам он не знает. Не может он знать. И не узнает. Он — мой… И я не могу быть жестокой. Я должна любить его. Он и твой, если ты любишь меня. Мы не знаем. Не знаем ни ты, ни я. Не знают ни Рэд, ни Ева. Не знает и он. Нет тут и не может быть ничего другого, никакой другой правды, кроме правды, которую сотворит любовь. Правда — это любовь. Твой народ старый и добрый. Люди твоего народа — отцы. Они отцы для всех людей. Они всему отцы, Ивен.
— Я хотел бы любить, — сказал он. — И я любил бы его. Я любил бы его не из жалости, не из великодушия, я любил бы его без затаенной обиды, без затаенной ненависти. Я любил бы его, не чувствуя себя униженным. Я любил бы. Но где порука тому, что и в сердце моих детей такая любовь заложена и возможна? Где порука тому, Суон?
— В моем сердце, Ивен.
— Я хотел бы, Суон…
— Люби меня, Ивен. Люби меня без жалости. Люби меня без презрения. Без ненависти люби меня. Пусть те, кто любит с легкостью, любят друг друга, когда это легко. Люби меня за этот вот миг моей любви к тебе. И даже за то, что я предала тебя. Смотри на меня, Ивен, и люби меня с гордостью, со страшной гордостью, безрассудно люби меня. Разве не лучше, Ивен, когда живешь безрассудно?
— Он не наш незнакомец, и пускай он уйдет, — сказал Ивен. — Пускай появится наш. Сужденный мне и тебе, Рэду и Еве.
Я не смогу быть добрым к ней постоянно, думал он. Это настроение — на миг, оно от лета, от реки и скоро пройдет. Потом будут другие дни, с другим настроением, и на появление незнакомца она сама тогда посмотрит совсем другими глазами, не так, как сейчас.
Она пошевелилась, повернулась к нему.
— Любовь — выдумка, — сказала она. — Но мне все равно. Теперь уже все равно. Я верила, что ты умеешь любить, но ты не умеешь. Раз это так, Ивен, то так, и ничего не поделаешь. Так ли это, Ивен?
— Да, Суон.
— Ты не можешь любить меня безобразную, безрассудную, больную, ненадежную, полную страха?
— Любовь к тому, что смертоносно, не есть любовь.
— Любовь — выдумка.
— Время неторопливо, — сказал он, — но ошибка, совершенная женщиной по отношению к мужчине, к самой себе и своим детям, ускоряет его бег, не дает передышки. Я не хочу тебе зла, Суон. Я восстановлю неторопливое течение времени для нас обоих. Любовь не выдумка. Я хочу, чтобы ты жила. Хочу, чтоб жил Рэд. Хочу, чтоб жила Ева. Я сам хочу жить в каждом из вас. Больше мне негде жить и идти некуда. Я в каждом из вас. Я — это вы. И это не ложь, не выдумка. Давай сейчас, пока они спят, подумаем и попробуем разобраться в самих себе, попробуем решить, что мы в состоянии сделать.
— Хорошо, Ивен.
— Вчера вечером я ездил в аэропорт повидать своего брата, а вовсе не того человека, чье имя назвал. Я не хотел говорить, что еду повидаться с братом и назвал первое пришедшее мне в голову имя. О случившемся знаешь ты, знаю я, знает мой брат. Никто больше не знает. И никогда не узнает. Забыть, что один из нас сбился, невозможно. Но я забуду, с кем из нас это случилось. Я забуду это. Я знаю, что смогу. Сможешь ли ты, Суон?
— Да, Ивен.
— Ты хочешь забыть?
— Да, Ивен.
— Ты боишься того, что нужно сделать?
— Да.
— Ты считаешь, что это будет неправильно?
— Да, но это нужно. Я боюсь, но это нужно.
— Хочешь, подумай еще.
— Нет. Чем раньше, тем лучше.
— Это правильно, Суон.
— Да, Ивен. Это правильно.
Мальчик во сне произнес эти же слова — на языке Ивена и Дейда.
— Что он сказал? — спросила женщина.
— Он сказал: это правильно. Этим словам научил его Дейд, вчера вечером. А я обещал научить его всему языку. Не дай я такого обещания, сегодняшний день мог бы оказаться невозможным. Время неторопливо. И ему нет конца. Положить ему конец было бы ошибкой, Суон. Твой сын попросил меня не делать этого, и я не в силах отказать твоему сыну.
— Мой прекрасный сын! — сказала женщина.
Мальчик проснулся первым. Он открыл глаза и увидел над собой тревожное, печальное, светящееся лицо — лицо женщины, которая была его мать. Он обнял ее порывисто и, смеясь, прошептал ей на ухо: «Это правильно». Он обернулся к отцу: «Мама больше не понимает меня, папа». Он повторил эти слова на незнакомом ей языке. «Что я сказал, мама?»
— Это правильно.
— Разве ты знаешь их язык?
— Я учусь ему, — сказала женщина.
Девочка проснулась и посмотрела на отца.
— Хочу в воду, — сказала она. — Опять хочу в воду.
— Нет, Ева, — сказала женщина.
— Да, да, да, да, да, — сказала девочка.
— Нет, нет, нет, нет, нет, — сказала женщина.
Они собрались, сели в машину и поехали домой. На этот раз они все вместе сидели впереди — мальчик возле отца, а девочка на коленях у матери.
Как только они добрались до дому, Рэд сказал, что хочет позвонить Флоре Уолз. Ивен набрал для него номер.
— Флора? — сказал Рэд.
— Это Фанни, — ответил ему телефон.
— Это Рэд. Приезжайте сюда поиграть.
— Не можем, — сказала Фанни. — Папа и мама уехали на машине во Фресно. Мы здесь с миссис Блотч.
— Можно мне поговорить с Флорой?
Ему просто не терпелось услышать ее голос. Услышав же его, он лишился собственного.
— Приезжайте сюда поиграть, — выдавил он наконец.
— Рэд?
— Да.
— Рэд Назаренус?
— Да. Приезжайте к нам, Флора.
— Не можем. У нас нет машины.
— А вы далеко?
— Очень далеко.
— Фэй, наверно, знает дорогу. Приходите пешком.
— Не можем.
— Пожалуйста, приходите, — сказал Рэд. — Ну, пожалуйста. — Он обратился к отцу: — Папа, ты не возьмешь меня к ним на машине?
— Возьму, конечно, — сказал Ивен.
— Я сейчас приеду, — сказал Рэд в трубку.
— Чудесно, — сказала Флора.
Вошла Ева.
— Я тоже хочу поехать, Рэд. Папа, я тоже хочу поехать.
— Хорошо, Ева, — сказал Рэд.
— Он мой брат, — сказала Ева отцу.
Рэд побежал в гостиную.
— До свидания, мама, — сказал он. — Я еду к Флоре. Это очень далеко. Их папа и мама уехали на машине во Фресно. Флора осталась с миссис Блотч. Ева едет со мной.
Все тело его так и плясало, пока он говорил ей это. Потом он кинулся к выходной двери, крича: «Пошли, Ева!»
Ева сказала:
— Вчера, когда я захотела поехать с ними, они меня не взяли. Помнишь, мама? Но сегодня я еду. Я еду с моим братом к Флоре. Как по-твоему, это дом Флоры? По-моему, это дом Фанни. Сейчас, Рэд. До свидания, мама.
Спускаясь по лестнице, Ивен предложил:
— Поехали вместе, Суон.
— Ты лучше отвези их и приезжай обратно, — сказала Суон. — Они так мило со мной попрощались, что я все испорчу, если поеду.
— Я ненадолго, — сказал Ивен.
Оставшись одна, она подошла к телефону и вызвала Пало-Альто, Мильтона Швейцера. Какое-то мгновение он молчал. Потом сказал:
— Я возвращаюсь в Нью-Йорк. Билет уже куплен. У тебя все в порядке?
— Да, — сказала она.
— Послушай… — сказал он. — Я ужасно за тебя беспокоился. Ты уверена, что все у тебя в порядке?
— Да, — сказала она. — Да.
— Ну что ж, береги себя, — сказал он. — Береги своих детей.
— До свидания, — сказала она.
Хорошо, что он ничего не знает и, по-видимому, даже не подозревает, подумала она — и вздрогнула, внезапно потрясенная нелепостью того, что произошло между ними, и в то же время почти охваченная желанием побыть с ним хоть раз, один-единственный и последний раз, и попытаться разгадать, понять, быть может, что-то еще, что-то недопонятое, но что именно, она не могла представить.
Она заплакала о нем и его тайном сыне.
Она пошла в ванную, и тут ее стошнило, после чего она вымыла лицо и руки.
Машина медленно катилась по сельской дороге.
— Ты знаешь, где это? — сказал Рэд.
— Папа все знает, — сказала Ева. — Правда, папа?
— Ты так думаешь, Ева?
— Конечно, папа.
— Ты знаешь, где находится дом Флоры? — сказал Рэд.
— Здесь поблизости, — сказал Ивен.
— Видишь, Рэд, — сказала Ева, — он знает.
— Не знает, — сказал Рэд. — Он будет искать. Где здесь поблизости, папа?
— Немного дальше по этой дороге, — сказал мужчина. — Или на следующей дороге, или еще на другой.
— На этой дороге, — сказал Рэд со смешком. — На следующей дороге. Еще на другой. Где же все-таки?
— Папа знает, — сказала Ева. — Папа все знает.
— Папа все знает, — сказал Рэд со смешком.
— Папа знает даже, когда я родилась, — сказала Ева. — Правда, папа?
— Это и Рэд знает, — сказал мужчина.
— Ты знаешь, Рэд?
— Ну конечно.
— А я на знаю, — сказала Ева.
— И не можешь, — сказал Рэд. — Ведь ты тогда только что родилась.
— И это была я, — сказала Ева.
— И это была я, — сказал Рэд со смешком.
Рэду во всем сейчас виделось смешное, потому что он ехал к Флоре Уолз. Его сестре сейчас во всем виделась любовь, потому что они не оставили ее дома, потому что взяли ее с собой, потому что любовь была и проявлялась во всем.
Ивен Назаренус любил их, и они это чувствовали. Они в нем снова чувствовали отца. Смятение и слезы сняло как рукой, потому что они снова видели в Ивене, снова узнавали в нем своего отца — худощавого, чуть ссутуленного мужчину, у которого руки и даже пальцы покрыты волосами, не черными, как на голове, а порыжелыми, выгоревшими от солнца. Его дети любили сейчас друг друга, потому что в течение целого дня они видели мать и отца такими, какими те бывали в свои лучшие дни: мать — любящая, отец — любящий, оба спокойные и терпеливые, оба не сердятся, не шумят, а если и пошумят, то нарочно, ради забавы, ради игры, если и посердятся, опять же ради игры, ради того, чтобы все выходило занятнее. Так Рэд, переняв это у отца, прикидывался рассерженным, когда повторял странные вещи, которые говорила его сестра, и добродушно-веселые вещи, которые говорил его отец, подшучивая над пылким желанием Рэда добраться поскорей до Флоры — по этой дороге, или по следующей, или еще по другой.
Рэду предстояло поговорить как-нибудь с отцом, потому что отец сказал ему, что они поговорят. Им предстояло поговорить о сердитом голосе его отца, разбудившем Рэда позапрошлой ночью. Бывало, Ева сердила Рэда. Бывало, он толкнет ее легонько, а она говорит, что он ее ударил, тогда как он всего лишь легонько толкнул. Но бывало, что он и ударял ее. Он ударял ее частенько, но не так часто, как она раздражала и сердила его. Иногда он просто не обращал внимания.
— Смотри, какой славный дом, папа, — сказал Рэд. — Может, это и есть дом Флоры?
— Дом Фанни, — сказала Ева. — Это дом Фанни. Фанни не плачет, когда разбивает себе голову.
— Фанни не плачет, когда разбивает себе голову, — сказал Рэд со смешком. — Фанни, наверно, не плачет и тогда, когда плачет. Фанни, наверно, смеется, когда плачет.
— Фанни смеется, когда плачет! — сказала Ева. — Ну разве это не глупо, папа?
Дом этот был не Флоры и не Фанни. На почтовом ящике Ивен прочел — Амос Блотч. Значит, мы уже где-то рядом, подумал он. Если это его жена, та самая, что остается с девочками, — значит, они соседи. Он хотел использовать эту счастливую подсказку и, вовремя подметив на почтовом ящике имя Уолзов, подъехать именно туда, куда нужно, подъехать точно и уверенно, сделать это так, чтоб детям показалось, будто он с самого начала знал. Он хотел удивить их. Он не сомневался, что это обрадует девочку и доставит удовольствие мальчику. Это доставит ему великое удовольствие, потому что до сих пор они ехали прямо, по одной дороге, не плутая, не останавливаясь, не возвращаясь обратно и не пробуя других направлений.
Ярдах в пятидесяти от дороги Ивен увидел дом — белый и чистенький, вокруг газоны и спереди два громаднейших эвкалипта. Наверно, это и есть дом Уоррена и Мэй. Имя на ящике он не разобрал, так как буквы стерлись, но все же подъехал, и тогда на просторном дворе он увидел трех девочек, старую оливу и женщину в очках, сидящую с книгой в плетеном кресле.
— Видишь, Рэд, — сказала Ева, — папа все знает.
— Ты знал, где это, папа? — сказал Рэд.
— Ну вот, мы и приехали, — сказал мужчина. — Вон Фэй, Фанни и вон Флора.
Он остановил машину. Дети кинулись к девочкам, бежавшим им навстречу.
Женщина встала, заложив книгу на прерванной странице, и улыбнулась.
Ивен поздоровался с ней и сказал:
— Надеюсь, они не причинят вам слишком много хлопот. А когда пора будет возвращаться, вы позвоните, и я заеду за ними.
— Они могут побыть дотемна? — спросила женщина.
— Пусть побудут, пока девочкам не надоест с ними, — сказал он.
— Хорошо, — сказала женщина.
Дети, сбившись в кружок, уже договаривались, с какой игры начинать. Ивен сел в машину и поехал обратно.
После того как она вымыла лицо, рвота подступила снова, а вместе с рвотой на нее накатило такое лютое отвращение к собственной беде, какого никогда прежде она на испытывала. И в то же время ее страшило то, что необходимо было сделать, то, что она теперь сама хотела сделать.
В тот день, когда у нее появились первые подозрения, она приготовила себе горячую ванну и просидела в ней около часа, теряя голову от тревоги и надежды, — но ничего не случилось. Потом она пошла в сарай, открыла старый бидон с краской, нагнулась лицом к нему и до одури вдыхала противный запах, — но и тут ничего не случилось. Тогда она отправилась к врачу в Сан-Матео, назвавшись ему как миссис Морган. Два дня спустя он позвонил и попросил ее зайти еще раз. Но к этому времени она уже убедилась; телефонный звонок врача только подтвердил то, что она уже знала.
— Я не хочу, я боюсь, — сказала она врачу. — Мы не можем позволить себе это. Дайте мне, пожалуйста, какие-нибудь пилюли.
Врач рассмеялся и сказал:
— Миссис Морган, вам бояться совершенно нечего.
— Нет. Я не совсем здорова, я не могу иметь ребенка, — сказала она. — Я ужасно боюсь. Пожалуйста, дайте мне что-нибудь.
— Подумайте хорошенько, — сказал врач. — Обсудите это с мистером Морганом. Приходите ко мне с ним, и мы вместе разберемся во всем и решим. Я уверен, что уговорю вас обоих не предпринимать ничего. А то, знаете, от таких вещей бывают иногда последствия потяжелее, чем сами роды.
Она верила, что пилюли помогут делу, и в отчаянии почти умоляла врача выписать ей что-нибудь такое.
— Вы непременно хотите прибегнуть к ним? — сказал врач. — Я бы не советовал. Вы лучше не делайте этого. Вы лучше поговорите сначала с мистером Морганом.
— Он в отъезде. Его не будет здесь еще две недели. И я бы предпочла, чтоб он не знал об этом. — Она вдруг осеклась, лицо ее покраснело. — Мы в долгах, — сказала она.
Мужчина сразу понял.
— Ну что ж, моя милая, — сказал он. Потом выпасал рецепт и протянул ей: — Надеюсь, это подействует.
Но это не подействовало.
Ивен вернулся домой из Небраски изголодавшийся по ней донельзя. Она придумала отговорку и попросила его подождать. Он расхохотался над собственной нетерпеливостью и сказал:
— И долго мне придется ждать?
— До пятницы, — сказала она.
В пятницу они приехали в Кловис на виноградник Дейда. Весь этот день она провела в тревоге, силясь решить, что ей делать. В конце концов она решила, что скажет ему.
Она сказала ему.
И в ту минуту, когда она увидела его обезумевшим (а она ведь знала, что так с ним и будет), и после, перед лицом его ненависти и презрения, в минуту страшного своего одиночества и испуга, раскаяния и стыда, она нуждалась в нем сильней, чем когда-либо.
Потом она все говорила и говорила, отчаянно надеясь найти такое объяснение, такую правду, которую он сможет признать, признает, пусть даже нехотя. Но то, что он отказался что-либо такое признать, доставило ей радость.
Она боялась того, что предстояло сделать, но она была благодарна Ивену за его решение.
И все же она спорила с ним. Спорила, потому что в тот самый миг, когда она увидела букетик красных роз, обнаруженный ее сыном в доме Дейда, она почувствовала, что умирает. Ей не хотелось ни умирать, ни убивать. Ей не хотелось, чтобы настал конец ежедневной тяжкой пытке любви и существования, ей не хотелось, чтобы настал конец их с Ивеном любви, их с Ивеном увеселению. Но когда она увидела своего сына, и как он держал букет, и как смотрел на него, и как он смотрел на все вообще, и его задумчиво-нахмуренное лицо, и особенно глаза, пристальные и печальные, — тогда она увидела всех их умершими. Она заплакала, так как поняла, что расскажет Ивену. Она не сможет быть рядом с ним, оставляя это невысказанным. Все остальное могло оставаться невысказанным, но только не это. И она знала, что ее признание убьет его или сведет с ума. И знала — что бы он ни решил, что бы он ни счел необходимым сделать, все равно, неминуемо она умрет. Она всегда, всю жизнь была глупенькой девочкой. И еще она всегда была немножко болезненной, чуть-чуть расслабленной, чуть-чуть сумасшедшей, но с Ивеном это все отошло от нее, исчезло. Он спас ее, и сам того не сознавая.
Сейчас она подошли к камину и вынула из вазы букет — четыре засохшие розы. Ее взгляд был прикован к розам, когда в комнату вошел Ивен.
— Они вернутся домой нескоро, — сказал он. — Может, прогуляемся по винограднику?
Она обернулась к нему, не в силах удержаться от еще одной, последней попытки.
— Ивен?
— Да, Суон.
— Я не хочу быть искромсанной. Я знаю, это убьет меня.
— Почему ты думаешь, что что-то непременно должно убить тебя?
— Я думала, что ты убьешь меня, — сказала она. — Я чуть ли не надеялась.
— Я отец, — сказал он. — У меня двое детей. Я обязан думать о них. В любую минуту я обязан помнить и думать о них. В любую минуту я обязан думать об их матери. Обязан быть терпеливым ради моих детей. Я не могу убить тебя, Суон. Я не могу убить мать моих детей. Будь ты просто Суон, а я просто Ивен, и предай Суон Ивена, Ивен не был бы предан, потому что ни один мужчина не может быть предан женщиной, и ни одна женщина не может быть предана мужчиной, только дети могут быть преданы.
Он умолк, взял ее за плечи и заглянул в глаза.
— Я не изменю тому, что мое, Суон. Я обезумел. Теперь я уже не безумен. Если ты боишься, Суон, то знай, что я боюсь вместе с тобой, но моя цель — рассеять, прогнать наш страх. Я не стану навязывать тебе свою волю, но я хочу, чтобы моя воля стала твоей. Пойдем прогуляемся по винограднику. И будем благодарны богу за день, в который Рэд и Ева Назаренус жили так, словно жизнь это не боль, не страх, не предательство, не вечная угроза и негаданная опасность. Это летнее воскресенье возвратило им смех. Они снова верят в отца своего и в мать. Если они не смогут верить в нас двоих, они ни во что не смогут верить. Или смогут верить только в себя и будут ожесточенными, мнительными, одинокими. Пойдем прогуляемся по винограднику, Суон. Я твой муж и их отец. Ты их мать и моя жена. Ничего лучшего для нас нет. Ничего лучшего даже теперь, Суон. Ничего лучшего даже при том тяжелом испытании, которое предстоит нам обоим. Ничего лучшего, потому что у этих детей должна быть ты, Суон, и должен быть я.
Он быстрыми шагами вышел из комнаты на веранду, спустился вниз. Она положила букет на место, в вазу, и поспешила за ним. Ивен был уже в винограднике, и она бросилась догонять его бегом, подумав: «Если я побегу, споткнусь и упаду, может, тогда это кончится». Она бежала и молилась о том, чтоб упасть, потом упала и вскрикнула. Он остановился, обернулся, но не подошел к ней. Она поднялась на ноги, сознавая, что падение ничем ей не помогло.
— Мы ходили в церковь, — сказала Ева Фанни. — А вы что делали?
— Мы тоже ходили в церковь, — сказала Фанни.
Они играли в ту же самую игру, прятались за сложенными в кучу сухими виноградными лозами. Каждая лоза, если приглядеться внимательно, напоминала тельце со множеством рук.
— Я пела, — сказала Ева. — Потом я засмеялась, и Рэд рассердился на меня. Он рассердился, потому что в церкви смеяться нельзя. А я не знала, что нельзя. Мама тоже смеялась. Рэд рассердился и на нее.
— В какой вы были церкви?
— В белой.
— Это пресвитерианская, — сказала Фанни. — Мы были в методистской. Мы методисты.
— Мы пресвитерианцы, — сказала Ева. — Почему мы пресвитерианцы, а вы методисты?
— Знать не знаю, — сказала Фанни. — Мы, видно, проторчим здесь до полуночи, потому что ищет Фэй, а она никогда никого не находит. Что говорил человек в церкви?
— Какой человек?
— Священник.
— Он сказал: «Бог есть любовь. Бог любит всех, и все должны любить друг друга». А потом я заснула. Что говорил ваш?
— Про то, что бог есть любовь, он сказал две недели назад. А сегодня он говорил что-то другое. Я не слушала.
— Ты тоже заснула?
— Нет, мне просто надоело слушать. Я уже привыкла. К каждому слову привыкла. Я по привычке верю каждому слову.
— Я верю каждому слову, — сказала Ева. — А ты нет?
— Еще бы не верить! — сказал а Фанни. — Бог есть любовь!
— Да, — сказала Ева. — Бог есть Отец, а мой отец и есть тот, кто любит.
— Сказал кто?
— Сказал кто? Что это значит?
— Кто сказал, что твой отец — любит?
— Я говорю. А твой отец разве не такой? Разве он не любит?
— Любит кого?
— Тебя.
— Да ладно уж, — сказала Фанни. — Наверно, любит. Конечно, любит. Ну и что?
— Ну и что? — сказала Ева. — Разве это не приятно?
Они услышали крадущиеся шаги, примолкли и попятились от приближающихся шагов. Фэй шла вокруг кучи виноградных лоз, но она была такая нерасторопная и недогадливая, что, обойдя кучу, так и не обнаружила их и ушла искать теперь в другом месте.
— Здесь ей не найти нас, — сказала Фанни. — Так что давай куда-нибудь переправимся.
— Пойдем в виноградник и поедим винограду, — сказала Ева.
— Пойдем лучше туда, где арбузы, и посмотрим, попадется ли нам спеленький, — сказала Фанни. — Арбузы уже собрали, сезон их кончился, но, может быть, нам попадется подходящий.
— Хорошо, — сказала Ева. — Я арбуз люблю. — И они пошли тихонько, не разговаривая. Потом Ева сказала: — Я люблю мою маму. Я люблю брата, но больше всех я люблю папу.
— Почему? — сказала Фанни.
— Такого, как он, нет, — сказала Ева. — Он носит меня на руках. Он разговаривает со мной. Он рассказывает мне сказки. Он рассказывает мне всякие смешные вещи, чтоб я смеялась. Он смотрит на меня, и это лучше всего. Он смотрит на меня, и я вижу, что он меня любит.
Они пришли к арбузным грядкам возле оросительного канала. Арбузов было немного, и те маленькие, неуклюжие и какие-то грустные на вид.
— Вот этот годится? — сказала Ева.
— Для свиней, — сказала Фанни. — Это брак.
— Разве это не арбуз?
— Арбуз, но забракованный, то есть негодный. Он маленький, кривобокий и внутри не красный и не сладкий. Он бледный и почти без вкуса. Но мы найдем хороший. Когда был сезон, мы собрали сотни хороших. Но всегда бывают еще и несколько запоздалых.
Они побродили среди грядок, и Фанни то и дело ударяла ногой по негодным арбузам и разбивала их, причем с серьезнейшим видом. Ева наблюдала за ней и дивилась, почему это Фанни не смеется, делая такие забавные вещи. Ева попробовала ударить по арбузу, но у нее получилось не так, как у Фанни. Арбуз даже не треснул. Ева не тронула его больше, но посмотрела на него так, словно сознавала свою грубость и теперь раскаивалась. Бедный маленький «брак».
— Вот он, — сказала Фанни. И нагнулась над довольно крупным и ладным арбузом. Она постучала по нему костяшками пальцев, потом сказала: — Спелый. Сейчас мы его разломаем и съедим всю середку. — Она оторвала арбуз от плети, взяла его в обе руки и направилась к оросительному каналу. Она подняла арбуз над головой, потом уронила его. Он треснул. Фанни просунула руку в трещину, разломала арбуз на две половинки, и вот он был перед Евой — весь красный с мелкими черными семечками. — Вот твоя половинка, — сказала Фанни, — а вот моя. Ешь середку.
— Хорошо, — сказала Ева. — И большое тебе спасибо, Фанни Уолз.
— Ах, — сказала Фанни, — до чего ж ты воспитанная. Ешь арбуз — и все. Дня через два он бы сгнил. Мы набрели на него как раз вовремя. — Она запустила пальцы в самое сердце арбуза и вырвала целый кусок без семечек. — Вот как это делается, — сказала она. — Вот как едят арбуз. Сердцевина в нем лучшее.
Она жадно съела все, что было у нее в руке, до последней крошки. Ева сделала то же, что и Фанни, и стала так же жадно есть сердцевину своей половинки.
Было сладко и вкусно, и сидеть там, где они сидели, было приятно; медленно текла вода по каналу, повсюду вокруг росла трава, и солнце уже зашло, но свет его еще оставался, и цвет травы все еще был зеленым, а очертания листьев — четкими.
И хоть Ева и чувствовала, что живот ее набит до отказа и даже вздулся, ей все же хотелось продолжать. К тому времени, когда она доела последнюю крошку сердцевины и еще немного от остатка арбуза, Фанни уже кончила и стояла в ожидании, так что Ева тоже поднялась с места, и они пошли доигрывать игру.
— Ох, эта Фэй! — сказала Фанни. — Она просто ни во что не умеет играть. Ведь мы были как раз там, за этой самой кучей, и только потому что отходили назад, у Фэй не хватило ума догадаться. Бьюсь об заклад, что она до сих пор никого не нашла. Я на ее месте за две секунды всех бы застукала.
— Конечно, — сказала Ева, ибо она не сомневалась, что Фанни так бы и сделала.
Смеркалось. Они медленно подошли сначала к оливе, потом к миссис Блотч.
— Где Фэй? — сказала Фанни.
— По-моему, где-то во дворе, вас ищет, — сказала миссис Блотч.
— Где Флора?
— Наверное, прячется.
— Где Рад? — сказала Ева.
— Тоже, наверно, прячется.
— Фэй никого не находит, — сказала Фанни. — Мы набрели на спелый арбуз, разломали его и съели.
— Да, — сказала Ева.
Когда уже совсем стемнело, они увидели Рэда и Флору, медленно бредущих к оливе. А спустя минуту они увидели и Фэй. Сойдясь у дерева, они стояли все и смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Они притихли, потому что игра кончилась и потому что наступил вечер.
После того как они вернулись из церкви и пообедали, Уоррен Уолз рассказал жене всю правду о той ночи, когда он побывал у Сюзи.
— Я знаю, — сказала Мэй Уолз.
— Откуда ты можешь знать?
— Я просто догадалась.
— Когда?
— Когда ты приехал за мной к дому Дейда. И все-таки я отказалась поверить в это тогда.
— Мне жаль, Мэй, но я должен был сказать тебе.
— Я знала, что ты скажешь, но думала, что тебе понадобится больше времени.
— Мне было ужасно стыдно, — сказал мужчина.
— Забудь об этом, — сказала женщина. — И мне дай забыть.
— Ты уверена, что все обойдется? — сказал мужчина. — А я-то думал, мое признание вконец расстроит наш брак.
— Ты говоришь так, словно предпочел бы, чтоб он расстроился.
— Ничего подобного. Просто я удивлен слегка, вот и все. Пять лет назад у Хантингтонов, когда я напился и приставал к их кузине из Сент-Люиса, ты реагировала не так. Ты и прежде, бывало, пугала меня, но то, что произошло тогда, по-настоящему вогнало меня в страх. Мужчине неприятно чувствовать, что любить жену вроде как повинность, чувствовать себя вроде как в принуждении, Мэй. А я себя чувствовал ужас в каком принуждении.
— Знаю я, — сказала женщина.
— Не пойму, — сказал мужчина. — Что-то произошло с тобой. Что?
— Если уж, — сказала Мэй, — они смогли нас позвать к себе, без единого намека на то, что накануне случилось, нам непременно следовало пойти к ним и держаться по-человечески. Я считала, что это очень важно — пойти к ним.
— Мне жаль, что я не понял и вел себя, как дурак, — сказал мужчина.
— Ни о чем не жалей, — сказала женщина. — В то утро я собралась ехать во Фресно, туда и обратно, чтоб все между нами наконец разрешилось. Я хотела добиться от тебя помощи. Я уверена была, что ты уйдешь, убежишь и что это будет выходом, самым легким выходом. Для меня, во всяком случае. Наш брак кончился бы. Как того требуют приличия, разводом. Он ведь уже кончился очень давно, то есть, насколько мы с тобой понимали, насколько понимаем, после рождения Флоры. Ты хотел сына. Я тоже хотела сына. Мы много тогда разговаривали об этом. С тех пор прошло шесть лет, если не больше. Конечно, со мной что-то произошло. И с тобой тоже. Мы встретили другую семью, с трудностями похуже наших, вот что с нами произошло. Было бы легче не пойти, разумеется, легче, тем более что ты позвонил уже и сказал про Йосемит. Ничем никогда ты так не обижал меня, как своим предположением, будто я жажду сунуть нос в их дела. Я не могла затаить на нее злобу, пускай даже она хлопнула мне в лицо дверью. Мы с ней поговорили. Мы долго с ней разговаривали. Вот что произошло, Уоррен. Мы разговаривали, и словно не о себе самих, а вообще о женщинах, о том, что значит быть замужем, иметь детей, быть матерью и вообще человеком — все это трудно, Уоррен, и чтобы все это получалось, нужно стараться все время. Видишь ли, мне тридцать три, Уоррен, и я хочу сына, Я все еще хочу сына.
— Я тоже, — сказал мужчина. — А мне казалось, все кончено.
Они позвонили миссис Блотч и сказали ей, что, может быть, не вернутся допоздна, так что не побудет ли она у них ночью? Она сказала, что побудет. Уолз сходил за миссис Блотч. Они сказали детям, что собираются во Фресно и вернутся домой очень поздно, и уехали. Дети переглянулись, и Фанни сказала:
— Они стараются снова любить друг друга.
В понедельник механик из гаража пригнал домой машину Дейда.
Дети в это время спали, но когда Ивен попросил механика опустить верх, Рад услышал шум, проснулся и выбежал из дому.
— Ну и жара сегодня, — сказал человек из гаража. Он поднял капот, чтоб показать Ивену, в каком отличном порядке мотор и все остальное, а Рэд залез на бампер и тоже посмотрел. Это был «линкольн» лет десяти, проездивший сотню тысяч миль, но механик сказал, что после ремонта он годится по меньшей мере для тысяч пятидесяти.
— Хотите знать, во сколько обошелся Дейду ремонт? — сказал он. — Пятьсот долларов, но практически мы сладили ему новенькую машину. Во всяком случае, на мой взгляд, она выглядит лучше, чем самые новейшие модели. Может, вы сядете за руль и подвезете меня к гаражу? А я по пути расскажу вам кое-что о машине.
Теперь и Ева выбежала из дома.
— Давай, Суон, — сказал Ивен. — Прокатимся в город на машине Дейда. А потом вернемся и придумаем, куда съездить. Давай и ты, Ева.
Они уселись на гладкие черные кожаные сиденья. Машина была темно-голубая. Она была заново покрыта лаком и отполирована.
— Это машина Дейда, — сказала Ева. — Она не наша, мама. Она Дейда.
Ивен правил с наслаждением. Мотор был почти неслышный, но огромной мощности.
Когда они высадили механика возле гаража, Ивен попросил всех пересесть вперед.
— Не очень жарко, Суон? — сказал он. — Поднять верх?
— Нет, папа, — сказала Ева. — Так мне все видно.
— Не надо, — сказала Суон. — Все равно, и с поднятым будет жарко.
— Куда мы поедем? — сказала Ева. — Надо надеть платье? Нельзя поехать вот так? В одних трусах?
— Можешь ехать в трусах, — сказал Ивен. — А платье захватим с собой, потом пригодится. Солнце тебе на пользу. И ты, Рэд, если хочешь, оставайся в трусах.
— А не заехать нам и за девочками Уолза? — сказала Суон.
— Мы можем взять их всех, — сказал Ивен. — Места в машине много. Поедем куда-нибудь искупаться.
— Куда? — сказал Рэд. — К Пиедре? Там трудно ходить по камням.
— Может, Уолзы знают и получше местечко, — сказал Ивен. — Что если мы сейчас остановимся и предупредим их, а потом поедем домой, соберем еды в корзину и вернемся за ними?
— Они тебе понравились? — сказала Суон.
— Очень, — сказал Ивен.
— Мне тоже, — сказал Рэд.
— И мне, — сказала Ева. — Особенно Фанни. Сперва она мне не понравилась. Сперва мне понравилась Флора, но сейчас Фанни мне нравится больше, чем Флора и Фэй.
— Никогда не встречала такой милой женщины, — сказала Суон. — Первое впечатление от людей может оказаться обманчивым, не правда ли? Мы провели с ней вместе всего только день и сблизились как лучшие подруги.
— Коди Боун мой лучший друг, — сказал Рэд.
— Нет, — сказала Ева. — Твой лучший друг Флора.
— Я совсем позабыл про Барта, — сказал Ивен. — Трейбинг обещал позвонить сегодня до обеда. Я должен дождаться его звонка. Я должен позвонить Барту сразу же, как только поговорю с ним.
— Может, он позвонит, пока мы будем собираться, — сказала Суон.
— А если не позвонит, — сказал Рэд, — ты сам позвони ему, папа.
— Могу, конечно, — сказал Ивен, — хотя я предпочел бы не делать этого. Но в крайнем случае могу.
Они подкатили к дому Уолза и нашли все семейство во дворе.
— Поедем с нами купаться? Устроим пикник, — сказал Ивен. — Как вы на это смотрите?
— Что скажешь, Мэй? — спросил Уолз.
— И мы? — спросила Фанни.
— Да, Фанни, — сказала Ева.
— Едем в машине Дейда, — сказал Ивен. — Места в ней много. Сейчас мы домой, вернемся через час-полтора. Подумайте, куда бы нам лучше съездить. Куда-нибудь далеко.
— Да, — сказал Рэд, — давайте на этот раз съездим куда-нибудь далеко. К Пиедре не стоит, она близко.
— Но там так славно, — сказала Мэй. — Что если съездить туда еще разок, Рэд?
— О, пожалуйста, — сказал Рэд. — Конечно, миссис Уолз… если вам хочется.
— Там так замечательно, не правда ли, Уоррен? — сказала Мэй.
— Пожалуй, — сказал Уолз. — Но Скэггс Бридж тоже неплохая река, без камней и почти до середины мелкая — как раз для детишек. Костюмы у вас есть? У нас есть какие угодно. Мы возьмем с собой несколько лишних. Словом, решим все, когда вы вернетесь.
— Мы тем временем тоже приготовим корзину, — сказала Мэй Суон. — Вы скажите, что у вас есть, чтобы я что-то добавила.
— У нас будут отбивные и сандвичи с сыром, — сказала Суон.
— Прекрасно, — сказала Мэй. — Мы сделаем сандвичи с крутыми яйцами, студнем и сливками. Еще захватим штук двадцать сосисок, чтоб пожарить, и кое-какие фрукты. Подходяще как будто?
— Еще я возьму вино и для детей шипучку, — сказала Суон. — Побудем там, пока светло.
— Конечно, — сказала Мэй.
Дома Суон сразу же принялась за сандвичи. Когда она уже кончала, Ивен позвонил в Сан-Франциско.
— Я как раз собирался звонить, — сказал Трейбинг. — Дело слажено. Передай парню, пусть явится ко мне в учреждение в пятницу, в половине двенадцатого. Я расскажу ему как и что, потом мы вместе позавтракаем, а после завтрака я сведу его с нашим человеком, который за ним присмотрит, пока они отправятся в плавание.
— Когда они отправятся? — сказал Ивен.
— В следующую пятницу, — сказал Трейбинг.
— Когда он вернется обратно в Сан-Франциско?
— Дней через сто двадцать или сто пятьдесят, то есть месяцев через четыре-пять.
— Он тебе понравится, — сказал Ивен. — Сию минуту ему позвоню. Я знаю, он сейчас сидит там и дожидается. Я думаю, моряк из него получится, а?
— Получится, — сказал Трейбинг. — Ты не беспокойся. У нас нужда в них. Он вернется назад с деньжатами. Это хорошее судно, и первым помощником капитана на нем мой приятель. Он присмотрит за парнем.
Ивен позвонил Барту и доложил ему о делах. Сначала юноша молчал, словно говорить разучился, потом одно за другим посыпались восклицания.
— Спасибо, мистер Назаренус, — сказал он, чуть успокоившись. — Можно заехать к вам вечерком? А может, вы к нам заглянете?
— Мы через несколько минут едем на пикник вместе с Уолзами, — сказал Ивен. — И по всей вероятности, вернемся поздно. Почему бы вам с Коди не присоединиться? Мы берем с собой кучу всякой еды. Я позвоню от Уоррена и скажу тебе точно, где нас найти — либо Пиедра, либо Скэггс Бридж.
— Отлично, — сказал Барт. — Коди будет дома чуть позже пяти. А полчаса спустя мы присоединимся к вам, где бы это ни было. С вашей помощью как раз я и сообщу Коди о плавании. Он обрадуется. Я знаю, что он обрадуется, но если вы мне поможете в разговоре, то он, наверно, и вовсе не станет беспокоиться. Да здравствует пятница! Вперед, Кловис!
Они сели в машину и уже собирались ехать, когда Ивен услышал телефонный звонок.
— Я, пожалуй, подойду, — сказал он.
— Кто это? — сказал Рэд. И снова, в первый раз за все эти часы, в голосе его послышался страх.
— Должно быть, Дейд, — сказал Ивен.
Он вылез из машины и побежал в дом. К тому времени, когда он отозвался на звонок, на линии уже никого не было. Наконец заговорила телефонистка.
— Был вызов на имя миссис Назаренус из Пало-Альто, — сказала она, — но вызвавший дал отбой.
— Вызовите его, пожалуйста, снова, — сказал Ивен.
— Попробую, — сказала телефонистка.
Ее долго не слышно было, и наконец она сказала:
— Номер не отвечает. Звонили, видимо, из автомата. Хотите, я попробую еще минут через двадцать?
— Нет, — сказал он, — попробуйте теперь вот этот номер. — Он дал ей номер, и через минуту она сказала: — И тут не отвечают, сэр.
— Ладно, — сказал он. — Спасибо.
Он прошел в комнату Дейда, выдвинул ящик бюро, увидел, что все в нем на месте, поискал ключ от ящика, нашел его наверху бюро, запер ящик и ключ спрятал в карман. Выйдя из дома, он запер за собой дверь и поспешил к машине.
— Кто был? — сказала Суон.
— Дейд, — сказал он запросто, и они тронулись в путь, но по тому, как затихли Суон и дети, он понял, что они ему не поверили.
— Что он говорил, папа? — сказал Рэд.
Ивен Назаренус рассмеялся.
— Дейд сказал: «Учишь ли ты Рэда нашему языку?», а я сказал: «Да, учу», — так что мы сейчас приступим к сегодняшнему уроку. А ну-ка скажи: это правильно.
Рэд произнес эти слова.
— Еще раз, пожалуйста, — сказал Ивен. И через мгновение: — Еще раз.
— Ну ладно, папа, — сказал Рэд. — Начинай сегодняшний урок.
— Слушай внимательно, — сказал Ивен Назаренус. — И ты, Суон. И ты, Ева. Все слушайте внимательно.
— Да, папа, — сказала Ева.
— Я люблю тебя, — сказал Ивен на своем языке.
— Что это значит? — сказал Рэд.
— Я люблю тебя, — сказал Ивен по-английски. — Теперь слушайте внимательно. Я произношу это снова, очень медленно. Слушайте, как это звучит. И ты, Суон. Я люблю тебя, — сказал он на своем языке. — Я люблю тебя. Я люблю тебя. Ты поняла, Суон?
— Да, Ивен.
— Тогда скажи.
— Я люблю тебя, — сказала Суон на его языке.
— Еще, — попросил он. Она сказала. — Еще, Суон. — Она сказала. — Еще, пожалуйста.
— Что случилось, папа?
— Что случилось? — сказал Ивен. — А то, что я учу ее нашему языку. Это хороший язык. И я намерен всех вас ему обучить. Теперь говори ты, Рэд. — Рэд сказал эти слова. Он сказал их превосходно, словно язык этот и был его языком. — Заметь, как у него получается, Суон, — сказал Ивен. — Произнеси это, как он. — Она произнесла снова, стараясь, чтоб это вышло у нее, как у Рэда и Ивена.
Она знала: что-то случилось. Она знала: он старается изо всех сил, — и хотела помочь ему.
— Ева? — сказал Ивен.
— Да, папа.
— Ты не хочешь попробовать, моя хорошая?
— Хочу, папа.
— Слушай внимательно, как я говорю, — сказал Ивен. — А потом повтори это точно так же. С первого же раза. Я люблю тебя, — сказал он на своем языке. — Повтори, моя хорошая.
— Я люблю тебя, — сказала девочка на его языке, и сказала с первого же раза отлично.
— Еще, — сказал он, и она повторила.
— Теперь я скажу это каждому из вас, и каждый из вас ответит мне тем же. Я скажу, потому что это правда и потому что лучше всего я могу сказать эту правду на своем родном языке. Суон? Я люблю тебя.
— Я люблю тебя, Ивен.
— Рэд? Я люблю тебя.
— Я люблю тебя, папа.
— Ева? Я люблю тебя.
— Я люблю тебя, папа. Я люблю тебя, мама. Я люблю тебя, Рэд.
— Вот и весь сегодняшний урок, — сказал Ивен.
Когда они подъехали к дому Уолзов, те были уже готовы.
— Вы размещайтесь в машине, а я пока позвоню Барту, — сказал Ивен. — Я попросил его привезти на пикник Коди и должен сообщить, где мы будем.
— По-моему, на Скэггс Бридж, — сказал Уолз. — Я отопру тебе и заодно налью нам чего-нибудь выпить.
Поговорив о Бартом, он велел телефонистке еще раз попробовать номер в Пало-Альто. Уолз был в кухне — возился с выпивкой. Ивен услышал телефонный звонок, потом — мужской голос. Он не стал называть имен.
— Слушай меня внимательно, — сказал он.
— Ивен? — откликнулся Мильтон Швейцер.
— Ты только слушай меня внимательно, — сказал Ивен. — У тебя нет детей. У меня есть. Ты понимаешь, надеюсь. Если я тебя когда-нибудь еще встречу, я не убью тебя — только ради моих детей, не будь их, я это сделал бы, собственными руками.
Он бросил трубку и выругался на своем языке.
Все это слышно было на кухне, но Уоррен вышел оттуда так, словно ничего не слыхал. Он протянул Ивену полный стакан.
— Давай скорей это проглотим, — сказал Ивен. — Я не люблю заставлять детей ждать. — Он выпил залпом, Уоррен тоже.
— Спасибо, — сказал Ивен.
Он вышел из дому, и Уолз за ним.
Человек в Пало-Альто повесил трубку и принялся шагать из угла в угол, говоря самому себе: «Вдобавок ко всему еще и это».
Ивен был его другом. Единственным другом. Швейцер принадлежал к тому типу людей, которые не внушают симпатии окружающим. С ним бывало неловко и стесненно.
Сегодня он почувствовал, что должен поговорить с ней еще раз. Прежде чем уехать отсюда в Нью-Йорк, он хотел освободиться от всякого чувства вины. Чемоданы его были уложены, он спустился в аптеку на углу перекусить и попить кофе и решил, что должен ей позвонить. Он услышал в трубке гудки и опять гудки, никто не отвечал, и он почувствовал облегчение и благодарность. Усталость одолевала его.
Вернувшись к себе на квартиру за чемоданами, он заказал по телефону такси, и девушка сказала ему, что машина подъедет минут через десять.
Потом раздался телефонный звонок, и он выслушал Ивена Назаренуса.
И вот теперь к нему постучались.
— Такси, — сказал голос.
Он открыл дверь и протянул шоферу доллар.
— Я не совсем еще собрался, — сказал он. — Заезжайте через полчасика.
— Пожалуйста, — сказал шофер.
Он закрыл дверь и подсел к столу. В ящике он обнаружил забытый блокнот, достал авторучку и начал писать. Когда шофер такси постучался снова, он открыл ему, и, взяв чемоданы, они спустились вниз.
— На вокзал, — сказал он шоферу.
А когда они доехали до вокзала, спросил:
— Можете вы отвезти меня в Сан-Франциско?
— Конечно, — сказал шофер. — Но это будет стоить долларов пятнадцать.
— Хорошо.
В Сан-Франциско он сдал чемоданы на хранение — в два запирающихся шкафчика по десять центов за каждый — и сунул в карман ключи. Надо было убить еще час. Он зашел в бар, выпил стаканчик, потом другой, потом еще один. Поезд его был пропущен. Он вышел и сел в такси.
— Гостиница Святого Франциска, — сказал он.
— Мои чемоданы на вокзале, — сказал он портье. — Я заберу их завтра.
Он опустил в почтовый ящик письмо, поднялся в свою комнату и повалился ничком на кровать.
— Слушай меня, — не отпускал его голос Ивена. — Слушай меня внимательно.
И он слушал его, все слушал и слушал сквозь пьяный сон.
Пикник на Скэггс Бридж прошел замечательно. Они довольно долго пробыли в воде, все вместе — окунались, плескались, плавали. Дно реки было песчаное — ровное, гладкое. Перед заходом солнца подъехали Коди и Барт. Они надели свои плавки и тоже залезли в реку. Когда стало смеркаться, все вернулись на берег, высушились, оделись. Мужчины разожгли огонь и поджарили сосиски. Запах от горящих сучков и листьев был чудесный. Все ели и пили, а потом Ивен, Уоррен, Коди и Барт пели старые песенки, пока не стемнело.
Рэд стоял с Флорой и смотрел, как угасает огонь.
— В пятницу мы уезжаем, — сказал он.
— Знаю, — сказала Флора.
— На рождество, наверно, снова приедем.
— И поживете у Дейда?
— Да. Мой отец хочет поработать на винограднике вместе с Дейдом. На рождество у него каникулы. Я приеду с ним.
— Тогда все здесь будет другое, — сказала Флора. — Тогда деревья и лозы будут голые. Тогда будет холодно. Будет зима.
— Зимой тоже хорошо, — сказал Рэд.
— У нас не бывает снега, — сказала Флора. — Но холод ужасный, и все мерзнет.
Они разговаривали, пока не пришло время возвращаться домой.
— Не нравится нам, что вы так скоро нас оставляете, — сказал Уоррен Уолз в машине.
— Почему бы вам не перебраться сюда, в Кловис? — сказала Мэй.
— Почему бы, Суон? — сказал Ивен.
— Чтобы заработать на жизнь, — сказал Уолз, — вам нужно не меньше тридцати акров, но виноградники сейчас не дорогие, как раньше. Тысячи за три вы возьмете вполне приличный участок. За вами останется еще тысяч девять долгу, при хорошем урожае расплатитесь за четыре года. Здесь совсем не плохая жизнь.
— Я бы очень хотел виноградник, если бы Суон, Рэд и Ева тоже захотели, — сказал Ивен.
— Я хочу, — сказала Суон.
Рэд и Ева сказали, что и они хотят.
— Дом на участке может оказаться неважный, — сказал Уолз. — Но ведь не обязательно перебираться сразу. Вы бы вернулись в Станфорд на семестр, другой. Тем временем мы с Дейдом привели бы дом в порядок, тогда и переселяйтесь. А годика через два построите себе новый. Самый что ни на есть фермерский. Наш-то дом уже старый, но держится пока. Ему лет сорок.
— Неужели? — сказала Суон. — Он кажется таким новым и симпатичным.
— Это хороший дом и всегда был хорошим, — сказала Мэй. — Дело только в том, что мы построили его не сами. Мы поселились в нем еще до рождения Фэй. Но если сначала он и не был нашим, то сейчас уже сделался. Я покажу вам все уголки в нем, когда мы доедем.
— Если хотите, — сказал Уоррен, — я разузнаю, какие участки продаются в окрестности, и когда вам будет удобно, мы съездим посмотреть.
— Эта идея мне по душе, — сказал Ивен. — Ты уверена, что и тебе она по душе, Суон?
— Я счастлива была бы жить здесь, — сказала Суон. — Может, хватит с тебя университета? Шесть лет ты уже проработал.
— Я сыт по горло университетом, — сказал Ивен. — Я хочу жить на винограднике.
— Я тоже, — сказала Суон.
— А ты, Ева? — сказал Ивен.
— Да, папа, — сказала Ева. — Особенно, если у нас будут грядки с арбузами.
— Они у нас будут, — сказал Ивен. Он обернулся к Уолзу: — Так ты разузнаешь, что продается?
— Завтра к полудню я все постараюсь выяснить, — сказал Уолз. — Приезжай к нам на завтрак. А после завтрака мы вдвоем отправимся посмотреть участки, и если подыщем что-нибудь подходящее, ты свезешь туда потом Суон и детишек, пусть тоже посмотрят.
— Ну как, идет, Суон? — сказал Ивен.
— Вполне, — сказала Суон.
Мэй Уолз показала им свой дом — она шла впереди, а все остальные следом. Это был прекрасный двухэтажный дом с четырьмя спальнями на верхнем этаже — чистый, прохладный, обставленный просто и мило.
Когда они приехали наконец к себе, было уже около десяти. Суон уложила детей и теперь сидела в темной гостиной. Ивен был на веранде, сидел на перилах. Он посидел там еще немного, потом вошел в комнату.
— Тебе в самом деле понравилась эта идея насчет виноградника? — сказал он.
— Для тебя и для детей это будет прекрасно.
— Что ты хочешь сказать?
— Я и сама хотела бы жить там с тобой. Больше всего на свете мне хочется этого, Ивен. Чтоб мы вместе жили на винограднике и чтоб нас становилось все больше, Ивен, но я знаю, я чувствую — мне с вами не быть.
— Почему?
— Ты ничего не станешь делать во вред детям, — сказала Суон, — и я тоже, Ивен.
— Не понимаю.
— Я знаю, что случилось сегодня днем, — сказала Суон. — И я знаю, как отчаянно ты старался скрыть от детей то, что в тебе происходит. Но от меня ты скрыть это не в состоянии. Весь день был не в состоянии. И сейчас тоже. Я знаю, Ивен, ты стараешься — ради детей. Я верю, что стараться — самое правильное. Но как я смогу быть женщиной, как я смогу быть матерью, если всякий раз, вспоминая, ты будешь терзаться? Если ты не в силах сохранить нашу семью иначе, как стараясь, и до того отчаянно и трудно, что мною, ей-богу, овладевает страх?
— Мне жаль, — сказал Ивен. — Я не сумел сдержаться.
— Я ранила тебя глубоко, — сказала Суон. — Слишком глубоко. Непоправимо. Ты любишь детей и из любви к ним твердишь, настаиваешь, что любишь меня. Это добром не кончится. Это тебя доконает. Мне страшно, Ивен. Никогда раньше я не видела тебя до такой степени не в себе, до такой степени невменяемым, как это было сегодня днем. Ты настаивал, Ивен, ты настаивал, что любишь меня. Ты настаивал, чтобы сдержаться, чтобы не сделать чего-то такого, что обернулось бы для детей потерей отца или матери, или еще хуже — их обоих. Мне страшно. До сих пор я боялась за себя. Теперь я боюсь за тебя и за них. Ты никогда не забудешь того, что случилось. Я никогда не стану для тебя прежней. Будь ты другим человеком, ну, хотя бы таким, как Уоррен Уолз, я снова смогла бы стать для тебя той же, что и прежде, и даже лучшей. Что предстоит нам, Ивен? Что у нас впереди? Мне нравится эта мысль о винограднике, но…
— Мы начнем сначала, — сказал Ивен. — Вот что нам предстоит. Мы будем терпеливы друг с другом. Ты поможешь мне, как помогала сегодня, и я помогу тебе. Виноградник дает мне надежду. Мы начнем снова, Суон. Начать все снова — разве это не правильно?
— Не знаю.
— Знаешь, — сказал Ивен. — Не говори: не знаю. Не осложняй дело. Ты знаешь. Отлично знаешь, что это правильно. У нас нет выбора. Начать снова — правильно. Начать снова всегда трудно. Это самая трудная на свете задача, и требования она нам предъявляет огромные. Но если мы отступим перед трудной задачей, чего мы стоим тогда, Суон? Неужели мы станем жить только ради минуты и только ради себя самих? Не упрекай меня за то, что я хочу жить с сознанием долга. Я буду стараться жить именно так. Я верю, что жить такой жизнью можно. Любовь, более чем что-либо еще на свете, нужно заслужить. Я надеюсь заслужить нашу с тобой любовь, мне дорога эта моя надежда. И ты должна на это надеяться и дорожить такой надеждой. Ты должна помочь мне. Если будет у нас виноградник и жизнь на нем, то она будет только с тобой, Суон. Она не может быть без тебя. Она должна быть для тебя. И не говори, Суон, что ты хотела бы, но не будешь там. Где же тебе быть?
— Остаться одной или умереть, Ивен.
— Почему? Объясни, пожалуйста.
— Я не знаю. Я представляю, как это бесит тебя — снова и снова все то же «не знаю». Но я не знаю, Ивен. Я просто не знаю. Я только чувствую, что или одна останусь, или умру, и потому мне страшно. Я это чувствую. Я всю жизнь это чувствовала, но особенно с ночи в пятницу. Я хочу сделать то, что должно быть сделано, но мне страшно.
— Ладно, — сказал он, — пускай тебе страшно. Пускай и мне страшно. Ну и что же? Мы должны продолжать. Мы должны начать снова, хотя бы и со страхом, если иначе нельзя. Мы обязаны жить дальше. — Он замолк на мгновенье. — Пускай это трудно. Но это трудно не только для нас с тобой. Подумай, как это должно быть трудно для Рэда и Евы, у которых, кроме нас, нет другого примера. Пускай это кажется трудным, поскольку мы думаем только о своей собственной никчемной особе. Пускай это трудно, Суон. Ну и что?
— Пусть трудно, мне все равно, — сказала Суон. — Я хочу быть с вами. Я хочу, чтобы мы начали как можно скорее. Я хочу, чтоб мы избавились от того, что мешает нам. Сейчас же. Сегодня же ночью, Ивен.
— Это больше всего, наверно, и мучает тебя, Суон?
— Да, Ивен. Но мне уже все равно. Я хочу виноградник.
Она изо всех сил старалась не разрыдаться и была сейчас как Ева, когда та сдерживается, чтоб не заплакать.
— Это я виновата во всем, Ивен, — сказала она. — Ты думаешь, с женщиной может случиться такое, если сама она не захочет? Я сделала это, потому что я чересчур любопытная, потому что я глупая, потому что я безответственная, потому что я живу минутой, потому что если я чего-то хочу, то хочу немедленно и ждать не умею. Я совсем забыла о тебе, Ивен, совсем забыла о Рэде и Еве. Я не раздумывала да и не хотела раздумывать. Теперь я сама себе противна. Я хочу, чтоб с этим скорей было покончено. Сегодня же. Позвони, пожалуйста, Дейду. Поговори с ним на вашем языке. Сделай это для меня, Ивен. Я все равно не засну. Я не в состоянии ждать. Не могу больше. Когда мы с этим покончим, тогда я снова смогу ждать — чего угодно. Я в состоянии буду ждать.
— Хорошо, Суон.
Он подошел к телефону и через несколько минут уже говорил с Дейдом на своем языке.
— Пожалуйста, не задавай никаких вопросов. Если ты знаешь там кого-нибудь по этой части, найди его и прилетай с ним сегодня же ночью. Я встречу вас в аэропорту в любое время. Сейчас половина одиннадцатого. К утру с этим должно быть покончено. Я останусь с ней. Ты возьмешь детей на прогулку. Можешь ты сделать это, Дейд? Можешь найти кого-нибудь? Это не я тебя прошу, а Суон. Найди кого-нибудь, Дейд.
— Хорошо, — сказал Дейд. — Я позвоню тебе.
Она ждала его, стоя в гостиной. Лицо ее дрожало.
Он обнял ее.
— Моя чудесная Суон, — сказал он. — Моя прекрасная Суон.
— Твоя ужасная Суон, — всхлипнула она. — Твоя сумасшедшая Суон.
И вдруг рассмеялась, как маленькая девочка.
— Если б ты только знал, чего я хочу! — смеялась она. — Если б ты только знал, чего я хочу сейчас, в такую минуту, как эта, Ивен. Господи, я поражаюсь. Если б ты только знал, Ивен!
— Я знаю, Суон. Это очень хорошо.
— Это очень хорошо, но этому не бывать, не так ли, Ивен?
— Да, Суон.
— Почему, Ивен?
— Хорошо, потому что того же хочу и я. Но этому не бывать, потому что так мы снова окажемся в положении вроде нынешнего, вот и все, Суон.
— Кто-нибудь приедет?
— Дейд позвонит мне.
— Можно мне выпить?
— Конечно.
И когда он приготовил напиток и каждый из них отхлебнул по глотку, она сказала:
— Мне хочется, чтоб ты знал, как я рада, что у нас не будет того, чего мы оба желаем. Я рада, что ты стараешься любить меня так глубоко.
Дейд позвонил через час и сказал на их родном языке:
— Я нашел двоих. Они не знают друг друга. Мы прилетим во Фресно в два. Они закончат это минут за сорок. Потом я отвезу их в аэропорт, и они успеют к пяти на обратный самолет. По пути к вам я поговорю с обоими и выясню, который из них должен сделать это. Второй будет только присутствовать. Дня через два Суон, по-видимому, будет уже на ногах, а через месяц все это дело останется для нее позади.
— Я встречу вас в аэропорту, — сказал Ивен.
Один из двоих оказался маленьким угрюмым человеком лет шестидесяти. Другой был худой, высокий и лет на десять моложе первого. Угрюмый, наверно, и есть тот, который это сделает, подумал Ивен, во всяком случае вид у него надежнее. Каждый из них имел при себе обыкновенный саквояж, а Дейд был с чемоданом. Ивен убрал вещи в багажник и погнал машину обратно. Он ехал быстро, но не слишком. Он вовсе не хотел, чтоб в такой момент его задержали бы за превышение скорости. Никто в машине за всю дорогу не проронил ни слова.
Все было окончено за час с небольшим. Делал операцию, как и предполагал Ивен, угрюмый. Другой заботился о стерилизации инструментов и почти не вмешивался, оставаясь большей частью на кухне.
— Теперь она будет спать, — сказал угрюмый. — Иногда, может, проснется, но ненадолго, через две-три минуты снова заснет. До четверга в постели, после чего — месяц покоя, никаких забот и волнений.
Дейд отвез их обратно в аэропорт. Была половина шестого, когда он вернулся домой.
— Я дожидался с ними самолета, — сказал он. — Как Суон? Ты заходил взглянуть на нее?
— Да, — сказал Ивен. И помолчав мгновение, он сказал: — Дейд?
— Все нормально, — сказал Дейд. — Он самый лучший здесь. Другой был для страховки. Ты ведь не беспокоишься, Ивен?
— Она ни звука не издала, Дейд. А ведь она совершенно не переносит боли. Я был при ней и когда родился Рэд, и когда родилась Ева, я знаю, она не переносит боль.
— Он дал ей что-то обезболивающее.
— А вдруг он дал ей слишком большую дозу?
— Нет. Он здесь из всех самый лучший.
— Скоро три часа, как она спит.
— Она может проспать еще долго, — сказал Дейд.
— Если Суон справится с этим, — сказал Ивен, — я знаю, что мне делать. Я знаю, как мне о ней заботиться. Я знаю, что для нее сделать. У нас с ней множество планов. Она немножко безрассудная, как и я, впрочем. Как и ты, Дейд. Я не знал этого раньше. Она ждет, что я помогу ей. Сегодняшнее было частью помощи, началом ее. Суон безответственная. И чересчур скорая. Она считает, что жизнь не стоит тревог и раздумий. Она немножко безрассудная, вот и все, но теперь она хочет перемениться. Я думаю, всякая красивая девочка может где-то и сорваться, если некому ее удержать. Она хочет, чтоб ее удержали. Жизнь и в самом деле почти что не стоит тревог, ты знаешь. Она почти что обман, ты знаешь. Теперь мне одно только нужно — чтоб Суон с этим справилась. Когда все будет позади, мы переменимся, я и себя, и ее выправлю. В том, что она немножечко поддалась безрассудству, есть и моя вина, ты знаешь. Она-то думает, что все дело в ней, но есть и моя вина. Человек многого не понимает, Дейд, пока не становится слишком поздно. Я ведь правильно поступил, как ты думаешь, а?
— Правильно, — сказал Дейд.
Они пошли на кухню, и Дейд заварил кофе.
— Проще всего на свете, — сказал Ивен, — оттолкнуть от себя неприятное, ухватившись за первый же попавшийся предлог.
— Разумеется, — сказал Дейд. — Мы услышим ее здесь, если она позовет?
— Я оставил дверь чуть приоткрытой, — сказал Ивен. — Когда этой помехи уже не будет… когда Суон оправится… вот тогда ты увидишь, что значит семья, настоящая семья. Когда уже не будет этой помехи…
— Ее уже нет сейчас, — сказал Дейд.
— Суон ни звука не издала, — сказал Ивен.
— Он сделал так, чтоб она ничего не чувствовала, — сказал Дейд. — Может быть, Суон не издала ни звука, потому что не хотела.
— Бедненькая, — сказал Ивен. — Бедная девочка.
— С ней все в порядке, — сказал Дейд.
Ивен бесшумно вошел в комнату и, склонившись над кроватью, посмотрел на Суон.
Он вернулся обратно на кухню.
Дейд сидел за столом, пил кофе. Он налил чашку и для Ивена.
— Успокойся, — сказал он.
— Не нравится мне, как она выглядит, — сказал Ивен.
— С ней все в порядке.
— Я много думал, — сказал Ивен. — И так и этак обдумал все. Ничто другое не помогло бы нам. Ничто другое не давало нам хоть какого-то шанса. Я боюсь, Дейд. Взгляни-ка на нее, пожалуйста.
Они пошли в комнату вместе, и Дейд взглянул на Суон. Они вышли в гостиную.
— Не знаю, — сказал Дейд. — Дай-ка подумать минуту. Мне что-то тоже она не нравится. Подождем еще немного.
— Ты что имеешь в виду?
— С ней все в порядке, — сказал вдруг Дейд. — Ну конечно же, все в порядке.
— Ты уверен, Дейд?
— Немного погодя она проснется, — сказал Дейд. — Тогда ты убедишься, что все в порядке.
— Я пойду посижу возле нее, — сказал Ивен.
— Вот это правильно.
— Если дети проснутся, скажи им, пожалуйста, что мы еще спим. Дай им холодной каши или еще чего-нибудь. Пошли их во двор поиграть, но сам будь поблизости.
— Я буду здесь, — сказал Дейд.
Ивен пошел в комнату, где спала его жена, и сел на кровать. Он сидел, смотрел ей в лицо и ждал, когда она пошевелится и проснется.
— Мне жаль, Суон, — сказал он тихонько. — Мне ужасно жаль. Не заставляй меня жалеть еще больше. Я ошибся. Я знаю, что ошибся. Помоги мне, Суон. Не дай этому обернуться самой страшной ошибкой, какую кто-либо когда-либо совершал.
Он долго сидел так, не отрывая глаз от ее лица. Наконец он вышел на кухню, к Дейду.
— Она умирает, Дейд.
— Ради бога, держи себя в руках.
— Дейд, она умирает! Что делать? Давай кого-нибудь вызовем. Давай лучше мы поскорее кого-нибудь вызовем.
— Посмотрю на нее еще разок, — сказал Дейд.
Они вошли и посмотрели на нее снова. Они смотрели не очень долго. Дейд побежал звонить. Он набрал номер, разбудил своего друга, доктора Элтоуна, и поговорил с ним на родном языке. Пока Дейд был у телефона, в холл, выкрикивая его имя, вбежали Рэд и Ева. Доктор сказал, что он сию минуту оденется и выедет. Дейд повесил трубку, подхватил детей на руки и прижал к себе.
— Нас должно быть совсем не слышно, — сказал он.
Он помог им одеться, дал поесть холодной каши с молоком и отпустил во двор поиграть. Рэд взобрался на инжирное дерево, а Ева, стоя внизу, приготовилась ловить спелые ягоды. Дейд вернулся к Ивену, все еще сидевшему возле спящей жены. Они осторожно вышли из комнаты.
— Он скоро подъедет, — сказал Дейд.
— Что ты сказал ему?
— Правду.
— Это хорошо, — сказал Ивен. — Пусть только Суон поправится. Мне все равно, кто будет знать правду. Это не имеет никакого значения. Пусть только Суон поправится. Я рад, что ты сказал ему.
— Он никому не обмолвится, — сказал Дейд. — Но ему надо знать. Мы говорили не по-английски.
— Я рад, что он приезжает, — сказал Ивен. — Мы не можем стоять тут, разинув рты, как два дурака.
Доктор Элтоун был худощавый, стройный мужчина лет тридцати пяти, красивый, голубоглазый. С четверть часа он провел один в комнате Суон.
— Лучше взять ее в больницу, — сказал он, выйдя. — В Мадере есть хорошая… Я позвоню сейчас и вызову скорую помощь.
— Она поправится? — сказал Ивен.
— Надеюсь, — сказал Элтоун.
Он направился к телефону, Ивен за ним.
— А нельзя нам отвезти ее в машине Дейда?
— Нет.
— В чем дело? Что с ней случилось?
— Много чего, — сказал доктор. — Я сделал все, что сейчас возможно.
Он позвонил и снова вернулся к спящей Суон, попросив Ивена и Дейда не входить в комнату.
— Я не хочу, чтоб дети пугались, — сказал Ивен. — Можешь ты отвезти их куда-нибудь, Дейд, так чтобы они не увидели скорую помощь?
— Конечно, — сказал Дейд. — Возьму покатаю их.
— Нет, — сказал Ивен. — Свези их к Уолзам, а сам возвращайся назад. Я поеду со скорой помощью. А ты потом приезжай на своей машине. Я сейчас плохо соображаю. Лучше, если ты будешь рядом, Дейд.
— Конечно, — сказал Дейд. — Я отвезу детей и сразу вернусь.
— Если мы уедем прежде, чем ты вернешься, ты ведь найдешь нас? Ты знаешь, где это?
— Да, — сказал Дейд. — Я приеду туда.
Дейд вернулся раньше, чем прибыла скорая помощь. Он увидел своего брата сидящим на перилах веранды. Доктора не было.
— Ивен? — сказал он.
Он прождал ответа целую минуту и не дождался. Он вошел в дом, в комнату, где лежала Суон. В то самое мгновение, когда он вышел на веранду, Ивен спрыгнул с перил и ринулся на него и ударил его прямо в висок. Дейд упал, но тут же пришел в себя, поднялся, в секунду обхватил брата и сдавил ему руки.
— Я убью тебя, — сказал Ивен.
— Что сказал врач? Куда он уехал?
— Он сказал, что она мертва. Я не знаю, куда он уехал.
Ивен попытался высвободиться, но Дейд держал его крепко.
— Ему следовало подождать, пока я поговорю с ним, — сказал Дейд. — Он должен сообщить об этом. Он должен что-нибудь сообщить.
— Пусть он доложит правду, — сказал Ивен. — Пусть он доложит, что я убил мою жену, мать моих детей. Пусть он так и доложит.
— Ты никого не убивал, — сказал Дейд.
— Я убил ее, — сказал Ивен. — И ты помог мне.
— Бога ради, держи себя в руках, — сказал Дейд.
Он ждал новой вспышки, но ее не последовало. Он ждал, что брат заплачет, и тогда его можно выпустить. Но брат его не заплакал и все так же готов был убить — себя самого, Дейда, кого угодно, лишь бы убить. На дороге показалась машина скорой помощи. Когда она была уже почти у дома, Дейд разжал руки, нанес брату короткий удар по челюсти, поднял его, втащил в дом, в свою собственную комнату, и уложил на постель.
Потом он вышел, встретил приехавших, впустил их в дом, а сам подошел к телефону и позвонил доктору Элтоуну на службу.
— Я доложу об этом как о разрыве сердца, — сказал доктор на их родном языке. — Очень сожалею, и мой совет вам — присмотрите за братом.
Санитары вынесли Суон на носилках. Дейд велел им, чтоб они отвезли ее в морг в Мадеру. Потом он позвонил в похоронное бюро и попросил служащего, чтоб ее не трогали, пока он снова не позвонит.
В тот самый момент, когда Дейд опустил трубку, в комнате появился Ивен Назаренус. Одним прыжком Дейд оказался рядом, сшиб его с ног и бил по запястью до тех пор, пока пальцы Ивена разжались и пистолет выскользнул на пол. Он схватил пистолет и ударил Ивена в висок рукояткой. Потом он поднялся и разорвал на себе рубашку, чтоб посмотреть, где рана. Она была почти там же, где и старая, полученная им много лет назад. Он пошел с пистолетом в свою комнату, достал из ящика два других и спрятал их в таком месте, где Ивену в жизни не отыскать их. Он вернулся, выплеснул стакан холодной воды в лицо брату, и спустя минуту Ивен открыл глаза.
— А ну-ка встань и помоги мне достать пулю, — сказал Дейд.
Ивен медленно поднялся на ноги.
— Прости, — сказал он. — Прости меня, Дейд. — И тут наконец он заплакал. — Моя гнусная судьба, — сказал он. — Моя гнусная жизнь. — Он посмотрел на брата. — Прости, Дейд.
Они отправились на кухню.
Здоровой рукой Дейд налил в кастрюлю воды и поставил ее вскипятить. Потом достал из коробки инструменты и бросил их в воду.
— Теперь все в порядке, — сказал он. — Покопайся тут и достань пулю.
— Лучше я сначала дам тебе аспирину, — сказал Ивен.
— Не надо. Действуй быстрее, — сказал Дейд. — Она в морге в Мадере. Заделай это на скорую руку, и мы поедем туда и постараемся придумать, как нам быть дальше.
Они ехали в Мадеру. Ивен правил, а Дейд сидел рядом и курил сигарету за сигаретой. Где-то на полпути Ивен остановил машину.
— Я хочу пройтись тут по винограднику, — сказал он.
Дейд смотрел, как идет по винограднику его брат, как он останавливается то у одного, то у другого куста, как он нагибается и отводит в сторону новые отростки и новые листья, чтоб разглядеть самую лозу и зреющие на ней грозди. Ивен дошел до середины виноградника, снова склонился над лозой, потом выпрямился и посмотрел на дом. Он долго стоял так, глядя на дом. Потом он вернулся обратно, и в руке у него была темно-красная виноградная гроздь.
— Прекрасный виноградник, — сказал Ивен. — И дом прекрасный. Мы собирались подыскать себе здесь участок. Суон эта мысль понравилась. Нам с Уолзом предстояло сегодня осмотреть, какие тут продаются участки, и выбрать… — Он оторвал от грозди виноградину и съел ее, потом вторую. — Кто знает, может, вот этот виноградник мы и выбрали бы… — Он сел за руль и протянул гроздь Дейду, тот оторвал себе с десяток виноградин и съел их по одной. Они поехали дальше, и Ивен все оглядывался на белеющий среди зелени виноградника дом.
— Она умоляла меня не принуждать ее к этому, — сказал он. — Она говорила мне снова и снова, на сотни ладов, что боится этого. Я не поверил ей. Ни за что не хотел поверить. Объясни мне, Дейд, объясни, ради бога, зачем это было нужно и что меняло? Другие животные не удручаются из-за подобных вещей. Зачем же нам удручаться? Или сходить с ума. Или умирать. Или убивать друг друга. Кто мы такие? Кем себя мним? Я убил мою жену, Дейд, я убил Суон, я убил мать Рэда и Евы. Она меня умоляла, а я не желал ее слушать. Я просто не желал ее слушать и все. Чтоб мне это слушать? Мне, Ивену Назаренусу! Ни за что! Никогда! Ты человек, значит не делай того-то и того-то. Ты существо, живущее по законам морали, — значит нельзя, не делай. Сходи с ума — по законам морали. Убивай — по законам морали. Чтоб я, Ивен Назаренус, смирился с тем, что случилось? Да ни за что, никогда! Это в порядке вещей для животных, потому что они не ведают ничего лучшего, но это вовсе не в порядке вещей для меня. Я живу по законам морали. Я отличаю правильное от неправильного и считаю, что мало мне — просто жить, давать жизнь другим и защищать эту жизнь. Все, что мое, должно быть только моим, ибо у меня есть гордость. Все, что ранит мою гордость, все это — зло. А я не желаю мириться со злом. Я не желаю мириться с ним ни в ком, даже в жене моей, в матери моих детей. Я скорее убью ее. Я скорее убью себя. Я скорее убью своих детей. Я не дам отнять у меня гордость. Мою проклятую гордость. Пусть отцом этого ребенка был бы кто-то другой. Какая разница, Дейд? Ведь матерью была бы Суон. Ведь Суон была бы жива. Ведь Суон была бы Суон. Что же это такое с нами, Дейд?
— Это был несчастный случай, — сказал Дейд. — Когда мы закончим все дела в Мадере, я снова вызову доктора Элтоуна. Я скажу ему, что выстрелил в себя сам, случайно. Ты должен позаботиться о детях. Скажешь им, что Суон уехала навестить родителей.
— У нее нет родителей, — сказал Ивен. — У нее тетя в Филадельфии, с которой она жила до семнадцати лет. У нее не было никогда ни родителей, ни дома. Я даже не знаю имени и адреса ее тети. Только сейчас, за эти несколько дней я разгадал, чего она искала всю жизнь. Дом и родителей. Вот что значил для нее виноградник. Иметь свой дом и семью, если не родителей, то по крайней мере детей — они тоже родители, — и мужа, который любил бы ее такую, как она есть. Что пользы от любви, если она не полная? Суон меня умоляла, а я не слушал. Прости меня, Дейд. Я скажу детям, что она уехала в Филадельфию навестить тетю. Я домчу тебя к твоей постели как можно быстрее.
Теперь он гнал машину вовсю.
— Каких-нибудь двенадцать часов назад, — сказал он, — Суон плакала, а потом смеялась. Она смеялась, потому что хотела побыть со мною еще раз. Один-единственный последний раз. Уже из этого мне следовало понять. Понять, что решение мое не годится. Для других, может, и годится, для нее — нет. Ей не хотелось умирать. Я убил ее, вот что. Моя гордость ее убила. Убила мать Рэда и Евы. Так что теперь я остался при своей гордости.
— Это случилось бы так или иначе, — сказал Дейд.
— Нет. Если бы я любил ее, нет, — сказал Ивен. — Она была безрассудная, ну и ладно. А кто из нас не безрассуден? Прости, Дейд. Я едва не убил тебя. Посмотри на моих детей. Они родились от Суон, и у них могли быть еще братья и сестры, но теперь уже не будет. Я убил их братьев и сестер, я убил их мать, потому что не мог позволить ей иметь своего собственного сына.
— Она не хотела этого сына, — сказал Дейд.
— Она не хотела ради моей гордости, — сказал Ивен. — Она не хотела, надеясь вернуть себе мою маленькую, дешевенькую любовь. Она жила бы еще годы, если б не согласилась на мои гордые дешевенькие условия. Она могла бы иметь своего сына среди наших с нею общих сыновей и дочерей. Разве не так?
— Нет, — сказал Дейд. — Нет, не могла бы. Пойми это раз и навсегда. Пойми, что случайность убила Суон. Несчастная случайность, в самой природе ее заложенная, в твоей заложенная, та самая гибельная случайность, которая рано или поздно калечит, сводит с ума и убивает любого. Случайность, тебе сужденная, уже тебя искалечила и свела с ума. Сделай так, чтоб она не задела хотя бы Рэда и Еву.
— Как мне это сделать?
— Как? Займись приготовлениями к похоронам, вот как.
— Будь ты проклят, Дейд.
— Ты спросил меня, — сказал Дейд, — и я тебе говорю. Обдумай, что делать сегодня Рэду и Еве. Обдумай, что делать тебе со своим лицом. Оно испытало удары. Кулаком, металлом, утратой. На нем несчастье, безумие, ярость. Обдумай, какой тебе заняться работой. Обдумай, как тебе жить дальше. Если ты хочешь любить со всей полнотою, люби. Люби ее так.
— Она мертва, — сказал Ивен.
— Люби ее так, — сказал Дейд. — Суон — это Рэд и Ева. Люби их. Люби со всей полнотою. Ты уже оплакал Суон. Мне предстоит это сделать. Ты уже обвинил себя в том, что убил ее. Мне еще предстоит это сделать. И ты должен помочь мне. Займись приготовлениями к похоронам. Я буду с тобою рядом.
Они проехали остаток пути в молчании. Рана Дейда все еще кровоточила. И это она, по-видимому, настроила его сейчас на разговор, потому что вообще Дейд разговорчивостью не отличался. Он мало что имел сказать с той поры, когда еще юнцом шнырял по улицам Патерсона, и уже совсем мало с того времени, как потерял свою жену и детей и остался один, а они были далеко, живые и невредимые, но больше не с ним, и он один, без них, без своей семьи, без тех, кого он единственно и мог бы любить любовью полной и совершенной.
Фирма называлась «Глэддинг и Старч», и вышел к ним один из молодых Глэддингов. Он принялся подробно расписывать все, чем обслуживала фирма, вплоть до костюма и косметики.
— Послушайте, — прервал его наконец Дейд. — Вот этот гроб…
— Это самая простенькая из наших моделей, — сказал мужчина. — Ее редко кто спрашивает.
— Вот этот гроб, — сказал Дейд устало. — Ночная рубашка, которая на ней. И никакой косметики. Не трогайте ее вовсе. Похороны в четверг, в два часа дня… — Он достал из кармана деньги и протянул их служащему. — Выберите для нее место где-нибудь под деревом.
— Какой прикажете сервис?
— Никакого. Мы будем здесь в четверг, в два. Отсюда отправимся на кладбище.
— Вы не хотели бы взглянуть сейчас на покойницу?
— Да, — сказал Ивен. — Я один.
Его провели в маленькую комнату, освещенную голубым неоновым светом. Здесь были всевозможные краны, раковины, шланги, бутылки, склянки и инструменты. Суон лежала на белой койке. Он взял ее голову в руки и всмотрелся в лицо. Он провел рукою по рыжим ее волосам, рыжим, как у Рэда. Он зажег сигарету и выкурил ее всю, стоя над Суон, потом вышел и сказал служащему:
— Вынесите ее отсюда. Положите в отдельную комнату.
Когда ее перенесли на новое место, Ивен сказал:
— Не берите ее больше в ту комнату.
Он вернулся к машине. Дейд был уже в ней — он сидел согнувшись, почти скрючившись.
— Вези-ка меня домой, — сказал Дейд.
— Хочешь, я позвоню доктору Элтоуну и скажу, чтоб он был у нас, когда мы доедем?
— Всего полчаса назад он занес сюда свидетельство о смерти, — сказал Дейд. — Его не будет сейчас на работе. Мы позвоним из дому.
— Не лучше, если кто-нибудь здесь, в городе, окажет тебе первую помощь?
— Нет.
Ивен сел за руль, и они поехали. Они ехали быстро.
— Прости, Дейд.
— Объясни мне все-таки, зачем тебе вдруг понадобилась машина?
— О чем ты, Дейд?
— Не из-за денег ли на машину ты уехал из дому и покинул свою жену на два месяца?
— Да, — сказал Ивен. — Видишь ли, Суон чувствовала себя неважно несколько месяцев. Я думал, разлука будет полезна для нас обоих. Она и сама так думала.
— Ну конечно же, она думала, — сказал Дейд. — Ну конечно же, ты думал. Я твердил тебе десятки раз: все, что я имею, твое. Ты мог бы попросить меня насчет машины. Я б обеспечил тебе машину. Я выслал бы тебе деньги. Человеку кажется, что это он распоряжается своей жизнью. Он не распоряжается ею. Это жизнь им распоряжается. Мужчина не может покинуть женщину, какая б она ни была, мать детей, каких бы то ни было, и рассчитывать, что жизнь у нее в его отсутствие будет складываться такая же, как и при нем. Это невозможно. Мужчина должен быть рядом. Если он рядом, то пускай им живется бедно, пускай нм живется трудно, что поделаешь, так сложилось, но сложилось для них обоих, для них обоих вместе, для всей семьи. Семья это все, и шутки с ней плохи. Ты не должен был оставлять Суон. Это была плохая шутка с семьей. И она ее погубила.
— Муж не должен полагаться на свою жену? — сказал Ивен. — Жена не должна полагаться на мужа?
— Нет, — сказал Дейд. — Вздор это, чепуха. Новый, тошнотворный образ мыслей. Человек не должен полагаться даже на себя самого. Он не должен полагаться на бога. Он должен любить свою семью и предусматривать все, что может с нею случиться, и оберегать ее всеми силами. Тебе понадобилась машина, сказал бы мне.
— Я не хотел тебя беспокоить, — сказал младший брат.
— Если бы мне понадобилось что-нибудь такое, что ты мог бы мне дать, — сказал Дейд, — неужели я бы не попросил тебя? Если ты член семьи, ты не вправе вести себя как чужой. Стоит это сделать, и семьи как не стало, и ты — чужой. Тебе нельзя было уезжать от Суон, как чужому. Нельзя было оставлять ее, как чужую тебе. Итак, ты уехал за деньгами для машины.
Он умолк, зажег сигарету, глубоко затянулся.
— У меня жар, — сказал он. — Я любил Суон. Она была в нашей семье — сияющая светом рыжеволосая девочка из какой-то, где-то бывшей, призрачной жизни, веселая девочка, вся из радости и смеха. Дети, которых она дала тебе, были наши. Они были ее, но они были и наши, и мне горько и больно, что такая нескладная ей выпала жизнь, что вся эта нескладица ее доконала, прикончила. Ты мог бы взять ее с собой. Ты мог попросить меня, и я приехал бы в Пало-Альто и остался с детьми или привез бы их в Кловис.
Он снова умолк.
— Я просто в бреду, — сказал он. — Ничего ты сделать не мог. Ты все сделал правильно. Это случилось, и все. Это не нравится мне, и все. Не ожидал я, что доктор уедет, не поговорив со мной. Не понимаю, что такое.
— Я закатил ему неприятную сцену, Дейд.
— А именно?
— Он вышел и сказал, что Суон умерла. Я сказал, что он лжет, и потащил его обратно в комнату. Я сказал, что убью его, если он не даст ей немедленно чего-нибудь такого, что приведет ее в чувство. Я продержал его в комнате полчаса. Почему она должна была умереть? Другие девушки, другие жены, другие матери проходят через вещи потруднее и не умирают. Почему же именно Суон? Я долго не выпускал его из комнаты.
— А он что?
— Он говорил со мной на нашем языке.
— Он один из наших, — сказал Дейд. — Тебе не следовало забываться. Тебе не следовало шутить с оружием. Окажись поблизости Рэд, ты в него бы выстрелил.
— Я и хотел, — сказал Ивен. — И ты это знаешь.
— Знаю, — сказал Дейд. — Знаю, потому что и со мной такое было.
— Я хотел прикончить нас всех, одного за другим, — сказал Ивен. — Рэда, Еву, потом себя.
— Знаю, — сказал Дейд. — Ты спросил меня прошлой ночью, что тебе делать, и я сказал: делай что угодно, что бы ты ни сделал, все будет правильно. То, что ты сделал, правильно. Ты думаешь так: люби я ее полнее, все было бы иначе — сначала этот сын, не мой, но ее, а потом — наши, новые, общие наши дети. Но, как видишь, не так уж это просто. Иногда это удается. На сей раз не удалось. Вот и все. Не окажись доктор одним из наших, окажись на его месте кто-то чужой — а я чуть не вызвал такого, — ты мог бы теперь быть мертв, и тогда Рэд и Ева остались бы без матери и без отца. Я хочу, чтоб ты отправился к этому человеку, кто бы он ни был и где бы он ни был, и поговорил с ним. Ты понимаешь, о ком я… Поговори с ним о его проклятом ребячестве. Он тоже человек. Он такой же, как все. Пойми это верно. Я знаю тут женщину, Мэри Коури, она из наших, дети у ней уже взрослые, она присматривает за моим домом. Я попрошу ее позаботиться о Рэде и Еве, пока не поправлюсь сам. Найди этого человека и потолкуй с ним. Потом отправляйся в Патерсон. Поброди там по улицам. Месяц проведи вдали от всего. Когда вернешься, поговорим. Ты слышишь?
— Да, Дейд.
— Я постараюсь подыскать тебе здесь участок. А ты осмотрись пока в Патерсоне. Если ты что-то там найдешь и захочешь остаться, я привезу детей. Я и сам, конечно, мог бы остаться там, но скорее всего не останусь. Мои дети родились в доме на винограднике. И я надеюсь, настанет день, когда я снова увижу их в этом доме. Может, года через три или четыре. Я для каждого из них посадил дерево и лозу. Я хочу каждому из них показать его дерево и лозу. Мы потеряли Суон. Мы и ее потеряли. Поезжай и поговори с этим человеком.
— Я поговорю с ним, — сказал Ивен.
Как только они приехали домой, Ивен позвонил доктору Элтоуну.
— С моим братом произошел несчастный случай, — сказал он на родном языке. — У него серьезная пулевая рана в плечо. Я удалил пулю, но думаю, что вам следовало бы осмотреть его.
— Понятно, — сказал доктор. — Скоро буду.
Доктор Элтоун сделал свое дело быстро и ловко.
Они в Дейдом были одни в комнате. Ивен сидел на перилах веранды.
— Состояние у вас плохое, — сказал доктор Дейду, — но поскольку вы старший из братьев, может, лучше, если эту записку прочтете вы. Решайте сами, как с ней быть, вам виднее.
Дейд взял записку и прочитал ее.
«Ивен, дорогой мой, не проклинай меня, пожалуйста. Я сказала тебе, что сделаю все для Рэда и Евы. Ну вот, это и есть — все, и я делаю это для них, потому что так их люблю. Это легко. Когда-нибудь я бы все равно это сделала. По крайней мере, я дала тебе Рэда и Еву. А это ведь уже кое-что, не так ли, милый? Я ничего больше не говорю тебе, чтоб и ты ничего больше не смог сказать Рэду и Еве. Не жалей обо мне. Будь им хорошим отцом. Сделай так, чтоб они любили меня. Сделай так, чтоб они думали обо мне хорошо. Я люблю тебя, мой дорогой. Не забывай меня. Суон».
— Большое вам спасибо, — сказал Дейд доктору. — Вы понимаете эту записку?
— Я понимаю только, что ночью, в какой-то момент, она приняла слишком большую дозу снотворного, — сказал доктор.
— Почему?
— Мне ничего не известно о ней. Но одно я могу сказать точно: физически она была совершенно здорова.
— Физически?
— Да.
— Что вы имеете в виду?
— Бывают, и нередко, такие личности с отклонениями от нормы, — сказал доктор, — которым в определенных обстоятельствах, ну, скажем, в браке, в семье, удается скрывать правду о себе в течение целого ряда лет. Это могут быть чрезвычайно приятные, привлекательные, вполне, казалось бы, благоразумные, а иногда и просто блестящие люди.
— Вы хотите сказать, что она была ненормальная?
— Я долго изучал записку у себя в кабинете. Вы, конечно, заметили, что она скомкана. Не я ее комкал. Я нашел записку скомканной под ее постелью. Возможно, что она не раз писала такие записки за время своего замужества, но потом уничтожала их. Сдается мне, у вашего брата был трудный брак, потому что не так уж просто поддерживать мир и безопасность с подобной личностью. Рано или поздно наступает одно из двух: или оба они становятся, ну, скажем, неуравновешенными и… кончают каким-нибудь насилием, или же рушится брак. Человеку из нашего народа нелегко пойти на разрыв брака. Она это знала. Она, по всей вероятности, решила уберечь его и детей, так как понимала, что если ей не уйти от них совсем, все они рано или поздно будут настигнуты безумием. Она знала, что ваш брат не из тех мужчин, которые могут отказать своим детям в их матери — по какой бы то ни было причине. Ей пришлось бы уйти с детьми, и тогда она не сумела бы быть им матерью, без его помощи не сумела бы. Оставалось с собой покончить, и она решила покончить. Такие люди способны на любой поступок. Она умерла не от операции. Я сообщил об этом как о разрыве сердца. Оно и было так в каком-то смысле.
— Бедная Суон, — сказал Дейд.
— Вы расскажете брату?
— Нет.
— Вы хотите записку?
— Нет.
— Вы узнали почерк?
— Да.
— Могу я сохранить записку в своих бумагах? Никто никогда не узнает о ней.
— Конечно.
— Сейчас я усыплю вас и надолго, — сказал доктор Элтоун. — Моя просьба — оставаться в постели до тех пор, пока я сам не разрешу вам подняться. Вечером я загляну снова и вообще буду навещать вас дважды в день в течение недели. Вы чистили свой пистолет, не так ли?
— Да, — сказал Дейд. — В четверг мне нужно подняться. На несколько часов. Я должен поехать с братом на похороны.
— Посмотрим, — сказал доктор. — Но во всяком случае вы должны немедленно вернуться домой и лечь.
— Хорошо, — сказал Дейд.
— Вы разговариваете во сне?
— Нет. А что?
— Вы забыли записку?
— Да, — сказал Дейд. — Пожалуйста, позовите моего брата.
Доктор вышел на веранду.
— Дейд просит вас на минутку.
Ивен и доктор Элтоун вошли в комнату Дейда.
— Я должен заснуть сейчас, Ивен, — сказал Дейд. — Номер и адрес Мэри Коури на бумаге возле телефона. Скажи, что я прошу ее приехать и провести здесь несколько дней. Когда поедешь за ней, захвати по дороге детей. Скажи Уоррену и Мэй, что Суон умерла от разрыва сердца. Скажи им, что со мною произошел досадный глупый несчастный случай и что мне нужно несколько дней полежать. Присматривай за всеми, пока я стану на ноги, ладно?
— Ладно, Дейд. — Ивен обернулся к доктору, словно давая ему понять, что все будет в порядке.
— Я приеду вечером часов в девять, — сказал доктор Элтоун Дейду. — К тому времени вы проснетесь. Мы придумаем, что бы вам поесть, а потом я снова усыплю вас. Он посмотрел на Ивена. — Скверная у вас на лбу шишка. — Он достал из своего саквояжа тюбик с какой-то мазью. — Смажьте ее вот этим.
Потом они вышли из комнаты, и доктор плотно прикрыл за собою дверь.
— Ему гораздо хуже, чем он думает, — сказал доктор. — Пожалуйста, дайте ему абсолютный покой. Вам и самому не мешало бы отдохнуть. Хотите снотворное?
— Нет, — сказал Ивен. — Я не пользуюсь им. Я засну вечером, когда уложу детей.
Доктор Элтоун попрощался, сел в свою машину и уехал. Отъехав от дома на милю, он остановил машину, вынул из кармана записку, осмотрел ее еще раз. Потом он еще раз осмотрел пузырек из-под лекарства — в нем были две таблетки; одну из них он сразу же проверил и узнал. Пузырек мог содержать двадцать таких таблеток, а то и больше. Три такие таблетки могли оказаться смертельны для многих, пять для большинства, а семь для любого. Он спрятал записку и пузырек в карман и поехал дальше.
В четверг днем доктор Элтоун был у них. С полчаса занимался он раной Дейда, потом сказал:
— Вам нельзя подниматься.
— Я должен, — сказал Дейд. — Дайте мне что-нибудь такое, чтоб я продержался на ногах часа три.
— Послушайте меня, — сказал Элтоун на их родном языке. — Вы в тяжелом состоянии.
— Знаю, — сказал Дейд.
— Вам нельзя сейчас подняться даже на час, — сказал доктор.
— Я понимаю, — сказал Дейд. — Но мы — семья. И мы потеряли члена семьи. Мы — это мой брат и я. Дети поехать не смогут. Они ничего не должны знать. Мой брат не может поехать один. С ним должен быть кто-то из семьи. Я понимаю, но я обязан ехать с моим братом на похороны его жены, матери его детей. Вы знаете сами, что я обязан ехать.
— Если с вами что-нибудь случится, будет расследование, — сказал доктор. — Смерть от пулевой раны непременно будет расследована. Я думаю не о себе. Я думаю о детях. Решайте сами, но мой долг сказать вам правду. Я уже трижды сделал вам переливание.
— Я должен быть с моим братом.
— Хорошо, — сказал доктор. — Сейчас я сделаю вам еще одно переливание, потом вы оденетесь и поедете. Вы будете там в два. Вы должны возвратиться не позднее четырех. Я буду ждать вас. Может быть, мне придется продежурить здесь ночь.
— Спасибо, — сказал Дейд.
В половине второго он оделся. Дети были во дворе с Мэри Коури. Мэри месила на столе тесто для хлеба, показывала Рэду и Еве, как это делается, разрешала им помогать и рассказывала о своих четырех сыновьях и двух дочках.
Ивен молча вел машину.
— Как Рэд? — сказал его брат.
— Прекрасно.
— Как Ева?
— Тоже.
— Как ты?
— Прости меня, Дейд.
— Выучил ли ты Рада за эти дни чему-нибудь новому на нашем языке?
— Да.
— Что он знает сейчас?
— Это правильно, — сказал Ивен. — Я люблю тебя. Меня зовут Рэд Назаренус. Мою мать зовут Суон Назаренус. Моего отца зовут Ивен Назаренус. Мою сестру зовут Ева Назаренус. Брата моего отца зовут Дейд Назаренус.
— Когда ты научил его всему этому?
— В субботу ты научил его говорить: это правильно, — сказал Ивен. — В воскресенье я научил его говорить: я люблю тебя. В понедельник — мою мать зовут Суон Назаренус. Во вторник и вчера я научил его остальному. Кое-чему он учится у Мэри Коури, и Ева тоже.
— Дети Уолза знают о Суон?
— Нет. Мэй потрясена была и очень плакала.
— А после этого ты говорил с ними?
— Вчера днем я взял к ним детей. Рэду захотелось видеть Флору. Мэй опять плакала. Мы сидели в гостиной и пили. Я хотел сказать ей правду, Дейд. Я не сказал ей, но хотел.
— Ты сказал ей правду. Суон умерла от разрыва сердца.
— Они знают, тут есть что-то еще, Дейд.
— Всегда есть что-то еще, Ивен. Всегда и во всем есть что-то еще, чего мы не знаем.
Он чуть было не сказал Ивену правду, но вспомнил, что не должен, не должен ради Суон, не должен ради него самого, не должен ради Рэда и Евы.
— Как ты думаешь, почему я отнес тебя именно в мою комнату? — сказал Дейд. — Я хотел, чтобы ты прошел через эти шутки с оружием, прежде чем вернутся дети.
— Прости, Дейд.
— Завтра же отправляйся и поговори с этим человеком. Потом поезжай в Патерсон.
— Я отправлюсь и поговорю с этим человеком, — сказал Ивен, — но в Патерсон не поеду. Не покину детей.
— Пойми, ты можешь снова сорваться, — сказал Дейд, — а я нездоров. Срывайся в Патерсоне. Срывайся там до тех пор, пока не будешь уверен, что со срывами у тебя покончено. Сделай это для Рэда и Евы.
— Я не могу покинуть детей, Дейд.
— Сделай это для меня, дружище. Я болен.
— Ладно, Дейд.
— Оставайся в Патерсоне, пока не почувствуешь себя увереннее, — сказал Дейд. — Поезжай обратно а Патерсон, в дом, построенный Петрусом для нас с тобою, если, конечно, он еще на месте. Во всяком случае, поезжай туда, где он был. Побывай снова на той фабрике, где Петрус проработал столько лет, чтоб прокормить нас и, скопив денег, открыть свое собственное маленькое дело. Походи по старым нашим улочкам. Срывайся там. Поживи в Патерсоне, пока не почувствуешь себя увереннее. Когда ты вернешься обратно, ты найдешь своих детей, детей Суон в прекрасном состоянии, и вся наша семья заживет прекрасно.
— Ладно, Дейд.
— Когда вернешься, поговорим, — сказал Дейд. — Если захочешь, мы станем вместе работать на винограднике. В этом году я никого не хочу нанимать. Мы с тобой сами справимся с этой работой. Ты встаешь, когда еще холодно и темно. Идешь в виноградник и принимаешься подрезать лозы, одну за другой, и подрезаешь каждую до тех размеров, какие были у ней вначале. Весной и летом хорошая лоза дает массу отростков. Это нужно — для винограда. Зимой, когда мгла и холод, лоза должна быть подрезана до прежних своих размеров. Если ее не подрезать, то следующим летом виноград уродится плохой и не созреет. А еще на другое лето лоза разрастется в обыкновенный куст без единой виноградины. Мы с тобой подрежем каждую лозу в винограднике. А потом ты решишь, что тебе делать дальше — вернуться в университет, перебраться в Патерсон или завести свой собственный виноградник.
— Ладно, Дейд.
— Будешь ли ты в Патерсоне, — сказал Дейд, — будешь ли здесь, со мной подрезать лозу до прежних ее размеров, помни всегда про виноградник, помни Суон, помни Рэда и Еву.
— Она умоляла меня, Дейд.
— Я знаю, — сказал Дейд. — Если хочешь взять с собой пистолет, возьми. Возьми его, если надо. Если так тебе спокойнее. Или же забудь о пистолете и возьми с собой книгу.
— Какую книгу? — сказал Ивен.
— Ту, что ты дал мне когда-то, — сказал Дейд. — Вот эту вот книгу. — Он достал ее из кармана. — Разве ты забыл? — сказал он на родном языке. И из того же кармана он достал самый маленький из трех своих пистолетов. — Вот тебе оружие, — сказал он. — Если ты думаешь, что убил мать своих детей и должен убить себя, возьми его. Возьми его с собой в Патерсон. Суон была прекрасной матерью прекрасных детей. Я ранен в самое сердце тем, что она ушла от нас, тем, что мы сейчас едем на эти несчастные ее похороны, но я хотел бы, чтоб Суон всегда оставалась прекрасной, я хотел бы, чтоб ее дети оставались прекрасными. Вот они — пистолет и книга. Возьми же одно из двух.
— Я взял бы и то и другое, — сказал Ивен.
— Бери, — сказал Дейд.
Ивен Назаренус взял книгу и положил ее в один карман. Он взял пистолет и положил его в другой карман.
Они вошли в помещение похоронной фирмы «Глэддинг и Старч» и еще раз посмотрели на Суон. Не было ни музыки, ни цветов, только открытый гроб в пустой комнате.
— Да, — сказал Дейд. — Лучшее, что может сделать мужчина, это найти мать для своих детей. Ты нашел для них самую замечательную.
Он обернулся к молодому Глэддингу, кивнул, — и тот опустил на гроб крышку. Гроб вынесли и положили на катафалк. Ивен повел машину вслед за катафалком — на кладбище.
Гроб был зарыт. Все, кто сопровождал их, разошлись.
И вдруг его брат, до сих пор молча стоявший рядом, навалился на него всей своей тяжестью, и это было так неожиданно, что Ивен едва удержался на ногах. Он обнял брата, не дав ему упасть, и быстро потащил к машине.
— Ради бога, Дейд.
Он уложил его на заднем сиденье и, не теряя ни секунды, поехал обратно.
Подъезжая к дому, он увидел доктора Элтоуна, сидящего на ступеньках.
Доктор кинулся к машине.
Вдвоем они внесли Дейда в комнату и опустили на кровать. Доктор действовал молниеносно. Он вставил в шприц иглу, вонзил ее чуть ли не в самое сердце Дейда и выдавил всю жидкость из ампулы в тело. Потом он приложил щеку ко рту Дейда.
— Зря вы так бьетесь, — сказал наконец Ивен на своем языке. — Он мертв. Он умер на кладбище.
Доктор выпрямился и посмотрел на Ивена. На мгновение глаза его почти заволокло слезами, потом они стали суровыми и озабоченными.
— Это я в него выстрелил, — сказал Ивен.
— Знаю, — сказал Элтоун. — Дайте-ка мне сообразить. Вот что. Вам нужно будет явиться на расследование. Это единственно разумное, что вы можете сделать. Да, вы стреляли в него. Но вы же знаете, это был несчастный случай. Вы не стали бы убивать собственного брата. Вы сидели и болтали с ним и заодно чистили пистолет, и вдруг — грянул выстрел. Это несчастный случай.
— Это вовсе не случай, — сказал Ивен. — Я выстрелил в него сам. Я убил мою жену. Мой брат помог мне убить ее. Я был как сумасшедший. Я в него выстрелил. Он мертв. И я не желаю являться на расследование.
— Вы должны, — сказал Элтоун. — Ради ваших детей.
— Мои дети мертвы, — сказал Ивен. — Я ничего не могу сделать для мертвых.
— Ваши дети во дворе с Мэри Коури, — сказал Элтоун. — Подумайте о них, пожалуйста. Если вы не явитесь, это расценят как доказательство виновности, которое будет слишком трудно опровергнуть. Я помогу вам. Считайте, что я из вашей семьи.
— Не желаю я никакой помощи, — сказал Ивен. Он взял руку брата и долго держал ее в своей. — Мне жаль, Дейд, — сказал он.
Потом он отпер бюро Дейда, достал из верхнего ящика деньги и протянул их Элтоуну.
— Для вас, доктор Элтоун, — сказал он. — Для Мэри Коури. Для моего сына и моей дочери.
Потом он вышел из дому, прямиком направился к машине, сел в нее и уехал.
Постояв некоторое время на крыльце, доктор вернулся в комнату и долго сидел там, пытаясь хоть что-нибудь сообразить. Наконец он встал, спустился на задний двор и, застав женщину одну, сказал ей:
— Сделайте так, чтоб дети ни о чем не догадались. Их мать в земле. Пусть они думают, что она уехала навестить своих родителей. Их дядя мертв. Пусть они думают, что он спит. Я запру дверь его комнаты. Их отец сошел с ума от горя. Он уехал. Он не в состоянии им помочь. И никто не в состоянии помочь ему. Пусть они не знают, что их мать умерла, что их дядя умер, что отец их сошел с ума. Я проведу здесь ночь, подожду, не вернется ли он. Если их отец до утра не вернется, вы должны будете взять детей к себе и позаботиться о них. Я помогу вам. Если отец их вернется, я помогу ему. Они сейчас в винограднике и заняты игрой. Сделайте так, чтоб они ничего не узнали о смерти и о безумии. Вы мать. Вы сумеете.
— Да, — сказала женщина.
Доктор Элтоун медленно направился в виноградник, туда, где в тени кустов укрылись Рэд и Ева.
— Здравствуйте, — сказал ему Рэд.
— Кто это? — спросила Ева.
— Это доктор Элтоун, Ева.
Он наклонился, сорвал с куста темную гроздь винограда и начал есть его, глядя на детей. Он стоял так и смотрел на детей. Оба они были такие живые, здоровые, ладные и такие теперь одинокие, что при мысли об этом даже у него, у человека, ежедневно видящего боль и смерть, сжалось сердце.
— Вы пришли поговорить с нами? — сказала Ева.
— Я пришел на вас посмотреть, — сказал доктор.
— Вы нас видите?
— Да.
— А что вы видите?
— Брата и сестру.
— Нет, — сказала Ева. — Короля и королеву.
(Короля любви и королеву красоты? — подумал он.)
— Какого короля? Какую королеву?
— Короля — его, и королеву — меня. Разве вы не знаете? Он король, а я королева, правда, Рэд?
— Да, — сказал Рэд. Он посмотрел на доктора очень серьезно, так серьезно, что у того снова сжалось сердце. — Это правда, — сказал он. — Вы ведь нам верите?
— Верю, — сказал доктор.
— Король виноградника, — сказал Рэд. Он протянул руку, сорвал с куста гроздь винограда, дал ее Еве, потом сорвал вторую для себя. — Король виноградника и королева лозы, — сказал он.
— Нет, Рэд, — сказала девочка. — Король виноградника и королева короля. — Она обернулась к доктору: — Разве так не правильно?
— Это правильно? — сказал Рэд серьезно.
— А ты как думаешь? — сказал доктор.
— Пожалуй, правильно, — сказал Рэд.
— Это правильно, — сказала Ева. — Разве нет? — сказала она доктору.
— Да, — сказал он и повернулся уходить.
— Не уходите, — сказал Рэд.
— Да, не уходите, — сказала Ева. — Давайте поговорим еще.
— Я бы с удовольствием, — сказал доктор, — но у меня кой-какие дела. Как-нибудь в другой раз поговорим еще.
Он повернулся и пошел обратно к дому.
Мальчик сорвал с куста зеленый лист и протянул его девочке. Потом он набрал в горсть земли и дал ей просыпаться меж пальцев. Потом он открыл коробку из-под сигарет и извлек оттуда маленькую жабу с рожками, которую сам сегодня поймал. Он подержал ее немного, глядя, как она перебирает в воздухе лапками, и снова положил в коробку.
— Она живая, — сказал он. — Она живая, и она моя. Но винограда она не ест.
— Почему? — сказала Ева.
— Наверно, ей не нравится наш виноград.
— А какой ей нравится? Мускат? Малага?
— Нет, — сказал Рэд. — Она вообще виноград не любит. Она любит землю.
— Тогда дай ей немножко, — сказала Ева. — Бедная, маленькая… как ее звать, Рэд?
— Жаба с рожками.
— Бедная маленькая жаба с рожками, — сказала Ева. — Дай ей немножко земли.
Рэд насыпал в коробку немножко земли.
— Ты хочешь ее? — сказал он сестре.
— Да, Рэд, я очень ее хочу.
Рэд передал коробку сестре.
— Бери, — сказал он. — Она твоя.
Девочка приподняла крышку, посмотрела на рогатую жабу и сказала:
— Бедная, маленькая… как ее звать?
— Жаба с рожками.
— Жаба с рожками, — сказала Ева. — Что же мне с ней делать? Раздавить? — И она шаловливо, обрадованно закивала.
— Нет, — сказал Рэд. — Не делай этого. Не порть ее чудные рожки.
— Что же мне тогда с ней делать? — сказала Ева. — Может, выкупать слегка? Нет, я знаю — что!
— Что?
— Я подарю ее маме. В день рождения.
— А когда у мамы день рождения?
— Послезавтра?
— Нет.
— Позавчера?
— Нет! Неужели ты не знаешь, что такое день рождения?
— Что это такое?
— Это день, когда ты родился.
— Значит, — сказала Ева, — ты рождаешься снова каждый раз, когда у тебя день рождения?
— Нет.
— Тогда, значит, ты умираешь каждый раз, когда у тебя день рождения?
— Нет, Ева! День! Рождения! День, в который ты родился! В день рождения не умирают!
— Когда же умирают? — сказала Ева. — В день смерти?
— День смерти?! — рассмеялся Рэд.
Женщина, знакомство с которой было для детей неожиданным и настоящим приключением, сейчас шла к ним сквозь ряды кустов, напевая протяжную песню на языке Ивена и Дейда.
Она подошла и посмотрела на них, и в глазах ее была любовь.
— Ну, король, — сказала она. — И ты, королева. Пойдем-ка мы с вами домой и сперва поплещемся в ванне. Потом поужинаем. Потом я расскажу вам что-то хорошее.
— Что? — сказала девочка. — Сказку?
— Я расскажу вам быль. Правдивую историю, королева.
— Она случилась с тобою, Мэри? — спросил Рэд.
— Она случилась… а как ты думаешь, с кем?
— С кем?
— С тобой, король Рэд! С тобой, королева Ева!
— Но мы и так ведь знаем все, что с нами случилось, — сказал Рэд.
— Нет, этого вы не знаете, — сказала Мэри. — Это о другом. Это история любви. Вставайте-ка.
Они встали и пошли за ней через виноградник к дому.
— Она печальная? — сказал Рэд.
— Да, — сказала женщина.
— Почему? — сказал Рэд.
— Это правдивая история, король Рэд, — сказала она, — а правда всегда печальна.
— Что такое история? — сказала Ева. — Что это такое?
— Это то, что бывает в жизни, королева, вправду бывает, — сказала женщина.
Она взяла их руки и сжала в своих с любовью, и дети поняли, что это любовь.
Он увидится и поговорит с этим человеком. Он не проявит к нему ненависти, не проявит злобы, но он возьмет его за горло и чуть не задушит, и лишь в последнюю секунду отпустит его, после всего, что было, отпустит — жить. А потом он снова сядет за руль и будет гнать машину, пока не приедет в Патерсон. Он поедет в дом, который Петрус построил для своих сыновей. Он исходит вдоль и поперек город, улицы своего и Дейда мальчишества.
Он остановил машину неподалеку от дома, где жил этот человек. Он прошел еще немного пешком и поднялся по лестнице к его двери. Негромко постучался — ведь он же к нему не чувствовал ни злобы, ни ненависти. Дверь открыла молоденькая девушка. Наверно, из студенток, подумал он. Да, конечно, студентка.
Он назвал его имя.
— О, — сказала девушка. — Одну минуту. — Она ушла в комнату и скоро вернулась с номером городской газеты, сложенным как раз так, чтобы он смог прочитать нужную заметку. Он взял газету и прочел сообщение.
— Бедный человек, — сказала девушка. — Вы его знали?
— Да, — сказал он и вернул ей газету.
— Мы въехали в квартиру сегодня утром, — сказала девушка. — Его тело нашли вчера. Но умер он еще раньше. Он, видимо, был больной, или психический или еще что-нибудь такое. В статье говорится, что он был выдающийся человек и что ему было ради чего жить. Он не оставил никакой записки. Надеюсь, он не родственник вам?
Он спустился на улицу, свернул за угол и сел в машину. Он поехал к дому, который они хотели и старались купить. Возле двери валялись четыре свернутые газеты, почтовый ящик был набит до отказа. Он отпер дверь и вошел. В коридоре в глаза ему бросился Евин игрушечный слоник, к которому она давно уже охладела, и двухколесный велосипед Рэда, с которого он столько раз падал. Он падал и наживал синяки и приходил в ярость и все равно продолжал свое. Это было давно, теперь уже велосипед был мал для Рэда, и теперь уже Ева пробовала кататься на нем. Он заглянул во все комнаты, потом вышел из дома и запер за собою дверь. На минутку он задержался, открыл почтовый ящик и вынул все, что в нем накопилось. Большей частью это были счета, и он не стал даже смотреть их. Он вскрыл только один конверт — с письмом. Письмо было на шести блокнотных листках, без обращения, без приветствия.
«Был у человека друг, — прочел он. — Как-то раз поздно вечером жена его друга позвонила ему и сказала, что она приняла чересчур большую дозу снотворного. Он тотчас же пошел к ней, и она сказала, что хотела умереть, но теперь уже не хочет. Вызвать врача она не могла, так как не хотела, чтоб кто-нибудь узнал про этот случай. Как бы то ни было, понемножку она оправилась, и все сошло благополучно. Она взяла с него обещание не рассказывать об этом ее мужу. Она сказала, что уже чувствует себя хорошо и все в порядке. Спустя несколько дней, вечером, она позвонила снова. Он решил, что должен немедленно сообщить обо всем своему другу, но она плакала и умоляла его не разбивать жизнь ее детям. Он ничего не мог понять. Он был бы рад помочь своему другу, но боялся, что рассказ о случившемся будет тому плохой помощью. Всю эту ночь он не сомкнул глаз, а на следующий день позвонил ей узнать, все ли в порядке с нею и с детьми его друга. Она попросила его прийти. Он пошел. Они разговорились и провели так несколько часов, пока дети были в цирке с соседской девушкой. Через неделю та же соседская девушка взяла детей на пикник. Когда она привела их обратно, мальчик вошел в комнату и спросил его, почему это он не сидит у себя дома. Он сразу же ушел к себе, а наутро уложил чемодан и уехал в другой город, чтобы она не могла его больше найти. Через месяц он вернулся домой, а еще через несколько дней она позвонила из другого города и сказала, что у нее все в порядке. Он попросил ее беречь себя, беречь свою семью. Сам же он решил вернуться в город, где родился, так как чувствовал себя очень больным — очень больным и умирающим. Вещи у него уже были собраны и билет куплен, и тут он вдруг подумал, что надо позвонить ей и убедить, чтоб она рассказала все о себе мужу. Номер не ответил. Когда он зашел домой за чемоданами, позвонил его друг. Ему многое нужно было сказать своему другу, но он не знал, с чего и как начать, да и друг не проявил желания его слушать. Он решил, что попробует рассказать об этом в письме, с добрым чувством к ней, к своему другу и к детям их. Он написал и пожелал им всем доброй жизни, доброй любви, доброй правды и доброй надежды».
Он медленно прочитал письмо, потом сел в машину и просидел в ней без движения чуть ли не час — не в силах даже включить зажигание и завести мотор. Он не прочитал письма вторично, но помнил в нем каждое слово. Наконец он вылез из машины и снова направился в дом, к телефону.
Доктор Элтоун взял трубку.
— Послушайте, — сказал он доктору на своем языке. — Я звоню из нашего дома в Пало-Альто. Я выезжаю сию минуту в машине Дейда. На дорогу уйдет четыре часа. Я хочу явиться на расследование.
— Мы поедем туда утром, — сказал доктор Элтоун.
— Сейчас около десяти, — сказал он. — Я буду дома в два.
— Хорошо, — сказал доктор. — Жду вас.
— Скажите, пожалуйста, — попросил он, — как мой сын?
— Хорошо.
— Могу я поговорить с ним?
— Он спит, — сказал доктор. — Разбудить его?
— Нет, — сказал он. — Пусть спит. Как моя дочь?
— Тоже хорошо.
— Спасибо.
— При расследовании могут встретиться небольшие затруднения, — сказал доктор. — Вы должны верить, что это был несчастный случай.
— Я приеду в два, — сказал он. — Я должен увидеть лица моих спящих детей.
— Давайте, — сказал доктор.
Он вышел из дома, сел в машину и поехал. Он быстро ехал по направлению к Лос-Баносу, по дороге, кружившей вдоль склонов Пачеко Пасс, и в это самое время на переднем колесе лопнула камера. Машину рвануло в сторону и на полном ходу ударило о металлическое ограждение над обрывом. Смяв ограждение, она полетела вниз и, падая, ударилась снова о выступ, подскочила, стала падать все ниже и ниже и наконец остановилась.
Голова мужчины была разбита, лицо в крови, сознание почти покинуло его, и все-таки из последних сил он старался сдвинуться с места, встать и пойти, чтоб явиться утром на расследование. Он прополз на животе едва три дюйма и наткнулся на металл. Сознание его прояснилось, и он понял, что над ним обломки машины и что он зажат в них, как в ловушке, разбитый и истекающий кровью, вдалеке от дороги, в ночной темноте. Ни единая живая душа не пройдет сейчас мимо, а если и пройдет, то не заметит обломков крушения — маленькое пятно внизу под горой, на расстоянии четверти мили. Он еще раз попытался сдвинуться с места, выбраться из-под обломков, подняться на ноги и пойти, увидеть спящее лицо Рэда, увидеть спящее лицо Евы, но не было сил шевельнуться, и тут он услышал смех. Что-то смеялось. Но что — он никак не мог разобраться: может, это смеялся он сам, а может, его жизнь, или жизнь его отца, или жизнь Суон, его жены, или жизнь его брата, или обломки разбитого вдребезги автомобиля, или обломки разбитой вдребезги сути, сущего.
Но что бы то ни было, смех обрел для него форму и смысл огня. Он не видел его. Он ничего не видел, но он почувствовал его запах, а потом услышал его, сперва как взрыв — словно в легкие, охваченные страшной жаждой, вдруг хлынул воздух, — потом как тихий гул. И наконец его всего уже охватило смехом.
— Суон? — сказал он. — Рэд? Ева?
В доме на винограднике в Кловисе, пять часов спустя, доктор Элтоун, спавший в гостиной, вдруг приподнялся и сел на диване, потому что он услышал чьи-то рыдания.
Он встал и направился через темный коридор к комнате Рэда.
Мальчик плакал во сне. Доктор Элтоун включил свет в коридоре и прислушался.
— Папа? — сказал мальчик. — Мама?
Он снова всхлипнул, потом затих — погрузился в сон. Доктор посмотрел на свои часы и с удивлением подумал, что могло задержать до сих пор отца мальчика. Он пошел обратно к дивану, но вместо того чтобы снова лечь, он сел и остался сидеть в ожидании.
ПАПА, ТЫ С УМА СОШЕЛ!
Повесть
АРАМУ САРОЯНУ
Что бы и когда бы ни написал писатель, одно вполне и всегда верно — он мог бы за это же самое время написать и что-то совсем другое. Начать новую книгу — это всегда значит решить, о чем и как ты напишешь. Такое решение — половина книги для каждого писателя, больше чем половина — для некоторых, для меня же оно — вся книга. Сесть и написать ее уже невеликий труд, и писателю ничего не стоит с ним справиться. Я решил написать эту повесть, потому что так попросил меня ты, в 1953-м, когда тебе было десять, и потому что в 1918-м, когда я сам еще был десятилетним мальчишкой, мое писательское искусство не равнялось тому, что я хотел бы сказать. И вот теперь, наконец, я ее написал, я, а вернее — ты. И сделать для этого мне пришлось совсем немногое — только вспомнить себя десятилетним, наблюдать — тебя, сложить наши «десять» вместе и прибавить к ним мои «сорок пять». Твой голос и твоя походка — плоть этой книги, твой взгляд — ее стиль, ясный и непосредственный, окрашенный то серьезным раздумьем, то ироническим восклицанием, то загадочным смехом, смотря по тому, оказывается ли предмет, тебе открывшийся, подлинным или фальшивым, или — и тем и другим, или — ни тем ни другим. Вложить все это в простое повествование — легчайшее дело на свете, когда ты уже начал его и делаешь, и вот оно — сделано. Благодарю тебя и люблю.
УИЛЬЯМ САРОЯН
— С днем рождения, — сказал мой отец.
Он вытащил из кармана пиджака книгу и вручил ее мне.
— Спасибо, папа, — сказал я. — Это как раз то, чего мне хотелось.
— «Нижняя челюсть», — сказал он. — Моя последняя и заключительная повесть. Прими же ее, а с ней заодно и мой труд.
Я оглядел «Нижнюю челюсть» снаружи. После чего я взглянул на первую страничку и потом на последнюю.
С виду книга была превосходная.
— Какой такой труд? — сказал я.
— Труд написания повести.
— Я не знаю, как они пишутся.
— Только великий писатель вправе похвалиться, что знает, — сказал мой отец. — Тебе же до этого еще далеко.
— Пусть так, но о чем бы я мог написать?
— О себе, конечно.
— О себе? А кто я?
— Напиши свою повесть и выясни. Что касается меня, то я намерен писать поваренную книгу.
В это время вернулись домой моя мать и сестренка, выходившие за покупками, и мать моя сказала:
— Подумать только! Ему десять лет!
— Да, — сказал мой отец. — А девочке восемь, а мне сорок пять, а тебе двадцать семь. Не знаю, как это вообще у нас получилось, но полагаю, что не без некоторой помощи еды.
— Да, — сказала моя мать, — и это когда все так дорого. Сколько, по-твоему, мне пришлось заплатить за эти покупки?
— Два доллара?
— Двадцать два!
— Надо бы тебе научиться стряпать.
— Папа собирается писать поваренную книгу, — сказал я матери.
— Да, а Пит собирается писать повесть, — сказал мой отец. — Итак, сегодня первое число, а я, к сожалению, все без денег.
— Но как же мне быть? — сказала моя мать. — У меня десятилетний сын и восьмилетняя дочь, и должна же я прокормить их?
— Вот одна из причин, побуждающих меня писать поваренную книгу, — сказал мой отец. — Возможно, она научит тебя, как экономить на еде.
— Чем нам, по-твоему, питаться? Рисом?
— Я, видишь ли, толком еще всего не обдумал. Так что ты уж протяни пока с тем, чего накупила.
— Через три дня от всего от этого и крошки не останется.
— Продержись как-нибудь. Денежных поступлений у меня никаких не предвидится, а просить аванса не могу, пока не начну свою поваренную книгу. Продержись как-нибудь хотя бы месяц.
— Невозможно, — сказала моя мать. — Он столько ест. На него-то и уходит вся еда.
— А если я заберу его к себе?
— Но тебе придется его кормить.
— Разумеется.
— И он должен будет ходить в школу.
— Разумеется.
— Ладно, — сказала мама. — Забирай его.
Мы попрощались с моей матерью и сестрой и пустились в путь вниз по пригорку, к шоссе, рассчитывая поймать там попутную машину и доехать до Малибу — всего в одиннадцати милях, — где на самом взморье находится дом моего отца.
Отец не разрешил, чтобы мама подвезла нас до дому. Он хотел, чтобы я приучался к трудностям.
— В жизни человека тяжелые времена выдаются чаще, чем легкие, — сказал он, — так что чем раньше ты начнешь к ним приучаться, тем лучше для тебя.
— Ну что ж, согласен.
Мы прошагали почти километр по улице Заходящего Солнца, вышли на другую, пересекающую, проехали на грузовике километров восемь-девять, отмахали еще один или два пешком и наконец добрались до места.
Был час прилива, когда мы подошли к дому моего отца. Всю дорогу солнце шло рядом с нами, опускаясь все ниже и ниже в море. Не передохнув, мы сразу же спустились на берег — побродить, посмотреть, не найдем ли там чего-нибудь подходящего, чтоб развести огонь или же просто подержать в руках и полюбоваться, — водоросль, гальку, ракушку. Мы набрели на ящик от кока-колы, и отец мой подобрал его и сказал, что он может нам пригодиться, а я все не мог представить — на что? Разве только держать в нем бутылки? Мне попалась закрученная спиралью ракушка, и отец сказал про нее, что это настоящий трофей и такая штука, которую стоило бы рассматривать и изучать всю жизнь.
— В этой спиралевидной раковине есть нечто от форм и движения небесных тел, — сказал он, и я снова оглядел ракушку, снаружи и внутри. Смотреть на нее было и в самом деле приятно; она была большая, почти с половину моей ладони, серовато-белая с черными прожилками и кое-где насквозь пробитая морем, так что мне было видно, как вьется внутри спираль.
Мы прошлись немного по берегу, туда и обратно, и впридачу к своим находкам подобрали еще с полдюжины голышей, круглых и маленьких, как грецкие орехи, да обрывок сухой водоросли.
Когда мы вернулись домой и поднялись по лесенке на крыльцо, отец мой присел возле кучи водорослей, которые он уже раньше натаскал сюда с берега, порылся в ней и отобрал целую охапку, чтобы развести в камине огонь.
— Если хочешь знать правду, — сказал он, — большая часть этих водорослей слишком хороша, чтобы быть сожженной.
Я распахнул входную дверь, чтобы он мог свободно пройти в дом, неся в обеих руках топливо. К тому времени, когда он заложил в камин кучу порванных газет и на них водоросли, уже смерклось, но я еще не зажигал света, так как знал — мой отец любит, чтобы первый вечерний свет шел от огня. Он сунул в рот сигарету, закурил, бросил горящую спичку в камин. И за то мгновение, что понадобилось моему отцу, чтобы раз только затянуться и выдохнуть дым, огонь заполнил комнату своим светом — светом, который непохож на электрический, светом, который лучше, добрее, теплее. И на стенах комнаты сразу замелькали тени, запрыгали вверх и вниз.
— Мне приятно, что ты в моем доме, — сказал отец.
— А мне приятно, что я здесь, — сказал я.
— Теперь давай придумаем, чего бы нам поесть. В нашем распоряжении несколько помидоров, которые я собрал с моих же собственных грядок в маленьком огороде на холме, чуть пониже дома. И еще у нас есть немного риса и оливковое масло. Вот из этого из всего я и сварю сейчас в кастрюле нечто такое, что можно было бы назвать «рис по-писательски», поскольку оба мы отныне писатели.
Отец мой взялся за приготовление «риса по-писательски», а я тем временем принялся размышлять о книге, которую, по его словам, мне предстояло писать и писать… конечно, это шутка, но кто знает? Может быть, я и вправду напишу повесть, хотя в общем-то никогда всерьез и не думал, что стану писателем.
Вот уж кем я действительно хочу стать, так это летчиком! Я хочу полететь на луну — в самой первой ракете. Как-то раз я признался в этом отцу, и он сказал: «Я думаю, тебе удастся».
В один прекрасный день я, наверно, пойму, что мне совсем и не удастся, но пока я ничего такого не понимаю.
Я хочу быть первым человеком на луне.
Но если придется, я могу стать и писателем. Если кто-нибудь опередит меня по части луны, ну что ж, тогда я стану писателем и заведу себе дом, такой же, как у отца.
Не знаю, сделаю ли я это так, как мой отец, то есть сначала женюсь, обзаведусь сыном, а потом дочкой и наконец уйду — из-за телефона.
— Ты замужем не за мной, а за телефоном, — сказал однажды отец матери.
А мать моя в ответ сказала, что она имеет ровно столько же прав на друзей, сколько он — на писательство. Она сказала, что она молодая женщина, а не кухарка, и что ей хочется друзей и развлечений.
Я стал рассматривать книги моего отца, дивясь, как он мог написать их такое количество, и за этим занятием, потихоньку, сам того не заметив, я достиг наконец луны.
— Что подумают люди, когда я первым сделаю это?
— Когда ты первым сделаешь что?
— Когда я первым окажусь на луне?
— Они поверят. В ту самую минуту, когда ты окажешься первым человеком на луне и весть о твоем полете захлестнет все газеты мира, люди все до единого в это поверят.
— А почему бы им не верить?
— Потому что, покуда ты не попал на луну, никто не верит, что ты можешь туда попасть. Но стоит только тебе попасть, и они сразу в это поверят. Так уж устроены люди.
— А ты разве не так устроен?
— Нет.
— Как же ты устроен, па?
— Я, видишь ли, не говорю, как все: тебе не попасть на луну. Я говорю иначе: зачем ты хочешь на луну?
— Чтобы быть первым на ней, зачем же еще! Взбираются же разные там парни на вершины гор. Почему они это делают? Потому что есть на свете горы. Так они отвечали людям, которые их спрашивали. Я хочу первым полететь на луну, потому что она тоже есть на свете и потому что никто еще не побывал на ней.
— Прекрасно, — сказал мой отец.
— В жизни мне не попасть на луну, правда, па?
— Отчего же?
— Ха!
— Что бы значило твое «ха»?
— Знаешь, па, просто мне хочется сделать что-нибудь, вот и все. А то ведь скука.
— Скука ли?
— Конечно, скука.
— И что же ты хочешь сделать?
— Вот тут-то и загвоздка. Я не знаю. Потому и думаю о луне. Честное слово, мне хочется сделать что-то.
— Еще бы.
— Только вот делать — нечего. Нет настоящего дела.
— В таком случае — за стол, поесть, — тоже дело.
Отец мой поставил на стол две тарелки с «рисом по-писательски». Мы сели и принялись за еду.
«Рис по-писательски» это нечто такое, что в доме моего отца можно обнаружить в любом углу — в кладовке, в холодильнике, на буфетной полке, на кухонном столе, в чашке, в банке, в пакете и в чем придется — нечто, приготовленное из риса и единственное в своем роде.
— Из риса можно состряпать что угодно, — не раз пытался доказать мой отец моей матери, но тщетно — она никак не брала это в толк и сыпала вопросами: «А можно положить в рис сыру?» Или: «А можно залить рис томатным соусом?» Или: «А можно в него добавить зеленого луку?»
— Ну как, нравится? — поинтересовался отец.
— В жизни не ел ничего хуже.
— Кастрюля еще почти полная.
— Где мой стакан молока?
— Вот прекрасная вода. Тебе уже десять лет.
— Что на сладкое?
— Ничего сладкого.
— Видать, с едой тут у тебя небогато.
— Еды в этом доме хватит на целый месяц. А если понадобится и на три.
— Для нас обоих?
— Конечно. Что такое еда? Еда это то, чем набивают желудок, и только. Завтра я приготовлю для нас полный котелок красной фасоли.
— А как насчет жареного мяса?
— Никакого жареного мяса.
— А как насчет пирога?
— Никаких пирогов.
— А как насчет денег?
— Брось. Я не намерен превращаться в правильного папашу ради какого-то десятилетнего комика.
— И все-таки, как насчет денег?
— Никаких денег.
Мой отец принес и поставил на стол горячую еще кастрюлю, снова наполнил свою тарелку, потом мою, и наконец в кастрюле ничего не осталось.
Это было далеко не лучшее из всего, что я ел когда-либо, но все равно я съел все, что мне полагалось, не забыв на тарелке ни единой крупицы. Я набил себе желудок. Голодным я сел за стол, был голоден, пока ел, и голодным же встал из-за стола.
— Ешь то же, что я, — сказал мой отец, — и ты вырастешь сильным и стойким.
— Может, фасоль повкуснее этого риса?
— Когда нам завтра придет время ее поесть, она окажется вкуснее всего на свете.
— Каким это образом?
— Ты и я, — сказал мой отец, — мы оба писатели. И каждая вещь на свете для нас больше и лучше, чем для кого бы то ни было. Ты все время пишешь свою повесть.
— Я не знаю, с чего начать.
— Этого не знал ни один писатель. И ни один не знал также, когда именно он начал. Что ж до твоей повести, то она начата уже давно.
— Без шуток?
— Без.
Я вскочил с места и пустился в пляс, и мой отец разразился смехом, тем самым смехом, который так мне нравится, чудесным смехом сумасшедшего голодного писателя.
Отец перемыл тарелки, и мы вышли из дому и поднялись по лесенке к гаражу и выкатили оттуда наши велосипеды. У отца велосипед марки «Ралей», с прошлого года, а у меня — невысокий двухколесный велосипед, его купили, в Сан-Франциско, когда мне не было еще и четырех. Это один из самых маленьких двухколесных, и вилка у него дугой. Мать надумала отдать его Армии Спасения, но отец сказал: «Я хочу забрать этот велосипед». И он забрал его и поставил у себя в гараже. И сейчас он направился к моему красному маленькому велосипеду и сказал: «Если хочешь, можешь покататься на большом, пока я приведу в порядок малютку».
«Ралей» это, конечно, настоящий большой велосипед, но я все равно с ним справляюсь и не хуже, чем с маленьким. Однажды я уже ездил на нем, когда отец впервые пригнал его домой, так что сейчас я преспокойно взобрался на него и покатил по Малибу Роуд. Через какую-нибудь минуту «Ралей» уже шел у меня как по маслу, и мне захотелось подольше пробыть в доме моего отца. Однако я подумал, что было бы глупо приставать к нему с этим; я знал, что это такой вопрос, который решает мама. Она может вдруг, ни с того ни с сего, позвонить по телефону и сказать: «Привези его домой». И тогда отец доставит меня обратно, в дом моей матери, где у меня есть своя просторная спальня, свой холл и своя ванная комната. Я очень люблю свою половину дома. Я люблю и весь дом, и палисадник, и двор, и наш пригорок, поросший кустами, среди которых так хорошо играть, но что там ни говори, все это далеко не то, что дом моего отца.
Я подумал, а что если я все-таки поговорю об этом с отцом, и, сделав поворот, покатил назад к гаражу. Отец мой драил спицы на красном велосипеде, перевернув его вверх колесами.
— Па?
— Угу.
— Как по-твоему, согласится мама, чтобы я побыл здесь подольше?
— Не знаю.
— А если она согласится, па, ты разрешишь мне?
— Почему бы и нет?
— Видишь ли, па… Тебе сорок пять, а мне десять.
— Совершенно верно.
— Предположим, тебе понадобилось куда-то съездить, и я должен остаться дома один. Если я научусь и в таких случаях сумею сам о себе позаботиться, ты разрешишь мне пожить здесь сколько-то времени?
— Тебе, может, завтра же захочется домой.
— Нет. Мне не захочется.
— Ну что ж, договоримся с тобой так: ты можешь оставаться здесь, пока тебе хочется или же пока тебе позволяет мать.
— А ты?
— Я вынужден здесь оставаться.
— Нет, я хочу сказать, ты-то как на это смотришь? Ты мне на сколько времени разрешишь тут остаться?
— Что до меня, то оставайся до тех пор, пока тебе надо будет уехать.
И мой отец вскочил на большой велосипед и понесся вниз по Малибу Роуд с самой что ни на есть предельной скоростью. Никогда я не видел, чтобы кто-нибудь мчал на велосипеде так быстро. Я тоже сел на свой маленький красный, который теперь стал слишком мал для меня, и попробовал выжать из него все, что возможно, но я знал, что отца мне все равно не догнать. Он мчал все дальше по шоссе, потом вдруг повернул и уже медленнее поехал обратно.
— Я хочу, чтобы ты запомнил вот что, — сказал он мне. — Ничего в твоей жизни не должно быть только так и никак иначе. Ты можешь оставаться у меня, пока не захочешь домой. Ты можешь вернуться ко мне, когда тебе снова захочется. И это, и все остальное в твоей жизни не должно быть только так и никак иначе.
— Понятно, па.
Отец мой знает, что временами я злюсь на него, а порой даже ненавижу. Он сам сказал мне однажды, что знает, а я-то все время думал, что это мой секрет. Он говорил со мною об этом, как о чем-то вовсе нас не касающемся. Он сказал, что вполне естественно, чтобы сын время от времени испытывал ненависть к своему отцу, а равно и к матери, иногда же — ко всем на свете.
— Человек способен любить, — сказал он, — но способен также и ненавидеть. В основном он, конечно, любит, но и без ненависти ему не обойтись. Ненависть — полезнейшее чувство, если его правильно понять.
Когда мой отец сказал, что завтра же утром мне, может быть, захочется домой, к матери, я разозлился на него и закипел ненавистью. От отца моя ненависть не укрылась, и мне сразу сделалось стыдно.
Мы спустились по лесенке из гаража, вошли в дом, и отец включил проигрыватель и поставил свою любимую пластинку — концерт Моцарта. Он подошел к окну и стал смотреть на море. А мне пришло в голову покопаться в его рабочем ящике и проверить, все ли инструменты на месте. Было очень тихо. И очень тихо играл рояль, очень тихо, но не так, чтоб его не расслышать и не угадать, что он скажет дальше.
Я сказал отцу:
— Ты хочешь, чтоб я завтра уехал?
Он не обернулся. И не ответил сразу, но я знал, что рано или поздно он ответит.
— Слушай, — сказал он наконец.
Он заговорил очень тихо, но я все равно слышал, и его слышал, и рояль, и впечатление было такое, будто музыка и слова его текут в согласии друг с другом.
— Слушай, — сказал он. — Ты и я, сын и отец, всякий сын и всякий отец — это в сущности один и тот же человек, только первый моложе, второй старше. Но в то же время мы и не знаем друг друга. Как не знаем чужого. Как не знаем случайного встречного. Я, конечно, хочу, чтобы ты остался, но мне ненавистно думать, что ты, может быть, сочтешь себя обязанным остаться, дабы доставить мне удовольствие.
— Я не останусь, если не захочу.
— Спасибо.
Многое в эту ночь приключилось со мной во сне, но бóльшую часть я забыл. Не забыл я только одно — что летал. Сам, то есть без самолета, без ракеты и не как птица, просто сам — летал и был очень горд, оттого что это у меня так легко получается.
Моя мать была страшно удивлена.
— Смотри, не упади, — сказала она.
Моя сестра была удивлена пуще матери. Она все бежала за мной и нудила:
— Я тоже хочу летать. Научи меня.
Мой отец сказал:
— Недурно.
Я проснулся, услышав, как отец стучит на машинке. Но и не проснувшись еще, я слышал стук его машинки и, надо полагать, довольно долго, так как помню, что мне приснилась еще уйма всякой всячины, и все под этот стук, только во сне мне казалось, что это бьет барабан, и время от времени я принимался маршировать, точно солдат на параде, с той лишь разницей, что маршировал я один. Но стоило мне и в самом деле очнуться, как я тут же соскочил с постели и кинулся в столовую. Отец мой сидел за карточным столиком, таким, который можно складывать и убирать в чулан. Он работал при свете электричества, потому что было еще темно.
— Можно мне одеться?
— Конечно.
— Который час?
— Скоро шесть. Через несколько минут будет уже светло, так что если хочешь, спустись на берег и поищи там чего-нибудь, пока я достукаю первую главу поваренной книги.
— Хорошо.
Я наспех оделся и помчался на берег. Я примчался туда как раз вовремя, чтобы увидеть, как с востока над холмами восходит солнце. Небо было покрыто множеством серых облаков, загораживавших солнце, но солнечный свет нащупал прорывы между обликами и заструился сквозь них — веселый и яркий. Я пустился на поиски «трофеев» и нашел несколько камней и ракушек и еще обрывок водоросли. Но того, что мне по-настоящему хотелось найти, я не нашел. Я не нашел набитого золотом и сокровищами сундука с пиратского судна. Я никогда не найду его, знаю, потому что мне достаточно много лет, чтобы знать это, но всякий раз, когда я спускаюсь на берег, у меня мелькает мысль о нем, мысль и надежда, что все-таки я его найду.
Когда я вернулся домой, отец мой отложил в сторону работу и постелил на карточный столик газеты. Потом он расставил на столе тарелки, чашки, блюдца и прочее и пошел на кухню готовить что-то на завтрак. Я показал ему свои камни, ракушки и водоросль, и он сказал:
— Они просто замечательные. Все твои находки замечательные. Подержи их теперь под краном и внимательно рассмотри каждую. Внимательно рассматривать каждый предмет — это и есть способ выработать в себе писателя.
Так что пока отец хлопотал у плитки, я вымыл камни, ракушки и водоросль и стал рассматривать их очень внимательно, поворачивая во все стороны, чтобы увидеть их по-всякому, и тогда… чего только я ни увидел! Я увидел такое, чего мне не увидеть было ни в жизнь, не присмотрись я к ним так внимательно. Я увидел, что каждая мельчайшая вещица в мире гораздо больше, чем она кажется. Был среди моих находок камешек размером с пол-орешка; он был черный, в редкую красную крапинку, четкая белая линия отделяла одну его часть от другой, и крохотный камень выглядел вроде как целый мир — с этой белой линией, разделяющей воду и сушу. О многом пораздумал я, глядя на этот камешек, и радостно стало мне, что я способен увидеть предмет так ясно, увидеть такой маленький предмет таким большим, почти таким же большим, каким бывает все и повсюду.
— А тебе снилось что-нибудь, па?
— Ну, если говорить без утайки, — начал мой отец, — то этой ночью мне действительно снился сон, и я даже помню, какой. Было раннее утро. Я шел по улице и вдруг увидел у самых своих ног целую пачку новеньких ассигнаций. Видно, кто-то обронил ее по дороге в банк. Я подумал, хорошо, если бумажки не однодолларовые, ведь тогда это всего лишь пятьсот долларов, а вот окажись бумажки по десять долларов, в моем распоряжении будет пять тысяч.
— Какими же они оказались, па? По доллару или по десять?
— По сто!
— Пятьсот бумажек по сто долларов?
— Вот именно.
— И сколько же это всего?
— Пятьдесят тысяч.
— Ух ты! И что же ты сделал с этими деньгами?
— Я проснулся. Иди-ка теперь умойся и давай завтракать.
Я умылся и сел за стол, и вскорости мой отец притащил из кухни горячую сковородку с чем-то и поделил ее содержимое между нами.
— Что это такое?
— Яйца Малибу.
— То есть?
— Яйца, приготовленные мною в Малибу.
— Из чего это?
— Прежде всего оливковое масло, ибо оливковое масло гораздо дешевле сливочного, оно полезнее для находящегося в процессе роста мальчика или мужчины и вдобавок больше подходит к яйцам. Три дольки чеснока, ибо чеснок, поджаренный на оливковом масле, сообщает маслу особо приятный дух и вообще служит замечательной приправой. С десяток зеленых перцев, мелко нарезанных. Две-три веточки петрушки. Какой-нибудь сыр, какой случится под рукой, — небольшое количество, или большое количество, или любое количество. Два яйца — два, а не четыре — разбить и в миску. Немного соли и красного перцу, немного молока, свежего или баночного, немного муки. Смешать все это вместе и сбить, сбивать долго или недолго, не имеет значения сколько. Полученную смесь вылить в шипящую сковородку с маслом и всем прочим, что в ней поджаривалось. Когда вылитая смесь отшипит свое и вся влага из нее испарится, подождать полминуты и, сложив круг в сковороде пополам, перевернуть его. Еще полминуты — и обе стороны уже приятно золотятся, и вся штука готова, не подгорев и не затвердев. Жидкость в чашке не что иное как чай. Я достану для тебя сегодня немного молока, но покамест и чай тебе не повредит. Конечно, если пить его не очень много и не очень крепким. В тарелке этой помидор, нарезанный кружками. Можешь поесть его, а можешь и не поесть. Сам я люблю помидор к завтраку.
— Ты взаправду собираешься писать поваренную книгу, па?
— Конечно. А ты взаправду собираешься писать повесть?
— Я б хотел.
— Но собираешься ли?
— Я не знаю, как правильно писать «помидор».
— А как насчет «картошки»?
— И «картошку» писать не умею.
— Что ж ты умеешь писать?
— Свое имя.
— В таком случае можешь приступать к повести. Ты к этому готов.
— А ты, па, умеешь писать правильно?
— Я умею писать правильно только те слова, написание которых знаю, но случается, я забываю, как пишутся даже и эти слова.
— Что же ты тогда делаешь?
— Употребляю другое слово.
— Ты не заглядываешь в словарь?
— Заглядываю, но не для того, чтоб проверить, как пишется слово.
— Раз так, для чего же он тебе?
— Я читаю его — удовольствия ради. Словарь — чудесная повесть, поэма, целая громадная книга высказываний на темы жизни и искусства.
— Но чудеснейшая из книг это библия, правда?
— Хорошая книга.
— И из всех бестселлеров бестселлер, правда?
— Говорят. Всякий раз, когда над издателем повисает угроза разорения, он предпринимает новое издание библии.
— Почему библия так популярна?
— Я думаю, потому, что ее никто не читает.
— А что же с ней делают?
— Ее имеют.
— А что проку?
— Так надо, пожалуй. Иметь в своем доме библию это все равно, что иметь пред собственным оком миф рода человеческого.
— А что это такое — миф рода человеческого?
— Ты и я, и как мы едим.
— И все?
— Ну ладно, давай скажем так: ты и я, твоя мать и твоя сестра. Вот тебе и весь миф о человеке. Мужчина и женщина, которые становятся отцом и матерью нового мужчины и новой женщины.
— А как же самолеты, ракеты на Луну и тому подобное?
— Все это мужчина и женщина, а потом — новый мужчина и новая женщина.
— Не хочу я в этот миф.
— В какой же ты хочешь?
— В свой собственный.
— Прекрасно. Теперь два слова о школе.
— Не хочу в школу.
— В школу ты должен ходить.
— Почему?
— Чтобы усвоить, как пишутся «помидор» и «картошка», а также ради других вещей.
— Ради каких это других вещей?
— Ради того, чтоб видеться с братьями своими и сестрами.
— Слава богу, у меня одна-единственная сестра и в школе я ее вряд ли увижу.
— Но все остальные мальчики и девочки тоже твои братья и сестры.
— Не желаю я, чтоб они были мне братья и сестры.
— Даже если так, они все равно твои братья и сестры.
— С какой еще стати?
— Миф рода человеческого.
— Ну его к черту, род человеческий! Я из сверхчеловеческого, па!
Отец мой позвонил кому-то, кого назвал Джоки, и спросил, не согласится ли этот Джоки по пути на работу в Пасифик Палисэйдс заехать за мной, а потом, после работы, подбросить меня домой из школы.
Джоки заехал за мной и потом доставил домой, но оказалось, что зовут его Эдвардо Джонфала и что он вице-президент банка.
После школы я сказал отцу:
— У меня есть идея, па.
— Без сомнения.
— Давай завтра утром отправимся вместе с Джоки в банк, подождем, пока он откроет ключом дверь, войдет в комнату, отопрет сейф, а как только он все это сделает, привяжем его к стулу, заберем из сейфа все деньги и — домой.
— А дома что с ними сделаем?
— Посчитаем.
— Ежели тебе охота считать, — сказал мой отец, — то высчитай, пожалуйста, девяносто девять фасолин из этого вот мешочка.
— Хорошо, — сказал я, — но фасолина ведь не доллар.
— Разумеется, не доллар.
— Зачем тебе девяносто девять фасолин?
— Затем чтобы приготовить нам обед.
— Получу я сегодня свое молоко?
— Получишь.
— Терпеть его не могу.
— Известное дело. Сколько ты насчитал?
— У меня уже три кучки по девять фасолин в каждой, но среди них есть несколько очень мелких и несколько щербатых. Как ты хочешь, чтоб я и их считал вместе с другими или же нет?
— Нет. Отсчитай мне только целые, неважно — большие или маленькие, а щербатые отложи в сторону.
— И что ты сделаешь с ними?
— Брошу в котелок вкупе со всеми прочими.
— А зачем я считаю?
— Девяносто девять целых фасолин, — сказал мой отец, — плюс восемь или девять щербатых — это отличная мера, и кроме того, мне хотелось бы, чтобы ты порассмотрел эти фасолины повнимательнее. Скажи, пожалуйста, что ты в них еще заметил, к примеру?
— Ну, на некоторых, к примеру, кожура лопнула, а на этих двух набухла. Считать такие?
— В сторону, вместе с щербатыми. Я сам на них погляжу. Ты кончил?
— Да. Одиннадцать кучек по девять целых фасолин в каждой и отдельно — семь щербатых, три с лопнувшей кожурой и две с набухшей.
— О чем же свидетельствует все это вместе взятое?
— О том, что совершенно одинаковых фасолин не бывает.
— О чем еще?
— Наверно о том, что на свете не бывает двух совершенно одинаковых вещей.
— Молодец. Похвально. Теперь ты можешь переодеться, то есть сменить брюки на шорты и спуститься на берег. Жди меня там. Как только я поставлю фасоль вариться, тоже надену шорты, спущусь к тебе, и мы побежим наперегонки к Красной скале.
— Ух ты!
Я натянул свои шорты и в мгновение ока скатился на берег. Через несколько минут подоспел и отец.
Красная скала в трехстах ярдах к востоку от дома моего отца. Откуда я это знаю? Так мне сказал отец. Мы с ним называем иногда эту скалу Красной Чудо-скалой, потому что она одна на всем побережье — красная. Все остальные скалы здесь черные, разных черных цветов, она же — красная и к тому же со множеством оттенков. И высится она не у самой воды, а в некотором отдалении, так что море до нее докатывается только в самый сильный прилив.
Мы оба бежим обычно во всю мочь, не щадя сил. Условия соревнования предложил однажды я сам. Кто первым добирается до вершины, тот провозглашается победителем гонки и Королем Чудо-скалы. В первый раз отец не соглашался бежать всерьез, он сказал, что слишком для этого стар, но я возразил, что не так уж он стар, и в конце концов он все-таки побежал, и вышло по-моему, то есть вышло, что вовсе он и не стар.
Когда мы с отцом устраиваем гонки, бег обычно начинаю я. Я командую: «Приготовься! Внимание! Старт!»
Отец мой на бегу всегда разговаривает. «Кажется, на сей раз быть тебе в хвосте», — поддевает он меня. «Да что ты!» И я весь превращаюсь в скорость и перегоняю его, и тогда он говорит: «Ну что ж, ты просто слишком скор для меня. Ты просто слишком молод, вот и все».
То же самое и сегодня — как только отец спустился к морю, я подал команду к забегу и первым сорвался с места. Это была настоящая хорошая гонка и даже превосходная и, может быть, лучшая из всех, какие бывали у нас, потому что отец мой разбежался не на шутку. Он трижды обгонял меня, но я все-таки пришел первым. Не думаю, чтобы он мог обойти меня, даже если старался бы изо всех сил. Я спросил его об этом, и он сказал: «И сегодня, и во все другие разы я старался изо всех сил».
Мы стояли на вершине скалы и смотрели на огромное море. Немного погодя мы сели — отдохнуть и поболтать.
— Ну, — начал мой отец, — что скажешь?
— Море как раз для меня. Когда-нибудь, па, я заведу себе дом вроде твоего.
— Что скажешь о школе? Вот о чем мой вопрос.
— А что о ней говорить?
— Как прошли занятия? Благополучно?
— К директору меня во всяком случае не посылали.
— Это уже неплохо. А сестренку свою ты видел?
— Она разыскала меня во время большой перемены на спортплощадке.
— Как она выглядела?
— Как всегда.
— А что говорила?
— Что ей тоже хочется приехать пожить здесь немного.
— В самом деле?
— Да. Она сказала, что нечестно с моей стороны жить здесь у тебя, а ее и не пригласить.
— Как-нибудь я поинтересуюсь у вашей мамы, можно ли мне привезти сюда и девочку.
— Не надо, па. Оставь ее там. Хватит ее с меня и дома.
— Не сейчас. Позднее.
— Не великая это радость иметь сестру, которая вечно вертится возле тебя.
— Ладно. А что дальше?
— Не знаю, па.
Потом мы просто сидели. Я ничего не говорил, отец тоже. Он растянулся на скале и закрыл глаза. Я лег рядом с ним и стал смотреть прямо в небо.
Я увидел там белое облако и долго следил за ним. А спустя некоторое время я уже был наверху, на облаке, разгуливал по нему и с высоты обозревал землю.
Вскоре туда же заявилась моя сестрица и сказала, что у нее не меньше прав разгуливать тут, чем у меня. Я ответил, что если уж она доставила себе труд добраться сюда, то может и побыть немного.
— Но, пожалуйста, не очень тараторь.
Она сказала, что вообще не будет тараторить, и все равно столько тараторила о том, что не будет тараторить вообще, не произнесет ни единого словечка, что мне наконец надоело, и я потребовал, чтобы она либо перестала, либо катилась обратно. Тогда она перестала, и мы вместе прошлись по всему облаку и поглядели на землю внизу.
Наконец я спустился с облака обратно на нашу скалу.
— Давай не будем больше бежать, — сказал мой отец. — Давай пойдем по воде вдоль берега и обыщем черные скалы, и если нам попадется несколько славных жирненьких мидий, то я возьму их домой и приготовлю на завтра к ужину, потому что мне отлично известно, что ты терпеть их не можешь.
Мы спустились с Красной скалы и зашлепали по воде — в сторону дома. Мы задерживались у каждой из черных каменных глыб, чтобы посмотреть, не найдется ли на них несколько славных жирненьких мидий. Прямо напротив нас медленно закатывалось солнце. Мы обнаружили на черных камнях множество маленьких моллюсков, слишком маленьких, чтобы стоило собирать их, нести домой и возиться с ними, но потом отец разыскал и такое место, где скопились как раз самые крупные, самые что ни на есть дозрелые. Он стал отдирать их от камня и рассовывать по карманам, а когда наполнил свои, стал давать их мне, и я тоже набил себе карманы, и еще по несколько штук осталось у нас в руках, и мы пришли домой и высыпали всех этих моллюсков в мойку, и пустили на них воду из крана, и отец мой взялся за рыбацкий нож и дочиста выскреб каждую ракушку.
Как-то раз мы с отцом ходили рыбачить с черной скалы, что поближе к его дому, и я помню, мы собирали тогда со скалы моллюсков, раскрывали створки раковин и то, что было внутри, использовали для наживки. У того, что внутри, цвет в общем оранжевый и только по краям чуть-чуть черный. Сама раковина черная с примесью лилового, и в ней должно быть по меньшей мере шесть дюймов длины, если вы хотите поесть то, что она в себе прячет. Раковина и ее содержимое вместе составляют моллюск, но для человека, собирающегося сделать из моллюска еду, важно только содержимое. А для самого моллюска, находящегося внутри раковины, важнее всего раковина, потому что без нее он ни жить, ни расти не может. Маленькие моллюски живут в раковинах-малютках, которые бывают иногда совсем крохотными, но, все равно, даже у самых крохотных ракушек форма такая же, как и у всех, — форма ровного красивого миндаля. Случается, что, отодрав от камня моллюск, ты отдираешь заодно с ним и пять-шесть малышей, уцепившихся за большую раковину своими малышьими усиками, и смотреть на такое бывает очень приятно, потому что ракушки-малютки необыкновенно чистые и гладкие и вдобавок, глядя на них, ты помнишь, что там, внутри, живет себе поживает маленький моллюск. Я часто думаю о моллюсках и их жизни внутри раковин, и иногда мне кажется, что несправедливо это — извлекать их оттуда, где они живут. Но отец мой говорит, что никакой несправедливости тут нет, а если и есть, то не так она велика, чтобы портить себе из-за нее настроение.
— Но ведь они живые? — спросил я его однажды.
— Да.
— А когда мы срываем их с камня, они умирают.
— Да.
— Значит, мы делаем им больно.
— Нет.
— Как же так?
— Анестезия, обездоленность, — сказал мой отец. — Мы единственные существа, которым она не свойственна. Мы живем, и сами же сознаем это, нам делают больно — мы чувствуем эту боль.
У нас с отцом завязался долгий разговор о том, кто такие мы и кто такие животные.
Я закидал его множеством вопросов, как это делал и делаю всегда, и он подробно отвечал на все, доваривая одновременно фасоль, и наконец он кончил и подал мне знак приготовить стол.
Это значило, что я должен пристроить карточный столик возле высокого окна с зеркальными стеклами, приставить к нему два стула и постелить на столик газеты. Я стараюсь стелить газеты так, чтобы на мою сторону приходились комиксы, и, пока ем, просматриваю их, отцу же подсовываю страницы со всякими статьями и хроникой. Старые газеты куда удобнее скатерти. Сначала, пока сидишь за едой, читаешь то, что в них напечатано, а когда кончил, все, что от тебя требуется, это скомкать твою скатерть и бросить ее в камин.
— Сейчас я коротко доложу тебе, что у нас на вечер, — сказал отец. — Мексиканская фасоль. Тушеная. Девяносто девять красных фасолин, кружка воды, одна головка лука, мелко нарезанная, один зеленый перец, четыре веточки петрушки, четыре дольки чеснока, три столовые ложки оливкового масла, три помидора, немножко соли, толченых сухарей и красного перца…
— И сколько времени тушить?
— Пока фасоль не размягчится. Держать на медленном огне часа, скажем, два. Можно и три — результат будет не хуже.
— А вкусно?
— Вкусно ли, ты скажешь мне сам, когда попробуешь.
— Что у нас есть еще?
— Хлеб и вода.
— И только?
— Этого вполне достаточно, но есть еще, конечно, молоко для тебя, а также орехи, миндаль и изюм. Если хочешь, потом можешь полакомиться.
— Ты, видно, не любишь, чтобы на столе было много разной еды?
— Вот именно. Когда перед человеком ставят несколько различных блюд, это значит, что он ни одного не отведает с надлежащим толком.
Отец поставил на стол две тарелки с тушеной фасолью, мы сели, и тут он вдруг удивил меня — сложил на груди руки и свесил голову.
— Что с тобой?
— Бог. Иногда, как мне думается, не лишено смысла вступать в разговор с богом или хотя бы делать такого рода попытку.
— Ясно.
Отец не проронил ни слова в течение минуты, а потом сказал «аминь».
— Ты помолился?
— Да.
— И что ты сказал?
— Не знаю. Ничего, пожалуй. Давай есть.
Мы принялись за еду, и она оказалась очень даже вкусной. Это была всего только какая-то фасоль, но вместе с чесноком и прочими приправами она превратилась в нечто гораздо более интересное, в нечто гораздо большее, чем те маленькие, твердые, сухие зерна, которые я высчитал из мешочка.
— Расскажи мне, каким ты был в мои годы?
— Я ничего не понимал, — сказал мой отец. — И не знал, у кого спросить. И не знал — как. И не спрашивал. Просто ждал, и было похоже, что я сплю и вижу странный, но чудный сон. И я часто думал: держу пари, дружище, что все это обернется прекрасно.
— Так и вышло?
— Пожалуй, да. Вышло даже прекраснее, чем мне снилось.
— Что ты нашел? Деньги?
— Нет. Что-то другое.
— Что же это другое?
— Способность понимать.
— Когда ты ее нашел?
— Ну, если подходить всерьез, то до двенадцати лет у меня ее не было, но уже задолго до двенадцати я начал догадываться, что она существует и можно ее найти. А догадываться, что она есть и может быть найдена, почти так же приятно, как если ее найти, почти, но не совсем. И нужно быть очень терпеливым и искать ее постоянно, без устали, даже если от этого все становится только сложнее и путанее. Зато если уж ты обрел ее однажды, то кончено, дружище, она всегда будет при тебе и ты волен применять ее как угодно, делать из нее что пожелаешь — любые чудеса.
— Как ты применил ее, па?
— Видишь ли, я и до сих пор не перестаю применять ее и не думаю, чтобы когда-нибудь перестал. Вообще же использовал я ее по-всякому и главным образом — на писательство.
— Ты собираешься использовать ее и для поваренной книги?
— Непременно.
— А что такое способность понимать, па?
— Я был бы рад объяснить тебе, но, говоря по правде, ни один человек не в состоянии рассказать это другому, даже отец сыну. Ты узнаешь сам, когда она к тебе придет. Обязательно узнаешь. Это величайшая вещь на свете. Ну а теперь, — сказал мой отец, — марш на шоссе, погоняем на велосипеде.
Сперва мы покатались на «Ралее», потом перешли на футбол. Каждый из нас по очереди то бил по мячу, то ловил его. Ноги у меня пока маловаты для нормального футбольного мяча, так что удары у меня большей частью получались не бог весть какие. Пробить я могу довольно далеко, только вот крученые удары у меня не выходят, а хороший удар должен быть именно таким. Зато ловить крученые мячи я наловчился здорово и брал их, кидаясь навстречу, и пропустил только шесть из целых двадцати, если не тридцати.
Когда мы возвращались к дому, отец сказал:
— Я хочу устроить сейчас небольшую прополку в своем огороде, а ты тем временем посиди на крылечке или же займись в комнате какой-нибудь книжкой.
— Посижу лучше здесь.
Я сел на ступеньку, а отец пошел к своим грядкам, присел на корточки и начал старательно вырывать проросшие между грядками сорняки.
— Имей в виду, — сказал он, — что, истребляя эти сорняки, я в то же время восхищаюсь ими.
— Ха-ха-ха!
— Чему ты смеешься?
— А тому, что ты всегда обо всем говоришь хорошее, даже о сорняках в своем огороде, а ведь каждому известно, что от них только вред.
— С сорняками вечно воюют, — сказал мой отец. — Наказания так и сыплются на них градом, но стоит хоть на миг от них отвернуться, и они снова тут как тут, такие же, как всегда, тихие-мирные, без тени самодовольства или гордыни и нисколько не озлобившиеся от того, что им пришлось претерпеть. Ну просто великолепная штука, достойная самого пристального внимания!
— Сорняки! Столько разговору из-за каких-то сорняков! Это же просто вонючки. Запах у них — ну, прямо отвратный.
— О нет, всего лишь необычный. Никакие они не вонючки. Они пахнут так, как им полагается. И пахнут совсем не дурно. Конечно, от сорняков запах не тот, что от овощей или же от цветов, но запах этот не менее приятен, чем любой другой.
— Ха-ха-ха!
— Ну вот и конец прополке, которая требовалась сегодня. Теперь пошли в комнату, послушаем пианолу, почитаем немного, а там — в постель.
К музыке у отца моего любовь особая, не помню дня, чтоб он не послушал свою пианолу.
В пятницу возвращаюсь я из школы на машине Эдвардо Джонфалы и вдруг вижу — возле дома моего отца стоит маленький красный форд. «Интересно, кто это приехал в гости к папе?» — думаю я.
Но, поднявшись на крыльцо и войдя в дом, не обнаруживаю там никого, кроме отца, который сидит за карточным столиком и трудится над своей поваренной книгой.
— Чей это красный форд? — спрашиваю.
— Наш.
— То есть как?
— Мы его купили.
— Откуда у нас взялись деньги?
— Ребята из ремонтной Шуфи с Малибу Роуд уступили нам его в кредит и без первого взноса.
— Сколько он стоит?
— Сто долларов.
— Сколько нужно платить в месяц?
— По девять долларов. За год выходит сто и еще восемь. Эти восемь пойдут как плата за услугу.
— Ты уверен, что на нем можно ездить?
— Похоже, что можно.
— А верх опускается?
— Я уже несколько раз поднимал и опускал его, пока ты был в школе.
— Сколько ему лет?
— Одиннадцать.
— На год старше меня. Давай сейчас же выйдем и устроим ему пробу.
— Ладно. Мне нужно как раз подкинуть кое-что на почту, так что давай туда и съездим.
— Зачем ты купил его, па?
— Нам с тобой необходима машина. Отныне я буду отвозить тебя в школу сам, но только не в ту, что в Пасифик Палисэйдс, а в другую, здешнюю.
— Выходит, что я пробуду здесь довольно долго?
— Ну, поскольку до сих пор ты ни словом не обмолвился о возвращении, я решил, что ты не прочь остаться.
— Конечно, не прочь.
— Вот и прекрасно. В понедельник я отвезу тебя в здешнюю школу. Оставил ты что-нибудь в своей школе в Пасифик Палисэйдс?
— Только врагов.
— Кто эти враги?
— Учителя, девчонки и всякое жулье.
— Отлично. Давай захватим эти письма и опустим их в ящик на почте.
Мы вышли на Малибу Роуд и разместились в нашем маленьком красном форде. Мотор заработал сразу, без проволочки, как только отец включил зажигание.
— Выгодное ты обделал дельце, па.
— Ребятам из мастерской машина досталась почти задаром, они без особого труда наладили мотор и решили, что этот форд необходим именно мне.
— Хорошие в мастерской у Шуфи ребята.
— Очень даже хорошие.
— Почему же мы не трогаемся с места, па?
— Надо подождать, пока мотор нагреется, тем более что он новый.
— Ну да, новый! Ему ж одиннадцать лет! Все равно что человеку — сто!
— И то верно. Как тебе нравится обивка?
— Из чего она?
— Из искусственной кожи.
— Еще бы, па! Замечательная обивка. Ну давай же, трогайся. Посмотрим, наконец, пойдет ли эта машина.
И тут мой отец дал ей свободу, и она пошла. Она шла великолепно. Мы с тарахтением, с выхлопами катили по Малибу Роуд, подскакивая и описывая отчаянные дуги, ну прямо как участники одной из тех автомобильных гонок, которые проводятся каждый год во Франции и в Италии и которые показывают иногда в кинохронике. Когда мы подъехали к авторемонтной Шуфи, все тамошние ребята высыпали за дверь помахать нам, и мы помахали им в ответ, а один из них выбежал на дорогу посмотреть, как мы поедем дальше. Когда мы выехали на трассу, я сказал отцу: «Смотри, па, не влипни за превышение скорости. И надо придумать, как добывать ежемесячно девять долларов».
— Я буду ездить медленно и осторожно, — сказал отец. — И первого декабря я уплачу первый взнос.
— Где ты возьмешь девять долларов?
— Ты же видишь, я посылаю кое-что в этих конвертах.
— А что в них?
— Рассказы и две рецензии. И еще я спрашиваю издателя, не выплатит ли он мне аванс за поваренную книгу.
— Ну раз так, значит ты получишь кое-какие денежки.
— Кто знает? Неизвестно.
Мы так скоро доехали до почты, что и не заметили вовсе ни дороги, ни времени. Отец вручил мне с полдюжины конвертов и сказал:
— Брось-ка их ты. На счастье.
Я бросил их в почтовый ящик, и мы повернули и покатили назад, домой, и по пути мы сделали изрядный крюк.
Мы выбрали дорогу, петляющую среди холмов, от взгорка к взгорку, дорогу, вымощенную заключенными этого же округа, и она привела нас к школе, в которую мне предстояло ходить с понедельника вместо той, куда я ходил до сих пор.
Отец мой нажал на тормоз, и наш маленький красный форд остановился. Мы выпрыгнули из машины и спустились по некрутому косогору вниз, на школьную спортплощадку. Школа эта носила имя Уэбстера.
— Кто такой Уэбстер?
— Местный судья, но мы с тобой полагаем, что школа эта названа так в честь другого Уэбстера, а именно — Ноя [4].
— Почему Ной, а не местный судья?
— Ноя Уэбстера назвали по имени человека, который был проглочен китом и остался жив, чтобы поведать об этом миру. Но главное, конечно, не это, а то, что он составил огромный словарь.
— Кто составил?
— Ной.
— Тот, которого проглотил кит?
— Нет, другой.
— Ты, как видно, не очень внимательно читал библию, па.
— Не очень. А что?
— Ной построил ковчег и плавал на нем, и никакой кит его не проглатывал. Библии я не читал, но уж это хотя бы знаю.
— В самом деле, — сказал мой отец. — Того, которого проглотил кит, звали Ионой. А Ной построил ковчег и совершил в нем свое плавание в Великий потоп, и спас каждой твари по паре, в том числе и людей. Эта школа названа в честь Ноя Уэбстера, совершившего свое плавание по океану английского языка.
— А что же местный судья?
— Он провалился на выборах и уже не судья, но даже если бы он не провалился, а снова прошел бы в судьи, все равно и тогда он остался бы человеком всего лишь местного масштаба, слишком местного, чтобы имя его красовалось на здании школы, в которой, смею надеяться, мой сын — то есть ты — откроет для себя в какой-то мере красоту и богатство не ограниченного местом, великого мира слов, ибо, как ты, наверно, помнишь еще из воскресной школы, «вначале было слово».
— Отлично помню. Но, говоря по правде, я до сих пор не могу уразуметь, что это значит.
— Это значит, что все что-то да значит, что каждое слово имеет свой смысл. Ищи кроющийся в словах смысл, старайся разбираться в них, а если сумеешь, и сам придумай несколько слов. Итак, вот она, твоя новая школа. Нравится она тебе?
— А что? Ведь не ты же ее построил?
— Нет, но мне кажется, что она выглядит на редкость мило.
— Многовато стекла.
— Так и следует. Учиться — значит смотреть и видеть, а человеку, чтоб видеть ясно, необходим свет, и чем больше света, тем лучше.
Мы не спеша прошлись вокруг школы.
Ничего не скажешь, с виду она обещала быть хорошей, даже, может, и очень хорошей школой. И все-таки — не люблю я это заведение. Пошлют тебя туда раз, а там уж, хочешь не хочешь, — ходи. И будет тебе день за днем, год за годом одна и та же канитель, с одной и той же учительницей перед глазами.
Я смотрел на свою новую школу, всю из красного кирпича и зеркальных стекол, и представлял себе учеников за партами, сейчас пустующими, и представлял себе учительницу и как она стоит перед учениками, и как вежливо с ними разговаривает, даже когда внутри у нее так и кипит ненависть, и мне захотелось, о господи, до чего ж захотелось никогда больше не переступать порога школы.
Ненавижу ее, вот и все.
Дайте мне только ракету. Дайте мне полететь на луну и водрузить на ней американский флаг и вернуться обратно и послать президенту свой рапорт. «Теперь она наша, сэр!» Ух! Вот это будет слава! Президент со слезами на глазах поднимается из-за стола, пожимает мне руку и говорит: «Народ Америки никогда не забудет вас».
Ах, зачем мне эта школа?
— И кто только ее выдумал? — сказал я.
— Что выдумал?
— Школу.
— Парень по имени Линдер Скул [5], — сказал мой отец. — Он был пчеловодом в Белфасте, и именно улей навел его на блестящую мысль. У Линдера была целая орава ребятишек, которые вечно путались у него под ногами и мешали работать. Вот ему и пришло в голову устроить что-то вроде человеческого улья. Загнал он туда свою ребятню, а старшей дочери, девочке лет двенадцати, велел следить за порядком. И она плохо ли, хорошо ли делала свое дело. Но в Белфасте было еще множество людей, а у тех еще множество детей, путавшихся под ногами папаш и мамаш. Всем этим людям очень понравилось, как Линдер распорядился насчет своей детворы, и они решили действовать по его примеру, но поскольку у них не было специального помещения для детей, а у Линдера было, то они распорядились так — вскинулись и давай вдруг орать на своих детей: «А ну-ка проваливайте отсюда! Живо! Проваливайте к Скулу и оставайтесь там, с его детьми, пока им не придет время отправляться домой». Так вот оно и произошло.
— Я ненавижу школу, па!
— Охотно верю. Кстати, это весьма полезно для тебя — ненавидеть что-то столь последовательно и упорно, хотя бы и школу. Тем более, что ты и любишь ее в каком-то смысле.
— Да видишь ли, раз уж мне от нее не отделаться, я и стараюсь провести свое время в ней повеселее, если только ты это имел в виду.
— Это как раз то, что я имел в виду, и это как раз то, что ощущает большинство людей по отношению к нашему миру.
— Я собираюсь на луну.
— Но вернешься же ты обратно.
— Конечно, вернусь. Я хочу прославиться. Хочу рассказывать по телевизору, как я это сделал.
— Как же ты это сделал?
— Ах, па, я сел в эту самую ракету и полетел туда, вот как я это сделал. Если б ты знал, что это за местечко! Мне в жизни его не забыть!
— Уж верно не такое место луна, чтоб позабыться, — сказал мой отец. — Сам я никогда не бывал там, но зато бывал в Бухте Полулуния [6].
— О чем ты, па?
— О маленьком городке в двадцати пяти милях к югу от Сан-Франциско.
— Как он выглядит?
— Замечательно.
— Поедем туда, па.
— Признаться, я подумывал об этом.
— Теперь у нас своя машина. Поедем, а? Завтра суббота, потом воскресенье.
— И потом понедельник, и тебе нужно в школу.
— Но ведь мы успеем съездить, погулять там и вернуться.
— А стоит ли?
— Погулять по Бухте Полулуния? Конечно стоит, па!
— Но ты ведь даже не представляешь себе этот городок.
— Зато я знаю, как он называется. Бухта Полулуния. Не всякому городу дадут такое название, а если уж дали, значит он того заслуживает. Ну поедем же, па, поедем туда в нашем маленьком стареньком форде, ну, пожалуйста, па!
— Четыреста миль туда и столько же обратно.
— Всего восемьсот. А до луны знаешь сколько?
— Восемь тысяч?
— Восемь миллионов!
— И ты всерьез хочешь отправиться в такую даль?
— Я должен, па.
— Зачем?
— Чтоб водрузить там американский флаг.
— Ладно, но прежде чем пуститься в путь, предупреди меня, и я смастерю флаг нашего собственного семейства, дабы ты мог водрузить там и его.
— Хорошо, только давай поедем в Бухту Полулуния.
— Ну что ж, у меня есть кой-какая мелочь, отложенная про запас, монетки по двадцать пять, десять и пять центов, всего долларов восемнадцать, но я предполагал не трогать этих денег, пока не будет на то крайней необходимости.
— Сегодня как раз крайняя необходимость тронуть их, па. Давай поедем.
— Будь по-твоему, — сказал мой отец. — Деньги в кофейной банке. Заберем ее и поедем. И каждый раз, когда расплачиваться, ты сунешь в банку руку и вытащишь горсть монеток.
— Спасибо, па. Я думал, что придется ждать до утра, но если мы едем сейчас, то я с радостью. Ведь мы едем сейчас же, правда?
— Сию минуту. Должен я, в конце концов, выяснить, на что годится эта машина, или не должен? Да и тебе необходимо погулять по Бухте Полулуния, не так ли?
— Еще как необходимо!
И быстренько собравшись, мы помчались бегом к нашему маленькому старенькому форду.
И вскоре мы уже были в дороге, и сами не заметили, как выехали на старую Поперечную 101, и ехали мы сначала со скоростью пятьдесят, потом шестьдесят, а потом и семьдесят миль в час, но при семидесяти наш маленький красный форд весь заскрежетал и загромыхал, так что отцу моему пришлось поубавить скорость. Мы проехали мимо Зумы и мимо Транкаса, а еще дальше мы увидели чуть в стороне от дороги кучку людей, копавших лопатами землю. Отец остановил машину, чтобы сойти и поговорить с ними, и оказалось, что это студенты-археологи из университетского колледжа Лос-Анджелеса. Они старательно копались в черной грязи, исследуя место, куда триста-четыреста лет назад сваливали свой мусор индейцы.
Отец мой постоял, поговорил с преподавателем, который был немногим старше своих студентов. Такая уж у моего отца страсть — разузнавать все и обо всем, и на этот раз он узнал, что студенты копают здесь каждую субботу в течение вот уже шести месяцев и что за этот срок они научились отлично орудовать лопатой, а также вести необходимые записи, но что до находок, то нашли они немного. Преподаватель сказал, что они, собственно, и не рассчитывали на какие-нибудь особенные находки. Он показал моему отцу раковину, которой было лет триста. Она выглядела точно так же, как любая нынешняя раковина, лежащая на берегу и омываемая волной.
Когда мы оставили позади Окснард с его окраинами, я увидел в небе над морем звезду — одну-единственную, совершенно одинокую звезду, светившую очень издалека.
Мой отец сказал:
— Как только проголодаешься, загляни в картонку, найди себе там чего-нибудь и поешь, а если захочешь горячего, скажи мне — мы остановимся по дороге и раздобудем тебе горячего.
— Хорошо, но пока я не голоден, а когда проголодаюсь, мне хватит и того, что найдется в картонке. Нечего нам изводить деньги без крайней необходимости.
— И то верно. В картонке почти полная бутыль молока, так что хоть молоком ты на сегодня обеспечен.
— В картонке еще много чего другого. И вообще в нашей маленькой старой машине все очень мило, па.
— Я рад, что тебе в ней нравится. Теперь давай решим насчет сна. Я, видишь ли, намерен править всю ночь, то есть спать не буду, но это вовсе не значит, что и тебе не следует спать. Ты можешь перебраться на заднее сиденье, завернуться в походное одеяло и поспать.
— Так я и сделаю, па, но только попозже.
— Ладно.
— Когда мы доберемся до Бухты Полулуния?
— Это десять часов езды, включая стоянки. Сейчас семь, так что доберемся мы около пяти утра, приблизительно за час до рассвета. Я думаю, тебе будет особенно приятно приехать туда на рассвете.
— Мне, конечно, будет приятно. А что мы потом сделаем?
— Поедем дальше, в мой старый, родной Сан-Франциско.
— Скажи, па, отчего ты больше не живешь там?
— Оттого что я больше не чувствую себя там как дома.
— Почему?
— Скорее всего потому, что моя влюбленность в Сан-Франциско прошла, а писателю просто не стоит жить в городе, в который он не влюблен.
— Допустим, писатель не влюблен ни в какой город, что же тогда?
— Горе ему тогда.
— Почему?
— Писатель должен быть влюблен в этот мир, иначе он не сможет писать.
— Почему?
— Потому что все хорошее рождается из любви. Когда писатель связан с миром любовью, он любит все и всех, и он может писать, если только он трудится по-настоящему.
Я посмотрел на звезду далеко в небе.
— Люблю ли я этот мир?
— Конечно же, любишь. А что заставило тебя усомниться в этом?
— Ничего, кроме того, что я его ненавижу, вот и все.
— Уж я-то знаю, как ты его ненавидишь, — сказал мой отец.
Мы катили все дальше и дальше, среди холмов, начавшихся после Окснарда. Местами дорога бежала вдоль самого моря, а потом снова уходила кружить по полям и холмам, а потом снова возвращалась обратно — к морю.
И мы с отцом все говорили и говорили без умолку, потому что никогда до этого не бывало у меня такого счастливого случая наговориться с ним.
Не знаю, когда именно я заснул, но знаю, что до того как заснуть, я поел уйму всякой всячины из картонки и получил от отца ответы на шестьдесят, а то и семьдесят вопросов — про все, про что мне когда-либо и кого-либо хотелось расспросить.
Когда я заснул уже, во сне мне казалось, что я не сплю, а стою на черной скале недалеко от отцовского дома и, забросив в море удочку, жду, пока клюнет.
И вдруг, совершенно неожиданно, я почувствовал, что на удочку попалась самая что ни на есть громадная, неподдающаяся, сильная рыба. Я до того обрадовался, что не стерпел и вскрикнул: «Я поймал ее, па, теперь она моя!»
Отец обхватил меня рукой, притянул поближе, прижал к себе крепко, и я услышал, как он сказал: «Ну вот и отлично, сынок, а теперь спи». Вначале я никак не мог сообразить, зачем это мне спать, когда первым делом надо вытащить из моря мою громадную рыбину, — но потом мало-помалу я стал догадываться. Черт побери, я был вовсе не на черной скале, я был в старом маленьком красном форде, на пути в Бухту Полулуния, вместе с моим отцом. Но мне не хотелось отпускать рыбу, и потому я попытался забыть, что вижу это во сне, забыть хотя бы до тех пор, пока не вытащу ее на сушу. Но мне так и не удалось забыть, и прошло еще немного времени, и я проснулся, на этот раз совсем, словно и не спал.
— Какую рыбу я только что чуть не выловил, па!
— Мы еще наловим кучу рыбы, — сказал отец и покрепче прижал меня к себе.
— Но это была не просто рыба, а что-то еще вдобавок.
— Что именно?
— Я не уверен, точно ли помню, но кажется, это было все то, что я надеюсь когда-нибудь да узнать. В жизни не попадалась мне такая огромная, такая неподдающаяся и сильная рыба. Ух, хотел бы я, чтоб мне хватило времени вытащить ее на сушу, па!
— Я тоже. И ты это сделаешь. Но времени понадобится много.
— А тебе случалось вытащить такую рыбину?
— Нет, но я уже потратил на нее немало усилий и когда-нибудь я ее вытяну.
— Неужели на это нужно столько времени?
— Некоторые из великих людей полагают, что ее не вытащить никогда.
— Почему?
— Я думаю, это в каком-то смысле связано с ее ростом. Многие рыбаки крепко держат ее на крючке и подтягивают к себе все ближе и ближе, а потом, нежданно-негаданно, рыба, которая вырастает в громадину, одним толчком сметает их за борт, — и вот они сами в море.
— И что тогда они делают?
— По-прежнему за нее держатся или же отпускают.
— А выловишь ее, если будешь держаться?
— Не знаю. Никто не знает. Но всякий знает, что если ее отпустить, то уже не выловишь.
— Зато уж выберешься на сушу, правда?
— Да, выберешься, но даже это — борьба, и нередко бывает, что и опытные рыбаки не возвращаются обратно.
— Мне явно не повезло, что я проснулся, не успев вытащить ее на берег.
— Не повезло. Что правда, то правда.
— А долго я спал?
— Минут пять.
— Всего-то?
— Когда спишь, пять минут — немалое время.
Я перелез с переднего сиденья на заднее и улегся там, с головой закутавшись в походное одеяло.
Мне хотелось проверить, смогу ли я снова заснуть и досмотреть свой сон о рыбе, но как я ни старался, не смог. Просто, по-моему, человеку не снятся сны по заказу, вот и все.
Во-первых, очень долго мне не удавалось заснуть по-настоящему, и я так только — лежал в полудреме.
Во-вторых, вместо того чтобы думать о рыбе, я начал думать о совершенно других вещах.
Вспомнилось мне, как однажды, давно уже, я полюбопытствовал у отца, что он пишет, и он ответил — роман, после чего я попросил его растолковать мне, что такое роман, и он сказал, что роман — это огонь в виде длинного рассказа, написанного писателем. Тогда я спросил его, о чем бывает этот рассказ, и он ответил, что хороший рассказ бывает всегда обо всем на свете. Я сказал, что и мне хотелось бы написать когда-нибудь рассказ, на что он ответил: «Ты и пишешь по рассказу каждый день».
Он сказал, что день, прожитый человеком, это и есть рассказ. Это своего рода письмо к богу, сказал он. И человек пишет его каждый день, но только не в словах. Профессиональный же писатель пишет его в словах — для всех людей и за них за всех, но, все равно, на деле его пишут не столько писатели, сколько сами люди.
Я задумался о рассказе, прожитом мною сегодня. Что ж, пожалуй, это и вправду был рассказ и я вправду писал его в течение всего дня. Он начался рано утром, когда я встал и позавтракал вместе с отцом. Он длился тогда, когда я был в школе, и тогда, когда я увидел возле нашего дома старый маленький красный форд, и потом, когда мы поехали смотреть школу, названную именем Ноя Уэбстера, и когда приняли внезапное решение отправиться в Бухту Полулуния, и когда пустились в путь, и сейчас, когда находились в пути.
Но лучше всего в рассказе были не эти вещи, а совсем другие, те, что сопровождали их. Я, конечно, не прочь писать таким манером, так, как это делает любой человек, но я хочу еще писать и так, как пишет мой отец. То есть сидеть за столом, перед пишущей машинкой, и писать словами. Когда-нибудь я научусь и так. Не знаю, когда именно, но я это сделаю. Ясно, мне придется сколько-то потерпеть, потому что я пока не умею ни на машинке печатать, ни правильно писать большинство слов, которые употребляю в разговоре и понимаю. И к тому же я не умею представлять все то, о чем хотелось бы написать в рассказе, иначе как про себя, лежа, скажем, вот так, под походным одеялом, на заднем сиденье машины, катящейся средь темной ночи на север, в Бухту Полулуния.
Я этого не умею пока, но когда-нибудь научусь.
И когда я научусь, я напишу такой роман, какого не писал еще никто никогда. И я уже знаю, что в нем скажу. Рыба, скажу я. Вода, скажу я. Целое море воды, полное рыбы, то бьющееся о берег, то откатывающееся назад.
Когда я припоминаю все, что было в моей жизни веселого, я чувствую себя всезнающим, но потом вдруг припоминаются и такие дни, когда мне бывало плохо и грустно, и все как будто бы становилось чужим, и тогда я чувствую, что ничего не знаю.
Вот две стороны вещей, которых я никак не пойму.
Но уж одно-то я понимаю — что нелегко мне придется, когда приспеет срок писать словами.
Я снова заснул. Но если на этот раз мне и снилось что-нибудь, я все равно ничего не запомнил, ни о рыбе, ни о рассказе и ни о чем другом. Я спал, забыв обо всем, даже о машине, даже о том, что еду в Бухту Полулуния.
Проснулся я, почувствовав вдруг, как что-то изменилось, остановилось.
— Где мы?
— Почти у цели.
Наш форд находился у заправочной станции, а при станции этой имелась небольшая закусочная.
— Я выпью чашку кофе, — сказал мой отец. — А ты какао, ладно?
Он выпрыгнул из машины, потянулся, и то же самое сделал вслед за ним я. Возле колонки стоял и смотрел на нас человек, старый-престарый.
— Сдается мне, что денек сегодня будет прекрасный, — сказал он, а потом добавил, что он не дежурил тут ночью, а встал всего с часок и пришел сюда сменить своего сыночка — надо же и тому поспать.
— Сколько лет вашему сыночку-то? — сказал мой отец.
Старик рассмеялся:
— Да почти что шестьдесят уже, но было время, когда он был таким же, как твой мальчонка. Самому мне скоро восемьдесят. Одиннадцать лет назад у меня еще был папаша. И сказать по правде, мне очень недостает старика.
Он рассказывал о своем папаше все время, пока накачивал в бак бензин, а когда кончил, сказал: «Теперь посчитаем. Выходит вот что, бензину я накачал вам ровно на четыре доллара плюс семнадцать центов».
— Отлично, — сказал мой отец. — А ну-ка, Пит, принеси сюда свою баночку и высчитай нам четыре доллара плюс семнадцать центов.
Я принес банку и с помощью старика высчитал из нее сколько было нужно.
Потом мы с отцом вошли в крохотную закусочную выпить по чашке кофе и какао, а старик остался возле нашего форда и принялся протирать ветровое стекло.
В закусочной была недлинная стойка с высокими стульями вдоль нее, а за стойкой еще один старик и, кроме него, ни души. На маленькой газовой плите в кофейнике с ситечком варился кофе. Старик налил моему отцу чашку кофе, а про какао сказал, что нет у него никакого какао, но что он может подогреть молока, так что я выпил стакан горячего молока, в которое отец капнул чуточку кофе из своей чашки. Пока мы пили, в комнату вошел первый старик, с бензоколонки, вошел и сказал:
— Я проверил, хватит ли вам масла. Его как раз столько, сколько нужно. В радиатор я долил полгаллона воды. Покрышки в порядке.
— Спасибо, — сказал отец, — все это очень любезно с вашей стороны. Не выпьете ли чашечку кофе со мной и моим сынишкой?
— Пожалуй, не откажусь, — сказал старик.
Он сел рядом со мной. Я перевел взгляд с него на старика за стойкой: они были до того похожи, что хоть по черточкам сравнивай. Все было одинаково, только губы чуть заметно отличались: у старика за стойкой губы были тонкие и в углах как бы сползающие книзу, а у старика рядом со мной тоже тонкие, но в углах изогнутые вверх.
— Что, паренек, — сказал старик, сидевший рядом со мной, — хочешь разобраться, кто из нас кто?
— Я отлично знаю, кто из вас кто, потому что там — он, а здесь — вы. Просто вы очень похожи.
— Обычное дело у близнецов, — сказал старик, сидевший рядом со мной. — А мрачность у братца моего оттого, что он старше. Десятью минутами старше меня. Время, видишь ли, так или иначе оставляет свою отметину на лице человека.
После того как мой отец выпил три чашки кофе, а старик вволю повеселил нас своими разговорами, мы поднялись, и я высчитал из баночки тридцать пять центов и положил их на стойку.
Братья-близнецы попрощались с нами, пригласив заезжать к ним и в другой раз. И мы с отцом вышли из закусочной и сели в свою машину и покатили дальше.
Не прошло и часа, как вдруг отец затормозил у обочины и сказал:
— Давай-ка пройдемся тут.
Мы вылезли из машины и, сделав несколько шагов, оказались среди каких-то красивых растений.
— Артишоки.
Отец вытащил из кармана свой нож с одним-единственным широким лезвием, согнутым на конце в крюк, и срезал артишок размером как мяч в комнатном бейсболе.
— Рассмотри его как следует, — сказал он. — Ты увидишь тут и розу, и шипы, и чертополох, и что-то еще.
И он стал срезать их один за другим и запихивать в шляпу и за пазуху. Когда мы вернулись к машине, я спросил:
— Сколько всего ты украл?
— Дюжину, — сказал отец, — но я их не крал.
— Разве они не собственность фермера?
— Я брал только с таких кустов, которые пора было подрезать.
— Ты не хочешь признаться, что украл их?
— Нет, сэр.
Мы сидели в машине, у обочины дороги, и любовались рядами удивительно красивых артишоков. Их было сотни, они тянулись на черной прохладной земле, и низкий мягкий туман стелился меж ними.
Немного погодя мы запустили мотор и снова поехали, но я то и дело оглядывался назад — посмотреть, не гонится ли за нами полиция. Отец, по видимости, прочел мои мысли, потому что он сказал:
— Забудь об этом. На самом дорогом рынке дюжина артишоков не стоит и двух долларов. А я в свое время многим, в том числе и нескольким фермерам, давал гораздо больше, чем два доллара. Так что не терзай себя понапрасну. Никто за нами не погонится, так же как и мы — ни за кем.
Некоторое время мы ехали молча. Потом вдруг отец запел — запел любимую свою песенку про хитреца.
— Хитрец! Интересно, что это значит?
— Видишь ли, хитрец — это человек, у которого есть энергия и сметка, но, может быть, лучше, если я объясню тебе, что такое человек с энергией и сметкой? Это всякий, кто вынужден стараться изо всех сил, дабы пробить себе путь в жизни, причем неважно, на каком поприще он старается или же какой выбирает путь. Певец песни твердит тебе из куплета в куплет, что сам он — тоже хитрец. Он поет об адвокате, о священнике, о торговце, и мне кажется, он мог бы петь свою песенку о ком угодно в мире и был бы прав. Все мы хитрецы.
— Придумай еще про кого-нибудь, па.
— Ха-ха-ха! Неплохо.
— А по-моему, плохо. Взгляни-ка вон туда.
Я взглянул, куда он показывал, и увидел почти что у берега белую церковку.
— Вот и Бухта Полулуния, — сказал мой отец.
Через минуту мы въехали в городок. Было утро, и на углу улицы стояли и разговаривали двое мужчин.
Бухта Полулуния — Хаф Мун Бэй — это не луна и не небо, как я почти что поверил, это маленький городок в маленькой бухточке с маленькой церквушкой в конце улицы.
Отец сказал, что каждый раз, когда он приезжает сюда, он непременно заходит в церковь, так что туда мы и отправились сразу. Мы вошли в церковь и посмотрели все, что в ней было. В ней царили мир и тишина, такая тишина, что я почти чувствовал, почти слышал, как пролетают по приделам ангелы.
Мы просто постояли там. Мы не прошли в глубь церкви, то есть туда, где находилась сцена. Я знаю, это называется не сценой, но для меня это — сцена, такая же, как в театре, и то, что происходит в церкви, напоминает мне спектакль, такой же, какие бывают в театре.
Когда мы вышли на улицу, я спросил:
— Что такое церковь, па?
— Одна из лучших комнат в доме человечества.
— А что такое бог?
— Глава дома. Пожалуй, это единственный ответ, который я в состоянии дать тебе сейчас же. Начни я искать другого, мне пришлось бы, чего доброго, проговорить весь остаток моей жизни и к тому же с каждой минутой я бы все больше и больше сбивался, пока бы не запутался окончательно.
Мы обошли весь городок, потому что именно это и входило в наши планы. Мы шли по утренним улочкам, тихим и чистым, с редкими прохожими, шли и разговаривали. Посреди одной из этих улочек отец мой неожиданно замедлил шаг, остановился и шумно втянул ноздрями воздух.
— Где-то рядом кто-то печет хлеб. Хочешь свеженького хлебца?
— Еще как!
Мы свернули за угол, но не обнаружив за углом никакой пекарни, снова вернулись на прежнее место и нашли ее наконец, совсем поблизости, но дверь оказалась на запоре.
Отец постучал, и тогда появился мужчина в белом халате пекаря, с белым от муки лицом и руками, и отпер нам дверь.
— Мы открываем в семь, — сказал он, — а сейчас и шести нет.
— А что вы печете?
— Хлеб и булочки.
— Не продадите ли нам чего-нибудь сейчас? Мне так редко выпадает случай поесть свежевыпеченного хлеба.
— Ну раз так, входите, — сказал пекарь, и мы с отцом вошли и последовали за ним во внутреннее помещение, туда, где пекарь и его жена пекли хлеб. Там было чисто и тепло и на металлической жаровне лежали свежие батоны и булочки.
— Берите, — сказал пекарь.
Отец выбрал батон французского хлеба из полдюжины таких же, которые пекарева жена только что вынула из печи на широкой деревянной лопате, а потом она достала для нас на той же лопате множество булочек. Отец взял еще полдюжины булочек. Одну он протянул мне, другую надкусил сам, а большой батон засунул себе в карман.
— Присаживайтесь, — предложил пекарь. — На столе есть сыр. Можете угощаться.
Мы с отцом направились к столику, за которым до нашего прихода пекарь и его жена завтракали хлебом и сыром.
— Этот человек твой знакомый?
— В первый раз его вижу.
Пекарь подошел к нам, взял одну булочку и, разломив пополам, положил в нее сыру. Я думал, что он будет есть ее сам, но он протянул булочку мне и сказал:
— Всегда помни про хлеб и сыр. Даже если все остальное опротивеет, ты только вспомни про хлеб и сыр, и на душе станет лучше.
— Да, сэр.
— Вот почему я и пекарь, — сказал он. — Я перепробовал много других занятий, но только это по мне.
Пекарь разломил вторую булочку, положил в нее сыру и дал своей жене, которая уже покончила с выпечкой и, улыбаясь, подошла к нам.
— Откуда будете, ребята? — сказала жена пекаря.
— Из Сан-Франциско, — сказал мой отец. — Хотя вот уже два года как живем в Малибу.
— А чем занимаетесь? — сказала женщина.
— Я писатель, — сказал мой отец.
— Книги пишете?
— Да, книги.
— Напишите книгу обо мне, — сказала женщина и, сказав, рассмеялась. — Чего бы только я ни поведала вам! Работа, работа, работа, и вечно — смех. Хлопоты и заботы, хлопоты и заботы, и вечно — смех. Как по-вашему, сколько у нас детей?
— Трое, — сказал мой отец.
— Семеро! — сказала женщина. — И все уже взрослые. Моему мужу сорок четыре, мне сорок два, а младшему нашему восемнадцать, он во флоте. Ну как?
— Здорово, — сказал мой отец.
— Сейчас мы одни, и вот завели себе эту пекарню. Чем не жизнь? Напишите книгу обо мне. Вы думаете, я итальянка? Я ирландка. Это он — итальянец. Напишите книгу о Розе Ханниган из Бруклина. Чего бы только я ни поведала вам!
— Поведайте, — сказал мой отец.
— Ах, это длинная история, — сказал пекарь. — Ей и за целый час не пересказать вам всего, что мы перевидали.
Пекарь и его жена сели за стол, и разговор продолжался, и я все слушал и слушал, и наконец время подошло к семи.
Пекарь встал, отпер входную дверь, и появились первые покупатели.
Попрощавшись, мы с отцом вышли на улицу, вернулись к своему форду и поехали дальше на север — в Сан-Франциско.
Доехали мы очень скоро и остановились возле невысокого белого дома.
Сестра моего отца увидела, как мы выходим из машины, распахнула окно и вскрикнула: «Смотрите-ка, кто приехал!»
Мы вошли в дом, посидели немного, поговорили, а потом я и отец спустились в нижний этаж, в прежние его комнаты — кабинет с книжными полками от пола до потолка, с пианолой и проигрывателем и спальню с двумя кроватями. Отец сказал: «Кровать у окна твоя, у двери моя. Сейчас мне надо принять душ и соснуть, а после мы выйдем посмотреть на Сан-Франциско».
— Мне, может, тоже принять душ и соснуть? — спросил я.
Отец сказал, что мне это не обязательно, но и не помешает, потому что сон в машине совсем не тот, что в постели, так что я тоже принял душ и, облачившись в свеженькую пижаму, залез в постель.
Когда я проснулся, отец еще крепко спал.
Я сполз с кровати, оделся, выскользнул в кабинет и принялся обследовать его, внимательно рассматривая все сокровища моего отца: его книги, его рукописи, его проигрыватель и пластинки, картины на стенах, камни на полу, охапки водорослей в углах и прочие имевшиеся в комнате вещи.
За этим занятием застала меня, спустившись вниз, сестра моего отца. Она тихонько приоткрыла дверь и шепнула:
— Ты не хочешь чего-нибудь поесть?
— Хочу.
— Знаешь, — сказала она, — всего год назад ты был еще мальчонка, а сейчас на тебя посмотришь — ну, прямо мужчина!
— Мне десять лет, — сказал я. — Ха-ха-ха! Когда мне было пять, я хотел, чтоб мне было десять, а сейчас, когда десять, хочу, чтоб было двадцать.
Мы поднялись с ней наверх и сели за стол. Она выставила на чудесной белой скатерти множество вкуснейших вещей, и как только мы принялись за еду, в комнату вошел мой отец и сел вместе с нами.
— Надо признаться, — сказал он, — что это великое удовольствие — сидеть за настоящим столом, накрытым настоящей скатертью, а не газетой.
— С газетой лучше, — сказал я. — Для разнообразия и так приятно, но наш с тобой стол самый лучший.
Отец предложил своей сестре прокатиться с нами по городу, но она сказала:
— Нет, езжайте вдвоем. А я пока займусь обедом.
Мы сели в машину и поехали на берег океана, потому что стоит моему отцу оказаться в таком месте, где есть океан, его сразу тянет на берег, к воде, очень он ее любит. Если нет поблизости океана, он любит ходить к реке, если же нет и реки, он включает садовый разбрызгиватель и смотрит на его воду.
Океан в Сан-Франциско тот же, что и в Малибу, но в Сан-Франциско он холоднее, а прибой сильнее и выше.
Мы побродили по пляжу, а потом поехали вверх по холму на Клиф Хауз и смотрели тюленей на Тюленьей скале; они жили там целым семейством, на собственной своей территории. Волны буйно бились о скалу, а тюлени то и дело ныряли с нее в воду и, поплавав немного, выбирались обратно и отряхивались, и играли друг с другом. Я смотрел на них и думал о жизни, которой живут они. С того дня, как они рождаются, и до того, как умрут, они просто держатся вместе. Они не ведают ни трудов, ни тревог, ни к чему не стремятся и никуда не опаздывают, не размышляют о вчерашнем или завтрашнем дне или о том, кто они, или о чем другом.
— Хочешь сосисок? — спросил отец.
— А сам ты хочешь?
— Конечно, хочу. Почему бы мне, собственно, не хотеть?
— Они стоят четверть доллара штука. Если каждому по сосиске, будет полдоллара. А за эти деньги можно купить бензину километров на сорок.
— Совершенно верно, — сказал мой отец. — Но меня так и дразнит запах сосисок и очень хочется поесть одну, если и ты не против?
— Я не против, па.
Мы снова спустились на пляж и взяли себе по сосиске со всем, что полагается к ней. А полагается к ней нарезанный кружками лук, красный перец, соленый огурец, горчица и холодная подливка.
Мой отец проглотил свою порцию в мгновение ока.
— Мир — вот что придает вкус горячей сосиске, — сказал он, — и поэтому есть ее лучше всего на улице.
Недалеко от стойки, где продавались сосиски, кружилась карусель, непрерывно играла музыка, и дети кричали что-то родителям и друг другу, и мне вспомнилось, как когда-то я делал то же самое. Это было давно, очень, очень давно, почти в другой жизни, — ведь вот уже несколько лет я не катался на карусели. И вдруг мне захотелось покататься на ней сейчас же, сию минуту, но я, конечно, и слова не проронил, потому что знал — отец сразу же согласится, катайся, мол, на здоровье, и еще одна монетка уплывет от нас.
— Не знаю, как ты, но я должен покататься на карусели, — сказал мой отец.
— Без шуток?
— Я сяду на льва. А ты?
— На тигра.
Мы подошли к окошечку кассы и взяли билеты.
Отец оседлал льва, я — тигра, и нас завертело, закружило под музыку джунглей.
Каждый раз, когда тигр завершал очередной свой круг, я испытывал такое чувство, будто вот сейчас меня отбросило на целый год назад во времени, а само время меж тем умчалось на год вперед.
Когда тигр стал, я спустился и, отойдя от карусели, сказал:
— Знаешь, па, я ничего не понимаю.
— Тем лучше, — сказал он.
Мы зашагали по прямой дорожке с беседками для разных игр туда, где были качели и чертово колесо и всякие «дома», куда можно заплатить и войти, вроде «Сумасшедшего Дома» или «Дома загадок».
Меня взволновало то возбуждение, которым охвачены были все находившиеся там, словно каждый из этих людей обнаружил внезапно, что он живой — живой вместе с другими живыми — в мире, полном волнующих вещей, и никому ничего не нужно делать, кроме как наслаждаться этими вещами и с наслаждением есть сосиски. С горки, по головокружительной крутизне прогрохотал вниз маленький поездок, описал быструю дугу под крики своих пассажиров и снова взмыл кверху, а потом снова сорвался вниз, снова закружил по дуге, и снова раздались вскрики сидевших в нем.
Я силился понять мир. Я силился понять, что это значит — быть живым среди огромного множества живых и вместе с ними.
И я чувствовал себя то приятно взволнованным, радостным, то печальным и одиноким.
Когда мы прошли до конца всю дорожку игр и развлечений, отец мой сказал:
— А теперь давай поедем во Дворец Почетного Легиона, где можно увидеть иную жизнь.
— Иную? Какую же?
— Жизнь в искусстве. То есть лучшую на свете.
— Почему она лучшая?
— Потому что в ней, в этой жизни, нет шума и крика. Пошли скорее, мне не терпится взглянуть на нее еще раз.
Дворец Почетного Легиона расположен на возвышенности, с которой видны Золотые Ворота — и мост, и пролив, и море. Прямо перед входом во Дворец зеленая лужайка, и на лужайке железный человек на железном коне и еще один человек, сидящий в задумчивости.
— Кто этот на коне?
— Неважно. Какой-то болван.
— А вон тот кто?
— Мыслитель.
— О чем же он мыслит?
— О себе. То есть о том, о чем и мыслят все мыслители.
— Где его одежда?
— Дома.
— А сам он где?
— А сам он здесь. В искусстве. Эту статую сделал человек по имени Роден. Принято считать, что она хорошая, но хороша она лишь постольку, поскольку все, что было сделано после нее, попросту убого. Египтяне и индусы не раз и не два, а веками создавали вещи куда лучше этой, причем так, словно это ничего им не стоило, словно иначе и невозможно было. Не так, как нынче, когда никто не в состоянии создать хоть что-нибудь мало-мальски приличное.
— А почему ты их не научишь, как это сделать? Ведь ты же, па, самый умный на свете.
— Ха-ха-ха! — рассмеялся мой отец и сказал: — Давай-ка войдем, пока не поздно, войдем и посмотрим немного искусства.
— Что такое искусство?
— Все. Все, рассмотренное в своей особенности, все, увиденное в особенности, все, сделанное с особенностью, все — особенное в своей отдельности.
Мы вошли в здание, и было в нем, как в церкви. Даже кто-то играл на органе, и на стенах висело великое множество картин. На них приятно было смотреть. Они приводили на память много такого, что видишь тысячи раз, но к чему никогда не приглядываешься по-настоящему. Это были: холмы — с травой, деревьями и камнями; лица людей и животных; комнаты — с мебелью и другими вещами; люди — стоящие и сидящие; столы и на них тарелки, фрукты, сыр и хлеб и прочее; птицы всех разновидностей, убитые охотниками и подвешенные вниз головой; корабли в море; улицы городов; задрапированные комнатки — с полуобнаженными женщинами, одевающимися, или отдыхающими на постели, или погруженными в полусон; маленькая девочка с ведерком, поливающая цветы в саду; мать и отец с их тремя детьми и большой собакой; фабрика, железная дорога и много чего другого.
Мы переходили из одного зала в другой, а потом спустились вниз, и внизу мы увидели чашки, тарелки, ножи и вилки старых времен и разную старинную одежду.
Мы осмотрели все, что имелось в здании, и в том числе свернутые пожарные шланги в каждом зале.
Наконец мы снова вышли на лужайку и, остановившись, стали смотреть, как закатывается солнце, и отец мой сказал:
— Не будь искусства, мы давно бы исчезли с лица земли.
Искусство… Что это, в сущности, такое? И что такое, в сущности, человек, и что такое мир? Не знаю я, не пойму.
Стоя на лужайке и глядя, как погружается в море солнечный шар, мой отец сказал:
— В каждом доме должен быть особый «стол искусства», и на нем один за другим должны выставляться разнообразнейшие предметы, так чтобы все, кто живет в этом доме, день за днем пристально их рассматривали и научились бы видеть.
— Что ты положил бы на такой стол?
— Лист. Монету. Пуговицу. Камень. Обрывок газеты. Подкову. Яблоко. Цветок. Яйцо. Мертвое насекомое.
— Но кто ж этого не видел?
— Видел-то каждый. Но не каждый всматривался, а именно это и есть искусство. Всматриваться в знакомые вещи так, словно впервые увидел их. Просто листок бумаги, на котором что-нибудь напечатано. Галстук. Ключ. Перочинный ножик. Вилку. Чашку. Бутылку. Орех.
— А бейсбольный мяч?
— И мяч, конечно. Ты ставишь на стол какой-нибудь предмет и хорошенько его рассматриваешь. На следующее утро ты убираешь его со стола и заменяешь чем-то другим — чем угодно, ибо всякая вещь, сотворенная природой или человеком, достойна того, чтоб ее рассмотрели в отдельности.
Солнечный шар уже почти потонул в море, но его оранжевый свет еще отражался на небе и на воде. Холм, на котором мы находились, стал медленно окутываться тенью, и мой отец вытащил сигарету, закурил, сделал затяжку и, выдохнув дым через рот и ноздри, сказал:
— Ну вот, мой мальчик, вот и еще один день этого великолепного мира ушел навсегда.
— Но завтра будет новый день.
— Хочешь отправимся сейчас в порт и полюбуемся на корабли?
— Я многое могу рассказать тебе об этом городе, — сказал отец, когда мы уже были в машине. — То есть не просто о городе, а про себя в нем. Лет пять или шесть тому назад точно такую поездку, как эта, предприняли мы вчетвером — я, ты, твоя мать и твоя сестра, и ты увидел тогда корабли в порту и тебе захотелось, чтоб один из них был твоим.
— А какой именно?
— «Азиатский экспресс». Я никогда не забуду названия этого корабля. Ты хотел его во что бы то ни стало и никак не соглашался понять, что это вещь невозможная.
— Ха-ха-ха! Зачем же он мне понадобился?
— Кто знает. Может, ты вспомнишь сам, зачем он тебе понадобился?
— Нет, па, не помню. И что же мы тогда сделали?
— Приехали домой и поужинали.
— Ну и правильно.
Мы миновали улицы Сан-Франциско и прибыли наконец в порт, туда, где днем и ночью в доках стоят корабли. Они стояли там и теперь.
Есть ли на свете что-нибудь прекраснее корабля? Есть ли что-нибудь правильнее его и естественнее? Что-нибудь сработанное так искусно и заключающее в себе столько смысла? И странно ли, что мне, совсем еще карапузу, захотелось, чтоб был у меня свой корабль, пусть даже я и не знал еще, что это за штука?
Отец затормозил у самого причала, возле сложенных штабелями бревен, и мы вышли и принялись рассматривать стоящую на швартовых шхуну, совершенно свободную сейчас от груза, не очень большую, но и не маленькую, старую, пахнущую морем и деревянной обшивкой и выкрашенную в серый цвет.
— Папа, — сказал я, — давай заведем себе корабль и отправимся в кругосветное плавание. Давай только поставим себе такую цель и начнем экономить деньги и будем потом жить на корабле и побываем, где захотим.
— Но на корабле нам не попасть на луну.
— Ха-ха-ха! И на ракете тоже, па. Ты это отлично знаешь, так что давай купим себе маленький старый кораблик и поплывем куда глаза глядят и посмотрим весь этот мир, каждый его уголочек. Если хочешь, станем пиратами. Я согласен. Станем грозою морских троп.
— Дай мне время обдумать твое предложение.
— Поставим себе такую цель, па. Заведем себе собственный корабль и ружья и займемся контрабандой и будем нападать на другие суда, ну, и прочее в этом духе.
— Здорово ты придумал. Вот если бы мы смогли!
— Но не сможем, правда, па?
— Не так уж это легко.
— А что для этого нужно?
— Поменьше ума, побольше везения, но даже если оба условия налицо, ты все равно недолго продержишься.
— Почему?
— Это против законов.
— Против каких законов?
— Твоих и моих.
— Я думал, ты про законы Англии.
— Законов Англии я не знаю, но наш закон — доставлять себе радости, не причиняя вреда душе.
— А как это делать?
— Вырастешь — выяснишь.
— Значит, та радость, которую доставляли себе пираты, сейчас уже невозможна для человека, па?
— Во всяком случае это не будет настоящая радость.
— Поверь мне, что будет.
— Если это и будет радостью, то не высшей.
— Это будет почти что высшая, па, а раз нам неизвестно, которая — высшая, то на деле высшей окажется она, но для человека теперь все равно невозможна такая радость, так что черт с нею, па, мы просто не станем пиратами, вот и все.
— Мне искренне жаль, — сказал мой отец.
Мы отошли от приглянувшейся нам шхуны и не спеша двинулись дальше — посмотреть на остальные корабли. Ах, ничто на свете не сравнится с кораблем! Не знаю, что бы я сделал, будь у меня свой корабль. Огромный пароход, и я на нем капитаном. Если же это невозможно — чтоб был у меня свой огромный пароход, на котором я сам плаваю капитаном, тогда пусть у меня будет просто большое судно, а я согласен и на первого помощника капитана. Если и это невозможно, пусть будет яхта со своей командой и капитаном, а я на ней сам по себе, и на палубе или в трюме никакого груза. Если нельзя и яхту, то хорошо бы иметь буксир и вместе с отцом управлять им и подтягивать к доку суда и махать на прощанье ребятам с этих судов. Если же и буксир нельзя, что ж, тогда я согласен и на парусную лодку, на которой можно поплавать немного, а не то чтобы уйти далеко в море; пусть это будет, скажем, катамаран, вроде тех, что появляются летом в Малибу. Ну а если нельзя катамаран…
— Па, — сказал я, — давай с этих пор собирать и складывать все какие нам попадутся бревна и доски.
— Это еще зачем?
— Чтобы сколотить плот.
— Зачем тебе понадобился плот?
— Мне понадобился совсем даже не плот, но раз я не могу получить то, что мне действительно нужно, то уж лучше плот, чем ничего.
— А что тебе действительно нужно?
— Мне нужен большой корабль.
— Такой же, какой ты требовал пять лет назад?
— Сколько он стоит, интересно?
— Сразу после войны за сотню тысяч долларов можно было приобрести у государства какое-нибудь грузовое суденышко военных лет.
— Это ведь не так уж дорого, а?
— Государству каждая из этих посудин обходилась в полмиллиона и больше, так что за сто тысяч получалась просто выгодная сделка, но для нас с тобой и сто тысяч — невозможные деньги.
— А сейчас еще есть такие посудины?
— Не думаю.
— Кто же их купил? Кто-нибудь вроде нас?
— Нет, большие пароходные компании. Это обычно делают они.
— Ладно, па, давай будем собирать и складывать все какие нам попадутся бревна и доски, чтобы поскорее сколотить себе плот.
— Давай, — сказал отец.
Мы проходили часа полтора по гавани, а потом устроились посидеть на бревнах. Прямо на виду у нас стоял корабль с названием «Грозный друг». Отец сказал: интересно, что бы значило такое название? И в самом деле, что это за название для корабля? Что это за друг, который грозен? Если уж он грозен тебе, то какой же он друг? А может, это не про человека, а про что-то другое? И если так, то про что?
— Что бы это значило, па?
— Не знаю, но сам корабль явно хорош, не правда ли?
— Корабль замечательный — такой весь узкий, и такой весь белый, и уж наверное быстрый.
— Наверняка быстрый, судя по его линиям.
— Вот бы его нам! Первым делом я поменял бы название.
— Как бы ты назвал его?
— Как-нибудь по-другому.
— Ну, например?
— «Беляк».
— Это годится для зайца.
— Ладно, пусть будет «Лук и стрела».
— Где ж ты в нем углядел и лук, и стрелу?
— Этот корабль похож на стрелу. Он узкий и вытянутый и быстрый, как стрела.
— Ну а где же лук?
— А лук — море. Разве не может быть?
— Может. Какое еще предложишь название?
— «Тут и там».
— Неплохо.
— «Теперь или никогда».
— Тоже неплохо.
— «Вот и я».
— Отлично.
— Нашел, па! Вот теперь я нашел название, самое подходящее для этого корабля.
— Какое?
— «Ха-ха-ха!».
— Вот это здорово.
— Этот корабль, па, чем-то похож на смех. Ей-богу, похож. И не похож ни на какого грозного друга.
— Ты прав, этот корабль исходит и заражает смехом.
— Ну а что же это за «грозный друг», па?
— Быть может, разум?
— Почему разум — грозный?
— Не знаю, но временами так оно кажется.
— Только не мне.
Отец мой растянулся на бревнах и закрыл глаза.
Что такое разум, вы сами знаете. Уразуметь что-то — значит что-то выяснить для себя и понять. Но что же в этом может быть грозного и пугающего? И что бы и насчет чего бы ни уразумел человек, зачем ему пугаться?
Что можно выяснить и понять такого, от чего стало бы страшно? Что рано или поздно каждый из нас умирает? Ну так что? Мне всегда это было известно, но никогда не пугало. Наверное, мне просто еще не время предаваться таким мыслям насчет себя. Не случится же это со мной? Конечно, рано или поздно это случается с каждым. Случается и с детьми. Но обычно случается это с теми, кто уже много пожил на свете, как тот человек, который был мальчишкой-барабанщиком во время войны из-за негров и дожил до ста одного года, надо же как долго, но, все равно, в конце концов и барабанщик этот умер. Он был очень уже старый, его показывали по телевизору во время парада, ему было тогда девяносто девять, и видно было, какой он старый.
Всякому человеку известно, что когда-нибудь он умрет, но я не замечал, чтоб люди терзались от этой мысли. Может, они терзаются, когда остаются одни?
Впрочем, однажды мне случилось поволноваться. Я съезжал с горки на велосипеде, и порвалась цепь. Я слетел, стукнулся головой о землю и потерял сознание. Отец повез меня в больницу сделать рентгеновский снимок.
— Это нужно, — сказал отец, — чтобы выяснить, не повредил ли ты голову. Голова у тебя, я думаю, крепкая. Худшее, я думаю, позади, и теперь все в порядке.
Я пытался сообразить, что тут к чему.
— Когда нам скажут точно?
— Минут через пять-десять, когда посмотрят снимки.
Я подумал, если у меня действительно что-то стряслось с головой, то я, наверно, умру.
Я не знал, что и думать. Мне было не по себе. Я сам на себя злился из-за дурацкого моего падения, из-за того, что такая малость так дорого обойдется мне.
Минут через пятнадцать появился отец и сказал: «Пошли».
Я слез с рентгеновского стола и твердо стал на ноги. Отец взял мою голову в обе руки, поглядел на нее, погладил ее всю и, поцеловав в макушку, сказал: «Смотри, будь с ней поосторожнее, ладно?»
— Па, — сказал я ему сейчас, когда он поднялся и сел, — а что может человек выяснить для себя такого, что его напугало бы?
— Ты сам это для себя выяснишь в скором времени.
— Ну ты бы хоть намекнул мне?
— Видишь ли, у каждого это по-разному. На одного может нагнать страху одно, на другого другое.
— Ну, скажи мне, па.
— Ну вот, к примеру, — сказал отец, — любовь — это все, так что когда оказалось, что даже любовь может превратиться в ничто, вот это-то и напугало меня, до смерти напугало.
Мы покинули порт и поехали по Маркит-стрит на Туин Пикс, сделали несколько поворотов, миновали несколько улиц и подкатили к дому, в котором жила сестра моего отца.
Мы плотно поужинали и спустились вниз в старые отцовские комнаты, и там мы сидели и разговаривали, а в камине тем временем разгорался огонь. Моя тетушка принесла полное блюдо фруктов, и мы ели яблоки и груши, и сушеный инжир, и мягкий изюм, и сушеные персики и абрикосы, и свежие орешки, и финики, и миндаль.
Отец с сестрой разговаривали о своей родне, о людях, которых оба они когда-то знали и многие из которых уже умерли.
Потом тетушка пожелала нам спокойной ночи и ушла к себе наверх, а мы легли каждый в свою постель и довольно долго читали. Ну а потом нам захотелось спать, и отец погасил свет, и мы оба уснули.
Наша поездка в Сан-Франциско прошла очень славно, и так же славно прошло возвращение домой. Мы вернулись в Малибу в воскресенье, перед самым заходом солнца. Мы вошли в свой дом, растворили окна, открыли краны и вышли на заднее крылечко — поглядеть еще раз на море. Потом мы спустились вниз, на берег, и побежали к Красной скале, но не вперегонки, а просто так, просто нам обоим хотелось побегать, оттого что мы снова были дома.
Обратно мы шли не торопясь, и по пути, как всегда, подобрали несколько голышей и ракушек и водорослей, а потом поднялись наверх и устроили себе праздничный ужин.
После ужина отец сказал:
— Завтра тебе в школу, так что скажи, с чем у тебя там неладно?
— С правописанием. Это у меня самое слабое место. Сегодня я пишу слово правильно, а завтра снова неправильно.
Так что мы поупражнялись немного в правописании, но отец сказал, чтоб я не очень на этот счет тревожился. Он посоветовал мне учиться, как использовать слова там, где они нужны и уместны. Это, сказал он, важнее всего. Если ты умеешь выражаться ясно, то пусть даже слова написаны неправильно, сказанное тобой все равно будет ясным, и все поймут тебя правильно.
Мы придумали и игру, чтобы поупражняться в словах. Берешь какое-то слово, например, «рот» и, поменяв букву, превращаешь его в другое, «рот» превращаешь в «кот», а потом в «бот» и в «пот» и так далее и так далее. Найдешь новое словечко и радуешься, и дивишься, откуда их столько берется, и словно заново что-то в них узнаешь.
— Тебе нравится дома? — сказал отец.
— Конечно. Но путешествовать тоже нравится.
Мы еще немножко поупражнялись в словах, после чего еще часок я рассматривал том Британской энциклопедии, как предложил мне отец, а потом мы легли, и когда я заснул, во сне опять передо мной раскинулось наше море.
На свете нет ничего прекраснее моря, вот что я скажу. Большое и хорошее, оно не знает покоя. Оно в вечном движении — изо дня в день и из года в год катит оно взад и вперед свои волны. Ты захочешь уйти от моря, оно пойдет за тобой. Ты уйдешь от него далеко-далеко, туда, где сплошная земля, где даже запах морской и тот не слышен, а море все равно будет с тобой, за тобой — волнующееся беспрестанно. Ты уйдешь от него далеко, уйдешь в самого себя, как ты делаешь это, когда засыпаешь, и оно будет снова с тобой, в тебе.
Море больше и лучше всего на свете. Море, оно такое, что полюбив его — не разлюбишь.
Утром, едва проснувшись, я вскочил и выбежал на заднее крыльцо и увидел там своего отца. Он был в шортах и стоял, облокотившись о перила, и смотрел на море. Солнце только-только всходило, и волны с грохотом обрушивались на большую черную скалу и на целую вереницу скал поменьше. На воде было множество чаек, и их то бросало на скалы прибоем, то относило назад. Какие-то маленькие птицы с длинными черными клювами что-то без устали клевали в мокром прибрежном песке. И на расстоянии ста ярдов, на высоте футов в пять-шесть четкой и медленной стаей летели над морем пеликаны.
— Ну, — сказал мой отец, — как подвигается твоя повесть?
— Ты же знаешь, па, никакой повести я не пишу, но зато думаю о ней все время. Как подвигается твоя поваренная книга?
— Представь, то же самое и у меня. Я тоже ее не пишу, но зато все время варю что-то. Чем будем завтракать? Есть гречневые лепешки. Кукурузный хлеб. Бисквит. Все это уже готово. Но можно что-нибудь другое. Например, овсяную кашу. Вареную картошку, поджаренную на масле.
— А картошка уже сварилась?
— Конечно. Я поставил ее два часа назад, сразу как только встал. Я рад, что снова дома, и, наверно, поэтому встал так рано.
— Я тоже рад, па. Значит, можно поесть картошки?
— Да. А еще?
— Гречневых лепешек.
— Еще?
— По-моему, мне следует попить молока.
— И я так думаю. Ступай почисть хорошенько зубы, а я тем временем накрою на стол.
Я умылся, и мы сели за стол и съели свой завтрак, сидя возле высокого окна с зеркальными стеклами.
— Теперь, — сказал мой отец, — прежде чем ехать в школу, проведем маленькую подготовительную беседу, вроде как в детском саду. Я спрашиваю, ты отвечаешь? Что есть начало?
— Как тебя понять, па?
— Выслушай вопрос, обдумай его и потом отвечай, как тебе хочется. Итак, что есть начало?
— Я.
— Когда оно происходит?
— Утром, когда я просыпаюсь.
— Что есть конец?
— Конец — это когда я не проснусь больше утром.
— Замечательно, — сказал мой отец. — Что содержится между началом и концом?
— Я.
— Кто ты?
— Провалиться мне, па, если я знаю. Скажи мне сам.
— Не могу. Ты рад, что снова идешь в школу?
— Ну вот. Ты же знаешь, я ненавижу ее, па.
— Вовсе ты ее не ненавидишь.
— Нет, ненавижу, па. Я ненавижу ее, и ты мне обратного не докажешь. Я ненавижу каждую свою минуту в ней. Ненавижу ее всю, от самой идеи. Ненавижу здание. Ненавижу учителей. Ненавижу все, чему меня учат там.
— Ну ладно, если ты кончил завтракать, вставай, я отвезу тебя в школу, и ты сможешь поненавидеть ее в свое удовольствие.
— Не беспокойся, я так и сделаю.
— Почему?
— Потому что не то это место, где надо учиться.
— А которое то место, где надо учиться?
— Дом, море, мир.
— Но разве плохо поучиться чему-нибудь и в школе?
— Плохо. Потому что неинтересно.
— Ну ладно, поехали.
Мы встали. Я бросился к двери и распахнул ее настежь. Отец схватил сразу несколько газет, скомкал их в подобие мяча и, перебрасываясь этим мячом, мы взбежали по лесенке на дорогу.
Мы ехали по шоссе, и, когда достигли поворота, от которого дорога шла прямо вниз, к школе, я сказал отцу:
— Высади меня здесь, па. Остальное пройду пешком.
— Отлично, — сказал отец. Это слово — «отлично» — он умеет произносить на несколько ладов, иногда серьезно, иногда шутливо, а на сей раз он произнес его как политик.
— Не надо заезжать за мной после уроков, — сказал я. — Вернусь пешком.
— Отлично, — сказал он снова. И снова как политик, но до того это получилось надменно и глупо, что я не выдержал — рассмеялся и, смеясь, пошел своей дорогой.
— Постой-ка! — окликнул меня отец. — Где твой завтрак?
Я вернулся, открыл дверцу машины и забрал с сиденья свой завтрак.
— Отлично, — сказал отец, и на этот раз рассмеялись мы оба.
Когда я добрался до школы, она оказалась такой же, какой она бывает всегда и всюду, — здание, двор, вычерченные белым по асфальту площадки для разных игр, волейбольное поле, баскетбольный щит с сеткой, висящей на металлическом кольце, мальчики, девочки, завтраки, велосипеды, книги, учителя, утро, обыкновенное школьное утро, и озабоченные лица — у всех. Я оставил свой завтрак на скамейке, взял баскетбольный мяч и прошелся с ним по площадке. Я трижды попробовал закинуть его в сетку и не попал. Тогда я отозвал в сторону паренька по имени Гас и предложил ему: «Послушай, Гас, у нас у обоих есть завтрак, давай пошлем к чертям школу и смотаемся погулять по горкам».
Гасу идея понравилась. Больше всего на свете ему хотелось сейчас послать к чертям школу, но он боялся. И наверно, я тоже боялся, потому и не хотел уходить один. Человека вечно что-то останавливает. Я думаю, что это правила. Их ненавидят, но все-таки не нарушают.
Прозвенел звонок, мы вошли в класс и расселись по партам, и перед нами появилась учительница, мисс Чоллоп — ох, и откуда только берутся эти учительницы!
Минута тянулась за минутой, в голове у меня проносились тысячи мыслей, возникали и пропадали идеи, а время все тянулось и тянулось, пока наконец не наступила большая перемена.
Я посмотрел, что у меня на завтрак. Первый сандвич был с арахисовым маслом и с медом, так что я его отложил. Второй был с копченой колбасой и горчицей. Я съел его. Третий был с оливковым маслом и помидором. Сандвич с арахисовым маслом я съел в конце. Арахисовое масло я всегда откладываю напоследок и ем, когда остальное уже все съедено, и каждый раз, когда очередь доходит наконец до него, я с удовольствием ощущаю во рту его вкус.
Мы с Гасом обсудили свои сандвичи, потом поиграли немного в баскетбол, а потом снова залился звонок, и пришлось нам снова вернуться в класс и усесться за парты — перед все той же мисс Чоллоп.
Наконец уроки кончились, и я поднялся по косогору и не торопясь пошел себе домой по дороге, перебегающей от холма к холму. Нет лучше времени, чем то, когда отделаешься от школы, нет лучше места, чем дорога среди холмов, по которой идешь себе и смотришь по сторонам и примечаешь то одно, то другое. Вот птица вспорхнула, вот суслик юркнул в свою норку, бабочки перелетают с цветка на цветок, гудят, собирая дань со всего растущего, пчелы, вот стрекоза зазвенела рядом, вытянулась в иголочку, повисла в воздухе на крыльях, как геликоптер, и откуда-то поблизости пахнет скунсом, сильный, но совсем не плохой запах, и высоко над головой три пеликана летят на берег, к морю, половить себе рыбки, и снова какие-то птички и какие-то запахи, и скалы, и камни, один другого причудливей, и деревья, и трава, и цветы, и раздолье.
Когда я подошел к дому, навстречу мне вырос в дверях отец.
— Мне нужно на почту. Поедем вместе?
Мы приехали на почту, и отец мой отправил шесть, не то семь авиаписем в Нью-Йорк, тамошним разным редакторам и издателям.
Когда мы вернулись домой и спустились пройтись по берегу, отец мой сказал:
— Ну как, сегодня в школе было получше?
— Интересно, па, какого ты ждешь ответа, когда задаешь мне такой вопрос?
— Правдивого, разумеется.
— Всякий раз, когда ты задаешь мне такие вопросы, мне хочется с ходу сказать тебе правду, но потом я начинаю гадать, какого ты ждешь ответа, и вместо правды говорю тебе что-то другое.
— И давно это так тянется?
— Всю жизнь.
— Ох, как нехорошо. Отныне договоримся — на любой мой вопрос отвечай только правду.
— В школе было хуже, чем можно себе представить.
— В самом деле?
— Хуже, чем когда бы то ни было.
— Ну что ж, по крайней мере на этот вопрос ты мне ответил полную правду.
Мы пошли по самому краю берега к большой, вулканической породы скале, что примерно в двухстах ярдах к западу от нашего дома, тогда как Красная скала к востоку. Мы, как всегда, обшарили эту скалу, заглядывая, как в кармашки, во все расщелины ее, во все складочки и изгибы и образующиеся в них заводи, где попадается и мелкая рыбешка, и крабы, и водяные цветы — анемоны. Я отодрал крохотного моллюска и подержал его над самой середкой крупного желтовато-синего анемона. Потом я отпустил его и увидел, как лепестки цветка сомкнулись вокруг моллюска. Цветок закрылся, как закрываются цветы на закате, но только гораздо быстрей и нарочно. Такая красота, а оборачивается такой ужасной ловушкой. И я представил себе, как малая эта жизнь в маленькой черной своей раковине окажется скоро съеденной цветком, который и не цветок вовсе, а что-то среднее между растением и животным. Мне жалко было моллюска, хоть я и сам отодрал его и отдал цветку.
Удивительно, что существуют на свете такие вещи, поддерживающие свою жизнь так необыкновенно, как этот вот анемон, выросший в маленькой заводи у скалы, весь такой красивый, такой раскрытый, такой притягивающий к себе, и чуть только что-то коснется его лепестков, готовый тут же схватить и съесть, и съесть не так, как едят другие животные — не за столом, не так, как поедает тигр антилопу, или птица червяка, или суслик молодую зеленую травку.
И все равно, анемон ест. И моллюск, им съеденный, тоже ест. Я видел моллюсков длиною в фут и толщиной в полфута, они живут прицепившись к скале, живут лет десять, а то и больше, а это то же, что человеку прожить лет сто.
Но к чему прицепляется человек, за что он держится, за какую свою скалу? Про что-то такое, помню, пели в воскресной школе. Ну да, конечно, за Скалу Вечности!
Жить на свете вместе с тигром и птицей, с червяком, с моллюском и анемоном, быть среди них существом, которое бог задумал и сотворил совсем по-особому, дав ему боль и печаль и память, ну не чудно́ ли это, скажите, не веселенькая ли это штука для каждого человека быть тем, кто он есть?
— Разве ты в самом деле, па, пишешь поваренную книгу?
Я спросил его об этом, потому что мысли мои сейчас были об анемоне и о съеденном им моллюске и вообще обо всем, что живет на свете, поедая вечно что-то другое.
— Ну конечно же, я пишу ее.
— О том, как готовить соус?
— Не только, но и об этом.
— О чем еще?
— О том, например, как готовить душу.
— Не «душу», наверно, а — «кушанье». Ха-ха-ха!
— Это дело нешуточное, и зря ты хохочешь. У китайцев на это ушли века.
— А как у американцев?
— Они пока еще трудятся. И я вместе с ними тружусь над этим. И ты тоже.
— Американцы не создали еще свое кушанье?
— Не кушанье, а душу. Еще нет.
— Надеюсь, па, что книга у тебя выйдет отличная.
— Спасибо. А как же твоя повесть?
— Не получится она, па.
— Почему?
— Да потому что, как только я собираюсь писать, тут же начисто забываю все, что помнил.
— Надо же, — сказал отец и пустился бежать, и я сорвался с места и побежал за ним.
Я думал, что отец пробежит немного и остановится, но он не остановился, а только слегка замедлил бег. Я догнал его и дальше мы побежали рядом. Вскоре мне захотелось остановиться, но разве я мог? — ведь отец считает, что я никогда не устаю. Он бежал, и я вовсю старался не отставать. И вдруг я почувствовал такую усталость, что чуть было не сказал: «Хватит, па, я сейчас свалюсь». Но я просто не мог позволить себе такое. Я должен был бежать дальше и бежал, и хорошо сделал, — через минуту-другую я снова почувствовал себя бодрым и сильным. Так мы добежали до самого конца Малибу Роуд, и тут отец мой сказал: «Ну и крепкое ты животное, Пит. Я просто обессилел. Я просто вынужден остановиться. И обратно я хочу идти как можно медленнее, спокойненько поглядывая вокруг».
— Хочешь, скажу тебе свой секрет, па?
— Ну?
— Я устал гораздо раньше тебя, но мне стыдно было признаться.
— Это очень хорошо. Это очень хорошо, когда оказывается, что ты способен на большее, чем предполагал.
Теперь он шел легко и неторопливо, подталкивал носком камешки, иногда нагибался и подбирал какой-нибудь и прятал в карман, и говорил:
— Мы всегда, в сущности, способны пойти дальше, чем думаем. Нужно только, чтобы время от времени нам об этом напоминали. Я начал бежать, оттого что мне было хорошо, и думал, что через минуту остановлюсь, но потом мне захотелось проверить, сколько я могу пробежать. Что ж, мы пробежали не меньше, чем четверть мили.
— А мне показалось, что все десять миль.
— Так кажется, хотя тут едва только четверть. Я раз сто хотел остановиться и думал, вот-вот не выдержу.
— Я тоже.
— Надо сказать, что ты имел полное право. Четверть мили многовато для десятилетнего мальчика.
— У индейцев мальчики и десять миль пробегают.
— Совершенно верно. Это зависит, по всей вероятности, от тренировки и еще от того, чем занимаются их отцы. Я думаю, что отцы у них много и хорошо бегают. Ну а я — я большей частью пишу.
— Поваренные книги.
— И поэмы. Я начал писать их давно, но до сих пор опубликовал только три.
— Почему же?
— Главным образом потому, наверное, что не предлагал их издателям. Но есть и еще причина — кое-что из написанного писателю хочется сохранить для себя самого. Я знавал одного художника в Сан-Франциско, его звали Мэтью Барнс, он работал над картиной целый год — и когда находился при ней, и когда был от нее далеко, — а потом кто-нибудь, увидев эту картину, изъявлял желание купить ее, но Мэт не продавал, хоть и нуждался в деньгах позарез. Он просто не мог расстаться с картиной. Он хотел, ему необходимо было сохранить ее для себя.
— А хорошие были картины?
— Очень. Конец мира — во льду. И вот то же самое с моими поэмами. Они хорошие. И все-таки я ими недоволен.
— Почему?
— Они должны быть лучше. Они очень хорошие, но должны быть прекрасными.
— Но среди них, наверно, есть и прекрасные?
— В них есть прекрасные места, но если брать в целом, то ни одна из них не получилась прекрасной, а мне хочется написать именно такую поэму.
— Я скажу тебе, как это сделать. Ей-богу, скажу.
— Как?
— Напиши короткую поэму. Совсем коротенькую.
— Ладно, — сказал отец. — Пора домой.
У каждого человека свое представление о доме.
Какое оно у моего отца, я знаю, потому что живу в его доме, вижу этот дом, чувствую его запах, хожу по его комнатам, спускаюсь и поднимаюсь по его лестницам, ем и сплю в нем, развлекаюсь и разговариваю, думаю и учусь. Это одно из лучших, если не лучшее представление о доме, когда-либо и кому-либо приходившее в голову, и я рад, что у отца моего оно оказалось таким, но у меня у самого есть на этот счет мое собственное представление.
По мне дом — это невысокая постройка на вершине горы, куда добраться можно на геликоптере. Мой дом — это одна-единственная комната со стенами из стекла и формой похожая на половинку яйца, поделенного в длину. Мой дом — это глаз. Я живу в нем высоко на горе и оттуда наблюдаю, что происходит внизу. Когда мне хочется к людям, я сажусь в свой геликоптер и лечу туда, где они. Я провожу с ними несколько часов, а потом возвращаюсь обратно. В моем доме есть все, что нужно для работы: стол, пишущая машинка, бумага, книги, фотоаппарат, перья, карандаши, краски, кисти, пианино, проигрыватель, радио и телевизор. Я могу, если захочется, включить телевизор и посмотреть на людей, которые внизу, и послушать, как они кричат-надрываются, призывая друг друга к добропорядочности и любви, а также к покупке каких-нибудь лезвий, или пива, или сигарет, или автомобилей. Я могу включить телевизор и смотреть на них и слушать и радоваться, что я не там, не внизу, не с ними и не кричу о чем-нибудь сам, о чем-нибудь вроде клочка земли или горстки монет для каждого рожденного на свет человека. Конечно, каждому рожденному на свет человеку полагается и сколько-то земли, и денег, но я не намерен быть среди тех, кто шумит про это и надрывает глотку. Никто ведь все равно ни земли себе не получит, ни денег, так что к чертям все это.
В моем доме я буду занят работой. Я буду начинать какую-нибудь работу и кончать ее, а потом придумывать новую. Я могу даже придумать целый язык — новый язык, на котором невозможно сказать неправду. Я могу сделать и такое… и тогда, разве они тогда не узнают, кто это для них сделал?
— Знаешь, па, я хочу что-нибудь сделать.
— Бьюсь об заклад, что ты действительно хочешь.
— И у меня есть идея.
— Давай-ка выкладывай.
— Ну… ты ведь знаешь людей, па?
— Немножко.
— Так вот, я намерен сделать нечто такое, от чего они станут совсем другими.
— Да?
— Да, папа. Я сделаю нечто такое, после чего люди не смогут уже лгать и обманывать.
— Желаю тебе удачи.
— По-твоему, у меня это не получится, да?
— Пока что ни у кого это не получалось, но, бог знает, быть может ты и есть тот самый, у кого это получится наконец.
— Значит, такая мысль приходила в голову многим?
— Каждому, кому вообще приходили в голову мысли.
— А мне-то казалось, что я первый.
— Точно так же казалось всем остальным.
— Значит, это невозможно?
— Кто знает? До сих пор это не удавалось, вот и все.
— Почему люди такие, а?
— Не знаю, но они не очень уж плохи.
— Ты любишь их?
— Люблю ли? Ах, сын мой, люди — это я сам. Если нет любви к ним, то и жить незачем.
— О!
— О — круг-ло! — сказал мой отец.
После обеда отец мой достал откуда-то колоду карт, всю затрепанную и засаленную, смешал ее, дал мне срезать и начал сдавать. Каждый из нас получил столько карт, сколько полагалось — по семь в руку. Сначала мы сбросили и вытянули по одной карте, потом по второй, проверили, что имеем, попробовали одну комбинацию, другую, снова сбросили, снова вытянули, и оба ждали, оба надеялись, и мало-помалу я проникся уверенностью, что вытащу нужную карту и выиграю игру, и я действительно вытащил девятку и выиграл, потому что три девятки легли у меня к четырем королям. Я вскочил и рассмеялся от радости, а отец мой сказал:
— Один ноль в твою пользу.
Я собрал колоду, перетасовал ее, сдал.
На этот раз карты пришли мне плохие, и я думал, что проиграю, но постепенно дело пошло на лад, и снова я выиграл, и отец мой сказал:
— Два ноль в твою пользу.
И я опять вскочил и давай смеяться, потому что выигрывать — величайшее удовольствие, в жизни не может быть ничего приятнее, даже если ты играешь с отцом, даже если сомнительно, не подыгрывает ли он тебе. Выигрывать — это да! Это я понимаю! Я люблю играть, но больше всего я люблю надеяться на победу и потом — побеждать.
Мой отец перетасовал карты, роздал.
Я сказал:
— Ты злишься, когда проигрываешь, па?
— Нисколько. Человек должен с ранних лет приучаться проигрывать. Я хочу сказать, что он должен приучаться проигрывать с достоинством, и имею в виду не карты. Сейчас ты выиграл два раза подряд и радуешься, как и следует в подобных случаях, но да будет тебе известно, что с таким же успехом ты мог бы и проиграть — и эти две игры, и еще две другие, и еще, и еще, и до утра ни одной не выиграть. Ты должен знать, что это в порядке вещей. Ты должен быть готов и к такой возможности. Если ты хочешь играть, ты должен уметь проигрывать, потому что у всякого человека и вообще у всего, против чего ты играешь, ровно столько же шансов на выигрыш, сколько и у тебя, и неважно — что за игра и какие в ней ставки.
— Что бы там ни было, па, я не люблю проигрывать. Ненавижу. В любой игре ненавижу проигрывать. Когда я проигрываю, чувствую себя дураком, когда выигрываю — умнейшим из умных.
— Еще бы.
И как раз в это время мой отец стал выигрывать. Он выиграл раз, потом второй, потом третий, и я встревожился не на шутку и решил ни за что больше не проигрывать, но проиграл еще раз и еще несколько, и отец сказал:
— Ну как, привыкаешь?
— Нет, сэр!
— Постарайся привыкнуть.
— Никогда не привыкну. Я не желаю проигрывать и не буду.
Но я снова проиграл и, вскочив с места, сказал:
— Или ты кончай это, па, или я тебя стукну.
Он видел, конечно, что я зол, как черт, но рассмеялся. И тогда я кинулся на него с кулаками, и мы схватились и стали бороться, и скоро я уложил его на обе лопатки, ну прямо-таки пригвоздил к полу, а он все смеялся, а я был так зол, что чуть не плакал от злости, и вдруг я почувствовал, что уже плачу, да, плачу, потому что я не согласен проигрывать — никому, даже собственному отцу.
Один за другим проходили мои дни в доме отца, и вот однажды в конце декабря нас приехала навестить моя мать вместе с сестренкой.
Мы все четверо разглядывали друг друга, слушали друг друга, а потом обедали, а потом отец с матерью начали спорить. Стоит им только оказаться вместе, как тут же между ними затевается спор. Обычно они спорят спокойно и вежливо, иногда — сердито и громко, но даже и в таких случаях они быстро спохватываются и переходят на вежливый тон.
В канун рождества мы с отцом отправились в дом моей матери.
Я стоял посреди своей комнаты, смотрел на свою кровать, и тут отворилась дверь, и вошла мама и сказала:
— Если тебе снова хочется спать в своей комнате и в своей кровати, то милости просим. И сегодня, и вообще. В любое время. Это зависит от тебя одного, и ты не думай, будто теперь тебе уже обязательно оставаться с отцом, а сюда дорога закрыта. Не думай этого. Ты хочешь поспать сегодня в своей старой милой кроватке?
Не знаю, как она догадалась, чего мне хочется, но именно этого мне и хотелось. Не знаю почему, но в ответ я сказал: «Нет, ма, я хочу спать у отца, в кровати, которая у меня там».
— Ну что ж, пожалуйста. Только было бы очень глупо, если б ты захотел поспать в своей кровати и постеснялся бы в этом признаться.
— А как же папа?
— Я могу постелить ему в твоей комнате, на кушетке. Все равно сегодня мы просидим до полуночи, а утром встанем рано, чтоб посмотреть подарки, так что если тебе и твоему папе приятно будет поспать здесь, в этой комнате, то и мне, конечно, это будет приятно, и сестре твоей тоже. Ну как, хочешь?
— Конечно, — сказал я. — Но только если и папа хочет.
Мать поговорила на эту тему с отцом, а сестра моя, слыша их разговор, сказала: «да, папа, да», и отец сказал: «с удовольствием, если это не слишком хлопотно».
— Какой смысл ехать сегодня домой, а утром чуть свет возвращаться обратно? — сказала моя мать. — Мы проведем славный рождественский вечер, встанем завтра рано, откроем свои свертки с подарками, зажарим в печи индюшку и часам к шести устроим, как полагается, рождественский обед. Ну, а потом уж езжайте к себе. Хорошо?
— Великолепно, — сказал мой отец.
Теперь, наконец, я знал, что буду спать в моей кровати, и я был рад, потому что если у человека была когда-то своя комната и своя кровать, он рано или поздно вспомнит про них неминуемо и захочет вернуться к ним, пусть даже долгое время он этого не хотел.
Сначала мама дала нам всем выпить. Себе и отцу она приготовила подогретое вино с яичным желтком, молоком и бренди, а мне с сестрой — просто вино, с желтком и молоком. Попозже она подала нам на ужин холодных цыплят, холодное белое вино, свежий ржаной хлеб, масло, соленые огурцы, ветчину, горчицу, маленьких рыб в коробке и мясной салат с майонезом. Это был настоящий чудесный праздник Рождественского Вечера. Мой отец ел и пил, и шутил и смеялся, и пел. И все время играла пианола — все какие есть рождественские песни, и сестра моя все тормошила меня и расспрашивала о нашей жизни с отцом, о школе в Малибу и еще о том, и о другом, и о третьем.
Чудесный это был вечер, одно удовольствие сменялось другим, и никто ни на кого не сердился, и все были страшно голодны и страшно рады, что на столе столько вкусных вещей — садись и ешь себе вволю. Потом, когда пробило двенадцать, мы все пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись. Мы с отцом отправились в мою комнату, и я сел на свою кровать, а отец сел на кушетку, где ему было постелено, и сказал: «А хорошо здесь, ей-богу», и я сказал: «Ну конечно же, хорошо».
К тому времени, когда я проснулся, отец мой уже успел встать и одеться, и мама тоже — правда, на ней был пока халат.
Последней появилась моя сестренка; она прибежала из своей комнаты, тоже в халате, как мама, и мы с ней принялись распаковывать наши подарки.
Я получил от матери микроскоп и целый ящик всяких вещей — для рассматривания их с помощью микроскопа, и футбольный шлем — от отца, и еще футбольный мяч, и швейцарский складной ножик с одиннадцатью лезвиями — от матери, а сестра подарила мне фуфайку в красную и белую полоску. Такая фуфайка стоит доллар, и сестра сама скопила на нее деньги. Я получил также новую пару ботинок и много чего другого, и все от мамы и от отца. Они тоже получили подарки — друг от друга, от меня и от сестры. Моим подарком сестре была кукла, которая стоит почти доллар. Кукла очень ей понравилась, и она даже обняла и поблагодарила меня за нее.
Потом весь день приходили люди, пили эг-ног [7] и уходили. Потом, около шести, на столе появилась наконец индюшка. Отец разрезал ее, и мы сели за стол и наелись до отвала, потому что в день рождества наесться до отвала — одно удовольствие.
После обеда мы все четверо пели песенки и разговаривали друг с другом, а потом мой отец сказал моей матери: «Что ж, лучшего рождества ты не могла нам устроить. Большое тебе спасибо».
Потом мы попрощались с мамой и с сестрой и сели в наш старенький красный форд и поехали к себе — в дом на берегу моря и, приехав, сразу же легли спать.
И это было — рождество, и я его не забуду, никогда в жизни я его не забуду.
День, наступивший после рождества, был совсем не похож на прошедший, потому что это был день после рождества. От рождественского праздника ожидаешь обычно так много, что когда он проходит, поневоле испытываешь удивление: чего ты, собственно, ждал? И что получил? Я и не знаю, пожалуй, чего именно в этот раз ждал и хотел. Может — ничего, а может — просто чего-то. Подарка? Двух подарков? Дюжины? Тысячи? Не знаю точно, но думаю, что я вообще не хотел подарков. Я хотел чего-то другого. А что получил? Подарки. И мне они понравились. Мне они очень понравились. Но на самом деле я хотел ведь не их. А чего же? Ну, пожалуй, вернее всего сказать, что я хотел стать взрослым и независимым, но для этого, черт возьми, нужны годы. Независимость и взрослость не обретаются вдруг, в одно мгновение, вот и все. От этого, видно, и день, наступивший после рождества, оказался совсем не похож на прошедший.
С утра заходили к нам друзья моего отца выпить с ним по стаканчику. Всего у нас перебывало человек тридцать — мужчины, женщины, дети. Они приходили и, посидев недолго, уходили. И казалось, каждый из них ощущал то же, что и я, потому что это был день после рождества. Каждый вышучивал самого себя, каждый высмеивал свои заботы, жены поддразнивали мужей, мужья — жен, их дочки и сыновья смеялись над полученными подарками, и каждый выглядел усталым, разбитым, и каждому одного только и хотелось — поскорее отделаться от рождества, как от какой-нибудь глупой затеи или постылого тяжкого долга.
Наконец, когда солнце стало клониться к западу, ушли последние гости, и я сказал тогда:
— Ты рад, что рождество кончилось, па?
— Да, я рад.
— Что-то с ним не то, а?
— Ну что ты! Рождество — прекрасная штука. Из всех невеселых и глупых выдумок это, быть может, самая прекрасная, и все-таки она глупая и невеселая. И подавляющему большинству человечества не распутаться с рождеством еще долгие, долгие годы.
— Почему же ты говоришь, что оно — прекрасное?
— Так. Оборот речи. Это самый нелепый праздник из всех на свете.
— День рождения Христа.
— Да, кто бы он ни был, черт подери, если только говорить правду, а у меня сейчас ни малейшей охоты ломать над ней голову.
— Почему?
— Потому что сегодня я целый день пил и еще потому, что ничего от этой правды не переменится.
— А все-таки в чем она?
— А в том, видишь ли, что кто бы он ни был, он родился не тогда, когда родился. Он родился гораздо позже, и это именно второе его рождение мы празднуем каждый год, а сейчас я должен признаться, что все это мне чуточку надоело.
— Ты пьян?
— Да, но не так, как пьяницы, которых ты не однажды видел в кино. Я просто должен был выпить несколько стаканов, потому что сегодня послерождественский день и все время приходят люди. Ты видел их. Все они такие, что посмотришь на них и поневоле захочется выпить. Все они — пропащие, и я такой же, и если ты еще не такой, и если их дети еще не такие, то очень скоро будете такими и вы.
— Ну и пусть, па.
Отец налил себе еще рюмочку виски, выпил ее разом и сказал:
— Вот и конец рождеству. Вот и конец состоянию изумления и недовольства людьми, которых я знаю, и самим собой, и тобой, и твоей матерью, и сестрой. С меня хватит. Рождество пришло и прошло, и скатертью ему дорожка. Чаша любезности возвращается на привычное место в шкафу, я же возвращаюсь к привычному занятию, а именно — к постоянной занятости, при которой недосуг сокрушаться о том, что жизнь так безумно, так страшно не удалась.
Он убрал со стола бутылки, потом сказал:
— Ну вот, мой мальчик, а теперь махнем-ка вниз, на берег.
Я захватил с собою футбольный мяч, и пока, перекидываясь им, мы бежали к берегу, два реактивных самолета пронеслись над водой со скоростью пятьсот или шестьсот километров в час, а вслед за ними появились два геликоптера. Они шли медленно и низко, почти вдоль берега, так что мы даже разглядели, кто в них сидит. Это были молодые ребята. Я помахал им, и они тоже помахали в ответ, а один из них высунулся из геликоптера и протянул к нам руки — мол, жду паса.
После геликоптеров налетела целая стая чаек. Описав несколько широких кругов, они оказались прямо над нами.
— Что им нужно? — сказал я.
— Им нужен наш мяч, — сказал отец. — Они думают, это что-то съедобное.
Две-три чайки подлетели совсем близко, а потом сели и, глядя на нас, стали ждать чего-то — думали, наверно, что сейчас мы раскрошим футбольный мяч на кусочки и накидаем им, как хлебных крошек.
— Еда, еда и еда, — сказал я. — Можно подумать, что это ради нее вся жизнь.
— Мне не хочется ужинать, — сказал отец. — Давай лучше съездим куда-нибудь в кино. Потом приедем домой и ляжем спать и покончим на этом с рождеством и рождественскими волнениями.
— А что мы посмотрим?
— Что подвернется. Пошли.
Мы забежали в дом, захватили каждый свое пальто и поехали в Санта Монику смотреть кино.
Особенного выбора в кинотеатрах Санта Моники не было, так что мы, не очень раздумывая, отправились смотреть фильм под названием «Аннапурна» — о том, как в Азии, к северу от Индии, в стране, называющейся Непал, группа людей поднималась на высокую гору, на одну из высочайших вершин Гималайского хребта. В фильме рассказывалась быль, а не придуманная история, хотя, надо сказать, что и придуманные истории бывают часто как та же быль.
Отец сказал, что он читал в «Нью-Йорк Таймсе» рецензию об этой картине и что рецензент очень хвалил ее и называл отличной. Но когда один из парней в фильме заговорил о жителях Непала, которых зовут «шерпы», так, словно это какие-нибудь низшие существа, отец возмутился и сказал:
— Чтоб тебе провалиться!
Шерпы были темнокожие ребята. Французская экспедиция наняла их тащить на гору груз. Шерпы были невысокого роста, босые. Всю картину они тащили на себе тяжелые мешки, а когда французские горнолазы обессилели, отморозили себе пальцы на руках и ногах и окончательно сдали, шерпы спасли им жизнь, доставив их с высоченной вершины вниз, туда, где были село, люди, лекарства, врач.
Пять недель — так, кажется, сказал диктор, — босой, темнокожий маленький житель Азии тащил на себе с горы больного француза, шаг за шагом преодолевая лед и камень, и ветер, и снег, и бурные реки. Все, что касалось в этом фильме шерпов, все было прекрасно. Но прекраснее всего был в нем затерянный в высоких горах поселок, с домами — такими, какие строят обычно в горах. Я представил, будто живу в этом поселке, среди этих людей. И было здорово — оказаться там и жить с ними в таком замечательном, далеком, высоком, красивом и тихом месте, но прошло немного времени, и я почувствовал, что мне становится там одиноко, и обрадовался, что нахожусь не в горах, а в кино, в Санта Монике, всего в пятнадцати милях от дома моего отца в Малибу, на взморье.
После кино мы зашли в кафе, сели к стойке, и я поел ветчины и выпил шоколадной шипучки, а отец выпил две чашечки черного кофе, и после этого мы поехали домой.
— Рождество состоялось — сказал мой отец.
— А теперь что будет, па?
— Новый год.
— А потом?
— А потом — день за днем.
— Чудесно, — сказал я, — ха-ха-ха!
Новый год — каким он будет? Ну, во-первых, в этом новом году мне исполнится одиннадцать. Но разве это много — одиннадцать лет? Совсем немного. Получай я за каждый прожитый год по доллару, сейчас у меня было бы всего десять долларов, а в будущем году — одиннадцать, а что купишь в наши дни на одиннадцать долларов? Но если б я получал по доллару за каждый прожитый день, тогда у меня скопилась бы солидная сумма, потому что в каждом году триста шестьдесят пять дней, и если помножить на десять, выйдет…
— Сколько выйдет, если триста шестьдесят пять помножить на десять?
— Три тысячи шестьсот пятьдесят.
— Ух ты!
— А что?
— Если б я получал по доллару за каждый прожитый день, у меня сейчас было бы три тысячи шестьсот пятьдесят долларов, вот что, и уж я бы нашел им применение.
— Деньги солидные.
— Знаешь, па, я считаю, что каждому родившемуся на свет человеку следовало бы платить по доллару за каждый прожитый день, и так до двадцати одного года.
— А потом?
— А потом ему надо платить по десять долларов в день.
— Возможно, что твоя экономическая философия прекрасна, но скажи, пожалуйста, кто будет ему платить?
— Его отец.
— Но если его отец ничего такого не получал от собственного отца и если он не в состоянии зарабатывать по десять долларов в день даже себе самому?
— Ну ладно, а кто ж тогда будет ему платить?
— Никто.
— А как же он получит эти деньги? Как получу их я?
— Это уж твоя забота. А мне лучше подумать о том, откуда и как я получу свои доллары, которых наберется сейчас, если считать по десятке в день с тех пор как мне пошел двадцать второй, а это было лет двадцать с чем-то назад, да, так сколько ж их наберется… ну, пожалуй, тысяч эдак девяносто, а?
— Ух ты! И ты сможешь их получить?
— В будущем году.
— Как?
— Что-нибудь напишу.
— Поваренную книгу?
— Или что-то еще.
— Ну что, например?
— Несколько маленьких рассказов, большой рассказ, повесть — маленькую или большую, пьесу — маленькую или большую. Кто знает? Я что угодно могу написать и когда угодно.
— Девяносто тысяч долларов, па? Да мы просто разбогатеем!
— Во всяком случае, и мне и тебе придется зарабатывать наши деньги, потому что у моего отца не было возможности платить мне в день по доллару до двадцати одного и в день по десять — после, и твой отец живет почти так же бедно, как жил мой.
— Твой отец — какой он был человек, па?
— Прекрасный, но умер рано, тридцати семи лет. А с покойника ведь не станешь спрашивать, чтобы он платил тебе по доллару в день.
— Мне очень жаль, что твой отец умер так рано.
— Спасибо.
— Но, может быть, он не умер, а живет где-нибудь далеко и в один прекрасный день снова вернется?
— Ну вот, очередная дикая идея. Сегодня вечером ты просто переполнен ими.
— Разве так не может быть?
— Я подумаю и отвечу тебе.
Мы молча проехали несколько миль, после чего я сказал:
— Ну что ответишь, па?
— О чем?
— О своем отце. Ты — мой отец, и ты не умер. Ты есть, ты жив, и я вижу тебя все время. Но твой отец умер, и ты уже не мог его видеть, и больше никогда ты его не видел, но может ли оказаться, что он не умер, несмотря на все — не умер, и ты снова его увидишь?
— Ах вот ты о чем! — сказал мой отец. — Ну так слушай. Мне было почти три, когда умер отец, и все-таки я мало что о нем помню. Видел я его, наверно, много раз, если судить по тому, сколько раз видел меня ты, прежде чем тебе исполнилось три года. Помню только один случай — как отец мой взобрался на телегу и стегнул лошадь кнутом и крикнул «пошла!», и телега тронулась с места, и дальше — ничего не помню, потому что дальше я заснул, сидя на задке этой самой телеги. Вот и все, что запомнилось мне об отце. Позднее я узнал, что он умер, а когда узнаешь такое, то не поверить нельзя. Но дай мне подумать еще минутку.
— Охотно дам, потому что хочу в этом разобраться.
— Я думаю, — сказал мой отец после минутного молчания, — я думаю, вывод тут такой. Он умер, конечно, но в доме у нас, на стене, всегда висела его фотография. Ты знаешь, о которой я говорю, потому что с тех пор, как тебе исполнилось шесть, она висит в твоей комнате, над столом.
— Да, я знаю. Но может быть, что он живет сейчас где-нибудь, несмотря на все — живет?
— Может быть.
— И далеко?
— Нет, очень и очень близко.
— Ты его видел?
— Да, видел. В сущности говоря, я вижу моего отца всякий раз, когда смотрю на тебя.
— Это не шутка?
— Это правда.
— Но на самом деле это не так?
— На самом деле это не так, но ты, я думаю, меня понял.
— Я тебя понял, па.
Однажды утром отец сказал:
— Ну вот наконец и последний день старого года. И вот тебе полицейский свисток, а мне армейский горн. Год кончится в полночь через семнадцать часов, но мы с тобой, для забавы, продудим конец ему — сейчас.
Так мы и сделали.
— С Новым годом, — сказал отец.
— С Новым годом, — сказал я.
На следующее утро, когда мы проснулись, был первый день нового года.
— Я не вижу никакой разницы.
— А ее, пожалуй, и нет, — сказал мой отец. — Но поскольку это все-таки первый день новорожденного года, будет неплохо, если ты залезешь в ванну и хорошенько помоешься.
Я послушался его, пошел в ванную комнату и не просто пополоскался под душем, а по-настоящему выкупался. Когда я вылез из ванны, вытерся досуха и вернулся в комнату, на кровати моей была разложена вся одежда, какая имелась у меня в этом доме.
— Выбери сам что хочешь, — сказал из кухни отец.
Я оделся, причесал волосы и чистенький предстал перед ним.
Он окинул меня быстрым взглядом и сказал:
— Ну вот, теперь перед нами опрятный, чистенький мальчик, если только бывают на свете такие мальчики.
Стол был уже накрыт и еда расставлена — горячие блины, сироп, какао, кофе, абрикосы из банки, вареные яйца, грудинка, масло, сыр, холодец и кружками нарезанные помидоры.
Мы сели и принялись за всю эту снедь, и я все ел и ел, уписывал за обе щеки, потому, наверное, что от купанья разыгрывается аппетит.
— Никогда я так чудесно не завтракал.
— Продолжай в том же духе. В печке у меня есть еще блины.
— Где ты взял сироп?
— Сам приготовил. Весь графин обошелся нам в три цента, не больше. Мы экономим деньги на каждой мелочи.
— Он очень вкусный, особенно если запивать грудинку.
— Я считал, что в первый день нового года завтрак у нас должен быть грандиозный.
— Такой он и получился.
— Мы живем только раз, как говорится.
— Хватит и раза.
— Тебе не хотелось бы жить дважды?
— Не знаю, па. А тебе?
— Тоже не знаю. Иногда думаю, что хорошо было бы прожить всю жизнь сначала, а иногда благодарю бога, что бóльшую часть ее уже прожил.
— Но приятно все-таки вкусно поесть. Особенно за завтраком.
— Без еды и сна нам просто нет жизни.
— Ну и забавно же, — сказал я.
— Вот именно, что забавно.
— Я про жизнь говорю. Веселое дело — жить.
— Да, — сказал мой отец. — Очень даже веселое, но в жизни человека не бывает такого дня, в котором к веселью не примешивалось бы немножко боли, печали и сожалений.
— Ну и пусть. Что вреда от «немножко боли, печали и сожалений»? Давай сядем в машину, па, и поедем к холмам и там сойдем и побродим немного.
— Ладно, — сказал мой отец. — Этот мир — он твой, ты же знаешь, мой мальчик.
Мы бродили по холмам в окрестностях Малибу, и это было замечательно. Это было все равно что присутствовать в мире при самом его начале, когда все твари земные еще таятся неведомо где и их не видно, но ты знаешь, что они тут, рядом. Ты знаешь, что глаза их открыты. Ты знаешь, что они следят за тобой и по-своему о тебе судят. Ты это чувствуешь. Животные никогда не приближаются к человеку сами, они просто укрываются где-то и из укрытия своего ведут за ним наблюдение. Им вовсе не хочется распознать человека. Им надо только, чтоб человек не тревожил их.
— Тебе приходилось сражаться с драконом, па?
— Да. Когда я был еще мальчишкой, мне не раз приходилось вступать в кровавые сражения с этим чудищем.
— А с какими драконами ты сражался?
— Со всякими. И с огнедышащими, и с крылатыми.
— А бывают такие драконы, которые и крылатые, и огнедышащие?
— Нет, — сказал отец. — Я счастлив признаться, что никогда не нарывался на такого.
— А я вот нарвался однажды. В тот миг во мне взыграла сила Самсона. Я вцепился дракону в пасть и разорвал ему челюсти, а он, подыхая, весь так и колотился об землю и не хотел сдаваться.
— Здорово.
— Мы с тобой оба плетем небылицы, правда, па?
— Правда.
— А я б хотел, чтобы огромный невероятный дракон вышел бы сейчас наяву мне навстречу и кинулся бы на меня, я б ему показал тогда парочку лучших своих приемов. Они дерутся подло, ты ведь знаешь, но мне отлично известны их трюки, а вот им мои — неизвестны.
— Каковы же твои приемы?
— Быстрота. Я самое быстрое животное на свете. Быстрота и сила. Я самый сильный из всех, кто когда-либо хватал руками дикого зверя и разрывал его на куски.
— Здорово, — сказал мой отец.
Когда мы вернулись домой, в комнате звонил телефон. Мы вошли, и отец взял трубку и стал слушать голос, идущий с другого конца провода, а я стал следить за его лицом. Отец сказал множество слов о множестве вещей, и потом он повесил трубку, и я спросил:
— Кто это звонил?
— Нью-Йорк.
— Чего он от тебя хочет?
— Этот человек в Нью-Йорке хочет, чтоб я написал пьесу.
— Зачем?
— Чтобы он мог ее поставить и сделать на ней деньги.
— Ты напишешь?
— Если он пришлет мне тысячу долларов.
— А он пришлет?
— Сказал, что пришлет, но кто его знает.
— Почему он хочет, чтобы именно ты написал пьесу?
— Потому, видите ли, что он считает меня великим писателем, но я уверен, что причина другая.
— Какая же?
— Мне кажется, он просто подумал и решил, что я соглашусь поработать с ним, и я действительно сказал, что соглашусь, если он даст мне тысячу долларов аванса и составит договор, столь же выгодный для меня, сколь и для него.
— Тысяча долларов — хорошие деньги.
— Для нас — да, но в мире театральном, это, что называется, мелочь, семечки.
— Семечки это или зернышки, как ты думаешь, пришлет он их?
— Возможно. При нынешних обстоятельствах — возможно. Похоже, что положение у него безвыходное. Ему дозарезу нужна пьеса. Но даже если эту тысячу он пришлет, а договор составит нечестный, я отошлю чек обратно.
— Но, может быть, договор будет честный?
— Я назвал ему свои условия, но такие люди обычно не запоминают то, что им говоришь, особенно если сказанное тобой не в их интересах.
— Если он пришлет тысячу долларов и договор будет честный, то мы разбогатеем, па.
— Нет, просто у меня появится немного денег и я смогу выполнить кое-какие маленькие обязательства, вот и все.
— Так или иначе, это лучше, чем ничего.
— Гораздо лучше. По правде говоря, я и сам взволнован этим предложением, потому что мне уже очень давно и очень сильно не хватает денег.
— Стало быть, если он присылает деньги, ты пишешь пьесу, не так ли?
— Так.
— Напиши ее про нас с тобой, па.
— Ладно. Но весь вопрос в том, пришлет ли он честный договор.
— Раз уж он звонил из такой дали, то, конечно, пришлет.
— Кто его знает. Сейчас я сварю себе целый кофейник кофе и начну думать — на случай, если он действительно пришлет.
Итак, мой отец начал варить себе кофе, а я начал думать о пьесе.
— Во-первых, па, что значит «пьеса»?
— Много чего. Но одно значение есть в ней всегда; пьеса — это люди, переживающие волнения.
— Неужели они непременно должны быть в волнении?
— Да, непременно. Это условие и форма их существования. Люди всегда в волнениях и заботах, где бы они ни были — в пьесе или дома.
— Но мы сейчас не переживаем никакого волнения.
— Мы сейчас не переживаем никакого особого волнения, беспокойства. Никакого узкого, маленького, сиюминутного волнения, и все-таки мы сейчас в волнении — великом, классическом.
— Что это за волнение?
— Волнение жизни, но я вовсе не спешу от него избавиться.
— Я тоже.
Зашумел кофе. Отец подождал, пока поднимется пенка, снял кофейник с огня и налил себе чашку. И с чашкой в руках принялся ходить из угла в угол, отхлебывая по глотку и отвечая на новые мои вопросы.
— Зачем существуют пьесы, па?
— А затем, что каждому человеку очень и очень хочется знать, какие волнения переживает другой. И вот, чтобы выяснить это, сотни людей собираются вместе и сидят целый вечер бок о бок в театре. Люди, чем-то взволнованные и озабоченные, передвигаются по сцене, на ярком свету, а зрители сидят в темноте, и каждый из них словно отключается от всех прочих и, сидя в своем кресле и никого рядом не замечая, перевоплощается то в одного, то в другого, то во всех, кого видит на сцене, в пьесе. Но вообще-то вся эта штука и гораздо проще, и гораздо сложнее, чем я сказал.
— Правда, па, что человека вечно что-то не удовлетворяет?
— Совершенная правда. Всю жизнь человека хоть что-то да не удовлетворяет — его родители, его планета. его эпоха, его страна, его правительство и так далее и, наконец, он сам и его прошлое и настоящее и даже, может быть, его дети и друзья и дети друзей, ибо человек такое животное, которому от природы присуще искать и обманываться и, обнаружив ошибку, разочаровываться. Однако не следует забывать, что даже тогда, когда он находит свою ошибку и испытывает неудовлетворенность, даже и в такие минуты он чувствует себя прекрасно и, пожалуй, не очень, но гордится собой.
— А верно, па, что люди все какие-то путаные?
— Да, все они — запутанные. И чем дальше, тем более.
— Почему так?
— Потому что они узнают о себе все больше и больше и от этого все хуже и хуже запутываются.
— И ты запутался, па?
— Я запутался настолько, что пишу поваренную книгу, рассчитывая с помощью этой книги наставить на путь истинный и себя, и тех, кто ее прочтет.
— Каким таким образом?
— Видишь ли, поваренная книга — это книга о еде, а еда — это основа основ человеческой жизни. Я мыслю так: если мне удастся правильно решить проблему еды, то тем самым я подготовлю правильное перерешение всех прочих проблем.
— Но ведь еда это всего только еда, не больше.
— Тут дело не так просто, как кажется. Со дня своего появления на свет человек всю жизнь должен быть обеспечен едой. И вот оказывается, что у одного еды слишком много, а у другого слишком мало. Потом оказывается, что в одной стране ее слишком много, а в другой слишком мало, в третьей же и вовсе нечего есть, и голод там разрастается и разрастается и наконец порождает проблему. Проблема эта очень скоро покидает кухню и кладовую, рот и чрево и перебирается в сферу религии, философии, права, законопорядка, цивилизации и культуры, пронизывает насквозь все, что только есть и может быть в реальной и воображаемой жизни человека.
— Ха-ха-ха! Ну и мастер же ты поговорить, па!
— Ты никогда не знал недостатка или отказа. Так вот, родись я, например, в Индии, бедняком, мне, может быть, ни разу не пришлось бы досыта наесться. И ты родился бы голодным и, может быть, за всю жизнь так никогда и не сумел бы утолить свой голод.
— Ну и что же?
— А то, что ты был бы обречен думать о еде гораздо больше, чем она того заслуживает, и от этого многое сложилось бы совсем иначе и в жизни твоей, и в особе.
— Правильно ли будет сказать, что задача писателей и их книг — обеспечить каждого едой?
— Да, что-то в этом роде. Но в несколько иных выражениях.
Я задумался о пьесе, которую собирался писать мой отец. Потом я задумался о причинах, по которым пишутся пьесы. Потом я стал снова думать о еде.
Что такое еда? Почему она представляет такую важность? Почему люди испытывают потребность в ней — трижды-четырежды в день и день за днем, год за годом? Почему они живут именно ею, а не чем-нибудь другим?
Не лучше было бы разве, если бы люди вовсе в еде не нуждались? Не лучше было бы разве, если б для жизни им вполне хватало, ну, скажем, воздуха? Если бы они становились сильнее и старше, вдыхая воздух морей и гор, или лесов, лугов, или садов, виноградников, пшеничных полей? Не лучше было бы разве для человека — жить так?
Я думаю, было бы куда лучше. Но в то же время люди живут не так. Живут они иначе, а именно — со дня своего рождения и до самой смерти они поглощают пищу, тысячи фунтов пищи разнообразнейших видов. Хлеб и молоко, мясо и овощи, фрукты и орехи, яйца и сыр, рыбу и дичь, бобы и рис и так далее и тому подобное. Стоило мне только представить себе все это многообразие, как я сразу понял, что еда — воистину великая вещь. В пять-шесть часов раз миллионы людей по всему миру ощущают потребность в очередной порции еды, и они должны ее откуда-нибудь да раздобыть.
— Есть ли на свете столько еды, чтобы на всех хватило?
— Я думаю, есть.
— Значит, дело этим немного облегчается, а?
— Немного, но не вполне, ибо очень небольшое число людей обладает достаточными деньгами, чтобы приобрести на них необходимые продукты питания.
— Мы все еще говорим о пьесе, которую ты собираешься писать?
— Именно о ней. Мы говорим о важнейшей части исходного материала всякой пьесы. То есть о важнейших потребностях каждой человеческой особи. Важнейшая же из важнейших потребностей — еда.
— А которая следующая важнейшая потребность?
— Жилище. Каждому человеку необходимо такое место, где он мог бы преклонить голову и поспать.
— А еще?
— Труд. Человеку, у которого есть уже и еда, и кров, нужен еще и труд. Посредством труда к нему приходит все, что может доставить радость, — жена, дети, время, здоровье, веселое настроение. Первое, чего он должен добиться, это здоровье, которое происходит от сознания, что ты сам заработал свое право на такую-то еду и на такой-то дом. Если человек не трудится, он заболевает.
— Почему?
— Потому что болезнь — от бесполезности. Каждый человек должен быть полезен.
— Почему ты не напишешь пьесу об этом?
— Я бы рад, но это не так уж просто, потому что в театре, прежде чем наставлять людей, нужно развлечь их. Развлекать же и наставлять их одновременно — трудная задача. И нужно быть очень хорошим писателем, чтобы справиться с нею.
— Ты очень хороший писатель, па. Ты это сумеешь.
— Спасибо. Вот что я точно сумею, так это проглотить еще чашку кофе.
Мой отец налил себе еще одну чашку, кажется, пятую, и стал пить, а я подумал, что было бы куда лучше, если б мы прекратили все эти рассуждения и отправились бы пошататься по берегу.
Мне совсем не понравилось, что отцу моему теперь день и ночь придется ломать себе голову ради того, чтобы заработать деньги. Ничего веселого в такой жизни.
— Па, ты не можешь изобрести машину, пишущую пьесы?
— Видишь ли, Бальзак, например, в какую-то пору завел себе ребят, писавших для него за деньги. Были и еще писатели, платившие другим писателям, чтобы те писали за них, потому что сами они уже добились признания и предпочитали отдыхать, но чтобы у кого-нибудь когда-нибудь была машина, за него писавшая, — такого мне не известно.
— Машины умеют делать все что угодно, па. Будь у тебя такая машина, ты бы только подошел к ней, нажал бы кнопку и приказал: «Сделай мне веселую пьесу про людей и про еду». А сам бы ушел куда хочешь, вернулся бы часа через три, и пьеса готова, достань и проверь только, годится она или нет.
— Великолепная машина! Вот бы только изобрести!
— Давай изобретем ее, па.
— И все же я не думаю, чтоб мне захотелось иметь машину, пишущую за меня, даже если бы такие появились на свете.
— Почему? Ведь сколько времени надо потратить, чтоб написать пьесу. Не стоит она того, па.
— Она того стоит. И времени на нее тратится не так уж много. Если за всю свою жизнь писатель напишет одну-единственную хорошую книгу, все равно и тогда ошибка считать, что она отняла слишком много времени — пусть даже писатель этот прожил все девяносто, — потому что хорошая книга остается, а каждый человек, кто бы ни был он, умирает, так уж оно устроено и ничего не поделаешь, и никто еще не оставлял после себя миру ничего лучше хорошей книги.
— Но почему писатель не может написать пьесу за короткое время? Почему он должен столько раздумывать и волноваться и расхаживать по комнате и пить кофе?
— Потому что писатель — всего только человек, а чтоб создать истинное произведение искусства, ему надо превратиться из человека в ангела.
— В самом деле?
— Да. На какое-то мгновение или на целый ряд мгновений человек должен стать посредником бога, проводником любви, красоты, правды, высокого строя и смысла и прочих подобных вещей.
— А крылья?
— Крыльев у него нет.
— Были когда-нибудь настоящие ангелы, вроде тех, что на рисунках в библии?
— Это очень хорошие рисунки, и ангелы, изображенные на них, существуют, но существуют они только в человеческом воображении или в душе.
— А настоящие ангелы? Вне души? Такие бывали?
— Нет. Вне души ангелов не бывает. Это только мы существуем и вне души, и в душе, и кому-то из нас случается на миг превращаться в ангела.
— Ну и что проку?
— Это помогает, — сказал мой отец.
И тут я не выдержал, бросился на него и хорошенько пихнул. Чашка в его руках дрогнула, и кофе выплеснулся через край. Отец поставил чашку на стол и рассмеялся, принимая вызов на бой.
Я здорово прижал отца, потому что я меньше его и проворнее, но вскоре он все-таки высвободился и, не переставая смеяться, сказал:
— Ладно, твоя взяла. Говори: чего желаешь?
— Я желаю выйти наконец из дому и забыть про эту паршивую пьесу. Давай спустимся на берег, и наберем полное ведро моллюсков, и принесем их сюда, и выскребем их из раковин твоим рыбацким ножом, и сделаем из них себе ужин. Тебе необходим перерыв, па.
— Ладно. Перерыв так перерыв.
Моллюски попадались нам все больше жирные, в удлиненных лиловато-черных раковинах. Им не хотелось расставаться со своей черной высокой скалой, но мы их все равно отдирали и бросали в ведро. Когда ведро наполнилось, отец поднял его и, посмотрев на море, то приливающее, то отливающее, бьющееся волнами о скалы, сказал:
— Мы набрали кучу первоклассных моллюсков, сынок, и я рад, что ты надоумил меня спуститься к морю, вместо того чтобы томиться дома, попивая кофе и силясь придумать что-то для пьесы.
— Давай побудем здесь еще, — сказал я. — Давай прикинемся, будто ты это я, а я это ты. Тебе десять, а мне сорок пять.
— Давай, — сказал отец.
Минуту я пытался представить себе, каково это — быть сорокапятилетним, и вдруг, совершенно неожиданно, я стал им. Ух ты, до чего же я был теперь старый! И все равно, я чувствовал себя прекрасно, ей-богу, прекрасно.
Первое, что пришло мне в сорокапятилетнюю голову, — взять сухой обрывок водоросли и начертить на земле широкий круг.
— Неплохо у тебя получилось, — сказал мой отец.
— Вот, — сказал я. — Круг, и я в его середине, а ты за чертой.
— Так оно и есть.
— Но это только начало. Мой круг — то самое место, находясь в котором человек начинает думать. Каждому хочется попасть в этот круг, потому что в нем начинаешь думать.
— И о чем же ты сейчас думаешь?
— Я думаю сейчас, какой я счастливчик, что наконец-то попал в этот круг. Тебе, конечно, тоже хочется оказаться в нем, но для этого ты должен выполнить одно условие — догадаться, о чем я сейчас думаю.
— Ты думаешь, какой ты счастливчик, что наконец-то попал в этот круг.
— Нет, это было раньше, а сейчас я думаю о другом.
— Ну, значит, ты думаешь, что не такое уж великое счастье попасть в этот круг.
— Нет.
— Ты думаешь, что я никогда не догадаюсь, о чем ты думаешь.
— Нет.
— Ты думаешь о пьесе, — сказал мой отец.
— Как ты догадался?
— Не знаю. Наверно, я догадался потому, что сам о ней думаю. Можно мне теперь войти в круг?
— Пожалуйста.
Настала моя очередь отгадывать мысли отца.
— Ты думаешь о деньгах, — сказал я.
— Верно, — сказал отец.
Мы снова поменялись местами, и снова он попробовал угадать, о чем я думаю. Он пробовал раз десять, и выходило не то, и тогда я начал смеяться, а он сказал:
— Ладно, сдаюсь. О чем же ты думаешь?
— Я думаю, как это должно быть печально — уйти из жизни.
— Как по-твоему, почему я не смог догадаться, что мысли твои об этом?
— Потому что тебе всего десять лет, — сказал я, — и ты не такой, как я, проницательный.
И в эту самую минуту над нами раскатисто прогремел гром, а потом полыхнула молния.
— Слава тебе, господи, — сказал мой отец. — Наконец-то хоть малость дождя.
Полил дождь. Не обращая на него внимания, мы о отцом зашагали вдоль берега.
— Папа, — сказал я, — давай забудем о писательстве. Ты забудь о своей поваренной книге и о пьесе для человека, который звонил из Нью-Йорка, а я забуду о своей повести.
— О чем же тогда нам помнить?
— Давай ни о чем не помнить.
— Ты не хочешь писать свою повесть?
— Ах, ради бога, па, что я смыслю в таких делах? Я могу только раздумывать о всяких вещах, так же, как и любой другой человек, но я не знаю, как вкладывать все это в слова. Давай забудем о писательстве, па.
— Пусть так. Конец писательским раздумьям.
— Ну вот, мне уже легче, — сказал я.
— Мне тоже, — сказал отец. — Но я все еще помню о деньгах. Я все еще в них нуждаюсь и не могу не думать об этом.
— Хорошо. Подумай о них немножко.
— Оттого, что я подумаю о деньгах, их у меня не прибудет.
— Раз так, ты и думай о них, и добывай.
— Я не умею добывать их иначе как писательством.
— Черт побери, па! — сказал я. — Раз тебе надо быть писателем, будь им, но я — нет, я не желаю. Лучше я стану бродягой.
— Что ж, — сказал отец. — Мне бы тоже очень хотелось стать бродягой, но поздно, я прозевал свой час. Похоже, что мне придется навсегда остаться писателем.
— Неужели ты не можешь заработать деньги как-нибудь по-другому?
— Боюсь, что нет. Это мой единственный способ. Правда, денег он мне приносит далеко не достаточно, но сколько-то все же приносит.
Мы перестали разговаривать. Мы просто шли сквозь дождь, шли и прислушивались к нему, и вдруг мне сделалось как-то грустно и одиноко.
— Па?
— Угу.
— Я вернулся к тебе.
— То есть?
— Я снова писатель, па. Ты пиши свою поваренную книгу и пьесу, а я напишу повесть. Я научусь — как.
— Честное слово?
— Ей-богу.
— Но почему?
— Разве тебе не ясно, па? Я просто должен быть писателем. Так же, как ты.
— Ну вот что… вот что я тебе скажу… эта минута — это, может быть, самая гордая, самая счастливая в моей жизни минута.
— Но, ради бога, па, давай писать только такие вещи, от которых люди будут смеяться. Даже если мы ничего этим не заработаем. Потому что какая в жизни радость, если человек не смеется?
— Никакая, — сказал отец.
Мы шли под дождем и думали о работе, нам предстоящей. Это трудная работа, но я знаю, что отец мой непременно сделает свою долю, я же постараюсь сделать мою.
Дождь хлестал все сильнее и сильнее, но мы не обращали на него внимания. Мы просто продолжали идти вперед. Мы уходили все дальше и дальше от дома.
Мы знали: он там, на своем месте.
РАССКАЗЫ
В теплой тихой долине дома
Еще не рассвело, когда мой двоюродный брат подъехал к дому на помятом, поколоченном форде и дернул запасной тормоз машины, потому как обычный уже вышел из строя. Машина подпрыгнула, задохнулась и стала. Мой двоюродный брат соскочил на землю и постоял во дворе, глядя на небо. Потом он поднялся по ступенькам крыльца, вошел в дом и появился на кухне, где я уже почти что кончал бриться.
— Похоже, будет шикарный день.
— Вот и прекрасно, — сказал я.
Он налил себе чашку кофе и сел завтракать. Хлеб с маслом, маслины, армянский сыр.
Я вытер лицо и присоединился к брату, налив и себе полную чашку кофе.
Кофейник был солидных размеров. Мой брат выпил четыре чашки, а я — три, выпил бы и четвертую, если бы только в кофейнике осталось что пить.
Мы вышли из дому, не дожидаясь рассвета.
— Днем у нас будет шикарный ленч, — сказал мой брат. — Я сам все приготовил.
— И будет что выпить?
— Пиво, — сказал он. — Шесть бутылок. Они у меня в ящике, и чтоб не нагрелись, я их укутал в мокрый мешок.
— А может, попробуем раздобыть льда?
— Можно, конечно. Но лед растает.
— Ладно, — сказал я. — Выпьем пиво до ленча. Уж, наверно, до десяти лед не растает.
— На солнце уже с самого утра будет жарко.
— Не люблю теплого пива, — сказал я.
— Хорошо, — сказал он, — хоть слишком еще рано, но я знаю одно местечко, где мы достанем немного льда.
— А далеко это от нашей дороги?
— Нет, — сказал он.
— Ну ладно. Давай-ка я заведу машину.
— Нет, — сказал он. — Лучше я сам. Этот мотор не всякого слушается.
Он взялся за дело, мотор заработал, и мы сели в машину и тронулись в путь.
— Не думаю, чтоб по этой дороге попалась какая-нибудь речушка, — сказал я.
— Будет, — сказал он. — Где-то подальше будет ручей. Но возможно, что летом он высыхает.
— А ты не забыл про винтовку и дробовик? — сказал я.
— Да нет, черт возьми, — сказал он. — Но если ты что-нибудь из этой винтовки подстрелишь, считай, что тебе крупно повезло.
— Почему?
— Что-то там с прицелом.
— А может, с твоим глазом?
— Глаз тут ни при чем. С глазом у меня все в порядке. Я целился в кролика метров с шести и промазал.
— Глаз у тебя не в порядке, — сказал я. — Ну а что дробовик?
— Дробовик что надо.
— С прицелом ничего?
— Ничего, да к тому же ты обойдешься и без прицела.
— О! — сказал я.
Старенький форд прогрохотал по Вентура-авеню и сбавил ход. Мой брат дернул запасной тормоз, машина подпрыгнула и заглохла возле заведения с вывеской «Уголь и лед». Наверху, где располагалась контора, горел свет. Брат взбежал по ступенькам и толкнул дверь, но она оказалась на запоре. Тогда он заглянул в освещенное окно и увидел в комнате человека, который спал, сидя на стуле. Убедившись, что контора не пустует, брат принялся громко стучать. Через некоторое время дверь отворилась, и человек, появившийся на пороге, сказал:
— Вам чего?
— Пенсильванского угля, — сказал мой брат.
— Угля у нас никакого в этот сезон не бывает.
— Ну коли так, возьмем льда.
— Сколько вам нужно?
— Центов на десять, — сказал мой брат.
Человек исчез и вернулся через минуту с бруском льда в холщовом мешочке.
— А найдется чем расколоть? — сказал мой брат.
— Найдется, конечно.
Человек спустился вниз и вручил нам мешочек. Брат мой вывалил брусок на подножку машины и, взяв у человека что-то вроде кайла, стал аккуратно колоть лед и кусочки его бросать на мокрую мешковину, в которую обернуты были бутылки.
Человек из конторы получил свои десять центов и вернулся к себе в комнату, к своему стулу. А мы завели машину и поехали дальше.
Около окружной больницы мы повернули на север. Светало. Небо было редкостной красоты, и больница выглядела как-то особенно грустно.
— Ты когда-нибудь попадал в эту больницу? — сказал мой брат.
— Да, — сказал я.
— А что у тебя было?
— Ничего. Я просто ходил туда навещать.
— Кого навещать?
— Кероба помнишь? — сказал я. — Ты был совсем еще мальчонка, когда он умер.
— Помню, — сказал он.
— Вот его я и навещал.
— А что у него было? — сказал мой брат.
— Чахотка, — сказал я.
— Ясно, — сказал мой брат. — Ну а какой он был вообще?
— Вообще отличный был парень, — сказал я. — Обычно я приносил ему виноград и персики. И еще инжир. Когда он умер, ему и сорока еще не было. А мне тогда было лет десять-одиннадцать.
Когда мы въехали в Кловис, солнце уже поднялось, и городок показался нам очень милым. Чтобы рассмотреть это местечко как следует, мы несколько раз проехались по его считанным улицам.
Людей на улицах не было ни души. Прибегнув опять к запасному тормозу, мой брат остановил машину около магазинчика.
— Не прогуляться ли нам по Кловису? — сказал он.
— И где-нибудь перекусить? — сказал я.
— Сколько у тебя денег? — сказал он.
— Доллар и еще мелочь, — сказал я.
— Можно, значит, и перекусить, если найдется где.
Мы вылезли из машины и пошли по главной улице.
Городок был не бог весть каких размеров. Две-три довольно печального вида улочки, по сторонам их — печальный строй одноэтажных и двухэтажных деревянных домов, и кое-где печальные окна лавок, и такие же печальные двери и вывески, и печально глядящие сверху окна вторых этажей. И сразу за городком видны были виноградники. Словом, это было просто маленькое местечко в сельском краю, окруженное виноградниками, но повидать его ранним утром было очень приятно.
Солнце уже поднялось и даже начало припекать, а городок все еще не просыпался. Пройдясь по главной улице, мы нашли закусочную, но она, к сожалению, была закрыта.
— Ну что, — сказал мой брат, — подождем, пока откроется, или поедем дальше?
— Похоже, что ждать тут придется долго.
— И для чего они завели эту закусочную, не пойму. Посмотрел бы я на парня, которому пришло это в голову.
— Что за тип, как по-твоему? — сказал я.
— Да уж вряд ли симпатичный, — сказал мой брат. — На кой черт, интересно, завел он закусочную в городишке, где она явно никому не нужна?
— А может быть, она нужна ему самому. Может, он большой любитель поесть.
— Десять против одного, что ты угадал. Это маленький парнишка с большим аппетитом. Он ни минуты не хочет оставаться голодным. Он хочет, чтобы еда всегда была под рукой. Вот его и осенило устроить закусочную. В худшем случае он сам проглотит свою стряпню.
— Ладно, — сказал я, — с этим все ясно, так что не будем уж тут околачиваться.
Мы вернулись к своей колымаге, завели ее и поехали.
После Кловиса дорога потянулась среди холмов, покрытых пожелтелой высохшей травкой. Но миль через десять мы увидели холм, на склоне которого росли деревья, и брат сказал, что это отличное место. Место действительно оказалось славное. Час уже был жаркий, а под деревьями стояла прохлада, и трава в их тени была зеленая, свежая. Мы с братом съели по три сандвича с мясом, выпили по бутылке пива и, захватив с собой ружья и остатки еды, пошли прогуляться и чего-нибудь пострелять.
Мы шли около часа, и ничего такого не попадалось, во что бы стрельнуть, так что мой брат стрельнул из винтовки по бабочке и промазал.
— Вот видишь, — сказал он, — с прицелом что-то не то.
— Дай-ка мне винтовочку, — сказал я.
Я тоже стрельнул по бабочке и тоже промазал.
— Звук, однако, отличный, — сказал я.
— Звук какой полагается, — сказал брат.
— Где же, наконец, ручей? — сказал я.
— Какой еще ручей? — сказал брат.
— То есть как это, какой? — сказал я. — Ручей, про который ты говорил утром.
— Не думаю, чтоб сейчас там была вода.
— А раз нет воды, какой же это ручей?
Тут брат неожиданно громыхнул из дробовика, и я увидел пустившегося наутек кролика.
— Видать, и у дробовика твоего прицел не в порядке.
— Нет, — сказал мой брат. — Просто я решил, пока целился, что не стоит убивать невинную тварь. В самом деле, какая мне с того радость?
Два часа проходили мы, пока нашли наконец ручей. Кой-какая влага в нем все-таки сохранилась. Вода была застоявшаяся, с запашком, но мы все равно уселись возле нее на свежую травку и славно поговорили.
Брату хотелось что-нибудь еще узнать о нашем родственнике, который умер в окружной больнице, и я рассказал ему про Кероба, нашего дядю, а он мне рассказал о своем приятеле, о мальчике по имени Харлан Бич, который утонул в Томсоновом рву.
— Хороший был парень, — сказал мой брат.
Вокруг стояла чудная тишина. Я растянулся на земле и глядел в небо. Ну вот и прожито сколько-то сумасшедших лет. И сколько всего — с ума сойти! — за это время случилось. И снова теперь сентябрь, и так здесь приятно. Жарко, и все-таки очень приятно. Эта долина — мой дом, здесь я родился. Мой дом — эта земля, и это небо, и воздух. И эта жаркая погода тоже мой дом. И брат мой — частица моего дома. И то, о чем и как он говорит. И люди, про которых мы с ним вспоминаем. Глядя на свое небо, я вспомнил Нью-Йорк. С тех пор, как я жил там, не прошло еще и года, но мне казалось, что прошло и десять, и двадцать лет. Мне казалось даже, что я там и не жил никогда, что все это, наверное, мне просто приснилось. Приснился этакий долгий сон, в котором было сначала лето, потом — зима, сначала — духотища и сумасшедшие громады домов, и сумасшедшие подземки, и толпы людей, а потом — сумасшедший холод и снег и покинутое солнцем хмурое небо.
Брат говорил сперва по-английски, а я — мешая английский с армянским. Потом и он вроде меня заговорил так и этак. Ну и в конце концов мы оба перешли на армянский.
— Бедный Кероб, — сказал мой брат. — Бедный, бедный, бедный. Когда-то он тут ходил, теперь — не ходит.
И он соединил ладони тем жестом, каким армяне обычно дают понять, что, мол, теперь уже точка, было что-то и кончилось.
— Давай-ка пожуем что там у нас осталось, — сказал я.
— Давай, — сказал брат, — пожуем и повспоминаем.
Мы съели все сандвичи и двинулись потихоньку обратно — к машине, где у нас оставалось пиво.
Пострелять на обратном пути опять было не во что.
— А давай-ка посалютуем в честь покинувших этот мир, — предложил мой брат.
— Славная мысль!
Мы вскинули наши ружья дулами к небу.
— Умершим, — сказал мой брат, и мы выстрелили.
Звук выстрела получился полубезумный, полутрагический.
— Керобу, — сказал я, и мы снова выстрелили.
— Харлану Бичу, — сказал мой брат, и последовал выстрел.
— Каждому, кто жил на этой земле и умер, — сказал мой брат, и мы оба выстрелили.
Звук от дробовика был в десять раз сильнее, чем от винтовки.
— Дай-ка мне на этот раз дробовик, — сказал я брату, и мы поменялись ружьями.
— Кому будет салют? — сказал он.
— Моему отцу, — сказал я и нажал на спуск. Отдача была сильнейшая.
— А теперь моему отцу, — сказал брат.
Мы выстрелили.
— Моей бабушке, — сказал я.
— И моей бабушке, — сказал брат.
— Григорию Просветителю [8], — сказал я.
— Петросу Дуряну [9], — сказал брат.
— Раффи [10], — сказал я.
Мы прошли еще немного, остановились и снова стали называть имена и стрелять.
— Андранику [11], — сказал мой брат.
— Хечо, — сказал я.
— Бедный Хечо, — сказал мой брат по-армянски.
— Мураду, — сказал я.
И так мы просалютовали в честь многих еще армян — писателей, ученых, воинов и священников. Просалютовали в честь многих замечательных людей, умерших уже давно или недавно.
Мы закатили посреди холмов грандиозную трескотню, но все сошло прекрасно, потому что ни души вокруг не было.
Когда мы вернулись к машине, пиво уже, конечно, было не такое, как утром, холодное, но все-таки еще свежее и приятное для питья.
Мы выпили что оставалось, и брат завел машину, и мы сели и поехали от холмов в теплую, тихую, чудную долину, в единственную для нас на земле долину нашего дома.
Охотник на фазанов
В свои одиннадцать лет Мэйо Мэлони был небольшого роста парнишка, не то чтобы еще по-мальчишески грубый и неотесанный, а просто — сама неотесанность, ибо даже, например, в церковь не мог войти он так, чтобы не вызвать у всех, кто в это время на него взглянет, неловкого ощущения, что он, Мэйо, презирает и это место, и его назначение.
И то же самое бывало всюду где появлялся Мэйо: в школе, библиотеке, театре, дома. Только мать чувствовала, что Мэйо совсем не грубый мальчик, отец же, не раз случалось, просил его не слишком-то задаваться и вести себя так, как все. Этим самым Майкл Мэлони хотел сказать, что Мэйо следует смотреть на вещи спокойнее и не проявлять ко всему на свете столь критического отношения.
Мэйо был самоувереннейший мальчик на свете, и на все вокруг он смотрел как на нечто неполноценное — такое, по крайней мере, складывалось впечатление. Что-то не то и не так обстояло, на его взгляд, с активностью его матери в лоне церкви, с увлечением его отца Шекспиром и Моцартом, с системой школьного обучения, с правительством, с Соединенными Штатами, с народонаселением всего мира. И обнаруживал он эту неполноценность всего на свете, не давая себе труда вникать в какие-то там детали. Он обнаруживал ее просто своим существованием, присутствием. Тем, что вот такой он нервный и раздраженный, такой нетерпеливый, быстрый и так ему все наскучило. Короче говоря, он был самый нормальный мальчишка. Он испытывал презрение ко всем и всему и ничего не мог с этим поделать. Это презрение было невысказанное, но вполне очевидное. Он был худенький, смуглолицый и темноволосый, и всегда в состоянии нетерпения и спешки, потому что все, с чем он сталкивался, было таким медленным, таким невыносимо тупым и вялым.
От одного только он не испытывал скуки — мысли об охоте, но не похоже было, чтобы отец купил ему винтовку, ну, хотя бы одностволку 22-го калибра. Майкл Мэлони сказал так — сначала он должен увериться, что Мэйо немножечко поостыл, успокоился, а потом уже подумать о покупке ружья. Мэйо постарался немножечко успокоиться — ради того, чтобы получить ружье, — но прекратил свои старания через полтора дня.
— Пусть так, — сказал отец. — Если ты не хочешь винтовку, то и не нужно тебе стараться заработать ее.
— Я старался заработать, — сказал Мэйо.
— Когда старался?
— Вчера и сегодня.
— Я имел в виду, — сказал Майкл Мэлони, — испытание сроком хотя бы в месяц.
— Месяц? — сказал Мэйо. — Но как же мне оставаться спокойным весь октябрь, когда в это время можно поехать пострелять фазанов?
— Не знаю как, — сказал Майкл Мэлони, — но если ты хочешь винтовку, тебе следует успокоиться. Иначе я не могу быть уверен в том, что ты не перестреляешь наших соседей. Ты думаешь, мой отец позволил бы мне сесть за обед или ужин, не сделай я что-нибудь, чтобы их заработать? Он не предлагал мне заработать винтовку для охоты на фазанов. Он велел, чтоб я зарабатывал свое пропитание и одежду, и он вовсе не дожидался, когда мне стукнет одиннадцать. Он потребовал этого, когда мне было не больше восьми. Беда в том, что тебе ничего не приходится делать ради своего пропитания, одежды и крова, иначе бы ты уставал порядком и был бы нормальным человеком, как все. Сейчас тебя и человеком почти что не назовешь. Разве человек тот, кто даже понятия не имеет, как трудно добывается хлеб наш насущный и прочие необходимые в жизни вещи? Это мы, твои родители, виноваты, что ты у нас такой неудовлетворенный и саркастичный, а не спокойный, милый, приятный мальчик. Весь город говорит о том, как твои папа и мама сделали из своего сына самоуверенного невежду, потому что освободили его от всякой необходимости заработать для себя право судить о вещах.
Все это говорилось столько же для мальчика, сколько и для его матери, и для младшего его брата, и для младшей сестры, ибо мистер Мэлони покинул сегодня свой оффис в половине пятого, как это он делал обычно в неделю раз, чтобы посидеть вместе с семьей за ранним ужином, и он хотел, чтобы этот час, когда вся семья в сборе, не понапрасну пропал, а остался бы в памяти у каждого, в том числе у него самого.
— Ладно уж, Майк, — сказала миссис Мэлони. — Мэйо не так плох, как ты его представляешь. Он просто хочет винтовку, чтоб поохотиться на фазанов.
Майк Мэлони опустил свою вилку с макаронами, приправленными томатом и луком, и уставился на жену этаким долгим взглядом, одно за другим подавляя в себе самые что ни на есть резкие замечания, которые, конечно же, не порадовали бы никого из присутствующих, а только послужили бы тому, что от сегодняшнего семейного сбора у них у всех осталась бы неприятная память.
— Если я правильно понял, — произнес он наконец, — ты считаешь, что я должен купить ему винтовку?
— Мэйо не то чтобы и в самом деле груб, или заносчив, или еще что-то в этом роде, — сказала мать. — Просто в нем сейчас дух нетерпения, как это с каждым бывает в какую-то пору жизни.
На лице у Мэйо не выразилось и тени благодарности за эту попытку матери взять его под защиту. Вид его, если и говорил о чем-то, то скорее о том, что его прямо-таки тошнит от такого шума из-за такой чепухи, как покупка для него грошовой 22-калибровой одностволки.
— Незачем тебе так усердно за него заступаться, — сказал Майк Мэлони жене, — ибо, как ты можешь заметить, он в этом вовсе не нуждается. Ему не по душе, когда кто-то за него заступается, даже родная мать, бедненькая его мать, и вдобавок еще ты можешь по нему видеть, много ли значения придает он тому, что говорит ему сию минуту отец.
— А что я сказал такого? — спросил Мэйо.
— Ты ничего не сказал. Да и зачем тебе говорить? — Майк Мэлони снова посмотрел на жену: — Так ты считаешь, что я должен купить ему винтовку?
Миссис Мэлони просто не знала, как ей сказать, что да, что не мешало бы купить ему винтовку. Она молчала, стараясь не смотреть ни на сына своего, ни на мужа.
— Хорошо, — сказал Майк Мэлони жене и сыну. — Мне пора к себе в контору, так что если ты выйдешь сейчас со мною, по пути мы заглянем к Арчи Кэннону и купим тебе винтовку.
Он встал из-за стола и, обращаясь к жене, добавил:
— При том условии, конечно, что ты это одобряешь.
— Ты не хочешь доесть свой ужин? — сказала миссис Мэлони.
— Нет, — сказал Майк Мэлони. — И даже объясню тебе почему. Я не хочу заставлять его ждать хоть минутку, когда он полон желания поскорей получить что-то, чего нисколько не заслужил, а тем более когда его мать поддерживает это желание. Посмотри, он уже в шапке, уже у двери, и разве смею я попусту тратить здесь время?
— Ну неужели вам даже поесть нельзя? — сказала миссис Мэлони.
— Терять время на еду, — сказал Майк Мэлони, — когда речь идет о винтовке?
— Ну ладно, — сказала миссис Мэлони, — может, вы поедите потом, после того как ее купите.
— Уж лучше б мы были бедны, — сказал Майк Мэлони. — Бедность бы решила за нас эту проблему.
Майк Мэлони направился к двери, где его взвинченный сын стоял в ожидании, когда он наконец замолчит и сдвинется с места.
В дверях он остановился и сказал жене:
— Я не отвечаю за его действия после того, как он получит свою винтовку. Будь мы бедны и будь нам это не по карману, он бы понимал сейчас, до чего это дурно — вынуждать меня к такой вот печальной уступчивости.
Выйдя из дому, он увидел, что сын его уже далеко на улице и едва себя сдерживает, чтоб не бежать. Он быстренько нагнал его и пошел рядом, стараясь не отставать.
Вскоре он, однако, сказал:
— Вот что, я не намерен бежать всю дорогу. До Арчи Кэннона еще полмили. Если тебе нужно бежать, беги, а там подождешь у входа.
Мальчик тут же, не раздумывая, сорвался с места, и через минуту его уже не было видно. Когда Майк Мэлони подошел к лавке Арчи Кэннона, мальчик ждал его у входа. Они вошли в лавку, и Майк Мэлони попросил Арчи показать им винтовки.
— Какую тебе нужно винтовку, Майк? — сказал Арчи. — Неужели решил поохотиться?
— Не мне она нужна, — сказал Майк Мэлони. — Она нужна Мэйо. Что тут у тебя есть подходящего для охоты на фазанов?
— Для охоты на фазанов лучше всего дробовик, — сказал Арчи.
— Подойдет тебе? — спросил Майк Мэлони сына, и хотя мальчик даже и не рассчитывал на такое, он сказал, что как раз дробовик-то ему и нужен.
— Вот и хорошо, Арчи, — сказал Майк Мэлони. — Дай-ка нам дробовик.
— Послушай, Майк, — сказал Арчи, — мне кажется, что дробовик не очень-то подходящее ружье для мальчика.
— Осторожнее, — сказал Майк Мэлони. — Не забывай, что он тут. Не будем позволять себе излишних вольностей в разговоре. По-моему, он ясно сказал, что нужен именно дробовик.
— У дробовика, — сказал Арчи, — отдача очень уж сильная.
— Отдача сильная, — повторил Майк Мэлони сыну, но тот отнесся к этим словам с полнейшим пренебрежением.
— Его это не волнует, — сказал Майк Мэлони Арчи Кэннону.
— Ну что ж, — сказал Арчи, — вот вам, пожалуйста, двуствольный 12-калибровый дробовик, и это самое выгодное, что можно купить в моей лавке.
— Ты мог бы и не подчеркивать этого, Арчи, — сказал Майк Мэлони. — Выгодно или невыгодно, его не интересует. Ему нужен дробовик, самый лучший в твоей лавке и подходящий, чтоб пострелять фазанов.
— Вот оно, то самое, что ему нужно, — сказал Арчи Кэннон. — Цена — девяносто восемь долларов пятьдесят центов, плюс пошлина, разумеется. Лучшего ружья не найдете.
— Всякому сразу видно, что ружье замечательное, — сказал Майк Мэлони. — Так что не будем уж тратить время на второсортное оружие.
Он протянул дробовик Мэйо Мэлони, и тот принял его на правую руку, дулом вниз, как и следует держать ружье, все равно — заряжено оно или нет.
— Я объясню тебе, как с ним обращаться, — сказал Арчи Кэннон Мэйо Мэлони, и это с его стороны была, конечно, ошибка. Мальчик ответил ему таким взглядом, что Арчи спохватился и поспешил с вопросом: — Может, что-нибудь еще? Рыболовное снаряжение, перчатки для бокса, теннисные ракетки?
— Что-нибудь еще? — спросил Майк Мэлони сына, а тот молчал, не скрывая своего раздражения, и Майк наконец сообразил и сказал Арчи Кэннону: — Патроны, разумеется. Что толку в ружье без патронов?
Арчи Кэннон тут же достал с полки три комплекта лучших патронов к дробовику и сказал, когда передавал их Майку, а Майк сыну:
— Может, охотничью сумку с поясом для патронов? Красную охотничью кепку?
Но Мэйо Мэлони уже и след простыл.
— Не нужно ему ничего такого, — сказал Майк Мэлони.
— Некоторые охотники очень даже заботятся о костюме, — сказал Арчи Кэннон.
— Он не заботится, — сказал Майк Мэлони. — Сколько я должен уплатить?
— Сто пять долларов шестьдесят девять центов, включая пошлину, — сказал Арчи. — А права у него имеются?
— Права на охоту? — сказал Майк Мэлони. — У него даже на еду прав не имеется, и все же, черт возьми, я почти восхищаюсь им. Должно быть, он что-то знает, раз полон такой уверенности в себе и такого презрения ко всем прочим.
— По правде говоря, — сказал Арчи Кэннон, — я думал, что ты просто дурачишь меня, Майк. Вроде того, как ты это делаешь иногда в суде, когда хочешь помочь маленькому человеку в какой-нибудь его схватке с большой компанией. Я не ожидал, что ты и в самом деле купишь ружье и дашь его в руки одиннадцатилетнему пацану. Ты уверен, что это правильно?
— Конечно, правильно, — сказал Майк Мэлони. — Ты же сам видел, как он держит ружье. — И он принялся заполнять чек. — Значит, сколько с меня следует?
— Сто пять шестьдесят девять, — сказал Арчи Кэннон. — Надеюсь, тебе известно, что нигде в округе никаких фазанов и в помине нет? Фазаны водятся разве что в долине Сакраменто.
— Где ты будешь часиков в десять вечера?
— Ну, дома, наверное, — сказал Арчи. — А что?
— Спать еще не ляжешь?
— Нет, — сказал Арчи. — Раньше двенадцати я не ложусь. А что?
— Может, заглянешь ко мне часов в десять на пару бутылок пива?
— Охотно загляну, — сказал Арчи. — А что?
— Видишь ли, — сказал Майк, — я так себе представляю. Сейчас у нас четверть шестого. Ему нужно не более трех минут, чтобы попроситься к кому-нибудь в машину до Ривердэйля. Ехать туда двадцать пять миль. При нормальной скорости это минут сорок — сорок пять, но он заставит водителя проделать это расстояние за полчаса, а может быть, и скорее. Уж он его взвинтит, ни словечка даже не вымолвив. Он добьется, что водитель и с дороги своей свернет, чтобы доставить его прямо к месту охоты. Так что где-то не позже шести он приступит к делу. Охотиться он будет дотемна и забредет в порядочную даль от шоссе. Он не потеряется, конечно, а просто выберется уже на другую дорогу, где движение редкое. Там он дождется машины, попросит его подвезти и будет дома к десяти или в десять с чем-то.
— Откуда ты знаешь? — сказал Арчи. — Откуда ты знаешь, что он сегодня же отправится на охоту? Просто он получил ружье, но он, может быть, и не знает даже, как из него стрелять.
— Ты разве не видел, как его смыло отсюда? — сказал Майк Мэлони. — Он едет сейчас на охоту. И ты можешь не сомневаться, что он или уже знает, как стрелять из ружья, или быстренько разберется без чьей-либо помощи.
— Ладно, — сказал Арчи, — если ты серьезно, Майк, то я, пожалуй, загляну к тебе выпить пивца.
— Ну конечно, серьезно, — сказал Майк.
— Ты, видно, хочешь, чтоб тебе было с кем разделить веселье, когда он явится домой с пустыми руками и весь разбитый сильной отдачей от выстрелов, — сказал Арчи.
— Да, — сказал Майк, — я действительно хочу, чтоб мне было с кем разделить веселье, но только совсем не по этой причине. Он, может, малость и пострадает от сильной отдачи, но я думаю, что вернется он не с пустыми руками.
— В жизни не слыхал, чтоб кто-нибудь подстрелил в этих местах фазана, — сказал Арчи. — В сезон можно подстрелить уточку или зайца.
— Он говорил про фазанов, — сказал Майк Мэлони. — Вот тебе чек. Приходи лучше чуть пораньше десяти. На всякий случай.
— Я думал, ты просто шутишь насчет ружья, — сказал Арчи. — Ты уверен, что поступил правильно? То есть, если учесть, что ему всего одиннадцать, что разрешения на охоту у него не имеется и к тому же охотничий сезон уже месяц как кончился.
— Вот потому-то я и хочу, чтоб ты зашел ко мне вечером.
— Не пойму что-то, — сказал Арчи.
— Ты же охотничий инспектор по нашей округе, не так ли?
— Так.
— Если окажется, что он нарушил закон, я хочу, чтобы ты знал об этом, — сказал Майк.
— Ладно уж, — сказал Арчи, — стану я обращать внимание, что мальчишке приспичило пострелять не в сезон или там без должного разрешения.
— Я уплачу за него штраф, — сказал Майк Мэлони.
— Не думаю, чтобы он вернулся с добычей, — сказал Арчи, — так что и штрафа тебе платить не придется.
— Жду тебя к десяти, — сказал Майк Мэлони.
Он провел около получаса в своей конторе, после чего не спеша прошелся домой. Дома все было тихо-мирно, малыши уже легли, жена на кухне мыла посуду. Он взял полотенце и стал перетирать и класть на место в буфет вымытые тарелки.
— Я купил ему у Арчи Кэннона дробовик, лучшее ружье для охоты на фазанов, — сказал он.
— Надеюсь, ты не очень на него злишься, — сказала миссис Мэлони.
— Сначала злился и даже очень, — сказал Майк, — а потом вдруг почувствовал все иначе. Ты понимаешь, что я хочу сказать?
— Нет, — сказала миссис Мэлони. — Не понимаю.
— Я хочу сказать, как хорошо, что мы не бедные.
— А при чем тут бедность? — сказала миссис Мэлони.
— Хорошо — и все тут, — сказал Майк.
— Прекрасно, — сказала миссис Мэлони. — А он где же?
— На охоте, где ж еще, — сказал Майк. — Или ты думаешь, что ружья он добивался, чтоб любоваться им?
— Не знаю, что я сейчас думаю, — сказала миссис Мэлони. — То ты бьешься с ним, растравляешься из-за него, а то вдруг сходу покупаешь ему дорогое ружье и считаешь вполне нормальным, чтобы он охотился среди ночи бог знает где. Чем это объяснить?
— Видишь ли, — сказал Майк Мэлони, — пока я тут за столом читал ему наставления, что-то такое стало вдруг происходить со мной. Я представил себе, как тридцать лет назад мой отец вот так же наставлял меня самого, такого же тогда мальчишку, как Мэйо. Я выслушал от отца наставление, но винтовки не получил. Винтовку я получил только лет через пять, когда она уже не очень-то была мне нужна. Ну так вот, пока я сегодня вразумлял его за столом, мне вспомнилось, как в этом же духе поучал меня мой отец, а я слушал и думал, что зря он так унижает меня, и при этом почему-то ждал и надеялся — может быть, потому именно, что мы были бедные, может быть, и есть тут какая-то связь, — надеялся, что вдруг он прервет сейчас свои речи, спокойненько возьмет меня с собой куда надо и купит мне винтовку. Но он, конечно же, этого не сделал. И я вспомнил, что он этого не сделал, и решил, что, может, мне стоит сделать для моего сына то, чего мой отец для меня не сделал, если только ты понимаешь, что я хочу сказать.
— Ты хочешь сказать, что Мэйо похож на тебя? — сказала миссис Мэлони.
— Вот именно, — сказал Майк.
— Очень похож?
— Ну, почти в точности, — сказал Майк. — О, недолго ему быть таким замечательным человеком, какой он сейчас, и я не хочу, чтобы из-за меня он потерял понапрасну этот единственный прекрасный момент своей жизни.
— Ты шутишь, — сказала миссис Мэлони.
— Я более чем серьезен, — сказал Майк. — Арчи Кэннон тоже подумал, что я шучу. Но почему? Разве я не купил ему ружье и патроны, и разве он сейчас не на охоте, а?
— Хотела бы я знать, каково ему сейчас? Надеюсь, все обойдется благополучно? — сказала миссис Мэлони.
— Каково ему было, мы никогда не узнаем, — сказал Майк. — Я пригласил Арчи на пиво часам к десяти. Думаю, что как раз в это время Мэйо должен вернуться.
— Арчи зайдет вместе с миссис Кэннон?
— Вряд ли, — сказал Майк. — О ней не было ни слова.
— В таком случае, наверно, мое присутствие вам ни к чему, — сказала миссис Мэлони.
— Отчего же, если тебе захочется посидеть с нами… — сказал Майк.
Но миссис Мэлони знала, что это будет ни к чему, и потому сказала:
— Нет, я, пожалуй, лягу пораньше.
Майк Мэлони и его жена вышли посидеть на крылечке. Они сидели и разговаривали о своем сыне Мэйо и о двух младших своих детишках. В начале десятого миссис Мэлони поднялась, зашла на кухню, проверила, в леднике ли пиво, поставила на стол кое-какую закуску, после чего отправилась к себе спать.
Немного погодя на улице показался Арчи Кэннон, не спеша подошел, поднялся на крыльцо и сел рядом с Майком в кресло-качалку.
— Я все думал с тех пор про это, — сказал он, — и никак не решу, правильно ли ты сделал.
— Правильно, — сказал Майк. — Пошли-ка пить пиво. Скоро он появится, вот увидишь.
Они прошли на кухню и сели за стол. Майк открыл две бутылки холодного пива, наполнил два высоких стакана, и они выпили. На столе стояло блюдо с холодным ростбифом, нарезанной ветчиной, колбасой и сыром и другое блюдо — с уже намасленными кусками ржаного хлеба.
Время подошло к двенадцати, а Мэйо Мэлони все не было, и Арчи Кэннон не знал, что ему теперь делать — то ли сказать, что пора домой, и уйти, то ли предложить поехать на поиски мальчика. Нет, решил он, лучше не надо. Ясно было, что Майк волнуется и злится, что сделал глупость. Ясно было, что нельзя сейчас растравлять его рану. Они ни словом не обмолвились о Мэйо с одиннадцати часов, и Арчи видел, что Майк предпочитает эту неопределенность и выжидание.
Около часу ночи, когда они уже выпили каждый по шесть бутылок и съели все, что оставила им миссис Мэлони, и поговорили обо всем на свете, но только не о Мэйо, послышались шаги на задней лестнице, потом на веранде и через минуту в кухне появился Мэйо.
Вид у него был до крайности усталый, лицо раскрасневшееся и грязное, одежда вся в пыли и в колючках, руки черные от грязи и исцарапанные. На правом плече у него болталось ружье, в левой руке он держал двух великолепных фазанов.
Он положил птиц на кухонный стол, скинул с плеча ружье, разобрал его и почистил. Потом он обернул все в сухое посудное полотенце и положил в ящик, где держал свои вещи. Потом достал из кармана неиспользованные патроны, сунул их туда же, запер ящик своим ключом и ключ положил в карман. Потом он направился к умывальнику, засучив рукава, хорошенько вымыл руки, лицо и шею, вытерся насухо, открыл холодильник, достал копченой колбасы, сразу же отправил кусочек в рот и, жуя, стал намазывать хлеб маслом, одновременно пододвигая себе стул. Он сел и приготовил себе сандвич из двух хорошо намасленных кусков хлеба с тремя кусками довольно толсто нарезанной колбасы. Майк Мэлони еще никогда не видел, чтобы он ел с таким аппетитом. К тому же в нем не видать было ни следа натянутости, беспокойства.
Майк Мэлони встал вместе с Арчи Кэнноном, и они вышли из дома через заднюю дверь, чтоб не помешать миссис Мэлони и спящим детишкам.
Когда они уже были во дворе, Арчи Кэннон спросил:
— Ты не намерен поинтересоваться, где он их взял?
— Сейчас он еще не готов к разговору на эту тему, — сказал Майк. — Какой полагается штраф?
— Штрафа никакого не может быть, — сказал Арчи, — потому что во всей округе, которая у меня под надзором, никаких фазанов даже и представить себе нельзя. Я вообще сомневался, что он хоть что-нибудь подстрелит, не то чтобы фазанов, да к тому же еще и самцов. Ей-богу, я сам немножечко восхищаюсь.
— Пойдем я провожу тебя, — сказал Майк.
На кухне мальчик доел свой сандвич, выпил стакан молока и потер плечо.
Весь вечер сегодня и ночью происходило невероятное. За столом, когда он слушал отцовские наставления, он неожиданно начал лучше понимать своего отца, и себя самого тоже, но он знал, чувствовал, что не может сразу, в одну минуту перемениться, сразу перестать быть таким, каким был столько времени ко всеобщему неудовольствию окружающих. Он знал, что ему нужно еще подержаться по-старому, пока он все для себя как следует выяснит. Ему нужно еще потянуть время с отцом. Нужно толком во всем разобраться, потому что его отец внезапно, с какой-то минуты перестал быть таким, каким обычно полагается быть отцу, и Мэйо понял, что и ему теперь необходимо перемениться, но только вряд ли он сможет сделать это так сразу. Он знал, что не сможет этого сделать, пока не выяснит себе всего до конца.
На кухне, почти засыпая от усталости, он решил, что расскажет отцу все как было, но не сейчас, а лет, может быть, через десять.
Он здорово помучился, пока выяснил, как обращаться с ружьем, и никакая машина не подвернулась ему, так что он шел и бежал целых шесть миль, пока добрался до более или менее подходящего места, и тогда он остановился, зарядил ружье, прицелился в черного дрозда на дереве и нажал на спуск.
От сильного толчка в плечо он упал, а птица улетела себе как ни в чем не бывало. Потом он долго шел через высокую сухую траву и кустарник, пока на глаза ему попался еще один дрозд, и снова сильная отдача свалила его на землю, ну а в дрозда он, конечно, и на этот раз не попал.
Стало уже темнеть, а вокруг ни признака жизни, так что он принялся стрелять, ни во что не целясь, а просто для того, чтобы привыкнуть к ружью. Скоро ему уже удавалось, выстрелив, устоять на ногах. Он все шел и стрелял, и теперь совсем уже стемнело, и похоже было, что он вконец потерялся. Он споткнулся о камень, упал, ружье выстрелило, и в глаза ему швырнуло комья земли. Он поднялся на ноги и чуть не заплакал, но кое-как сдержался и тут увидел дорогу. Он понятия не имел, куда ведет эта дорога и в каком направлении надо ему идти. Он был весь разбит и исцарапан, и не очень-то хорошо было у него на душе от шального выстрела, случившегося при падении. Такого он не ожидал. Такого не должно было быть. Он был перепуган и начал молиться словами, полными для него прямого значения. И в первый раз в жизни он понял, почему людям так нравится ходить в церковь.
«Пожалуйста, сделай так, чтоб мне не стыдно было за себя, — молился он. — Пожалуйста, сделай так, чтоб я правильно выбрал, в какую сторону идти».
Он зашагал по дороге, надеясь, что она приведет его домой, или, по крайней мере, к какому-нибудь жилью, или к придорожному магазинчику, или еще куда-нибудь, где есть свет и люди. В темноте ему все чудились вокруг и рядом какие-то живые существа, и он сказал: «Пожалуйста, сделай так, чтобы я не боялся». Потом он почувствовал себя таким усталым и маленьким, и безнадежно пропавшим, и несчастным, и глупым, что едва подавил в себе слезы и сказал: «Пожалуйста, сделай так, чтобы я не расплакался».
Он долго шел по дороге и наконец далеко впереди завидел маленький огонек и прибавил шагу. Это был придорожный магазинчик, перед которым имелся насос для бензозаправки, а возле насоса стоял новенький грузовой пикап. Внутри магазина находились два человека — хозяин и водитель грузового пикапа. Часы показывали двадцать минут двенадцатого. Хозяин, старик с седыми усами, сидел на ящике и разговаривал с водителем, молодым еще человеком тех же лет, наверно, что и отец мальчика.
Мальчик увидел, как молодой подмигнул старому, и возблагодарил за то, что он послал ему их обоих, и за то, что один из них подмигнул другому, потому что вряд ли это возможно, чтобы человек, который подмигивает, оказался недобрым и неприветливым.
Он рассказал им в точности все как было, все, что он сегодня делал и почему делал, а они слушали, не прерывая, то на него глядя, то переглядываясь друг с другом. Потом взяли и осмотрели его новенькое ружье. Потом хозяин вернул ему ружье и сказал, обращаясь к водителю:
— Буду очень благодарен тебе, Эд, если ты доставишь этого молодого человека домой.
Видимо, они были отец и сын, но помимо этого еще и друзья. Мэйо Мэлони они понравились до такой степени, что из-за них уже начали нравиться и все люди вообще.
— Не стоит благодарности, — сказал молодой.
— А еще, я думаю, хорошо бы нам быстренько раздобыть для него парочку фазанов.
— Боюсь, что среди ночи трудновато будет это сделать, — сказал молодой, — но, конечно, надо попробовать.
— Китайский ресторанчик в городке открыт всю ночь. Если не ошибаюсь, фазана у них подают во всякое время, в сезон и не в сезон, — сказал старик.
— Не знаю, — сказал молодой. — Но можно выяснить по телефону.
— Нет, — сказал старик, — не надо по телефону. Они могут и не понять, чего мы от них хотим. Лучше будет подъехать и выяснить все на месте. Ресторанчик на Кёрн-стрит открыт всю ночь, и я слышал, что фазана у них можно поесть, когда пожелаешь.
— И в самом деле, лучше подъехать, — сказал молодой.
Он поднялся с места, и Мэйо Мэлони, онемевший от изумления, тоже встал вслед за ним. Ему хотелось сказать старику что-нибудь вежливое, но ни словечка не удалось выдавить из пересохшего рта. Он взял свое ружье, вышел из магазина, сел рядом с водителем, и машина тронулась. Старик стоял в дверях своего магазина и провожал их взглядом.
Всю дорогу до городка молодой ехал молча, и когда мимо стали проноситься знакомые места, мальчик снова прибегнул к молитве, мысленно говоря: «Я знаю, что ничего этого не достоин, и никогда, никогда я этого не забуду».
Машина пересекла железнодорожную колею, въехала в китайский квартал и остановилась возле ресторанчика Уилли Фонга, где горел свет, но за столиками никого не было. Водитель вышел и направился в ресторан, и мальчику было видно, как он разговаривает с официантом. Официант исчез, а потом появился снова вместе с другим человеком. Водитель и этот второй поговорили минутки две, потом оба они исчезли, а через несколько минут водитель опять появился в зале и в руках у него было что-то завернутое в газету. Он вышел из ресторанчика, сел в машину, и они поехали дальше.
— Как поживает твой отец? — спросил он вдруг у мальчика.
— Прекрасно, — нашелся сказать Мэйо.
— Ты ведь сын Майка Мэлони, не так ли?
— Да, — сказал Мэйо Мэлони.
— Так я и подумал, — сказал водитель. — Ты похож на отца, и в вас много общего. Можешь не говорить мне, куда тебя подвезти. Я знаю и так. И я, конечно, понимаю, что ты очень хотел бы узнать, кто я, но сам подумай, разве не лучше будет, если я не скажу? У меня с твоим отцом когда-то были дела, и однажды, когда мне позарез потребовались деньги, он одолжил их мне, хотя ни у кого из нас не было никакой уверенности, что я сумею потом вернуть ему этот долг. Так что все в порядке. То есть, ты можешь не сомневаться, что от меня никто ничего не узнает.
— Нашлись у них там фазаны? — сказал мальчик.
— Ах да, — сказал водитель. — Извини, что забыл. Они в газете. Достань их, а газету выбрось в окно.
Мальчик развернул и отбросил газету и посмотрел на птиц. Никогда в жизни ничего чудеснее он не видел.
— А дробины в них есть? — спросил он. — Потому что надо, чтоб были.
— Боюсь, что нет, — сказал водитель. — Но мы сейчас проедемся куда-нибудь в тихое, пустынное место и всадим в них сколько надо дроби без всяких свидетелей. Стреляй ты, если хочешь.
— Я могу испортить их, — сказал мальчик.
— В таком случае я охотно возьму это на себя, — сказал водитель.
Несколько минут они ехали молча. Машина свернула на пустынную дорогу и стала. Водитель вышел и, пройдя немного вперед, положил двух фазанов на траву, так чтобы их освещало светом от фар. Потом он проверил ружье, прицелился, выстрелил, разрядил ружье, подобрал птиц, вернулся в машину, и они снова поехали.
— Думаю, что теперь они в полном порядке, — сказал он.
— Спасибо, — сказал мальчик.
Когда пикап был уже поблизости от их квартала, Мэйо сказал:
— Можно я сойду, не доезжая до дома, чтобы кто-нибудь случайно не заметил эту машину?
— Верная у тебя мысль, — сказал водитель.
Пикап остановился. Мальчик со всей осторожностью взял обеих птиц в левую руку, вылез из машины, и водитель помог ему перекинуть ружье через правое плечо.
— Я совсем не ожидал, чтобы случилось такое, — сказал мальчик.
— Ну конечно, — сказал водитель. — Я тоже не ожидал, что сыщу такого человека, как твой отец, в тот момент, когда без этого мне было не обойтись, так что, выходит, такие вещи случаются, вот и все.
— Спокойной ночи, — сказал мальчик.
Человек в машине уехал, а мальчик пошел домой.
Когда Майк Мэлони проводил Арчи Кэннона и вернулся, он с удивлением обнаружил, что мальчик уснул на кухне, за столом, положив голову на руки. Он мягко потряс его за плечо, и Мэйо Мэлони испуганно вскинул голову. Уши и глаза у него были красные.
— Ступай-ка лучше в постель, — сказал Майк.
— Я хотел дождаться, пока ты вернешься, — сказал мальчик, — чтобы сказать тебе спасибо за ружье.
— Это было необязательно, — сказал Майк. — Совсем необязательно.
Мальчик встал и, чуть не падая, потащился к себе.
Отец, оставшись один на кухне, взял в руки птиц и стал их рассматривать. При этом на лице у него сияла улыбка, потому что он знал: что бы там ни крылось за их появлением здесь, это было нечто такое же чудесное, такое же прекрасное, как и сами птицы.
Званый вечер
С воды вокруг Манхэттена тянуло скверным запахом, над городом стояла пропитанная испарениями дымка, и было душно, и прогулка не в удовольствие, так что Эндрю Лоринг, одолеваемый ленью мужчина лет за сорок, отказался от первоначального намерения пройтись пешком до дома первой своей жены, куда он зван был сегодня вечером на коктейль. Отказался он от своего намерения как бы непроизвольно — просто-напросто, идя по 57-й улице между 5-й и 6-й авеню, взял да и зашел в один из многочисленных здесь салонов изобразительного искусства. К живописи он не питал особого интереса, просто ясно было, что от прогулки удовольствия никакого и надо, значит, как-то иначе убить время. Ему не хотелось являться раньше других приглашенных, поскольку с первой своей женой он не виделся уже шесть лет. Сегодня она позвонила ему чуть свет, часов около десяти, когда он толком еще не проснулся.
— Энди, — сказала она, — я пригласила сегодня друзей на вечер с коктейлями, и ты непременно должен прийти. Мне все равно, как и насколько ты изменился. Говорят, растолстел? Ну, не беда, я думаю. И вообще я не смотрю, что случилось с людьми на вид, лишь бы все остальное было в порядке. По слухам, твоя последняя книга не удалась, но ведь у всякого писателя есть право на неудачу.
Сначала он всего только смутно предположил, что это, должно быть, Клара Фиппс, но вскоре никаких сомнений у него уже не осталось.
— Боюсь, что оторвала тебя от работы, — продолжала она с извинительной ноткой. — Впрочем, я знаю, ты все равно не оторвешься, так что все прекрасно, работай дальше. Соберется не больше десяти человек, и все они, надеюсь, тебе понравятся. Надо же нам хоть раз в шестилетие встречаться.
Он шумно зевнул, не отводя трубки.
— Что, что, милый? Уж не разбудила ли я тебя? Ну ладно, запиши, пожалуйста. — Она продиктовала адрес. — В любое время начиная с шести, хотя будет куда интереснее, если ты подойдешь чуть раньше, в половине шестого. Ты, видимо, еще не проснулся, так что можешь не отвечать. Я просто кладу трубку и жду тебя вечером.
Он услышал отбой, положил трубку, взял со столика лежавшую поверху книгу и только где-то на девятой-десятой ее странице вспомнил, что ведь прочел ее не дальше как прошлой ночью. Книга называлась «Непогребенный мертвец», и имя автора новое — Ивен Глоссип. Из романа следовало, что непогребенные мертвецы это те люди, которые либо и не начинали еще, либо уже совсем перестали надеяться на то или иное лучшее устройство человеческой жизни, ну а под такой взгляд подходил чуть ли не каждый.
Он отложил эту книгу и взял другую и читал, пока сон не стал одолевать его снова, и, засыпая, он подумал: «Постель — так я назову свою следующую книгу. Постель и только. Просто постель».
Часов около двух его снова разбудил телефонный звонок, и снова он услышал в трубке ее голос.
— Среди гостей никаких писателей, кроме тебя, не будет. Я же помню, — сказала она, — как ты недолюбливаешь их общество. Пусть даже самых лучших. И ты прав, по-моему. Будет Лютер, совсем недолго, но против него, надеюсь, у тебя нет возражений, хотя вскоре, недели через три, у него выходит в свет книга. Я всегда говорила, что не намерена снова выходить замуж, и так и думала действительно, но все-таки вышла. Разумеется, это была ошибка, но, слава богу, все позади, я рада, что с этим покончено, и если хочешь услышать правду, я рада, что и у тебя наконец с твоей киноактрисой все кончено. Я всегда говорила: если уж у тебя со мною жизнь не сложилась, то ни с кем не сложится. — Она умолкла на мгновение, дожидаясь от него отклика, потом сказала: — Только не говори мне, что ты еще спишь.
— Нет, уже не сплю. Но лучше бы спал.
— Почему же?
— Рискую показаться скучным, — произнес он медленно, — но я пришел к заключению, что лучше спать, чем вставать и передвигаться и что-то делать без какой-либо основательной и разумной причины.
— Но у всякого есть и не могут не быть вполне основательные причины вставать и что-то делать, — сказала первая его жена. — Ты располнел, ну и пускай. Против некоторой тяжести в теле я ничего не имею. Но если ты отяжелел душой и мыслью, то это, ей-богу, обидно. В тебе ведь никогда ничего старческого не было, так что брось, пожалуйста, разыгрывать из себя старика.
— Старикам-то как раз и не спится, — сказал он. — Лютеру уже семнадцать или сколько?
— Тебе отлично известно, что ему уже девятнадцать.
— Мне было двадцать пять, когда я начал печататься.
— Помню. И то помню, что ты не любитель телефонных разговоров. Приходи к половине шестого.
Он вышел из своей квартиры в четверть шестого. Всю ночь он надеялся, что наконец-то выпадет снег. Он уже третью неделю все ждал снега, но и сегодня, в последний день ноября, погода стояла до неприятности теплая и в воздухе ни малейшего освежающего дуновения. Он прошел по боковой дорожке Центрального парка, заглянул в бар у Сент-Морица, выпил кружку пива, дошел по 6-й авеню до 57-й улицы, и тут, где-то в середине этой улицы, ему расхотелось и дальше идти пешком, так что недолго думая он вошел в картинную галерею.
Как именуется эта галерея, он понятия не имел и никогда до сих пор в нее не заглядывал, хоть и попадалась она на глаза ему, наверное, сотни раз. В окне здесь всегда бывала выставлена картина, и он всегда останавливался взглянуть на нее, и всегда бывало так, что, посмотрев картину в окне, он не испытывал желания войти внутрь и посмотреть на все остальные полотна художника. На этот раз он не глядя миновал картину в окне, и как-то само собой получилось, что вошел в галерею. Никого внутри не было, кроме двух работников в маленьком служебном помещении перед залом, а в самом зале, в углу, сидел на табуретке мужчина. При появлении посетителя он поднялся. Он, видно, просто ошеломлен был тем, что хоть кто-то тут появился, ему ужасно, видно, хотелось перекинуться словом хоть с кем-нибудь. Они обменялись взглядом, и писатель кивнул слегка, на случай, если он встречался с этим человеком и раньше. Тот улыбнулся чуть заметно и после минутного колебания снова опустился на свою табуретку.
«Наверняка сам художник», — сказал себе Эндрю Лоринг, еще не успев даже для начала оглядеться вокруг. С первого взгляда ему показалось, что на стенах одни портреты, но можно было не сомневаться, что это минутное впечатление и что при ближайшем рассмотрении не обойдется тут и без пейзажей и натюрмортов. Он отметил про себя и то, что у художника, маленького и худющего, совсем истощенный вид, а глаза так и выдают наивнейшее волнение — волнение, вызванное надеждой, хотя на что у него надежда, трудно было представить.
Он посмотрел на часы — было без четверти шесть. «Я проведу здесь полчаса, — подумал он, — и опоздание будет вполне приличное».
Конечно, он вовсе не против был повидать сына — шесть лет назад он его видел еще подростком, а сейчас перед ним предстанет другой человек, — но вместе с тем он не в состоянии был удержать себя от усмешки при мысли, что этот мальчик, названный Лютером в честь прадеда по материнской линии, имел и в самом деле дерзость написать книгу. Что же до матери Лютера, ее он знал с молодости, когда обоим им было по двадцать лет, и увидеться с нею снова будет приятно, хотя вообще он не охотник до вечеринок.
Когда они поженились, Клара Фиппс представлялась ему существом далеким от зрелости, тогда как себя самого он ощущал ужасно зрелым. С годами, однако, в нем стало расти сознание и незрелости своей, и всей глубины своего невежества, она же оставалась все та же, что и была: молоденькая женщина, для которой нет более волнующего приключения, чем замужество, дом, семья, материнство. Появление Лютера она переживала как личное торжество, и какая-то доля ее энтузиазма передавалась и ему, по крайней мере в течение пяти-шести лет, и это было то самое время, когда он особенно напряженно работал и написал, как считали критики, свои лучшие вещи — восемь романов и повестей, в которых все как один находили поразительное слияние серьезного со смешным. В людях у него, говорили критики, всегда есть что-то смешное, чудаковатое, они увидены с некоторым смещением, что ли, с необычной точки зрения, глазами чудака.
Перед первой картиной он задержался на целую минуту, хотя ничего особенного в ней и не было. Мальчик лет шести сидит за пустым столом — вот и вся картина.
— Надеюсь, вам нравится? — услышал он за спиной. Спрашивал, конечно, художник. Ему показалось, что тот сейчас рядом, но обернувшись, он увидел художника все там же, на табуретке.
— Как она у вас называется? — спросил писатель.
— «Новый мужчина».
— Вот как? А с кого рисовали?
— Да ни с кого.
— Но разве так возможно?
— У меня так выходит легче.
— Тогда, быть может, это вы сами?
— Наверное, но ведь так оно было бы, рисуй я даже с какой-то натуры.
— Вне сомнения. И все-таки возникает чувство, что ты и сам видел не раз такого вот мальчика за столом.
— Я рад, что вы так восприняли.
— Теперь взгляну на вот эту.
На второй картине изображена была девочка лет восьми, держащая за ногу тряпичную куклу. Девочка казалась чуть-чуть как будто бы тронутой, с оттенком безумия, в котором каким-то образом улавливалось что-то и освежающее и ранящее. Художник явно не имел обыкновения обставлять свои картины, вещи на них не выписывались, а растворялись в пространстве, и делалось это, чтобы резче выделить главное, чтобы яснее было увидено то, что для художника вечно.
— Ну а эта ваша картина, — сказал писатель, — наверняка называется «Новая женщина»? Так или не так?
— Не совсем. Хотя, признаться, я и об этом названии подумывал. Она называется «Мать».
— Я замечаю, что и у девочки, и у куклы одно лицо.
— Да. Мне казалось, что так и надо.
— А почему?
— Боюсь, что не могу ответить на ваш вопрос, хотя и очень ценю его. Сказать по правде, мне чрезвычайно приятно уже и то, что вы здесь и смотрите на эти картины.
Эндрю Лорингу частенько приходилось не верить своим ушам, и вот сейчас он тоже не мог поверить. Художник относился к нему с явным почтением, по какой причине — неведомо.
— Простите? — отозвался он неопределенно.
— Видите ли, дело в том, что я читал ваши книги.
— Вы уверены?
— Конечно, — рассмеялся художник.
— Ну что ж, спасибо.
— Никогда бы не подумал, что вы доставите себе труд прийти на первую мою выставку. По правде, — усмехнулся художник, — до вашего появления я уже близок был к мысли, что никто сюда не заглянет.
— Рад, что развлек вас как-то, потому что, должен признаться, заглянул я сюда случайно и боюсь, что даже имя ваше мне неизвестно.
— Меня зовут Джордж Гаррет, — засмеялся художник.
Они обменялись рукопожатием, и художник сказал:
— Постараюсь не мешать, если вы будете смотреть остальное. Но возможно, что вам и не хочется ничего смотреть?
— У меня полчаса времени.
Художник был старше, чем он подумал вначале. Ему было, пожалуй, лет тридцать. В нем и гордость говорила, и нервничал он, и ужасно боялся, как бы не показаться этаким умником.
— Если хотите знать правду, — сказал писатель, — мне нравятся ваши вещи. Вам они тоже, конечно, нравятся, но за вами на то есть право. Видите ли, некоторые из моих книг нравились людям по неправым причинам. С одной стороны, я был рад, конечно, что они нравятся. Но мне претило, что нравятся они не по той причине. От этого, когда я писал потом свои следующие книги, я всячески старался избежать недоразумения, добиться, чтоб они понравились или даже пусть не понравились за то именно, за что нужно, но честно скажу вам — от такого рода вещей очень скоро происходят одни только осложнения. Пожалуй, несчастнейшим днем моей жизни был тот день, когда мне открылось, до чего я неискушенный. Мне бы гордиться, наверное, а я и не думал. Неискушенность, неведение тоже есть некое преимущество, но человек его недооценивает. Я хочу сказать, что у вас сейчас очень важная пора жизни.
— Это первая моя выставка, но до сих пор здесь ни один критик не появился. Может, они еще и появятся и что-то скажут, и мне, конечно, интересно будет узнать их мнение, но представить себе не могу, какая от этого польза. Когда вы говорите о неискушенности, вы имеете в виду безразличие к деталям?
— Нет, я имею в виду просто неискушенность. Неведение как таковое. Это качество положительное, я бы сказал, драгоценнейшее. Но если оно беспокоит, стесняет тебя, то ничего хорошего в нем уже нет. Писатель должен быть неискушенным, даже и не подозревая того. У него и времени не должно оставаться на подозрения, настолько он должен быть захвачен и жизнью и работой своей. Но легко говорить…
— Лучше всех, по-моему, говорят скульпторы. Им бог знает сколько времени нужно, пока выскажут что-нибудь самое простенькое, ну, вроде, «пойду-ка я прогуляюсь». Вообще я заметил, что хорошо говорят те, кто придерживается самых простых предметов, таких, например, насущных вещей, как работа, жилье, еда и тому подобное.
— Вот именно. Когда вы начали рисовать?
— Очень рано. В детстве ведь кто не рисует? Но всерьез, как говорится, я рисую лет с пятнадцати.
— Сколько стоит вот эта картина?
На картине изображены были три старика на скамейке. По виду старики были из богадельни.
— Не знаю, какую цену назначит галерея за ту или иную картину. Я думаю, они не решили еще. А вы ее хотите?
— Да нет, мне просто любопытно, какие у художника заработки на жизнь.
— По субботним дням я работаю.
— То есть как это?
— В овощном магазине. С шести утра до девяти вечера.
— В самом деле?
— О, да. Но только в субботу. Мне платят десять долларов, и на неделю я обеспечен.
Писатель подошел к картинам, которыми выставка завершалась. Их было штук одиннадцать, и все довольно большие, на всех люди, и в каждом что-то особенное, необычное.
— Во что вы верите? — спросил он художника.
— Провалиться мне, если знаю, — ответил тот без колебаний. — Но что вы думаете о картинах?
— Они хорошие. Та, что с тремя стариками, как она называется?
— «Мальчики».
— Ну да, конечно же.
— Пока вы не ушли, я вот что скажу вам: мне кажется, во что-то я все-таки верю. Я бы не прочь был попытаться ответить на ваш вопрос, — продолжал художник, — но просто, вы ж понимаете, чтоб дать на такое ответ, целая жизнь нужна. Но и сейчас, пожалуй, я что-то могу сказать. «Все мы ошибаемся», — может, вот это?
— Вполне возможно. И вы стремитесь в своих картинах обратить внимание на то, что мы ошибаемся?
— Да нет, я не стремлюсь. Я считаю, что все нормально.
— Вы правы. Было бы жаль, наверно, если мы перестали бы ошибаться. Ну что ж, мне пора. Спасибо за удовольствие.
Художник кивнул и улыбнулся ему, взволнованный и обрадованный, и Эндрю Лоринг вышел на улицу. Уже смеркалось, но в воздухе вовсе не посвежело. Остановив такси, он поместился на заднем сиденье.
В машине его взгляд привлекла фотография водителя, и он заметил в его лице немало общего с лицом художника. Та же наивность, то же насупленное простодушие, что-то вроде подавленного недовольства и ярости на самого себя, такого, какой ты есть. Во всяком случае, благодаря художнику одно ему стало ясно — что лицо человека открывает нам больше, чем его поведение.
Машина шла медленно, потом вильнула вбок и понеслась с совсем ненужной, бессмысленной скоростью, потом, тряхнувшись, затормозила у перехода. Люди потоком пересекали улицу. На тротуаре он увидел женщину с тремя ребятишками, она смотрела в небо и улыбалась. «Бог знает, какая тайна в этой улыбке», — сказал он сам себе, потому что с течением лет у него сделалось привычкой писать (или выражать словами) все то, что он видит, что ощущает и делает, и получалось, в сущности, — что ни день, то книга. Беда была, однако, в том, что скоро уже как три года он потерял охоту (или, может, способность) воплощать свои книги в написанные на бумаге слова. Ему казалось, что не так уж они важны и необходимы, чтобы этим стоило заниматься. Он начинал за эти годы десятки вещей, день-два над ними работал, потом бросал, испытывая при этом чувство облегчения. С друзьями он даже шутил на этот счет, говоря, что ему полагается награда за то, что, начав плохую книгу, он не доводит ее до конца. «Я служу литературе лучше, чем кто-либо из моих современников», — говорил он. И все-таки он знал, как сильно ему жаждется снова что-то сделать, что-то создать. «Писать я, в сущности, никогда не умел, не научился, — сказал он как-то одному критику, — и тем не менее мне всегда удавалось довести что-то до конца».
Избыток сил, переполненность — вот в чем секрет, вот что меня выручало, — подумал он. Но теперь уже не выручает. А может, просто теперь и нет ее. Переполненность решала все и у Томаса Вулфа [12] до конца его жизни, и у многих еще других, но, видимо, где-то к сорока ее не становится в человеке, или же не становится самого человека.
Машина снова рванулась вперед, в ту минуту как раз, когда он заметил на углу улицы усталого, растерянного на вид старика и узнал в нем очень известного писателя, чьи книги он читал еще мальчишкой и чье имя сейчас сразу же ему вспомнилось, хотя за последние двадцать лет писатель этот не написал уже ничего замечательного. Лет десять назад ему довелось как-то присутствовать на обеде, устроенном в ресторане Уолдорф с целью сбора средств в помощь политическим эмигрантам. Старый писатель пришел туда в качестве почетного гостя. Он был как мальчик, которого по случаю приглашения хорошенько умыли и причесали, и зубы у него почищены, и нос сухой, и ногти в порядке, и одет, как приличествует ситуации, в черное. Когда он появился, по нему видно было, что он как-то по-детски и рад, и смущен, его усталое лицо на мгновение просияло, в глазах проступило волнение, его представили публике, после чего он встал и заговорил, и Эндрю Лоринг впервые тогда услышал его голос.
Он ожидал увидеть в этом человеке гиганта, услышать от него что-то крупное и значительное, но старый писатель выглядел, как смущенный ребенок, и говорил, словно испуганный ученик, голос у него срывался, слова были плоские, нескладные, и его речь и само присутствие его производили одну неловкость.
Он говорил о самом себе, не заботясь о каком-либо смысле, говорил, казалось, все об одном и том же — о том, как одинок в своей жизни писатель, как горько сознавать, что ты уже не тот писатель, что прежде, как тяжело и стыдно быть старым писателем и как больно чувствовать волнение и радость оттого, что ты оказался приглашен на обед, цель которого помочь нашим европейским собратьям-писателям, терпящим притеснения от глупых правительств. Хуже всего было, однако, что состарившийся писатель то и дело тщился произвести впечатление молодого, показаться все еще полным сил, остроумным, способным возвысить голос и энергично поддержать справедливость. Он пытался приправлять свою речь шутками, но от жалких его шуток делалось тошно.
Старик говорил, повторяясь, уже чуть ли не час, и все за столом потихоньку начали ерзать и переглядываться, а кто перешептывался, шуршал газетами, вертел бокал или поигрывал ложкой, и наконец тот самый молодой критик, который и представил его публике, шепнул ему что-то на ухо, и старик улыбнулся и произнес: «Мне только что подсказали, что выступление мое затянулось». Лицо его как-то сразу сделалось старческим и оскорбленным, и он сказал очень тихо: «Что правда, то правда, я заболтался. Что-то мне хотелось сказать, но что, я забыл». И с этими словами он опустился на место.
По окончании обеда Эндрю Лоринг подошел к старику, представился ему, и тот сказал: «А знаете, я припомнил теперь, что мне хотелось сказать. Никому из нас нет до других дела. Вот хотя бы те самые писатели в Европе, для которых сегодня собираются деньги… Вы думаете, хоть кто-то из них, поправив свое положение, оглянется вокруг — а нет ли кого, кому приходится еще хуже, кому он сам бы помог? Мне попросту не следовало являться на этот обед, ибо глупое это вообще дело — быть писателем. Знаете, — хихикнул старик, — когда я был еще мальчишкой, я думал, что книги написаны богом. Никто другой не может и не должен писать их. Мы самозванцы и только».
И вот теперь, спустя годы, он снова увидел этого старика на углу нью-йоркской улицы, совсем уже одряхлевшего, на вид ничем не лучше самого жалкого нищего.
«А ведь когда-то ему недалеко было до Нобелевской премии», — подумал Эндрю Лоринг. Он стал припоминать книги писателя, мысленно перебирать в той очередности, в какой в свое время выпало прочитать их, и вдруг ему представилось как дважды два ясным, что ничего, кроме переполненности, ни в одной из них не было.
Он вернулся памятью в те дни, когда его сыну, которому сейчас девятнадцать, было не больше пяти лет. Однажды, когда он сидел за работой в маленькой комнатке, служившей ему кабинетом, малыш вдруг заявился туда, и он, прервавшись, сказал: «Ну вот еще! Ты же знаешь, что я работаю. Нельзя тебе сюда». А мальчик сказал: «Я тоже хочу работать».
День у него был неудачный, ничего не клеилось, и он с раздражением предложил сыну устроиться за машинкой, коли ему хочется поработать.
— Ты, я полагаю, справишься лучше. Всякий справится лучше, — сказал он.
Мальчик позволил поднять себя и усадить за машинку, но расплакаться он себе не позволил, а сразу же застучал по клавишам.
Эндрю постоял, посмотрел на сына, потом заорал:
— Клара! Ну где ты там? О господи, Клара, сколько раз было сказано — не пускай его сюда, когда я работаю!
— Мамы дома нету.
— А где она?
— К доктору пошла.
— Когда?
— Сегодня.
— Для чего это ей вдруг понадобилось к доктору?
— Для моей сестренки.
— О господи!
— О господи, — повторил мальчик.
Эндрю вдруг сделалось ужасно стыдно и захотелось как-то выкрутиться, искупить свою грубость, но он не знал, как ему себя повести, чтоб для них для обоих все обошлось без неловкости.
— Извини, — сказал он. — Извини, что я накричал на тебя. Но ведь мне надо работать. Надо писать, а это трудно. Правда, я занимаюсь своей работой дома, но это вовсе не значит, что ты в любую минуту, как только тебе захотелось, можешь сюда ворваться и помешать мне. Если я не смогу работать, у нас не будет денег, а без денег на свете не проживешь.
Мальчик сразу учуял мягкость в тоне отца и, задетый ею, с негодованием выпалил: «Не люблю деньги. Не люблю тебя. И маму не люблю». Он слез со стула бледный от возмущения. «Никого не люблю!» — выкрикнул мальчик и ринулся вон из комнаты, к себе, на свою кровать.
Эндрю пошел на кухню, сел у стола, а минут через пять-десять пришел туда и мальчик и, ни слова не говоря, уселся с другого краю.
Сейчас, продолжая свой путь в такси, писатель понял, отчего он так долго всматривался в первую из выставленных в галерее картин. Его сын и мальчик на картине были похожи, в обоих было одно и то же смирение с одиночеством. Эндрю и его сын так и сидели довольно долго, не обменявшись ни словом, ни даже улыбкой, и наконец послышалось, как щелкнула входная дверь, и появилась на кухне Клара и обняла и расцеловала сначала мальчика, а потом и мужа.
— Ну так вот, — сказала Клара, когда они остались вдвоем, — я в положении, и, по-моему, уже пора, а ты как думаешь?
— И я так думаю. Но ты могла бы сказать мне.
— Я не уверена была.
— Ты могла бы сказать мне, что выходишь. Он ворвался ко мне в кабинет, и боюсь, что я вел себя грубо.
— Отец не может быть груб со своим сыном.
— Ох, очень даже может. Я был с ним груб, и он дал мне это понять.
— Ты что, не рад разве?
— Насчет сестренки? Конечно, рад. Я б не сказал, что мы можем себе это позволить, но велика ли радость позволять себе только то, что можешь?
— Мой отец нас поддержит.
— Не надо нам поддержки.
В ту пору он был еще только начинающий писатель и так же, как художник, с которым разговорились они сегодня, день-два в неделю где-нибудь подрабатывал, но знал, что это не все, что жена его получает и сколько-то денег от отца. Он работал продавцом в универмаге, в книжной лавке, на какое-то время нанялся в театре суфлером. Словом, концы с концами сводили, и оба всегда считали, что главное для него — писать, что это всерьез и рано или поздно он выбьется.
И был он тогда тонкий, поджарый и весь в напряжении, весь как на взводе, и энергия в нем казалась неиссякаемой. С годами для него сделалось ясно, что просто ему в то время не занимать было самонадеянности, хотя сам-то он тогда был совершенно уверен, что не такой уж он самонадеянный малый, как это кажется другим по его поведению. Ему не до тонкостей было, даже рамки простого приличия и те были не по нем, настолько сильно горел он тогда желанием вырваться из состояния никчемности и безвестности. Не припомнить было ни единого случая, чтоб он и в самом деле слишком о себе возомнил или же чтоб ему доставило удовольствие обойтись с человеком пренебрежительно, резко. На жизнь он зарабатывал самой обыкновенной работой и не видел в том ничего для себя унизительного, но при этом ему всегда не терпелось вернуться к письменному своему столу и машинке. Бывало, что приходилось особенно трудно, и в такие моменты он с ужасом думал, что писателя из него может не выйти и что всю жизнь ему придется делать что-нибудь заурядное — того только ради, чтоб прокормить семью.
Всегда для него само собой разумелось, что в любое время дня или ночи он может засесть за свою машинку, никакой трудности для него это не представляло. При этом он никогда не обижал невниманием жену, хотя и был, наверное, невнимателен к сыну, полагая в душе, что отцу так и надо себя вести, что лучшая отцовская забота о сыне в том и состоит, чтоб не очень о нем заботиться.
«Чем скорее он приучится к самостоятельности, — говорил он насчет этого, — тем лучше для него самого».
С женой ему всегда было хорошо, и в минуты любви она в восторг его приводила своей живостью и смехом, и смелостью и невинностью. Для него она была воплощением женской мудрости. Им очень скоро открылось, что веселого в любви мало, и им обоим это представилось настолько странным и неестественным, что уже где-то на третьем году женитьбы они сами ее наполнили весельем и радостью.
Между ними всегда была полная искренность, и очень часто она прямо ему говорила, что целый день без него такая тоска и уж, пожалуйста, пусть поскорей он кончает работать. Ее непринужденность доставляла ему удовольствие, и он, как мог, торопил работу к концу, а потом вдруг, как шальной, вскакивал с места и кидался к жене и хватал ее в объятия, и они тешились друг другом, смеясь и смеясь, отдаваясь друг другу с нежностью и со щедростью, которая хоть и таила в себе что-то животное, но вместе с тем, однако же, была целомудренна и прекрасна.
Кроме Лютера у них могли бы быть еще дети, но одного они потеряли еще до «сестренки», а потом на третьем месяце сорвалось и с ней, и мать пролежала месяц в постели, за этим последовали еще две потери, и стало ясно, что второго ребенка им не иметь. Желание, чтоб у них появились новые дети, было у нее сильнее, чем у него, но, все равно, и ему очень хотелось их. Любовь для них перестала быть, как прежде, увеселением, потому что они знали теперь, что новой жизни из нее не возникнет, а ведь именно в этом была их высшая радость — в том, чтобы из любви их рождалась новая жизнь.
Они все чаще впадали в угрюмое настроение и понимали, отчего это происходит, и даже заводили на этот счет разговоры. Она первая сказала, что, может быть, им лучше расстаться, а он сказал — может, имеет смысл раз в несколько лет брать на усыновление какого-нибудь малыша, но нет, эта идея ей не понравилась.
Между ними пошли пререкания и споры по всяким смехотворно-ничтожным поводам, и в конце концов, сами над собой посмеиваясь, они решили, что надо разъехаться, и она вместе с Лютером перебралась в Бостон к отцу. Поначалу ему их очень недоставало, и он часто звонил ей и всячески убеждал вернуться. Она не возвращалась, а вместо этого съездила с Лютером во время школьных каникул в Неваду [13] и там оформила себе без промедлений развод.
Ему было тогда тридцать шесть, и он сказал себе с легкостью, что прошло, то прошло, и стал находить для себя отчасти даже освежающий интерес в женщинах, с которыми сводил его случай. И всякий раз при таких его встречах ему в первые дни казалось, что можно снова жениться и составить себе семью, но либо женщины эти скоро исчезали куда-то, либо он сам исчезал. В конце концов он познакомился на каком-то вечере с киноактрисой Мэй Мэйси, которая недавно разошлась с мужем, и решил, что с ней у него семья получится, потому что она была и молоденькая, и красивая.
Они поженились, а недели через две Мэй Мэйси позвонил ее голливудский агент и сказал, чтоб она немедленно вылетела, потому что ее пробы уже смотрели на нескольких студиях и готовы подписать с ней контракт как с будущей кинозвездой. Он проводил ее в аэропорт, и они условились, что через месяц, дописав свою новую книгу, он присоединится к ней, а потом, как только ее первая картина будет отснята, они отправятся на отдых в Европу.
Однажды среди газетных сплетен он прочитал, что его жена появляется в самых шикарных голливудских местах в обществе продюсера, которому перевалило за шестьдесят и про которого ему приходилось слышать несколько пикантных, если не сказать скандальных историй. Продюсер этот обхаживал молоденьких девушек, еще не сделавших себе имя. Эндрю позвонил жене, и она его заверила, что продюсер джентльмен в полном смысле этого слова.
— Зачем такая подозрительность? — сказала она. — И вообще за кого ты меня принимаешь? Просто он человек с большими возможностями. Его внимания добиваются даже знаменитые кинозвезды. И что же делать, если он хочет, чтоб именно я снималась в следующей его картине? Неужели отказываться? Это будет у него самый дорогостоящий фильм, и он считает, что главная женская роль в нем именно для меня.
Он поразился ее горячим возражениям и сказал:
— Вот что. Я вылетаю ночным самолетом, завтра утром увидимся.
Она решительно воспротивилась, говоря, что вот этого-то как раз и не следует делать, что этак ее карьера сорвется и не начавшись.
— Ну ладно, — сказал он. — Веди себя осмотрительно. А я и завтра позвоню тебе.
Через наделю ему стало известно, что на каком-то вечере сценарист, прибывший недавно из Голливуда, довольно свободно прохаживался насчет его жены и продюсера. Гарри Фройланд, его агент, сам это слышавший, сказал ему: «Послушайся моего совета. Я устрою тебе недельки на две договор с Метро-Голдвин, так что и с Мэй наладишь все, и денежки заработаешь. Нехорошо, чтоб о жене твоей расползались такие сплетни. Я б не хотел тебя в это втравливать, но такой уж момент. И договор будет подходящий. Что скажешь?»
— Нет, — сказал Эндрю.
Назавтра утром он вылетел в Голливуд и приехал к ней в десять вечера, но ее дома не было. Он нервничал, проголодался и вообще сбился с толку. Ему неловко было уже оттого, что он находится в Голливуде. Время от времени у него случались встречи с людьми из числа заправляющих в мире кино, и он всегда поражался, до чего они озабоченные, до чего поглощены своими расчетами. Он всегда держался подальше от голливудского мира.
Связавшись с рестораном, он заказал в номер холодной еды и бутылку виски, но когда заказ доставили, он ни к чему, кроме виски, и притрагиваться не стал. К половине третьего бутылка опустела наполовину, он напился, и одно только ему было ясно — что бы там ни натворила его жена, его чувства к ней от этого не изменятся, она ему нужна, и жить они будут вместе, и никаких сомнений на этот счет. Сказав себе так, он улегся на диван и уснул.
Проснулся он, услышав, что отворяют дверь. Но оказалось, что это горничная интересуется, можно ли уже прибирать номер. Он попросил ее заглянуть попозже.
Прошло еще четверть часа, и около девяти появилась наконец-то его жена. Она молчала, и он тоже ни слова не мог промолвить. Они просто смотрели друг на друга, оба перепившие, оба истерзанные, и он едва себя сдерживал, чтоб не ударить ее. Он чувствовал себя вконец униженным, растоптанным. «Пошли», — сказал он, схватив ее за руку. Они вышли из номера, оба словно в кошмаре. Когда лифт тронулся, она потеряла сознание. С помощью лифтера он донес ее обратно и уложил на постель. Он понял, что она измучена и больна, и вся его злость на нее сменилась глубокой жалостью. Помочь ей — вот единственное, чего он хотел теперь. Вечером ей стало лучше, а дня через два она была уже на ногах и все ее мысли опять были о том, что ожидает ее в кино. Он растерялся и не знал, что теперь ему делать, и вот с этого-то момента и стала овладевать им лень, и он потихоньку начал полнеть.
Он окружал ее вниманием, водил по вечерам в какой-нибудь немноголюдный ночной клуб, так как в шумные места ей не хотелось, и ему казалось, что их союз можно еще спасти, ее можно спасти и его, а вместе с ними и их детей. В конце концов, она молода еще, в ней говорит честолюбие, и если что с нею и не так было, не имеет значения. Она, однако, все время была в напряжении и очень много пила.
День за днем она ждала, не подаст ли знать о себе продюсер, и, не дождавшись, сама наконец позвонила на студию. Ей сказали, что он на совещании и сам ей потом позвонит, а еще через два-три дня на ее звонок ответили, что он вылетел в Мексику и вернется не раньше, чем через месяц. Несколько раз она ездила вместе со своим агентом на студию в надежде, что с нею будет подписан контракт, но в результате этих поездок только то и выяснилось, что продюсер ничего не решил еще насчет фильма и что, может, он вообще от него откажется, поскольку расходы требуются разорительные. После этого агент ее стал переговариваться с другими студиями, и так миновала неделя, и Эндрю видел, что жена его день ото дня сникает, что она уже на грани серьезной болезни. Ему жалко было ее, и себя было жалко.
Гарри Фройланд уговаривал его заключить контракт. Пусть сочинит повесть, какую ему захочется. Во-первых, сам заработает, убеждал его Гарри, во-вторых, жене своей обеспечит лучшую роль. Ему уже как-то лень было возражать, отказываться. Он написал небольшую повесть, которая называлась «Королева Индианы», а студия дала ей другое название — «Страсть».
Из режиссеров кинокомпании Сэма Голдвина делать фильм пригласили Ллойда Уилкинсона. Считалось, что он здорово работает с женщинами. Эндрю видел, как по мере продвижения постановки утрачивается вложенная им в повесть ирония и получается в результате заурядный фильм, каких сотни, об очаровательной девушке из маленького городка, но от растерянности, от лени он и не делал даже попыток вмешиваться, обсуждать и хоть что-нибудь да поправить. В конце концов, ему и неважен был этот фильм. Просто он дал жене то, чего ей хотелось, исключительно ради ее здоровья.
Картина делалась долго, и все это время он находился рядом с женой. Каждую неделю ему шли деньги, а оскорбительные пересуды вокруг его жены сменились толками об ожидающем ее сенсационном успехе. Они приглашены были на несколько премьер, их снимали фотографы, и жена его держалась соответственно обстановке, словно она величайшая из актрис. Даже в него что-то прокралось от всей этой голливудской бессмыслицы, и помнится, однажды вечером был момент, когда он подумал, что, взявшись писать для кинокартины, сделал дело вполне стоящее, если не замечательное.
Его имя стало появляться в хронике голливудских и нью-йоркских газет, при этом тон был иронический, тот самый, какой берут профессиональные сплетники, чуть только им покажется, что они напали на червоточину. «Эндрю Лоринг, — писал один из самых известных сплетников, — еще в последнем своем интервью клятвенно заверявший, что никогда ни строки не запродаст Голливуду, в конце концов, однако, угодил в его сети и написал некую вещицу под названием „Страсть“».
Когда фильм был закончен, он сказал, что хочет посмотреть его вдвоем с женою, без посторонних. Картина была сделана претенциозно, с этакими драматическими эффектами, с немилосердно гремящей музыкой, надерганной у лучших композиторов, нелепость была такая, что и смешно и тошно. Словно не он это написал, а кто-то ему неизвестный. Он слышал, как всхлипывает его жена, и не понимал — почему, не надеялся понять. После просмотра они пошли гуляя по улицам, и жена его в какой-то момент сказала: «Настоящему артисту очень трудно. Я делала все от меня зависящее, но этот гомик Уилкинсон поворачивал все по-своему. И все-таки картина вышла замечательная».
На экран картину выпустили через три месяца. К тому времени они уже были в Нью-Йорке и присутствовали на премьере в одном из самых крупных на Бродвее кинотеатров, и люди так и толпились вокруг его жены. После успешного показа студия закатила банкет, где кого только не было, и все ели и пили и расхваливали друг друга.
Через три дня его жена снова вылетела в Голливуд, а он остался, на сей раз уже с тем чувством, что сделал все возможное для нее и для их супружества. Он уверен был, что отныне все у нее в порядке, так что даже и не звонил и молчанию ее нисколько не удивлялся.
Несколько месяцев спустя она отправилась в Рено оформлять развод на том основании, что брошена мужем, и он решил, что пусть тем оно и покончится. Но лень, которая стала им завладевать в Голливуде, теперь уже не отпускала его, он ничего с ней не мог поделать и начал обрастать жиром, полнеть, и пришлось ему обзаводиться одеждой новых размеров. Время от времени на глаза ему попадались в журналах пикантные заметочки о его жене, и в одном месте приведены были такие ее слова: «Поверьте, это не шутка быть женой такого гения, как Эндрю Лоринг. Великий человек просто-напросто не выносит ни малейшей конкуренции от жены. Но до каких-то пор все у нас шло прекрасно. О, мы и теперь остаемся друзьями, и когда я окажусь снова в Нью-Йорке, нас не раз, конечно, увидят вместе, потому что с любовью не так-то легко проститься».
Приехав в Нью-Йорк, она позвонила ему и попросила сводить ее в фешенебельное кабаре. Она сказала, что это очень поможет ее карьере, а ему лень было сказать: оставь ты меня в покое. Показаться с ним на публике — вот все, что ей было нужно, и, получив свое, она снова вылетела в Голливуд.
Скоро до него докатились оттуда новые слухи, и он сам себе удивился, чувствуя, что все еще склонен помочь ей. Съемки второго ее фильма были прекращены через месяц, потому что все у нее выходило не так. Ей предложили сыграть второстепенную роль, но она от такого предложения отказалась. Агент ее разорвал уже подписанный контракт и кинулся переговариваться с другими студиями. Но всем уже к тому времени сделалось ясно, что ее успех был просто случайностью. Она позвонила и стала просить-умолять, чтобы он снова сочинил для нее что-нибудь подходящее, и ему уж слишком лень было ответить отказом, но когда он попробовал взяться за дело, оказалось, что и писать ему слишком лень. Она прилетела в Нью-Йорк, но ему уже слишком лень было пошевелиться с места. «Сделай милость, — сказал он ей, — отправляйся в свою Индиану».
Его совсем не удивило, когда однажды среди ночи она позвонила и сказала, что так продолжать не может, что ей одно только и осталось — наглотаться снотворных таблеток. Он сказал, что сейчас же приедет, а увидев ее, пообещал, что сочинит для нее какую-нибудь вещицу. Шесть недель он и так и этак себя заставлял, но все баз толку, его просто тошнило. Она уехала, и как-то, спустя полгода, он увидел ее в неважнецкой второразрядной картине. К тому времени она уже вышла замуж за кинооператора.
Такси остановилось, и писатель расплатился и вышел.
Все званые вечера похожи один на другой, ибо на всех на них встречаются, чтобы пить и вести беседы, но во всяком таком вечере есть и своя особенность, ибо люди на них могут встретиться разные. Для Эндрю Лоринга сегодняшний званый вечер имел ту особенность, что здесь ему предстояло увидеться с сыном.
Войдя в комнату, где собрались гости, он увидел своего сына, стоящего рядом с матерью, и такое вдруг тепло хлынуло ему в сердце, что он даже слова не в состоянии был промолвить. В одно мгновение он перенесся сейчас в свою молодость и тут же вернулся из нее постаревший и только кивком и способный выразить свои чувства.
— Я думала, ты явишься этаким толстяком, но ничего подобного, — сказала первая его жена, на что он молча кивнул.
Потом она сказала:
— Лютер едет в Бостон, и ему уже пора к поезду, так что я пока никого не буду с тобой знакомить, побудьте вы лучше вдвоем, потолкуйте о девочках, они его очень занимают последнее время.
Эндрю кивнул, и она отошла, оставив его с сыном.
— Мама прекрасно выглядит, не правда ли? — сказал его сын.
Теперь уже он оказался в состоянии улыбнуться, хоть и не справился еще со своей немотой. Мальчик был точь-в-точь такой, как и он сам в девятнадцать, такое же в нем было крайнее напряжение чувств, и по смеху в голосе сына Эндрю понял, что они с ним, без всякого сомнения, друзья. По меньшей мере, друзья, уж это ясно.
— Я наконец-то прочитал все твои книги, — сказал его сын, — и если ты не против, мне бы хотелось поговорить сейчас об этом. Может, я и ошибаюсь, но мне кажется, что творчество твое неправильно понято, что ты с самого начала и всегда говорил одно… Впрочем, сейчас, может, не время вовсе затевать такой разговор?
— Нет, продолжай, пожалуйста, — смог вымолвить наконец Эндрю.
— О черт, — заторопил сам себя юноша, — мне кажется, ты с самого начала и всегда говорил одно: не человек живет в жизни свое, а жизнь проживает свое в человеке. Верно ли я думаю, что ты из этого исходил, что именно вот это стремился сказать?
— Верно, — сказал писатель. — Мы приучены думать, что каждая жизнь проживается как нечто сугубо личное, но я никогда не думал так и не думаю. Она, по-моему, наоборот — совершенно безлична. Никто не разбирается в себе самом. Никто не разбирается в других. Ни одному человеку не дано определить для себя же, кто такой он есть или кем ему быть, что ему делать или как это делать. Всякий человек частичка мировой материи, вот и все. От нее он приключается и совершает в себе ее жизнь. Я очень рад, что ты так хорошо меня понял. А как же будет называться твоя книга?
— «Да».
— Отличное заглавие. Что же ты говоришь в этой книге?
— Да, — повторил юноша с поспешностью и волнением. — Я очень много, несколько лет ломал голову над вопросом — что стоит говорить и чего не стоит. Долгое время мне казалось, что сказать я мог бы разное, надо только что-нибудь выбрать. Но в конце концов я понял, что не могу выбрать «нет». Не могу сказать «нет», или хотя бы — «может быть», или — «и да и нет». Я понял, что должен говорить «да», только и только «да», ничего другого, и одновременно понял, что теперь я могу писать. После этого оставалось только находить время, чтобы сесть и сосредоточиться и поработать, а это тоже не так-то легко, когда вокруг столько заманчивого. Но время я все-таки выкроил и написал свою книгу. Я считаю, что кто-то другой из сегодняшних писателей может говорить «нет», если так ему хочется, и он, наверное, тоже окажется прав, но сам я могу говорить только «да» и доволен, что при этом, по крайней мере, окажусь не менее прав, чем другие.
— Прекрасно тебя понимаю, — сказал Эндрю и рассмеялся, потому что стоящий перед ним незнакомец был не кто иной, как его собственный сын, но суть дела не в этом заключалась, а в том, что незнакомец говорил, торопя себя и волнуясь, и похоже было, что в нем действительно крылся писатель. Этот юноша выглядел и разговаривал так, что, пожалуй, вполне мог оказаться писателем. И Эндрю рассмеялся, так как впервые за долгое время не чувствовал в себе сейчас ни лени, ни тяжести. Он рассмеялся, так как почувствовал, что хоть жизнь и нескладно прожита, но не вовсе бессмысленно, вот она наконец — малая толика смысла. Вот он перед ним — тот пятилетний мальчонка, который однажды ворвался к отцу в кабинет и заявил, что тоже хочет писать, — сейчас он вытянулся выше отца и даже превзошел его в живости и горячности. Вот он перед ним — готовый гордо принять одиночество как выпавший человеку жребий, готовый писать и способный писать и говорить только «да» без каких-либо приплетений. Вот он перед ним — такой же неискушенный, как и всякий другой, кто решился писать, но ему и задумываться об этом некогда, настолько он захвачен и жизнью, и работой своей. Среди прочего Эндрю в особенности смеялся тому, что как ни велико неведение юноши, это дела, в сущности, не меняет.
Юноша тоже рассмеялся.
— Знаешь, — сказал он, — я вначале тебя не узнал. Давно не видел, конечно, а кроме того — вид у тебя был очень усталый.
— Я и в самом деле был усталый, когда пришел.
— Ну, сейчас ты совсем не такой.
— Сейчас уже нет. Чтоб усталость пришла или прошла, много времени не нужно. Разом как-то она навалилась на меня, разом же и исчезла.
Юноша посмотрел на часы.
— Мне пора. Мама сказала, что ты, может быть, сегодня придешь, и я специально приехал из Бостона. С четырех тут околачиваюсь. В какой-то момент даже приуныл. Все собрались, и я боялся, что ты уже не придешь. Но ты пришел, и вечер этот оказался для меня замечательный.
— Я себя тоже прекрасно чувствую, — сказал Эндрю Лоринг, — хотя обычно на званых вечерах ничего, кроме томления, не испытываю.
— А мне на вечеринках нравится, — сказал юноша, — но если я сию минуту не выскочу и не поймаю тут же такси, на поезд мне не успеть.
Они оба опять рассмеялись, и Эндрю смотрел с удовольствием, как его сын пошел к двери, ни с кем не прощаясь, но в дверях остановился, чтоб помахать матери.
Эндрю Лоринг быстро допил свой бокал, взял с подноса другой и направился к первой своей жене.
— Ну, — сказала она, — как он тебе понравился?
— Очень он мне понравился, — сказал Эндрю, — и я хочу поблагодарить тебя за сегодняшнее приглашение. Твой званый вечер — лучший из всех, на какие меня когда-либо приглашали, и если ты не против, я задержусь еще и пообщаюсь с твоими друзьями.
— Я совершенно не против.
И с этими словами она взяла его под руку и подвела к группе из нескольких человек, где шла оживленная беседа о том, как долго получится оттягивать очередную войну. При их приближении все в группе тут же прервали свой разговор и обратились к ним, желая каждый узнать, кто этот мужчина, который, судя по его виду, чувствует себя отчего-то очень приятно в мире, исполненном множества неприятностей.
Брат Билла Макги
Мальчик чувствовал себя ужасно одиноким, так как он только что затеял очередную драку и потерпел поражение. На этот раз его побила девчонка. Он и злился сейчас — как буйный огонь, и застыл — как лед у Северного полюса. И больно ему было, и был он похож на милого зверька, угодившего в капкан, раненого и испуганного.
Он походил еще и на многое другое, но прежде всего он был самим собой, мальчиком, тихо сидящим на стуле в гостиной. Милый зверек в хитрой ловушке, тигренок с прекрасными и удивленными глазами.
Его побила девочка с лицом сплошь в веснушках и с яблоком в немытой руке.
Но он не плакал, как не плачет мальчонка-носильщик, которому приходится тащить целую кучу чемоданов: ноша не по силам ему, и он слабеет от каждого шага, спотыкается и чуть не падает, и ручки чемоданов то и дело выскальзывают у него из пальцев, но он все-таки справляется кое-как и не плачет. Мальчик сам однажды видел такое: негритенок нес кожаные чемоданы его отца, а его отец даже и не замечал носильщика, даже и не пытался хоть чуточку ему помочь.
Он сидел одинокий, пристыженный и сердитый, и все-таки не плакал, хотя под правым глазом у него был синяк, а верхняя губа была разбита и вспухла.
— Я еще доберусь до этой девчонки, — сказал он сам себе. — Как бы там ее ни звали, я доберусь до нее.
А случилось все это вот как. Он стоял возле дома Билла Макги, разглядывал ступеньки лестницы, думал о том, что не мешало бы их подправить, и думал еще о чем-то своем и вдруг услышал, как рядом кто-то громко надкусил яблоко. Он обернулся и увидел перед собой веснушчатую девчонку. Она была большая, лет восьми, а может и девяти, глядела сущей дикаркой и не улыбалась. Он посмотрел на нее, послушал, как шумно вгрызается она в хрусткое яблоко, — но ничего не сказал. Он ничего не сказал, так как очень часто говорил не то, что надо. Он просто опасался затевать разговоры.
— Я знаю, кто ты, — сказала девочка.
Голос у нее был резкий, недружелюбный, и мальчик подумал, что живет она, должно быть, где-нибудь на дереве или же среди скал. Если на дереве, то на очень высоком; если среди скал, то, наверно, прячась в каких-нибудь кустах, так чтобы не приметили ее орлы и совы.
— Да, — сказала она. — Я знаю, кто ты.
— Не знаешь, — сказал он. (Откуда ей было знать?)
— Знаю, — сказала девочка с яблоком. — Ты не такой, как другие мальчики. Ты особенный мальчик.
— Ничего подобного.
— Да, особенный. У тебя даже имя особенное.
— А вот и нет.
— А вот и да. Тебя зовут Пóэт Кобб, а такого имени и нет вовсе.
— Меня зовут Эд.
— Эд? Ну а дальше?
— Эд Макги.
— Эд Макги! — сказала веснушчатая. — У Билла Макги нет братьев.
— Я брат Билла, — сказал мальчик. — Я его брат Эд.
— Никакой ты не Эд, — сказала девочка. — Выдумываешь ты все. Ты Пóэт Кобб. Тебе шесть. Твоя мама актриса, а папа — профессор поэзии в Сити-колледже.
— Возьми свои слова обратно, — сказал он.
— Какие слова?
— Все.
— Все это правда, — сказала девочка.
— Все это неправда. Возьми свои слова обратно.
— Не возьму.
— Раз так, вот тебе, получай!
Сжав кулаки, он кинулся к девочке, замахнулся что было силы, но поскользнулся, потерял равновесие и упал.
Он вскочил не мешкая, чтоб снова ринуться в атаку, и как раз в это время увидел машину скорой помощи, подкатившую к дому миссис Макги. Он сразу позабыл и про гнев свой, и про драку, и мысли его теперь были уже о скорой помощи и о том, что могло ей понадобиться возле дома Билла Макги, как вдруг что-то твердое, как камень, обрушилось на его правый глаз и ослепило его. И он снова самым позорным образом шлепнулся на землю, потом снова вскочил на ноги и заработал обоими кулаками, тщетно стараясь попасть в девочку.
Он только было оправился чуть-чуть и начал видеть, правда, не очень отчетливо, как снова его что-то ударило, на этот раз по губам, и он снова упал.
Когда он поднялся, девочки уже не было рядом, а люди из скорой помощи стояли на крыльце дома миссис Макги.
Он увидел, как девочка удаляется по улице, на ходу догрызая свое яблоко. А у него был подбит правый глаз и из губы текла кровь.
— Меня зовут Эд Макги, — сказал он чуть слышно.
Он сказал это злой девчонке, которая шла себе по улице как ни в чем не бывало. Он сказал это своей матери, своему отцу, миссис Макги, Биллу, и злой девчонке, и самому себе.
Потом он поднялся на крыльцо, к тем двоим из скорой помощи, и спросил:
— Что случилось?
— Несчастье случилось. А что это с тобой?
— Что случилось? Какое несчастье?
— Ты бы лучше шел домой.
— Это и есть мой дом. Какое несчастье?
Дверь отворилась, и он увидел миссис Макги. Он сразу же понял, что случилось что-то ужасное. Миссис Макги вышла, неся на руках Билла. Но странно, это был Билл и в то же время как будто не Билл, а что-то совсем другое.
— Что случилось? — спросил мальчик у миссис Макги.
— Я думаю, он захлебся, — сказала миссис Макги. — Он был один в ванной, купался, — ведь мы с ним собирались сегодня в церковь, к вечерне, — и должно быть, он поскользнулся, ушиб голову и захлебся.
Она протянула одному из санитаров маленькое тело, закутанное в пальто.
— Я укутала его. Так ему будет теплее. Это пальто его отца, — сказала она. — Что, Билл совсем захлебся?
Миссис Макги говорила и двигалась так, словно она ничуть не была взволнована. Она двигалась и говорила печально. Такой же вот печальной кажется корова, когда она смотрит на заходящее солнце. Голос у миссис Макги был мягкий и печальный, и казалось, будто она и не знает даже, о чем и зачем говорить.
Один из санитаров — не тот, что держал на руках Билла, а другой — попробовал расспросить ее кое о чем.
— Что же, каждый раз, как вы собирались в церковь, Билл купался? — спросил он.
— Да, — сказала миссис Макги, — каждый раз.
— А в церковь часто ходили? Раза два в неделю, наверно?
— Нет, — сказала миссис Макги, — мы ходили туда раз в год, в день его рождения. Мы ходили туда и молились друг за друга и за всех, кого только могли вспомнить. На обратном пути мы заглядывали в аптеку купить мороженого и возвращались домой прогуливаясь, потому что день рождения его в августе, когда вечером так приятно пройтись. И вот теперь он поскользнулся и ушиб голову. Что, Билл совсем захлебся?
Все это время мальчик слушал, что говорят миссис Макги и санитары, и то на них смотрел, то на Билла.
Миссис Макги посмотрела на мальчика таким взглядом, будто она одна во всем мире знала ему настоящую цену и уважала как взрослого, и сказала:
— Билл-то захлебся, Пóэт.
— Я Эд, — тихо откликнулся мальчик. — Эд Макги. Брат Билла Макги. — Он сказал это так тихо, что никто не расслышал.
— Потеряли мы Билла, — сказала миссис Макги. — Как же нам быть теперь, а?
— Я Эд, — сказал он снова, — я брат Билла. Билл всегда был мне братом, настоящим братом.
— Мы собирались отпраздновать день его рождения, как в прошлом году, — сказала миссис Макги. Что, Билл совсем… — спросила она одного из санитаров.
— Боюсь, что да, — сказал тот.
И все это время мальчик был там. Он был там и тогда, когда собрались соседи и из всех женщин не плакала только одна — миссис Макги. Он был там, пока не вспомнил про свою мать и своего отца. Он вспомнил про них, и опять ему захотелось, чтобы звали его не Пóэтом и чтобы мать его была не актрисой, а отец не профессором поэзии.
Придя домой, он увидел свою мать и отца. Мать его была очень красивая и молодая, и он никак не мог понять, почему она не такая, как мать Билла. Мать Билла была не молодая и не красивая, и вовсе не умная, и уж, конечно, она не играла в театре; но она была матерью Билла, собственной его матерью, и это было все, чем она хотела быть и была. Отец его был самый красивый мужчина, какого ему приходилось видеть, — молодой, быстрый и легкий, — словом, совсем не такой, каким по рассказам миссис Макги представлялся мальчику отец Билла. Отец Билла работал вагоновожатым, он работал, пока это ему не надоело, и тогда он ушел из дому, уехал в Лондон, а может быть и дальше, в Париж — делать то же самое на новом месте.
Мать мальчика одевалась, когда он вошел в комнату. В комнату, отделанную самим Анджело. У этого Анджело был тонкий, девчоночий голос, и, целуя руку его матери, он обычно восклицал: «Вы очаровательны, вы просто очаровательны!» Матери не понравился вид сына, к тому же она была чем-то взволнована и курила сигарету в блестящем мундштуке, и на кончике сигареты наросло уже много пепла.
— О, Пóэт! — сказала она. — С кем ты опять подрался?
— С девчонкой.
— С девчонкой?
— Да. Она не захотела взять свои слова обратно.
— Что же она такого сказала?
— Она сказала, что я особенный. Я не особенный. Сказала, что мне шесть лет. Мне шесть с половиной. Сказала, что меня зовут Пóэт Кобб. Меня зовут Эд Макги.
— Эд Макги? Кто такой Эд Макги?
— Брат Билла Макги.
— О господи, что это еще за Билл Макги?
— Сын миссис Макги.
— О, Пóэт! — сказала мать. — Джордж, — позвала она мужа, — будь добр, расстанься на минуту со своим сонетом и прояви хоть чуточку интереса к собственному сыну.
Из кабинета с листом бумаги в руке вышел его отец.
— Энн, — сказал отец, — послушай-ка, что я написал. Тебе посвящается. «О прекраснейшая из прекрасных, не сыскать красоты благороднее, ты воистину…» Он вдруг умолк, потому что увидел лицо своего сына. — Что это с ним, Энн?
— О слепец из слепцов, ты воистину слеп! — сказала мать. — Разве ты не видишь? Он опять подрался. На сей раз с девчонкой.
— Она, должно быть, раздразнила его?
— Ну конечно, — сказала мать. — Она вздумала заявить, что он особенный. Пóэт, ты бы присел, что ли? Сядь, пожалуйста, вот на этот стул.
Мальчик сел на жесткий стул.
— Джордж, — сказала мать, — мне нужно одеться к обеду. Я должна выглядеть сегодня как можно лучше. Мы опаздываем, а от этого может пострадать моя карьера. И потом я бы хотела поговорить с тобой наедине. Так что давай поговорим, пока я буду одеваться. А ты, Поэт, посиди здесь.
— Что, здорово глаз болит? — спросил, подойдя к мальчику, отец.
— Ах, вовсе он у меня не болеет, — сказал мальчик.
— Ах, вовсе он у меня не болит, — поправил его отец. — Что же у тебя болит?
— Мой брат…
— Нет у тебя никакого брата.
— Билл Макги, — сказал мальчик. — Он мой брат. Он захлебся.
— Захлебнулся, — сказал отец. — Если ты намерен стать поэтом, то тебе не мешало бы научиться правильно говорить.
— Не намерен я стать поэтом. Я стану вагоновожатым.
— В таком случае, — сказал отец, — ты можешь говорить «захлебся» вместо «захлебнулся», «болеет» вместо «болит» и так далее и тому подобное. Если глаз у тебя не болит, то что же болит?
— Джордж, — позвала мужа Энн, — я не хочу опаздывать на этот обед, и мне нужно поговорить с тобой наедине. Не будешь ли ты добр оставить на минуту Поэта и последовать за мной?
— Изволь, моя красавица из красавиц! — сказал Джордж.
— Ах, заткнись, пожалуйста, — попросила его жена.
— Самая удивительная как в красе, так и в правоте своей, — сказал муж. — Самая прелестная, самая рыжая.
Отец ушел в другую комнату, и мальчик остался один. «Самая прелестная, самая рыжая». Это вот они и называют поэзией. А глаз у него все-таки побаливает. Но ничего, он еще доберется до этой девчонки. Он еще проучит ее и за синяк под глазом, и за то, что она обозвала его особенным мальчиком. И пусть только она еще раз посмеет сказать, что он не брат Билла Макги.
Мальчик довольно долго просидел на стуле, как ему и было велено. Он слышал, как его мать и отец разговаривали о нем и о себе самих, и еще о каком-то Флойде, который якобы должен был знать, что творится с их мальчиком и почему он хочет быть Эдом Макги, а не Поэтом Коббом. Ему до тошноты надоел этот Флойд. Он просто возненавидел этого Флойда.
— Кто такой Флойд? — сказал он.
— Что? — сказал отец.
— Кто такой Флойд?
— Зигмунд Флойд, — сказал отец. — Друг семейства.
— Зигмунд Флойд! — сказала мать. — Ну и шутник же ты, Джордж! Поэт, — сказала она, — твои родители хотят поговорить минутку.
— И долго я должен сидеть здесь?
— Пока я не скажу, что ты можешь перестать.
— Что перестать?
— Перестать сидеть.
— Как это можно перестать сидеть?
— Перестань задавать вопросы, — сказала его мать.
— Почему мы никогда не ходим в церковь? Они бывали там каждый год. Почему бы и нам не пойти туда, ну хоть раз?
Ни мать, ни отец не удостоили его ответом. Он слышал, как они разговаривали. Они не были ни одинокими, ни печальными, ни обиженными. Они были просто-напросто «прекраснейшие из прекрасных», он — красавец, она — красавица, самая прелестная, самая рыжая.
— Почему вы сделали своим сыном меня, а не кого-нибудь другого? Кого-нибудь, кого вы любили бы и брали бы в церковь хоть раз в год.
Мать и отец не отозвались и на это. Они все еще продолжали свой разговор.
— Я люблю вас, — сказал он. — Почему вы меня не любите?
Он любил их, и даже очень. Он любил их так сильно, что они и представить себе не могли, до чего он их любит. Он любил их так, как миссис Макги любила своего Билла, но они не любили его так же, как он их.
— Раз вы не любите меня так, как я вас люблю, — сказал он, — то я не хочу больше жить с вами. Я уйду к миссис Макги.
— Ах, перестань, пожалуйста, — сказала его мать.
— Не перестану, — сказал он. — Я уйду к миссис Макги, — сказал он. — Не хочу я быть поэтом. И не хочу, чтоб меня звали Поэт Кобб. Такого имени и нет вовсе, — сказал он. — У других людей имя как имя, — сказал он. — У других людей отец как отец и мать как мать, а не поэт и актриса. Не мужчина и женщина, которые вечно говорят про какого-то Флойда. И почему бы вам не завести себе кого-нибудь вроде вас самих вместо такого, как я? — сказал он. — Разве вам не лучше будет?
Когда его отец и мать наконец вышли, оба они были элегантно одеты, и оба были очень красивые, очень обаятельные, и мальчик любил их в эту минуту так сильно, что они и представить себе не могли, до чего он их любит.
— Мы приглашены, Поэт, и должны идти, — сказала его мать. — Но прежде чем уйти, мы хотели бы сказать тебе что-то очень важное. Нам кажется, тебе следует знать это. Мы любим тебя. Твой папа любит тебя, и твоя мама тоже любит тебя. Мы любим друг друга. Мы любим искусство и красоту и все другое, ради чего стоит жить на свете.
— Я ненавижу и искусство, и красоту, — сказал он.
— Ну нет, не может быть, — сказала его мать.
— Я все ненавижу.
— Ладно, Поэт, — сказала его мать. — С тобой остается мисс Гарден. Она поможет тебе принять ванну, накормит и уложит спать.
Она обернулась к мисс и сказала:
— Мисс Гарден, Поэт опять подрался. Прошу вас, присмотрите за ним.
— Хорошо, миссис Кобб.
Мать и отец Поэта поговорили о чем-то с мисс Гарден, потом они обняли на прощание мальчика, расцеловали его, и мать шепнула ему на ухо:
— Я так люблю тебя, мой мальчик, мой бесценный малыш.
И отец сказал ему очень тихо:
— Спокойной ночи, Эд. Спокойной ночи, Эд Макги.
Радость захлестнула его. В первый раз отец и мать были так нежны с ним, и теперь он любил их больше, чем когда-либо.
После ухода отца и матери мальчик подождал, пока мисс Гарден пойдет приготовлять ему ванну, и как только заслышал шум воды, — выскочил из комнаты и, торопясь, чтобы уйти незамеченным, перепрыгивая через ступеньки, сбежал вниз по лестнице. Он выбрался на улицу через черный ход и помчался к дому миссис Макги.
На улице было темно и пусто. Он поднялся на крыльцо и постучался. Мгновение спустя миссис Макги отворила дверь, и мальчик сказал:
— Он был моим братом, миссис Макги. Он был моим настоящим братом.
— Билл захлебся, — сказала миссис Макги.
— Я каждый день буду приходить к вам, — сказал мальчик, — потому что он был моим братом.
Потом он спустился по лестнице и остановился перед домом. А миссис Макги вышла на крыльцо. Она стояла на крыльце — ничего не понимающая, ни искусства, ни красоты, ничего вообще. И вдруг она застонала, тихо, жалобно, и от этого он чуть было не расплакался.
Он повернулся и побежал домой. Мисс Гарден была очень сердита на мальчика, и в то же время обрадовалась, увидев его. Она уложила его и стала читать ему книжку, как читала каждый вечер, прежде чем выключить свет. Но он ее не слушал.
— Почему ты не слушаешь? — сказала она.
— Я думаю.
— О чем?
— Я думаю о моем брате.
— Но у тебя нет брата.
— Возьмите свои слова обратно.
— Беру, беру, — сказала мисс.
— Его звали Билл Макги.
— Да, да, конечно.
— Я каждый день к ней буду ходить.
— К кому?
— К миссис Макги.
— Да, да.
Мисс Гарден погасила свет, вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. Через несколько минут раздался телефонный звонок. Звонил мистер Кобб. «Да, это правда, — сказала ему мисс Гарден. — Он уходил куда-то. Минут десять его не было. Мне кажется, он просто убит горем. Не сомневаюсь, что эта миссис Макги действительно существует и что она действительно потеряла сына».
На другом конце провода, в телефонной будке, мужчина, ненадолго покинувший общество, собравшееся на коктейли, внимательно выслушал мисс и потом сказал: «Ну ладно, мы вернемся домой пораньше. Заглядывайте к нему время от времени».
Лежа в своей постели, брат Билла Макги вспоминал мать Билла Макги и самого Билла и какой он был хороший друг, и так, вспоминая, он незаметно уснул.
Проснувшись утром, мальчик увидел отца и мать: они спали в постели, постланной на полу в его комнате. Они спали очень крепко. Он долго смотрел на них, изумленный и восхищенный. Когда его мать открыла глаза и увидела его, сидящего на кровати, она улыбнулась и снова закрыла глаза, и он ничего не сказал. Через минуту она снова открыла глаза и снова улыбнулась.
— Ты не хочешь перебраться сюда, к маме и папе? — сказала она.
Он соскочил с кровати, скользнул под одеяло между отцом и матерью и замер. Это было что-то необыкновенное и чудесное! Мальчик улыбнулся, и глаза его заблестели от восторга.
— Мой мальчик, мой бесценный малыш, — шепнула ему на ухо женщина.
— Что значит бесценный?
— Значит — самый ценный. Как тебя зовут?
— Пóэт, — прошептал мальчик. — Поэт Кобб.
Он задремал было снова, а с ним и мать, но тут проснулся отец, и они все трое, еще полусонные, начали разговаривать, и так они разговаривали долго.
Он рассказал им обо всем, что знал, обо всем, что только мог припомнить, и они впервые в жизни слушали его с таким интересом. Они задавали ему серьезные вопросы, и он серьезно отвечал им. А потом спрашивал он, и они отвечали ему так, словно его вопросы действительно стоили того, чтоб на них отвечать. Он спрашивал обо всем, что в голову приходило, обо всем, о чем всегда ему хотелось спросить, — но кого? — разве что Билла, которому шел уже десятый год, но который все равно любил мальчика и никогда его не высмеивал и не обращался с ним, как с маленьким, или особенным, или глупым, или еще каким-нибудь таким.
Они спрашивали его о Билле и о матери Билла. Теперь это уже были не поэт и актриса, не красавец-мужчина и красавица-женщина. В первый раз в жизни он видел их такими, какою была мать Билла для Билла, и он почувствовал себя благодарным и счастливым от того, что, оказывается, не одни только черные могут быть людьми простыми и добрыми. Никогда прежде он не думал, что и среди белых бывают такие, потому что раньше, если ему и приходилось встречать таких, то только среди черных.
Его мать слушала внимательно все, что он рассказывал, и потом сказала:
— Ты хочешь брата?
— Да, — сказал мальчик, — но больше всего я хочу, чтобы вернулся Билл Макги.
— Я понимаю, — сказала женщина, — но мы не можем вернуть Билла. Кто уходит туда, куда ушел Билл, тот уже не возвращается. Но вместо Билла может прийти другой.
— Кто?
— Пока неизвестно, — сказала женщина, — но мы знаем, что он будет нашим, так же, как ты.
— Нашим? Почему же он будет нашим?
— Потому что мы любим друг друга.
— А почему мы любим друг друга?
— Потому что мы маленькая семья в очень-очень большой семье.
Мужчина просунул руку под голову мальчика и обнял женщину; обнял и женщину, и мальчика; и женщина протянула руки к мужчине и обняла и его, и мальчика; и мальчик тоже раскинул руки и обнял обнявшихся мужчину и женщину. И все трое они лежали в обнимку и смеялись, и впервые в жизни они были чем-то большим, чем-то лучшим, чем поэзия или актерская игра, тем истинным, той сутью, которая дает жизнь и поэзии поэтов и игре актеров.
Возвращение к гранатовым деревьям
Есть поездки, которые повторяются в твоей жизни, так же как и книги, которые перечитываешь, и знакомая уже музыка, и лица вокруг, и люди, с которыми ведешь свои разговоры, и каждый раз при этом что-то меняется, а что-то остается таким же, как было.
Вокруг Фресно есть несколько таких местечек, про которые я слышал еще мальчишкой, но никогда не видел. Например, городок Гошен. Не раз приходило мне в голову съездить взглянуть на него, но как-то так получилось, что и до сих пор я туда не попал, хоть и, кажется, исколесил всю фресненскую округу. Может быть, Гошен и не городок вовсе и даже не поселок, а если и да, то один из таких, что просто ни за то, ни за другое не примешь; может, это так себе — перекресток дорог, с двумя-тремя домишками, с магазинчиком, на крыльце магазинчика собака, и тут же недалеко слоняется петух и задирает и гоняет двух куриц.
Фресно находится в самом центре просторной долины Сан-Хоакин, о которой в девятнадцатом или в двадцатом году перед участниками неполной средней школы имени Лонгфелло мой приятель Лео, брат Толстяка Хашхаша, распевал такую вот песенку:
Поездки вокруг Фресно, по знакомым местам, всегда доставляют мне удовольствие, и я совершаю их снова и снова. Об одной из таких поездок мне и хочется сейчас вспомнить.
Из рассказов, составивших мою книгу «Меня зовут Арам», первым я написал рассказ, которому дал название «Гранатовая роща». Жил я в то время в Сан-Франциско. Был 1935 год, во Фресно, начиная с 1926-го, то есть в течение уже около девяти лет, я бывал только урывками, время от времени. Действие рассказа относилось к еще более ранней поре, когда мне было пятнадцать, так что то, о чем я писал тогда, представлялось мне очень далеким.
Я и не знал еще, что «Гранатовая роща» положит собой начало серии рассказов. Я думал, что это просто очередной рассказ и не более. После того как его отвергли около десятка издателей, я послал рассказ в «Атлантик мансли». «Атлантик» принял «Гранатовую рощу», и Эдвард Уикс, издатель журнала, предложил мне написать еще несколько рассказов. Среди написанного мною к тому времени уже имелось кое-что в этом роде, но письмо Уикса побудило меня взяться за дело всерьез.
В «Гранатовой роще» была рассказана действительная история — о том, как муж моей младшей тетки, Тигран, купил 640 акров пустоши и загорелся идеей превратить ее в сад. На двадцати акрах этой земли Тигран надумал посадить гранатовые деревья. В этой затее принял участие и я — работал на участке, сажал деревья вместе с человеком по имени Назарет Торосян, занимавшимся когда-то спортивной борьбой.
Замысел Тиграна потерпел крах, землею вновь завладели ее исконные хозяева — разного рода мелкие зверюшки, гранатовая роща была заброшена, а Тигран перекинулся на другие проекты.
Но пока мы с Назаретом сажали деревья и всячески пеклись о них в течение нескольких недель, я все представлял себе, как когда-нибудь спустя годы вернусь на это место и застану тут сад, увижу чудесные, разросшиеся деревья и чудесные плоды, повисшие на ветвях.
Шли годы, и каждый раз, бывая во Фресно, я вспоминал про гранатовые деревья, но ни разу не съездил взглянуть на то место, где когда-то мы с Назаретом сажали их и выхаживали.
Чтобы попасть туда, надо ехать по Вентура-авеню до поворота направо к Санджеру, там повернуть на дорогу, идущую влево, остановиться миль через восемь-девять — и где-то поблизости от дороги отыщется участок гранатовой рощи.
И вот однажды, наконец, я поехал туда. Со мною был мой пятилетний сынишка Арам, названный так по имени мальчика из книги рассказов «Меня зовут Арам».
Мы не решали заранее, куда поедем. Было лето, и мы просто катались вокруг Фресно, по дорогам, вдоль которых тянулись виноградники и сады. То и дело я останавливал машину, чтобы мальчонка мог выйти и оглядеться вокруг и сорвать собственноручно кисть винограда или спелый персик, или еще что-нибудь. Но с какого-то момента я поехал без остановок и вскоре оказался возле того места, где от Вентура-авеню идет правый поворот к Санджеру. Младший брат моего отца Левон и четыре его сына жили около Санджера, на своих виноградниках, и, видимо, мне пришло в голову прокатиться к ним, однако я свернул не к Санджеру, а налево и через несколько миль, съехав с дороги, повел машину по сухой пустынной земле.
— Куда это мы едем? — сказал Арам.
— Много лет назад я посадил где-то здесь несколько гранатовых деревьев.
Я остановил машину, и мы с Арамом вылезли и пошли по серой сухой земле, как ходил я по ней четверть века тому назад.
— А где деревья?
— Тогда мы посадили их где-то вот здесь, но сейчас, как видишь, их больше нет.
— Ну а где же они?
— Нигде. Они умерли.
По всей этой пустоши снова хозяйничали грызуны, рогатые жабы, зайцы, вообще всевозможная мелкая живность. И я подумал, что это тоже, пожалуй, правильно.
Я надеялся, что найду тут хотя бы одно выжившее деревце, но не нашел.
Мы вернулись в машину и поехали дальше.
— А что это было такое? — сказал Драм.
— Маленькие зверюшки?
— Нет. То, что ты посадил.
— Деревья, на которых растут гранаты.
— Хочу увидеть гранат.
Я повез его к брату моего отца в Санджер и там показал ему в большом саду гранатовое дерево и чудные плоды на его ветвях. Гранаты были еще недозрелые, но я все-таки сорвал один и протянул сыну.
Из дому появился мой дядя Левон и повел нас к себе. Мы посидели у него часа полтора.
Когда мы вернулись во Фресно, в свою комнату в отеле, я увидел, как мой сын вытащил из кармана гранат, посмотрел на него и положил на письменный стол.
На следующее утро мы поехали домой в Сан-Франциско. Дома он забрал у меня свои вещички, и я заметил потом, что гранат лежит у него на столе. Так он и лежал там довольно долго и через месяц совсем высох и сморщился. Мать как-то спросила у мальчика, не выбросить ли эту штуковину.
— Нет, — сказал он. — Это мне нужно.
Спустя несколько дней мы отправились всей семьей во Фресно, и мальчик сказал мне: «Давай поедем туда еще раз».
— Куда это туда?
— Туда, где были твои деревья.
Так оно получилось, что в течение сорока дней я дважды побывал в том месте, куда не заглядывал четверть века.
Мы прошагали ярдов около ста по совершенно сухой бугристой земле, и, остановившись закурить сигарету, я увидел, как мальчик достал из кармана гранат. Он посмотрел вокруг, посмотрел на гранат, потом нагнулся и тихонько положил его на землю.
Я ждал, что после этого он что-нибудь скажет, но поскольку он продолжал молчать, то промолчал и я, и мы вернулись к машине и сели и поехали обратно во Фресно.
О гранате он так и не сказал ни слова. Я же ни о чем не стал у него допытываться, ибо ясно, что у них всегда что-то свое на уме, и в любую минуту они способны на такие вот вещи, а почему — ты все равно не узнаешь, не выяснишь, так лучше уж обойтись и вовсе без разговоров.
Пять фрагментов из книги «Не умирать»
Я работал на подрезке виноградных кустов в калифорнийской долине Сан-Хоакин, было мне в ту пору шестнадцать лет, и меня уже столько раз выгоняли из школы, что я решил больше не возвращаться туда и нанялся работать на винограднике. С утра было пасмурно, а среди дня полил сильный затяжной дождь, и все мы на винограднике прекратили работу и разошлись. Я отправился в книжную лавку во Фресно, прошел во внутреннее помещение, где находились старые журналы и книги, и стал искать там, что можно взять задаром, за каких-нибудь пять или десять центов. Мне попалась кипа старых журналов, не всякой случайной дряни, а хороших старых журналов, и название одного из них — «Дайел» — было знакомо мне. В кипе нашелся единственный экземпляр этого журнала, а когда я спросил у старика, хозяина лавки, нет ли у него еще таких, он сказал, что нет, да и прежде не было, что этот — единственный, лежит тут около года, так что сейчас даже и не вспомнить, откуда он взялся. Я заплатил десять центов, сунул журнал за пазуху и под дождем покатил на велосипеде домой. Небо обложило надолго, дождь лил не ослабевая, идти было некуда и нечего было делать, я бросил школу, распрощался с ней навсегда, про себя у меня решено было — либо стану писателем, либо не стану никем вообще, а как мне стать писателем или, коли уж на то пошло, как никем не стать — этого я не знал, так что я устроился за круглым столом на веранде и начал читать добытый в лавке журнал. Я прочитал его от корки до корки. Вот это да! О господи, как у них это получается? Как они пишут вот так, вот такое? Каждое словечко, ну, в самый раз, каждое на своем месте, полное смысла, ясно отпечатанное на плотной белой бумаге, слово ложится к слову, и вместе они образуют рассказ, стихотворение, очерк, статью, а я, ну, кто я, глупый юнец, всего только помышляющий о писательстве, ни на что не годный шестнадцатилетний читатель. И все равно, лучше уж быть читателем, нежели вовсе никем не быть, особенно если ты читаешь что-то хорошее, а в журнале почти все такое и было и нравилось мне по-настоящему, хоть я при этом и сознавал, что сам никогда не смогу писать так же. Они-то знают, как это делается, а я нет. И скорее всего никогда не узнаю. Стало быть, один у меня выход — научиться писать по-своему, но так, чтобы издатели захотели брать и издавать мои вещи, несмотря на то, что писать, как надо, я не умею. Я не считал, что это невозможно, но и уверенности на этот счет у меня не было. Ни у одного писателя в шестнадцать лет не бывает уверенности. Ну конечно, я не могу писать вот так, как эти писатели, хотя бы потому, что они, ясное дело, учились в школе. Чтобы писать так, как они, нужно ведь стать таким, как они, но об этом даже и речи быть не могло. Я не знал их, но видел как наяву, они похожи были на писателей, а я нет. Они были образованные, а я нет. Но у меня имелся природный ум, или, во всяком случае, я полагал, что имеется, а то иначе с какой бы стати мне смотреть свысока на всех и вся на свете, включая и этих писателей, чьи произведения, с одной стороны, приводили меня в восторг, чьей образованности, с другой стороны, я чурался? Уж каких только ни набираются они знаний о других писателях, о других литературных периодах, и всяких теорий, и рассуждений о том, что сделал в литературе такой-то писатель, как он открыл в сущности новую школу, создал новый стиль и прочее в этом роде. Что мне известно было о подобных вещах? Почти ничего, но я знал кое-что другое — например, последние слова двух-трех сотен людей, помещенные в старом альманахе, в одной из любимых моих книг. Вот так вот подвигалось мое чтение, однако, прежде чем я дошел до конца журнала, мне попалась вещь страничек на пять, по прочтении которой я подскочил от радости. Это был отрывок из неоконченного большого произведения под названием «Устная история мира», имя писателя — Джо Голд. Вообще-то когда писатель называет себя Джо, а не Джозеф, это как-то удивляет и настораживает. Кому он этак набивается в друзья-приятели? Пижон какой-то, — подумалось мне сначала, и я хотел уж было пропустить страницы Джо Голда, но все-таки заглянул в них, а заглянув, прочитал, а прочитав, подскочил от радости, до того тут все было просто и прямо, до того все живое и настоящее, и ничего особенного, а только люди, ведущие между собой разговор. И вовсе не какие-нибудь важные люди, говорящие что-то важное и значительное. Обыкновенный народ, говорящий о самом обыкновенном.
Утром я снова был на винограднике и в течение всего дня вслушивался в самые обыкновенные разговоры, которые вели работники со мной и друг с другом, и вот, пожалуйста, я что-то уже приобрел. Джо Голд подсказал мне: слушай, и ты услышишь. Я стал слушать.
Мы разговариваем, все время мы разговариваем, и когда пишем — тоже, все это разговор. Я разыскивал еще чего-нибудь из написанного Джо Голдом, но нигде ничего не находилось. Я ждал, когда будет издана книга, когда она появится в библиотеке, где я наконец смогу ее прочитать, потому что книг, кроме словаря, я в ту пору не покупал да и словарь купил лишь раз, одного достаточно. Я ждал, но книга Джо Голда не появлялась. И все-таки я все время помнил о ней и предвкушал тот счастливый день, когда увижу ее изданной, возьму в руки и прочитаю от корки до корки… Прошли годы, а книги Джо Голда все не было. Что с ним такое сталось? Умер, что ли? Куда девался человек? Куда девалась его книга, черт побери? И еще год прошел, потом другой, а книги все нет, и вот уже у самого у меня вышло два сборника, а скоро будет издан и третий.
Однажды, когда я находился в Нью-Йорке, ко мне пришел замечательный человек, которого звали Дон Фримэн, художник, делавший для «Нью-Йорк таймс» и для «Геральд трибюн» рисунки к репетируемым на Бродвее пьесам. Дон Фримэн, который любил Нью-Йорк и замечательно зарисовывал его улицы в ветер и людей, по ним спешащих с ветром и против ветра, пришел ко мне, открыл свой этюдник и показал рисунки, сделанные им за день. Они были превосходные, и я сказал, что мне хотелось бы издать книгу, иллюстрированную им. Спустя примерно год такая книга образовалась, и иллюстрировал ее Дон. Он писал мне тогда из Нью-Йорка в Сан-Франциско и прислал журнал, время от времени выпускаемый им самим. Журнал назывался «Ньюсстэнд», и рисунки в нем были самого Дона. Один из рисунков представлял бородатого человека с лучистыми, как будто подмигивающими глазами, и тут же стояло имя — Джо Голд. Как только я вернулся в Нью-Йорк, я позвонил Дону Фримэну и спросил, что он может сообщить мне про Джо Голда.
— Черт побери, — сказал он, — хочешь, зайдем к нему вместе, а хочешь, его самого приведу к тебе.
И вот передо мною Джо Голд — небольшой человечек с птичьим голосом. Рассказываю ему о том, как мне попался в журнале отрывок из неоконченной большой его книги, как я все время потом про него помнил и ждал книгу, так где же она? В ответ он говорит, что все еще ее пишет. Ну хорошо, но почему бы не печатать ее по частям в журналах? Да кто его знает. Ну хорошо, а сколько уже написано? Да, наверное, около миллиона слов. Так это же равно четырем и даже пяти романам, да еще к тому же длинным, а не коротким. Зачем же ждать? Зачем не начать издание книги в трех, четырех и даже пяти томах? Ну, во-первых, большей части рукописи у него нет сейчас. Не то чтобы он потерял ее, хотя и это возможно. Но скорее вот что: в разное время он снимал комнаты то здесь, то там и где-то, видимо, забыл внушительную часть рукописи. Ну хорошо, ведь хоть что-то есть у него сейчас? Конечно, есть, и немало. Ну так, хочет ли он издать то, что имеет? Да там будет видно, к написанному он не возвращался, занят был тем, что писал новое. Ну хорошо, а есть у него что-то из нового? Есть, конечно, и даже сию минуту при нем. Он сунул руку за пазуху и вытащил из кармана шесть-семь сложенных вместе разных листов бумаги, содержащих продолжение его книги, и то, что он прочел нам, показалось мне замечательным. Видите ли, то, что понравилось вам в шестнадцать, может произвести иное совсем впечатление, когда вам уже двадцать восемь и больше, но новые страницы, написанные Джо Голдом, были так же хороши, как и те, старые, если только не лучше, как мне показалось. Не годится такую рукопись разбрасывать где попало, так что часть уже потеряна и похоже, что будет потеряно все, потому что у Джо Голда как не было, так и нет ни жилья постоянного, ни денег, за пятьдесят человеку, а живет как придется. Книгу надо издать, чтоб о ней узнали, чтобы прочли, а желающий, вот как я, например, мог приобрести ее. Что он скажет на это? Да то, что про книгу его знают. Всякий в издательском мире знает, что он пишет книгу лет уже двадцать, а то и больше, но никто к нему не обращается, не предлагает ее издать. Ну, это уж было слишком, и я сказал: «Ладно, Джо, ответь мне, пожалуйста: может, ты предпочитаешь не издавать свою книгу, может, у тебя есть на то причины?» Нет, сказал Джо, он не предпочитает, но в то же время он и не против, чтоб она осталась неизданной. Мне понадобилось выпить еще стаканчик. Было над чем подумать. Ну, во-первых, Джо уже сделался своего рода легендой. В салонах Гринвич-вилледж [14] он был знаменитостью. Друзей у него было множество, большинство — писатели и художники, большинство, как и сам он, народ безденежный, но ни один, однако, не пребывал в безденежье столь прочно и постоянно, как Джо. Может, в действительности им написано не так уж много с тех пор, как в журнале был напечатан отрывок? Может, он просто делает вид, что столько было написано и куда-то там подевалось да и к тому, что есть, надо бы вернуться, а некогда? Поди разберись, где тут правда! Но вот ведь показал он какую-то часть работы, достал ведь из кармана и прочитал нам страницы, и, судя по всему, они были свежие, написанные не далее как вчера, позавчера, впечатление было такое, что он пишет книгу все время, речь у него шла об очень недавних, новых вещах и событиях в мире, знаменитые имена, поминаемые в разговоре, тоже были новые, так в чем же все-таки дело? Неловко вмешиваться, но выхода нет, я обязан. Если не ради самого Джо, то ради его произведения и ради себя я обязан предпринять что-то, дабы книга увидела свет.
— О’кей, — сказал Джо, — но все-таки я не думаю, чтоб нашелся издатель, который бы ее взял.
Я спросил, почему бы и нет, и Джо на это сказал:
— Видишь ли, я верю, что тебе моя книга нравится, и Дону она нравится, и многим еще другим, кому я в разное время читал из нее куски, но это ведь совсем не такая книга, какие обычно нравятся издателям, к каким они привыкли и охотно берут, уверенные, что барыш им обеспечен. Но попробуй, если тебе хочется, я не против.
Я побывал у своего издателя, обсудил это с ним, и он сказал, что будет рад познакомиться с рукописью, если Джо занесет ее к нему на работу. Я сообщил Джо, полагая, что он, конечно же, снесет куда надо хоть часть рукописи, но заметил, что он отнюдь не воодушевился от этой идеи. В течение шести-семи лет я не раз расспрашивал Джо о книге, говорил о ней с издателями, каждый раз с новым, надеясь после каждого разговора, что Джо отнесет рукопись тому или иному издателю, который возьмет ее и выпустит в свет книгу под названием «Устная история мира». Но этого не случилось, и Джо умер.
Сначала он исчез, или во всяком случае его перестало быть видно. Позднее я узнал: Джо провел последние три года своей жизни в заведении типа психиатрической лечебницы, но тут следует помнить, что если Джо понадобилось пристанище, где бы он мог наконец чуточку отдохнуть, то он скорее всего предпочел бы такое место, которое предусмотрено для людей, слишком живых и оттого-то кажущихся сумасшедшими. Было ему тогда уже под семьдесят, и лучшую часть своей жизни он прожил бездомным. Джо Голд, один из образованнейших людей в мире, выходец из знатной, родовитой семьи, которую он оставил давным-давно, и она его, в свою очередь, тоже давно оставила, своеобразная фигура, оригинал в Гринвич-вилледж, небольшой человечек со смеющимися глазами и со вставными зубами, которые, бывало, выпадали у него изо рта, так что однажды кто-то наступил на них случайно и раздавил, Джо Голд, куривший сигарету за сигаретой, отчего его седая борода порыжела, обжившийся в своей одежде, сросшийся с ней, грязный всегда и всегда кипучий.
Как-то раз один нью-йоркский богач спросил меня, могу ли я подвигнуть Джо выкупаться, одеться во все новое за его, богача, счет и в таком виде пожаловать в дом к нему на обед. Нет, сказал я. И ни слова больше. Я готов был уговаривать и настраивать Джо на издание его замечательной книги, но будь я проклят, если бы попросил его превратиться в выкупанного, одетого с иголочки уродца, в этакое чучело на потеху миллионеру.
Мы разговариваем, не так ли, все время мы разговариваем, и Джо Голд был тем единственным человеком, которому в голову пришла мысль, что наша история и наша суть и сознание могут лучше всего проявиться через наш разговор. Но книга его так и осталась неизданной. У нас ее нет. Рукопись была, но растерялась, или, может, ее не было, кто знает. Одно ясно — никто на свете не мог добиться от Джо Голда, чтобы он либо показал рукопись своей книги, либо взялся за дело и написал бы то, что, по его словам, им было написано. Никто на свете, и в том числе я.
Лет двадцать пять тому назад в Голливуде в книжную лавку Стэнли Роуза частенько захаживал один такой парень, который несколько лет проработал в Питсбурге на сталелитейных заводах и написал за это время несколько рассказов из жизни Поллаков и Боханков — тамошних рабочих. Это был высокого роста, громкоголосый, добродушный и счастливый парень по имени Оуэн Фрэнсис, а друзья называли его Хэл. Рассказы его, надо сказать, появились не где-нибудь, а в таком журнале, как «Атлантик мансли», и в «Сатердей ивнинг пост». Но у Хэла еще не было изданной книги, когда он взял да и прикатил в Голливуд и начал высматривать себе продюсера, желающего использовать и хорошо оплатить чьи-либо писательские труды по созданию киносценария о сталелитейных заводах. Продюсера он в конце концов выискал, но только тот предложил ему написать сценарий о жизни нью-йоркской интеллигенции. «Не мой участок, ребята, ей-богу, не мой!» — высказался по этому поводу сам Хэл. Но как бы то ни было, в течение двенадцати недель у него имелась работа, и каждую неделю он получал чек на такую внушительную сумму денег, какой ему в жизни не доводилось видеть, — а был он мужчина лет двадцати пяти — двадцати семи, жадный и на хорошую вкусную еду, и на крепкую выпивку, и на девок получше, и на всякие развлечения, и все это, конечно, было к твоим услугам, ежели только у тебя в кармане водились деньги и ежели ты хоть что-нибудь да значил собою и держался при киностудии и делал кино. Как и все писатели, устремлявшиеся в те дни в Голливуд с разных концов страны, Хэл заявлял, что его цель — добыть тут денег побольше, а потом, не мешкая, вернуться на свое привычное и подходящее место в мире и засесть наконец за работу над первым романом, из которого, даст бог, выйдет кое-что стоящее.
Отлично известно, что очень немногие из писателей делали впоследствии то, что, судя по их словам, намерены были сделать, так что и незачем мне, пожалуй, останавливаться подробно на этой стороне вопроса. Почти все писатели, приезжавшие в Голливуд, усиленно толковали о романах, которые они будто бы непременно напишут, как только им удастся сколотить себе на будущее тысяч этак пять или десять долларов, ну а вскорости эта цифра вырастала уже и в двадцать или даже во все пятьдесят тысяч. Если ты еще недавно был голодный писатель, если ты только что вынырнул из нищеты, только что, как говорится, унес ноги от холодных и грязных окраин какого-нибудь большого американского города, то чем больше денег ты зарабатываешь, тем больше ты считаешь нужным иметь, прежде чем сядешь наконец за тот великий роман, который, как ты полагаешь, тебе предстоит написать. На первых порах все эти писатели ведут разговоры о ненаписанных романах, но через годик или два, после того как они отложат свои десять тысяч, а потом и двадцать, а кое-кто и пятьдесят, после того как они сменят одну за другой не меньше чем с полдюжины хорошеньких девочек, отовсюду понаехавших в Голливуд с великим желанием выскочить в кинозвезды, и после того как они приобретут себе виллы с садиками и после того как они обзаведутся в этих своих виллах всяческой прислугой — и мальчиками-филиппинцами, и китайскими поварами, и шоферами, и садовниками, — после всего этого они уже не просто ведут разговоры о своих ненаписанных великолепных романах, они плачут об этих романах и обвиняют капитализм, обвиняют его в своей неудаче, в том, что все эти замечательные их романы остаются и так и останутся навсегда ненаписанными. До чего это было забавно — явиться в роскошный дом какого-нибудь из этих писателей и застать хозяина в окружении трех-четырех его дружков, тоже, конечно, писателей, и послушать, как они все вместе плачут и рыдают об этой жестокой, об этой возмутительной ситуации, в которую они угодили против собственной воли. Часто бывал среди них и Стэнли Роуз, и глядя, как писатели обливаются слезами, он пил свой коньяк и говорил: «Лучшая жизнь им и не снилась, и они это знают».
Ей-богу, это была сплошная потеха: первоклассные писатели голливудских студий, сценаристы десятков и сотен самых что ни на есть дрянных фильмов на свете собирались вместе и наслаждались тем, что разыгрывали из себя великих страдальцев.
Но все обстояло иначе с этим парнем из Питсбурга. Он был счастлив, что зарабатывает большие деньги, строча какую-нибудь ерунду, угодную продюсерам, ему было все равно, о чем строчить — об умных и просвещенных жителях Нью-Йорка или же о темных провинциалах Небраски, ему это было совершенно безразлично, и он гордился, что первая работа на студии досталась ему благодаря пяти рассказам, которых его наниматель и не читал никогда. Где-то, однако, ему довелось встретить на своем пути Томаса Вулфа. Они подружились. И теперь все, о чем хотел разговаривать Фрэнсис, был Томас Вулф и его книги, особенно же — «Взгляни на дом свой, ангел!». Так вот, жил на свете писатель — этот Том Вулф, этот колоссальный человек, этот настоящий великан среди людей, который, бывало, писал три дня и три ночи без всякого перерыва, в каком-то свирепом, неистовом вдохновении. Жил на свете настоящий писатель, не такой, как эти дутые голливудские сливки, не жулик и не плакса какой-нибудь, проливающий слезы по пути в банк — с очередным трехтысячедолларовым чеком в кармане да еще и под руку с пышной девицей, спасающей его от смертельного одиночества.
«Черт побери, — говорил обычно Фрэнсис, — давай посмотрим правде в лицо, я не писатель, и эта чепуховая работа здесь — это только прописанный врачом бальзам. Я люблю читать хорошие вещи, но я знаю, что не умею их писать. Все, что я в состоянии написать, это простой рассказ о несчастных каторжниках, вместе с которыми я так долго работал, и написанное мною только потому и интересно, что вся эта жизнь знакома мне изнутри. Сам жизненный материал тут сплошь правдивый, и никто больше из людей, знающих этот материал, не хочет или не умеет о нем писать. А я пишу. В моей теме кроется определенная привлекательность и правда, но манера писать у меня самая что ни на есть заурядная и избитая».
Как бы то ни было, проработав годика полтора на студии, привыкнув к легкой веселой жизни, Хэл в один прекрасный день остался без дела, и его агенту никак не удавалось подыскать для него еще что-нибудь. В таком вот положении Хэл решил, что — хочет он того или не хочет, — но лучше будет ему взять да и засесть наконец за работу над первым своим романом. Он скопил немного деньжат, но знал, конечно, что при его образе жизни от них очень скоро ничего не останется, так что он немедленно поставил на стол машинку и принялся писать. Дело подвигалось довольно трудно, во-первых, потому, что писать всерьез всегда было для Хэла тяжелейшей работой, и, во-вторых, потому, что он слишком далеко забрался от тех мест, где жизнь его была суровой и настоящей, и теперь ему не удавалось ощутить эту жизнь, как когда-то прежде. Все его Поллаки и Боханки выглядели теперь мягонькими интеллигентами или еще хуже. Все они выглядели теперь гладкими и речистыми, вместо того чтобы быть косноязычными и жесткими, какими они были, когда Хэл работал и жил среди них, какими они оставались и по сей день и каким он сам уже перестал быть. И все равно, он упорствовал в своем замысле, он вел отчаянную борьбу, он отбрасывал прочь одну за другой фальшивые страницы, он трудился с полудня и до темноты, а потом торопился в книжную лавку Стэнли Роуза и вместе со Стэнли или с кем-нибудь еще, кто попадался там в эти часы — со мной, например, — шел в соседнее заведение, к «Муссо и Фрэнкам», где поначалу у бара выпивалось стаканчика три-четыре, а потом заказывался солидный ужин, и все это время — и за стойкой, и за ужином — Хэл говорил: «Я стараюсь, ей-богу, стараюсь, никто не скажет, что я не стараюсь, но ничего у меня из этого не получается, вот и все. И все-таки я должен это сделать. Дело тут не в том, что мне нужно написать хороший роман, дело вовсе не в этом, мне совсем и не нужно быть писателем, но пока я не напишу и не издам книгу, я просто не получу новой работы в Голливуде, а уезжать отсюда мне очень не хочется».
Время от времени он говаривал так: «Ну что ж, дела мои, похоже, идут на лад. Сегодня я справился с тремя страницами и, если дальше сумею продолжить в том же духе, то старания мои хотя бы наполовину будут оправданы. Это первая глава, и я назову ее «Не смейтесь надо мною, мистер Босс!» Видите ли, в чем дело — Боханки и Поллаки терпеть не могут, когда над ними смеются. Насмешку, особенно же со стороны босса, они воспринимают как ужаснейшее оскорбление. Она их задевает почти так же, как самая отборная грязная ругань в адрес папаши или мамаши. Я ни разу не встречал такого Поллака или Боханка, который вынес бы насмешку и не спятил с ума. Сначала ему удается скрывать свое состояние. Но день ото дня отзвук насмешки растет в душе этого бедняги, и скоро вы уже видите, что он совсем обезумел, того и гляди убьет кого-нибудь, но не обязательно посмеявшегося над ним босса. Он может убить не босса, а собственную жену, которой и так досталось много побоев, с тех пор как над мужем ее кто-то там посмеялся. Он готов убить собственную жену, как будто она во всем этом виновата. И он будет колотить своего старшего сына, а сын будет думать, что так оно и полагается, вот и все. Сыну и в голову не придет, что это нехорошо или несправедливо. Отец последнее время частенько его поколачивает, вот и все. Это и есть содержание моей первой главы, и теперь мне остается только следовать за его развитием, пока не напишется вся книга. В последней главе я должен буду решить, убивает кого-нибудь этот несчастный — жену или сына — или же наконец приходит в себя. Покамест похоже, что он кого-нибудь убьет, но может случиться, что в самую последнюю минуту он придет в себя и успокоится. Я видел несколько раз, как это бывает, и это чистейшая правда, но я не уверен, что такой поворот годится для романа, вот и все. Хотите знать, как этот бедняга справляется с собой? Ну так вот, однажды босс замечает, что человек этот, с тех пор как он над ним посмеялся, стал работать старательнее и лучше, и еще замечает, что парень как будто на грани бешенства. Босс выбирает подходящую минутку, подходит где-нибудь в цеху к своему обиженному рабочему и говорит: «Слушай, Ник, черт тебя побери, ты самый что ни на есть лучший работник на этом моем, черт его побери, заводе!» Вот и все, что требуется от босса. Человек исцелен. Буйство его прошло. Он на радостях выпивает после работы, он приходит домой с новым платьем для жены, с новой рубашкой для сына, он заключает в объятия и жену и сына и всех прочих своих детишек, они дивятся, не понимают, что за чертовщина такая с ним, — а я знаю. Я видел, как это бывало. Ну что, хорошая у меня история?»
На это Стэнли говорил так: «Ну еще бы. Завтра ко мне зайдет агент от Скрибнеров, и я ему про все это расскажу. Так что ты давай пиши свою историю, Скрибнеры издадут ее, и тогда снова у тебя будет работа на студии и вдоволь денег. Книга тебе даст долларов пятьсот, не больше, но зато это будет книга, и я смогу ее показывать всем продюсерам. В результате для тебя снова сыщется место».
Так вот, Хэл Фрэнсис продолжал трудиться, и дело у него подвигалось все так же со скрипом, но мало-помалу ему удалось рассказать на бумаге едва ли не половину своей книги. Агент от Скрибнеров посидел разок вместе со Стэнли и Хэлом и еще кое с кем из нас, то есть из тех, кто околачивался в книжной лавке, и он сказал Хэлу, что идея книги ему нравится и что он об этом потолкует с самим мистером Скрибнером. Он уверен, что как только Хэл закончит книгу, Скрибнеры издадут ее.
Я вернулся в Сан-Франциско, а потом снова поехал в Голливуд и снова стал околачиваться в книжной лавке у Стэнли Роуза.
Однажды вечером я столкнулся там с Хэлом и сразу же спросил его о романе.
— Какой еще роман? — сказал он. — Я не умею писать. И никто не умеет писать, кроме Тома. Во всей стране он один писатель. Когда есть такой парень и когда он пишет, мы все можем оставить свои машинки в покое. Ты только взгляни на его новую книгу! Вот она как раз на столе, — и он взял книгу и протянул ее мне. — Стэнли заказал еще сотню экземпляров. Он продал сотню за три дня, а ведь это даже и не роман, это сборник рассказов. Таких сборников тут ведь вовсе не берут. На, почитай. Том Вулф говорит все, о чем стоит сказать, и никто больше ничего такого не говорит. А самое главное: Том говорит это тем единственным способом, каким только и нужно. Он выкрикивает это изо всех сил, он горланит и рычит и хрипит об этом. Ты можешь встретить у него предложение на целых три страницы, потому что он писатель и ему есть что сказать, и ты даже внимания не обратишь, длинные или короткие у него фразы. Все у него так просто и так верно, и чем больше ты читаешь, тем ясней чувствуешь, что это единственный писатель во всей стране, а может быть и в мире. Все мы остальные обгрызаем жизнь помаленьку, с краешков, а Том садится и съедает весь род человеческий в два громадных кусища. С тех пор как я прочитал его новую книгу, у меня просто-напросто духу не хватает отстукивать на машинке это свое дрянцо про какого-то Боханка и про то, как над ним посмеялся дурак-босс, и про несчастную жену этого Боханка, и про его несчастного старшего сына, и про всех остальных его несчастных детей, и про все это несчастное его помешательство. Есть на свете Том. Он пишет то, что надо, про весь наш мерзопакостный человеческий род, и сукины сыны превращаются у него в ангелов. Даже самые последние его негодяи — ангелы, даже они бессмертны под пером Тома.
Стэнли посоветовал Хэлу Фрэнсису выкинуть из головы все про Тома и продолжать свой роман. Во-первых, — заявил он, — кому это нужно, чтобы один писатель писал точно так же, как и другой? Во-вторых, сказал Стэнли, для хорошего писателя нет никакого резона бросать свое дело только потому, что в одно время с ним кто-то другой пишет еще лучше. Стэнли вот чего хотелось: чтобы приятель его оставался в этом городе и засиживался бы допоздна у него в лавке, потому что Хэл, если только он не поносил собственные писания, был во всех отношениях такой именно парень, которого стоило иметь рядом. Однако книгу свою Хэл так и не дописал. Он снова нашел себе продюсера, но чеки ему на сей раз выписывались ничтожные, и работы хватило всего на шесть недель. Так шли его дела и в последующие два-три года.
Хэл Фрэнсис и Стэнли встречались каждый вечер и вместе ужинали и выпивали по соседству с лавкой, у «Муссо и Фрэнков», — они всегда позволяли себе поесть и попить там, — и Стэнли все уговаривал своего друга довести начатый роман до конца. Потом прошло еще несколько лет, с тех пор как Хэл раз и навсегда запрезирал свою книгу и бросил ее писать, а Стэнли упорно продолжал его уговаривать — ночь себе идет, а им обоим не до сна, оба они уже пьяные, и Стэнли все твердит ему, что надо кончить вещь, ведь осталось каких-нибудь три главы, надо ее дописать и снова можно будет зарабатывать большие деньги. Но однажды вечером Хэл не показался, и Стэнли сам отправился к нему домой и нашел его в постели, совсем больного, а на следующий день Хэл умер.
— Он умер у меня на руках, — говорил нам Стэнли. — Я его и похоронил.
Ну так вот, Оуэн Фрэнсис был всего лишь один из тех писателей, которые жили тогда в Голливуде, и то, что произошло с ним, не происходило с другими или уж во всяком случае не со многими. Что именно убило этого человека? Он сильно погрузнел за последние годы, и он много пил, но не это главное. Его убило то, что он не верил, не мог поверить в свою писательскую работу. Он полагал, что ему уже незачем писать, раз существует на свете Томас Вулф. Том Вулф, который говорит все. Он любил Вулфа и восхищался им как настоящим великаном среди обыкновенных людей. Он любил его ненасытность и неистощимость. Он восхищался им как писателем, который умеет трудиться; как человеком, который живет в бруклинских трущобах и вовсе не мечтает оттуда выбраться; человеком, который работает с такой одержимостью, что забывает про время, про хлеб и воду, — а потом, после долгих и долгих часов, после целого дня и даже целой ночи этого самого свирепого и быстрого в мире, этого вдохновенно-головокружительного писания, он выходит пошатываясь из своего логова, и его громадное тело, очищенное пламенем работы, его тяжелое тело излучает свет, оно почти невесомо после всех этих часов, оно словно бы возносится над землей, и он начинает лететь над улицами и мостами, и где-то в три или четыре утра он стремительно пересекает мост над Манхэттеном и спускается к пристани, где идет работа, и на час или два присоединяется к грузчикам, а потом покидает их и летит дальше. Том Вулф был душа, дух, ангел в большом, в громадном человеческом теле, и его старый приятель Хэл Фрэнсис полагал, что он сам (в сущности почти такой же большой и такой же ненасытный и неистощимый) — ничто и никто в сравнении с Томом. Он полагал, что ему нечего сказать людям. Так вот, Хэл, конечно же, ошибался — по крайней мере немножко — насчет Тома, и насчет себя ошибался тоже. У него было что сказать людям, и он достаточно часто говорил это, но только не в книгах. Он говорил это где-нибудь у стойки бара, медленно потягивая свое виски. Ему нужно было, чтоб кто-нибудь слушал его сейчас, именно сейчас, а не потом, и он нашел для себя отличного слушателя, и это был не кто иной, как Стэнли Роуз, его новый друг в новой части мира.
Есть ли что-нибудь такое, что еще не было сказано и о чем может и должен говорить писатель? Я думаю, что дело каждого писателя — говорить то немногое, что в состоянии сказать именно он. Пускай даже это будет что-то очень маленькое — какая разница? Он и только он должен это сказать и потом повторять снова и снова, так же как и все писатели на свете говорили то, что было именно в них, малое или великое, и потом повторяли это снова и снова. Но что же все-таки они говорили? Да в сущности ничего особенного, пожалуй; всегда по преимуществу одно и то же — при этом, разумеется, менялось имя героя, менялось имя героини, но и он и она являли собой то же, что и все остальные мужчины и женщины, кем-либо и когда-либо описанные, и он и она были просто люди, которым на время дана жизнь.
Маленьким мальчиком я наивно верил, что пианино способно подчиняться каждому, но только я не знал его языка и потому был не в силах справиться с пианино, не мог научиться играть на нем так, как я это представлял себе и как мне хотелось: внезапно, быстро, с абсолютным совершенством, чтобы пальцы сами знали свой путь к истине, к каждому звуку истины, которая крылась во мне. Итак, я предоставил пианино пианистам, сам же предпочел ему механическую пианолу, то есть музыку, которая возникала из простого мотора и вращаемых им валов. Если слова не могут привести нас к добру и милосердию, то могут ли звуки, музыка, тишина?
И вот однажды, после того как я уже сделал несколько пьес, после того как я написал их, после того как я поставил и посмотрел их на сцене, я подумал и решил, что следующая моя пьеса будет вот какая: в ней никто не произнесет ни единого слова, и все-таки это будет не мимическая пьеса, если можно так выразиться; она не будет и эксцентричной; она будет вполне естественная, натуральная, со смыслом ясным и безошибочным и гораздо более значительным, чем смысл, содержащийся в любой пьесе, набитой словами и кишащей людьми, которые без устали работают обеими челюстями и зубами, и языком, и голосовыми связками. Я размышлял об этой пьесе в течение нескольких месяцев и потом, с божьей помощью, я все про нее забыл.
Но мне кажется, что идея была неплохая, и я готов уступить ее любому драматургу, который придумает, как это сделать. Я уверен, что это может быть сделано, хотя самому мне и не дана была честь отвратить человеческий род от слов, положить в нем начало культу безмолвия. Я думаю, что нам вполне хватило бы глаза, если только мы пожелали бы стать простыми, позволили себе расти и жить в простоте, — но ныне это вещь для нас невозможная. Мы желаем все большего и большего, и эта иллюзия — что можно иметь нечто большее, эта недоказанная теория — что есть нечто большее, которое можно иметь, эта теория способна существовать на свете лишь только благодаря словам, благодаря языку, благодаря ловкому или вдохновенному его применению. Но есть ли это большее, к которому мы стремимся, и если есть, то какова же его природа? Разве мудрейшие из людей не отказывались по мере приближения старости от всего, что они имели когда-то? Разве каждый из них не довольствовался самим собою или тем, что оставалось от него под старость? Что еще, кроме этого, было им нужно? Только жесткий пол — чтоб прилечь и поспать, простая одежда — чтобы прикрыться ею или, по крайней мере, чувствовать себя в ней свободно, миска с какой-нибудь нехитрой пищей, ложка и больше уж ничего, пожалуй. Разве самые мудрые из нас не отметали и не отметают прочь от себя весь хлам и мусор, существующий в мире, отказываясь таким образом от всякой иллюзии и теории большего? Но новая жизнь всегда хочет большего, ребенок хочет большего, юноша хочет большего, и почти каждый хочет большего всю свою жизнь, недолгую или долгую. Какова же подлинная природа и форма этого, столь вожделенного для всех, большего? Чего именно нам хочется все больше и больше? Быть может, это дух? Но ведь чем больше духа, тем труднее с ним справиться. Или, может, это материя? Но ведь прибавление в нас материи ведет к ожирению, к болезням и, в конце концов, к смерти. Или, может быть, это смерть? Однако, смерть — это, как говорится, уже верх бессмыслицы, бесполезное завершение всей предшествующей бесполезности. Что же остается еще? Мир и покой? Но ведь покой это не более чем одно мгновение, которое следует за тревогой и беспокойством, и не будь тревоги, не может быть и покоя, если же он есть — значит, ты ненормальный и твой покой — безумие, и тогда что же в нем хорошего и зачем его желать все больше и больше? Быть может, нам хочется больше равновесия? Но равновесие ведь и так составляет душу всего на свете, разве не правда? Все, что существует во вселенной, уравновешено самым тончайшим образом, и все это подвержено вместе с тем внезапному нарушению равновесия, и если обязательно первое, то неминуемо и второе, и одно тут не может быть желанней другого. Так какого же, черт побери, сорта та штука, которой нам хочется чтобы было побольше? Время? Но ведь у времени так или иначе нет конца, и разве мы этого не знаем? Оно, насколько нам известно, было всегда и всегда будет. Или это мы сами — то, чего нам хотелось бы иметь больше? Но ведь мы же вечно недовольны собой, разве не так? И разве можем мы желать чего-то такого, что вовсе не удовлетворяет нас, чего мы, в сущности, не знаем и не умеем по-настоящему любить, такого, от чего мы предпочли бы отказаться ради иного и лучшего, или если уж не лучшего, то, по крайней мере, немного менее безобразного, менее глупого, грязного и нелепого, менее вредного и тупого, смехотворного и напыщенного, менее слабого, жалкого, трусливого и так далее? Так что же, в конце концов, должен говорить писатель? «Послушайте, люди, я был на свете!» — не есть ли это то самое, что должен он говорить? Послушайте, люди, вы не знали меня и никогда не узнаете, я умер всего минуту тому назад, я умер сто лет тому назад, но ведь я был, понимаете, я тоже был! Я имел вот это тело, и я жил в нем в такое-то время в таком-то месте. Я годами вдыхал вот этот воздух и ел и пил, и разговаривал и смеялся. Я любил и ненавидел. Я крепко завязывал шнурки на своих ботинках и выходил, и гулял, и смотрел вокруг. Я жил на свете, и я был вот таким-то, точно так же, как все вы, живущие сейчас, вы, читающие эти строки и еще не ушедшие, еще не выбывшие из этой игры раз и навсегда.
Есть ли это то самое, что может и должен говорить писатель?
Сам я скажу вам вот что. Позавчера я вместе с моими детьми отправился на такси через весь город в маленькую улочку на левом берегу Сены, и там мы заглянули в маленькую лавку. В лавке этой имеется такая машина, которая за двести франков преподносит вам образец абстрактной живописи. Машина работает три минуты. Металлические пальцы металлической руки сжимают кусок цветного мела; вы надавливаете на кнопку — и рука эта движется вверх, вниз, вправо и влево и выводит кресты на белой бумаге. Потом вы прибегаете к другой кнопке, и машина останавливается. Вынимаете кусочек мела, зажатый в пальцах, вставляете на его место другого цвета мел и снова запускаете машину. Потом еще раз останавливаете ее, еще раз меняете мел, и через три минуты в вашем распоряжении готовое произведение искусства. Это славное местечко обнаружил мой сын. Он принес домой два образчика своих достижений и уговорил своего отца и свою сестру поехать туда вместе с ним и попробовать эту машину, что мы и сделали. Каждый из нас трижды попробовал эту машину и получил от нее по три листа абстракций, и служащий скатал эти листы вместе и стянул их резиновым колечком, и потом этот рулон несла моя дочь, но когда мы пришли домой, — рулона не оказалось. По пути мы останавливались у тележки с фруктами покупать персики, и мы положили наш рулон на выступ здания и ушли, оставив его там. Само собой понятно, что нам это не понравилось, и на следующий день мы пошли к тому месту, где оставили свой рулон, — в надежде найти его целым и невредимым, — но рулона не было, он исчез, кто-то польстился на нашу машинную живопись и забрал ее себе, а между тем для нас это было нечто бесценное. Для нас это была поистине великая штука. И мы ее потеряли. Мы были ужасно злы на себя за то, что потеряли плоды своих трудов, и тут же на улице у нас разгорелся небольшой спор о том, куда же теперь идти. Спор этот кончился, как только мы набрели на салон, где у входа шла довольно бойкая игра в шарики, и дождались своей очереди набирать очки. Больше всего очков набрала моя дочь: два миллиона девятьсот тысяч и плюс еще три звезды, каждая из которых что-то означала, хотя и неизвестно, что именно. Игра стоила недорого, каких-нибудь двадцать франков за удар, и не было в ней никакого выигрыша, ничего кроме спортивного интереса, но зато нам хватило одного часа, проведенного там за игрою в шарики, нам вполне хватило этого часа, чтоб окончательно забыть про свою потерю. Когда я говорю, что мы играли в шарики, я имею в виду, что играли мой сын и моя дочь, а я тем временем стоял возле бара и пил кофе, чашку обжигающего черного кофе, и притом в послеполуденную жару. Но почему бы и нет? Послушайте, люди, это были мы, это мы — были, наша — черт ее побери! — семья: мой сын, с той неизменной хмуростью на лице, которой отличался его отцовский род, с хмурым видом великого человека, которому осточертело все на свете и который еще не знает, каким же способом явит он миру свое величие, писателем он будет или архитектором, композитором или художником или кем-то еще. И моя дочь с ее узким лицом и темными быстрыми глазами, с ее веселостью и удачей во всех состязаниях и во всех искусствах: этой девочке достаточно было увидеть, как брат ее рисует акварель, — и вот уже она покупает себе и мольберт, и бумагу и выдает по десятку своих акварелей на каждую его одну.
Ей достаточно было посмотреть, каким образом ее брат набрал свои девятьсот тысяч очков, — и вот уже она набирает целых два миллиона девятьсот тысяч и плюс еще три блестящие звездочки. И разве я, их отец, не сказал тогда ей и ее брату: «Черт побери, эта девочка гений! Она умеет делать все, что умеют другие, и у нее это получается быстрее и лучше, и она даже не заинтересована ни успехом в искусстве, ни победой в игре с мраморными шариками. Единственное, что ей нужно, это выйти замуж за хорошего парня. Бэби, ты гений! Ты радость моего сердца!»
Я рассказываю вам, как все это было и что мы делали, и я хочу вот так же продолжать свой рассказ. Мы знаем, что говорить-то, в сущности, нечего, разве не правда? Мы знаем: ничто из того, что мы говорим или делаем, не лучше, чем что-то другое, что мы также могли бы сказать или сделать, разве не правда? Так не все ли тогда равно? Мы жили в тот день, и разве это было не здорово? Мы шли по узенькой улице, где были лавки арабов, и разве мы не заглянули в одну из этих лавок — полюбоваться на собранный в ней хлам? Разве одно это мгновение не было нашей вечностью? Мы купили пакетик неочищенных орехов и очищали и ели их — разве нет? — идя вдоль узенькой улицы в Париже в очень жаркий день в середине июля тысяча девятьсот пятьдесят девятого года. И помни, брат мой, что для меня все это началось очень давно — в 1908 году. Это началось еще раньше для моего отца и позже — для моего сына и моей дочери, но для меня, начавшего в 1908-м и в 59-м находящегося в Париже, о брат мой, поверь, это кое-что значит: это значит — я, это значит — я был, и если есть хоть какое-либо иное значение у чего бы то ни было и где бы то ни было, ты, пожалуйста, напиши и расскажи мне об этом.
Живи и смотри. Внимательно всматривайся во все. Не дважды, не трижды, но биллион и три раза, и наконец — еще один последний взгляд, потому что все схватывается и постигается именно этим последним взглядом. Я есть, я был, но послушай, о брат мой, где же теперь мои ноги и где мои руки?
…Пусть речь пойдет про книгу, или, я бы сказал, про моего кита, тигра, утес, дерево, реку или море — как вам угодно. Не про собственную мою книгу, не про одну из тех, которые уже написаны мною, не про ту, которую я пишу сейчас или намереваюсь написать в будущем, но про книгу вообще, про книгу всего написанного, всеми нами, про всех про нас и для нас для всех, если допустить, что мы и впредь сохраним желание читать, что и впредь не иссякнет наш интерес к чтению, наше стремление знать, какими в то или иное время мы были, чем занимались, что и зачем делали и как это отражалось на нас и что мы при этом чувствовали. Книга, о которой речь, это нечто подобное библии, но если назвать ее по-другому и точно, это — Книга человеческая, или Книга Человека.
О том, что нам нужна новая библия, я стал думать, когда мне было лет двенадцать, не больше, но разговоров об этом я тогда ни с кем в особенности не заводил. Бывало, брошу словечко в компании ребят, когда жарким августовским днем соберемся мы в сквере во Фресно и лежим себе растянувшись в тени высокого дерева и болтаем о том о сем, но вижу, что идея моя ничуть их не увлекает, а так только — перебросились с ленцой об этом, как и обо всем прочем, что взбредет в голову. Вот бы, говорю, заиметь нам свою библию, чтобы все в ней было про нас, а не про этих людей, живших в такую давность. А кто-то говорит: «Да, плюс немножко денег».
Идея книги не продвигалась. Я не хотел на нее напирать. Я уверен был, что это идея хорошая, но замечал, что все вокруг, кого я знаю, все, кому я только ни заикнусь о ней, заинтересованы совсем другими вещами. Нет так нет, неважно, я мог подождать.
Шли годы, и я стал все чаще и чаще раздумывать о книге, о путях и средствах ее создания и говорить о ней то с тем, то с другим, с кем мне случалось завязывать разговоры. Нам нужна, говорил я, книга про нас, про нас нынешних, не про вчерашних и не про завтрашних. Нам нужна своя новая библия, книга для каждого дома, для каждой семьи. Мы должны собрать и сказать в ней все, что сегодня знаем, пускай даже знаем мы очень немногое. Мы должны подобрать для нее писателей, и сделать это надо осмотрительно, с толком…
Шли годы, и я начал писать о книге издателям. Я писал, что речь идет не о моей книге, а о книге, написанной всеми для всех, о книге, в которой участвует каждый — множество мужчин, женщин, детей. Тут главная работа в том, чтобы подобрать пишущих, а когда они напишут каждый свое, выбрать самое подходящее и свести воедино. Книга, конечно, выйдет большая, но это будет одна книга, не две, не десять, не сто, не тысяча, не двадцать две тысячи книг в год. Издатели отвечали, что осуществление такого замысла не представляется возможным в настоящее время, ввиду повышенных расходов на производство, или ввиду затруднительных рабочих условий, или по каким-то другим причинам.
Евангелие от… — от кого, назовите сами, — оно написано и имеется в книге. Интересует вас евангелие от старика, от самого, может быть, старого человека на свете? Вот оно в книге, читайте: «После того как я прожил сто тридцать лет, вот что я знаю и вот что скажу». Он скажет, а вы из этого возьмите что подойдет вам. А может, вас интересует евангелие от ученого, или же от богача, от сумасшедшего, от преступника, или же от рабочего-сталелитейщика, или от фермера-хлебороба? — пожалуйста, все это есть в книге, и все написано прямо, правдиво и просто. Да, именно так, потому что, ну, скажем, ста фермерам предлагается изложить свое евангелие в не более чем пяти сотнях слов, а потом одно только отбирается, чтобы войти в книгу. Если этот способ покажется вам негодным, вспомните, сколько людей жило на свете во времена создания библии, и разве каждым из них было прожито и познано, было испытано и сказано именно то, что оказалось написанным в этой книге?
Все книги на свете составляют, конечно, единую книгу, но мыслимо ли собрать их вместе и мыслимо ли их прочесть, если даже читать ты начнешь лет с семи и не перестанешь до смерти своей лет через девяносто?
Временами мне делается дурно от столпотворения книг. Так было, например, вчера вечером — шею словно сдавило, свело от груза бессмыслицы и сожалений, печали, ярости и любви. Всякий раз, когда с шеей у меня происходит такое, я знаю — причиной тому книги. Я знаю — опять на меня навалились сомнения, и назавтра мне будет трудно писать, трудно добавлять что-то еще ко всему остальному, уже написанному. И неважно, что шеи у меня, в сущности, нет: похоже, что голова моя уселась прямо на плечи, и случилось это лет двадцать тому назад, когда для меня сделалось обычным занятием с утра садиться за стол и писать, похоже, с тех пор и не стало у меня шеи, ведь в юности, помню, она у меня была.
Когда я пишу, мои дети все интересуются, спрашивают, что это ты такое пишешь, и мне приходится отвечать: «Не знаю, но боюсь, что совсем не то». Они смеются, но очень скоро я чувствую, что веселье их сменяется беспокойством — не столько насчет меня и моей книги, сколько насчет того, как обстоит вообще с жизнью, искусством, истиной и неистиной, и тогда я говорю: «Все в порядке, не беспокойтесь. Всякому писателю, когда он пишет, присуще думать, что получается не то и не так. И все равно он продолжает, ему это не в новинку, и после того как он кончит свою работу, после того как он выдержит бой, им же самим затеянный, начатый, бой, в котором трижды за каждый раунд его чуть не сшибало так, что уже не подняться, а он все-таки не скис и до конца продержался, после, когда он покинет ринг, хоть и полумертвый, а все же счастливый, и забудет про бой, то есть про написавшееся, а потом возвратится к нему снова, тогда окажется, что хоть и вещь по-прежнему не та, какой бы хотелось, какой следовало ей быть, но какая ни на есть, а все же она имеется, хоть что-то малое да налицо».
Вчера вечером мой сын сказал:
— Ей-богу, мне хочется прочитать эту книгу, как только ты ее закончишь.
— Видишь ли, — сказал я, — наверно, будет лучше, если сперва я сам ее прочитаю, после того как она полежит сколько-то времени, — ведь книгу можно считать законченной только тогда, когда сам писатель прочел ее спустя время, сам взвесил все и проверил и, как правило, что-то переделал, перекроил, и многое из нее выкинул и кое-что внес. То, что написалось по первому разу, не более чем материал, в котором надо еще разобраться, придать ему форму, уравновесить. Тебе найдется что почитать и помимо новой моей книги, тем более что это не повесть и не роман, а нечто совсем другое.
— Пускай другое, но что?
— Да просто произведение свободной формы. Я бы сказал, что это этюды, это попытка разобраться, что может выйти у писателя, когда установка его такая: совместить противоположности — свободу и форму. Их оппозиция, видишь ли, давно уж занимает меня, и я хотел бы выяснить, насколько она разрешима или насколько, во всяком случае, удастся мне самому свести и сбалансировать их в новом произведении. Так вот, в частности, в эту вещь, из которой еще неизвестно что образуется, я вложил столько свободы, сколько во мне имеется, в то же время и в равной мере стараясь дать ей и форму. Я терплю неудачу, но прежде чем я решу, велика ли моя неудача, или решу, что не стоит придавать ей значение, мне нужно отложить рукопись в сторону, забыть про нее, нужно оправиться после боя и потом, когда я вполне оправлюсь, вернуться к ней снова и еще поработать и тогда уж определить, что же такое у меня образовалось в итоге — во-первых, для меня самого, а во-вторых, для тебя, то есть для каждого, кто заинтересуется… Когда ты был маленький, мне, как отцу, требовалось обдумать дважды, что и о чем писать, потому что я не так еще хорошо тебя знал и опасался, как бы зря не смутить твою душу, теперь же, когда ты вырос и я знаю тебя лучше и уверен, что тебя не озадачит и не смутит любая моя или чья-то попытка, предпринятая ради достижения смысла, я чувствую себя свободным и верю: что бы я ни надумал и что бы ни написал, ты ничего не поставишь в вину мне. Например, в этой книге кто-то, может статься, усмотрит кое в чем дурной вкус, но это вовсе не значит, что так оно и есть. Видишь ли, тем, кто мало что испытал, легко смотреть с презрением на тех, кто испытал многое, и я не о себе сейчас говорю, хотя, пожалуй, и я испытал немало, если иметь в виду вещи обычного рода. Тот, кто весь век содержит душу свою в безопасности, склонен осуждать того, кто распорядился собою иначе, того, кто не смог или не пожелал хранить душу свою где-нибудь в таком же безопасном углу. Пройдет годика два, и ты поймешь, о чем я. А пока я делаю свое дело, пишу вот эту книгу, и если она не похожа на все написанное мною прежде, если она несколько или совершенно иная, все равно, я считаю, что все в порядке. В искусстве приняты теории завершенного целого, и я вовсе не против таких теорий, но ежели человек ощущает способность или потребность расширить сферу своего проявления, надеясь, что в итоге он сможет свести ее в целое, то, мне кажется, пусть он расширит ее. Лучшие писатели оставались в рамках обжитого, но я бы предпочел, чтобы они их нарушили. Вот, например, Чарльз Диккенс, которого ты читал. Его создания среди лучшего, что когда-либо было написано. Сколько воистину прекрасного он сочинил, какие дал изображения человеческой жизни, сколько замечательного о ней рассказал! И в каком же великолепном, восхитительном стиле, с каким дивным смешением глубокой, почти безутешной печали и безудержного, подчас до упаду, веселья и смеха! И все же есть нечто, чего мне недостает у Диккенса, — того, что происходило в его собственной жизни с тех пор, как ему исполнилось, скажем, двадцать, того, что ему пришлось испытать самому: ну, например, пусть это будет его женитьба, обернувшаяся вскоре недоразумением, его оказавшийся безрадостным брак, или его отношения с другими женщинами, или его отношения с собственными детьми, проступающие за отношениями с маленькими героями рассказанных им историй, такими, как Пип в «Больших ожиданиях». Или же возьмем Антона Чехова, другого писателя, сочетавшего в отточенном стиле глубокую печаль и великолепный юмор. Всю жизнь он болел, и хотя сам был врачом, а сразиться и справиться со своей болезнью не мог. Не скажу, что он питал отвращение к бытию человеческому. Без этого не обошлось, наверное, как у всех у нас не обходится, но в то же время было у него и пристрастие к этой жизни, ко всему, что повседневно ее наполняет, только, может быть, меньшее, а скорее всего иное, нежели то, какое у большинства из нас. Он ничего не делал для того, чтоб отсрочить смерть, отсрочить неизбежное, он просто писал свои чудесные рассказы и пьесы, он совершил поездку на Сахалин, чтобы увидеть, как там живут люди, и ездил потом раза два на юг Франции. Так вот, мне бы хотелось, чтобы Антон Чехов нашел возможным или желательным рассказать нам немножко больше про самого себя, про бой, который вел и выдерживал он, потому что человек он был необыкновенный, на редкость, и хорошо бы нам сейчас знать побольше о том, каким он был в действительности, как переживал свою жизнь, как справлялся с непривлекательной реальностью каждого ее дня и каждого ее года…
— Вот так же, — сказал я сыну, — обстоит и с другими писателями, причем я говорю, конечно, о лучших, о тех, кто и хотели, и умели писать. Все они придерживались определенных литературных форм, в которых каждый писатель чувствует себя в безопасности, обретает защиту, силу и равновесие, они из них не вырывались в свободную речь, где формы не в счет, где формы одна помеха. Они не рассказывали нам того, что входило в личный их опыт, того, что действительно было ими испытано, и потому я чувствую себя как бы обманутым. Я не хочу, чтоб и дальше так продолжалось, или, во всяком случае, сам я так продолжать не хочу. Вот почему и пишу я то, что пишу, — произведение без формы. Мне интересно, смогу ли я рассказать, как я жил и работал, как я не умираю, как живу и работаю, вот и все.
Писатель обычно получает письма от читателей. На прошлой неделе я получил шесть таких писем. В одном из них было сказано:
«Когда-то, в юношеские мои годы я буквально набрасывался на каждую вашу книгу, которую мне удавалось найти в библиотеке. Потом пришла пора трезвого взгляда на вещи, пора критического сознания, и вы опустились куда-то на самый низ и там и оставались долгое время. Теперь, однако, при новом чтении — книга за книгой, рассказ за рассказом — вы продвигаетесь снова на самый верх. И теперь мне вот что хочется вам сказать: при том, что вы написали столько хорошего, как могли вы же написать столько плохого? И почему с годами вы как писатель не улучшаетесь? Ну хорошо, вы задолжали правительству миллионы, и вам все больше и больше нужны деньги, и критики когтят и клюют вашу печень. Но что же из этого, черт побери? Правительство останется при обычной своей платежеспособности независимо от того, погасите вы долг или нет, и уж во всяком случае, пока вы не здесь, никто ничего с вас и не спросит [15]. А критики — они всегда клюют чью-то печень. Но есть и люди, которым вы чертовски нужны, для которых вы много значите, хоть никогда с ними не встречались и вряд ли встретитесь. Все равно, они в вас верят… Как я, например. Я числю вас среди лучшего, что случалось в нашей литературе со времени Марка Твена, и думаю, что кто-нибудь однажды раскроет это, а затем и убедит всех остальных, но даже если этого не произойдет, все хорошие ваши книги будут на своем месте и каждый, кто пожелает, сможет их отыскать и прочитать, и понять, что это замечательно, вот и все. Но как могли вы же написать столько никчемного? Зачем, ей-богу, вы это делаете? Давайте-ка напишите снова что-нибудь хорошее, а? Не хочется верить, что после тридцати — тридцати пяти писатель приходит в упадок и рассыпается. Или же отдает концы, или сходит с ума, или сбегает куда-то и прячется. Можете писать не так, как вы писали в пору, когда были еще мальчишкой, юнцом, но просто опять напишите что-то хорошее. Времени впереди еще предостаточно. Вот, например, есть у вас небольшая такая повесть про парня с тигром — замечательная вещь…»
Так вот, я написал небольшую эту повесть [16] в 1950 году в Сан-Франциско, и в ту пору, кстати, я был совсем уже не мальчишка. Мне перевалило за сорок, и я пребывал в полнейшем расстройстве и не имел, ну, просто никакого желания писать [17]. И тем не менее, сообщу это в порядке ответа на полученное письмо, я решил, что буду работать, писать, и притом не одну, а три вещи одновременно.
Я написал все три в течение месяца, всего за тридцать один день. Я решил тогда писать две крупные вещи и в добавление к ним еще три короткие, каждую примерно за десять дней, но только первая — история с тигром — была закончена. Вторую вещь я бросил на середине, но возвратился к ней и дописал года два спустя, и третья тоже была брошена дня через три-четыре. Но две более крупные книги я завершил.
У меня не было никакого желания писать, было желание как раз обратное, и именно поэтому я решил писать, я хотел побороть свое нежелание, я хотел сам для себя выяснить, может ли писатель писать и тогда, когда он подкошен, когда дух у него в смятении и когда все его существо в руинах. Я хотел также выяснить, смогу ли заработать деньги, которые мне нужны, а их тогда мне было нужно немало.
Книги были изданы, но критики едва удостоили их вниманием, что не беда, конечно, и ничего особенного не значит, кроме того, впрочем, что заработок с них оказался не больно велик, явно, можно сказать, недостаточен. Они, эти книги, не имели успеха, но с течением лет каждая из них набирает силу, издается в разных издательствах и на разных языках, каждая из них находит новых читателей. Возможно, они относятся к числу тех моих произведений, которые подразумевает автор письма, говоря о том, что я написал кучу никчемного, но как бы то ни было одно истинно — обе книги, им не упомянутые, обе книги, написанные тогда же, когда и история о парне с тигром, если мерить их мерой того, что способен был сделать я, это фактически хорошие книги.
Так вот, к сведению автора письма, а, может быть, также и молодых писателей, имеет смысл поведать, как я работал в то время, как вытащил на свет три книги в течение всего лишь месяца в 1950 году.
Во-первых, о месте, где я работал. Это был кабинет в моей собственной квартире в доме, который я построил для моей матери в 1939 году. Место скопления моих книг, рукописей, корреспонденции, всякой всячины. Отличная просторная рабочая комната. Полки, уставленные книгами, от пола до потолка, первоклассная пианола, радио-проигрыватель, камин. Старый дубовый рабочий стол. Он у меня был с тех пор, как я впервые сюда въехал — тогда я соскреб с него пять-шесть слоев краски и превратил его в хороший на вид, очень чистый стол с очень ровной поверхностью, на которой удобно расположилась пишущая машинка. Я почистил свою машинку и вставил новую ленту. Я купил две пачки писчей бумаги. У писателя должен быть хороший рабочий стол, хорошая машинка и вдоволь бумаги.
Как я уже сказал, писать мне совсем не хотелось, но я знал, что должен, и стал готовить себя к тому. На самоподготовку много времени не потребовалось. По существу, хватило одного дня.
Мне не только совсем не хотелось писать, но и совсем, похоже, нечего было сказать, однако и это отнюдь меня не тревожило, ибо если уж писатель приготовился, если он настроил себя на работу, то, о чем стоило бы сказать, само возникнет, само представится, потому что фактически существует лишь один всеобщего рода предмет, о котором призван сказать любой писатель: о нас. То есть, кто мы такие есть и как мы живем и как нам это нравится или не нравится.
Когда все уже было в порядке, я затопил камин и, сев перед ним, стал смотреть на огонь. От огня я много чего перенял. Топливом мне служило найденное на холмах напротив дома: обломившиеся, упавшие ветви эвкалиптовых деревьев, сучки, пенечки, сухие прутья и листья. Я беспрерывно курил весь день и весь вечер. Я был не то чтобы на грани ярости, я уже в нее впал, не то чтобы мог взбеситься, но уже был бешеный, и вместе с тем, однако, я был в равновесии и целости, сидел в своем кабинете и любовался своим огнем. Я поддерживал огонь с его языками и шумом в течение пяти-шести часов, после чего где-то в час или два ночи я поднялся с места и стал потряхивать и крутить во все стороны головой, потом минут десять разминал руки-ноги, чтобы поживей заходила кровь, потом забрался под душ, отмылся от ядов моей жизни, очистил от них кровь, смыл с себя вместе с потом, после чего помолился, как делают это противники, прежде чем ударит гонг к первому раунду боя, но только я не перекрестился, а просто сказал: «Будь со мною, если же быть со мною не можешь, если не можешь помочь, тогда всего только не мешай, и буду тебе благодарен». Я залез в совершенно ледяную постель, взял книгу, лежавшую на ночном столике, почитал с полчаса и потом уснул. Проспав четыре часа, я встал, снова принял душ, снова, как и перед сном, поразмял руки-ноги. После этого я поднялся наверх, выпил три чашки черного кофе без сахара, и теперь уже пора было начинать. Я спустился вниз, сел за рабочий стол, вставил бумагу в машинку и начал первую повесть — начал с чего попало, сказав себе, что на первую главу дается не более двух часов. Сделав свою работу, я хорошенько почистил зубы, чтобы прогнать изо рта дурной привкус и дух множества выкуренных сигарет, вышел из дому, спустился по косогору вниз и не торопясь двинулся к расположенной неподалеку публичной библиотеке. Там я просмотрел с десяток журналов — занятие это по душе мне, когда я пишу, когда я поглощен чем-то неясным, что вскоре станет, по всей вероятности, ясным. Покинув библиотеку, я погулял по улицам, по «деревне», как я называю этот район Сан-Франциско, и я купил у пекаря свежий хлеб, неразрезанный, и потом еще яблок в бумажном кульке, и не торопясь возвратился домой, где выпил еще две чашки черного кофе, спустился к себе в комнату, сел за стол, вставил новый лист бумаги в машинку и начал писать теперь вторую повесть, и на сей раз дав себе два часа на то, чтоб закончить главу первую.
Окончив эту работу, я снова почистил зубы, поднялся наверх и поел жареного мяса, потом яблоко. Потом я вышел из дому, забрался на самый высокий из окружающих холмов и оттуда, сверху, смотрел на Сан-Франциско, на вереницу домов и море вдалеке и Золотые Ворота, на великолепный мост и на городские здания. Я смотрел и на покрывавшую холм траву и разные дикие цветочки, на сорняки и палые листья, слушал слабый звук ветерка, шелестящего в листьях деревьев, наблюдал, как ветерок играет с травой, как пригибает и отпускает ее, и я испытал высокое одиночество писателя, отдавшегося своей работе, — все тот же писатель, все в том же бою, одинокий человек в трудном борении, в великом состязании со временем и тайной… В то же время, когда я был наверху, наедине с ветром и травами, я мысленно прошелся по уже начатому в обеих новых моих повестях. Я попытался угадать, куда вернее всего пойдет своим ходом каждая из них, и вместе с тем подумал о третьей вещи, решив, что она должна быть короткая, потому что ею я займусь для разнообразия и потом ее, возможно, удастся продать в журнал. Как оказалось впоследствии, продать ее я не смог. Издатели журналов народ большей частью тупоголовый, ну и бог с ними, я и предложил-то ее только одному, а там уж махнул на это рукой. Так вот, во время первого перерыва, когда я пошел в публичную библиотеку, я отсутствовал из дому меньше двух часов. Я хотел, чтобы время на каждый перерыв было у меня установлено твердо, и решил, что вполне достаточно полутора часов, но во второй перерыв я отсутствовал всего час — мне хотелось вернуться к работе, хотелось сделать свой первый день хорошим началом.
Снова, недолго думая — ведь думаешь уже до того, как сядешь писать, не так ли? — и не выискивая этакого хитрого начала, я принялся писать историю про парня с тигром. Но верно ли это? Я ли начал ее писать? Не сама ли она начала писаться?
Мне было худо, я был подкошен, я не знал, что делаю, одно только я знал тогда — как содержать мое рабочее место в порядке, как содержать в порядке инструменты моего ремесла и быть готовым начать работу. Я ничего не знал определенного о самой работе, о затевающемся произведении, я только верил, что напишу его, что я его начну, буду подвигать и закончу. Меньше чем за час первая глава истории про парня с тигром была закончена, остаток дня и вечер можно было провести как угодно, но я решил и дальше работать, сделать перерыв на отдых и снова вернуться к столу. Я тренировал себя — для какой-то цели, может быть, для того, чтобы оказаться на равных с чем-то, еще предстоящим мне в жизни, с чем-то бóльшим или же худшим, и научиться, как встречать неудачу и даже как превращать ее во что-то другое, во что-то, может быть, даже полезное…
С наступлением вечера я снова разжег камин и сел перед ним, выключив электрический свет, потому что огонь в темноте виднее. Я смотрел на огонь, пока не почувствовал, что пришло время размяться, подвигаться, потом просмотрел накопившуюся почту и кое-кому написал ответы. Потом поднялся наверх, съел миску йогурта с ломтем свежего хлеба, и с едой в этот первый день было покончено.
Есть я решил по возможности меньше, потому что чересчур уж набрал жиру и весил около ста восьмидесяти фунтов. Я снова спустился вниз к письменному столу, и за несколько минут до полуночи я начал новую вещь, нечто такое, что позволю себе назвать стихотворением. Ровно в полночь стихи были закончены, и первый рабочий день завершился.
Я чувствовал себя великолепно, и я подыхал, как собака.
Режим работы установился. Каждый день после этого проходил у меня примерно так же.
Через месяц, когда вся работа была окончена, весу во мне осталось сто пятьдесят фунтов, все внутри у меня было как выжженное, желудок усох, завелась язва. Про язву я тогда не знал и думал, что все это жжение от выкуренных сигарет, и в каком-то смысле так оно и было, конечно.
Вот, пожалуй, главное о том, как все было, как я работал и как писал те вещи, имея в виду которые автор письма и спрашивает, как это я, написавший столько хорошего, мог выдать и столько плохого, никчемного. Что ж, происходит это в точности так же, как совмещается обычно что-то хорошее с чем-то плохим. Для тебя это одинаково, ты равно стараешься, и что бы в результате ни получилось, — ты сделал все, что был в состоянии сделать. Лучше уж так, чем совсем ничего не делать, не правда ли?
Содержание
Приглашение к чтению вместо предисловия. Ар. Григорян • 3
Что-то смешное. Серьезная повесть • 8
Папа, ты с ума сошел! (Повесть) • 159
Рассказы
В теплой тихой долине дома • 247
Охотник на фазанов • 253
Званый вечер • 268
Брат Билла Макги • 289
Возвращение к гранатовым деревьям • 300
Пять фрагментов из книги «Не умирать» • 303—333