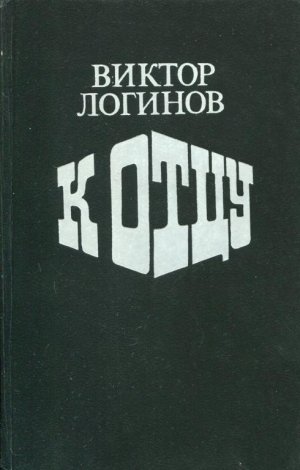
Вся жизнь Маняши Витяковой
Роман
Сон
Маняше приснилось, будто она лежит на кровати, думает. И вдруг чудится ей чей-то голос. Вроде поет кто-то жалобно под окном, просит подаяния. А у Маняши в избе — ни куска хлеба, ни картошки. Одни пятаки в кошелечке. Выскакивает Маняша со своим кошелечком за ворота и видит: стоят три белых ангела. Крылья у них пыльные, лики грустные. Кланяются они Маняше и робко руки протягивают. Маняша вынимает пятаки, кладет одному на ладонь, кладет второму, кладет третьему.
— Спасибо, дочка, — говорит первый ангел.
И тут Маняша узнает: первый-то ангел — отец ее, второй — мать, а третий — муж, все покойные.
Ахнула Маняша и проснулась.
— Господи! — сказала. — Да что же это такое? К чему?..
Страшные сны — войны, пожары — были для нее не в диковинку, а такое привиделось первый раз. Будто она проснулась и слышит, как под окном нищие поют. Два голоса мужских, грубых, а третий — женский, тонкий.
«Тонкий, тонкий, — думала теперь Маняша. — Материн голос».
Маняше посмотреть бы с крылечка, а она сразу за ворота со своим кошелечком. Такой тугой, тяжелый был в руке кошелечек. Может, сто пятаков в нем было, может, и больше. Ангелы на нее свои лики так и вскинули! Крылья у них были опущенные, руки мужицкие, в мозолях…
«А вот что у них на ногах-то было?» — подумала Маняша.
Она пожалела, что не успела разглядеть. Ангелы, значит, поклонились ей, она в кошелечек руку сунула и каждому по пятаку положила. Отец тогда и сказал: «Спасибо, дочка». А она уже мужа узнала. Очень он глядел на нее пристально, словно спросить о чем-то хотел.
А Маняша опять пожалела, что не спросил он ни о чем, голоса не подал. Лучше бы муж, чем отец. Потому что муж ей никогда спасибо не говорил. Не дождалась от мужа этих слов Маняша.
«А мамаша-то, — подумала она. — Мамашу-то я и не разглядела. Она посередке стояла. Поменьше ростом была. Крылышки-то у нее вроде бы до земли не доставали. Малы были ей крылышки».
Но потом Маняша припомнила, что хоть крылышки у матери были и малы, но перья на них казались посветлее, почище. Женщина опрятнее мужика.
— Дурья ты башка! — вслух перебила свои мысли Маняша. — Ангелы же! А ты о чем думаешь?
И ей стало тревожно, что приснился такой странный сон. Пожар или там убийство — понятное дело. А покойные мать, отец и муж в обличье ангелов зачем?..
Сны одолевали Маняшу давно. Она знала, что по-научному это объясняется легко. О чем думает человек днем или вечером, то и приснится. Ученые люди говорят: во сне, мол, отражаются заботы человека. Но эта теория, видно, Маняшу совсем не касалась. Ей не снились дневные заботы и волнения. Маняшин опыт такую теорию не подтверждал никогда. Не подтвердил и сегодня. Приснились ангелы, выпрашивающие милостыню, а должна была, по теории, присниться коза.
У Маняши вчера не пришла из стада коза. Маняша копала на огороде картошку, хватилась — козы возле избы нет. Стадо уже пригнали, козы разбрелись по дворам, а Маняшиной козы нет. Неделю назад пропала коза у одной женщины. Пастух божился, что пригонял козу, а она домой не пришла. Как сквозь землю провалилась.
— Дочка, Дочка! — испуганно кричала Маняша, бегая по улице.
Коза не откликалась и не показывалась. Пропала, выходит, коза. Маняшина коза пропала!
А как назло Маняша третьего дня зарезала козочку. Надо бы оставить вместо старой козы, хорошая была, большая козочка, а Маняша старую пожалела, решила, что старая пусть еще походит, не к спеху, и козочку зарезала. Мясца захотелось — вот и поела мясца, да зато молочка лишилась!
— Дочка, Дочка!..
Ругая себя, Маняша прибежала на речку, к мосткам. Спросила у ребятишек, ловивших рыбу:
— Коза… С черной полосой на спине…
Мальчишки не видели. Мало ли их, с черными полосами, коз…
— Пропала коза! Пропала! — сказала Маняша.
Чуть не плача, вернулась домой, а коза, шатунья проклятая, уперлась рогами в ворота и стоит, просится во двор. Прогуляла где-то!
— Что ты делаешь, бесстыдница? — спросила ее Маняша. — Что ты хозяйку пугаешь? А-а, молчишь! Виновата, значит?
Повозмущалась Маняша, поругала козищу.
Так нет же, коза не приснилась!
А у Маняши весь вечер коза из головы не шла. Трудно ли у старухи козу увести? Кто защитит, заступится? На той неделе тоже у одинокой, беззащитной бабы коза пропала. Куда делась? Известно, под нож пущена. Пастух лукавит, что не знает. И слыхом не слыхал, мол. Врет! Не пригонял он козы. В лесу ее, в сторонке от людских глаз, зарезали, а мясо в мешке унесли. С пастуха надо спрашивать. Но как с него спросишь? Он твердит: пригонял — и все. Коза тоже была гулена. Встречать, мол, надо было у мостков. Может, коза в реке утонула. Это пастух говорит. Не встретила баба козу — и вот тебе на. Да ведь каждый-то день не навстречаешься. До мостков полверсты бежать надо. Все бросать и бежать? Был бы хороший пастух, не пришлось бы и беспокоиться о козе. А пастух плохой. Вороватый пастух. Деньги получает, харч бесплатный да еще любит, чтобы поднесли. Пьет! Непутевый пастух.
Маняша долго думала о козе и о пастухе. Решила, что придется, видно, купить бутылку белого вина. Трешница, по теперешним ценам, не деньги, зато коза, может, цела будет.
С мыслями о козе Маняша и уснула. Козе бы присниться — и дело с концом. Или пастуху тому же. Тоже было бы понятно. А так, если по теории, концы с концами не сходятся.
Маняша лежала на кровати и вспоминала, чем еще занималась вчерашний день. Странный сон беспокоил ее, и она старалась докопаться до причины. Все-таки без причины ничего не бывает. К добру сон или ко злу — другое дело. Об этом еще придется думать. А пока Маняша искала какой-нибудь намек на причину этого сна.
Вчера она проснулась поздно, в седьмом часу. Спала хорошо. Часов пять без перерыва, как в молодости. Даже смутилась немного, вскочив с постели. Самой себя застеснялась.
— Окстись, дурья твоя башка! Все царствие небесное проспишь!
Маняша укоряла себя, но так, для вида, чтобы не сглазить. Ей приятно было сознавать, что она в свои годы способна спать пять часов без перерыва. Да и работа с утра, по росе, какая? Козу выгонять тоже рано: семи нет. Лишний час поспала — и слава богу, на здоровье, бабушка!
Выгнав козу и выпустив в огород кур, Маняша поставила самовар, напилась чаю с малиновым вареньем. В восемь открывался магазин. Маняша сбегала за хлебом. Купила и бутылку подсолнечного масла заодно. Больше ничего ей не требовалось. Молоко свое, мясцо тоже свое, сахар еще есть. Пришла домой и села в передней комнате писать письмо младшему сыну.
Это письмо Маняша все откладывала со дня на день. Все ждала, что сын вот-вот напишет. Он закончил уже свою учебу, обещал обязательно приехать. Прошел июль. Вот и август уже на исходе, а сына все нет и нет. Неужели обманул? Не посчитал нужным заехать, мать проведать?..
Маняша не верила, поэтому и письмо все откладывала. Но вчера решила: надо написать. Может, заболел сын? Может, неудача какая? Уж больно чудная у него работа. Такая чудная, что, по его словам, только один институт в мире таких специалистов, как он, готовит. Желающих-то, видно, на такую должность совсем немного. Потому что в первую очередь голова на этой работе страдает. Маняша боялась, как бы с головой чего у сына не вышло. Без рук можно жить, без ног тоже люди живут, а ум пошатнется — беда хуже смерти. Боялась Маняша за сына.
— Зачем ты туда пошел? — спрашивала она младшего прошлый год. — Шел бы куда все идут. Лучше было бы.
Сын только посмеивался.
— Но если у меня призвание, мама?
— Какое призвание? Учеба — дело добровольное. Кто тебя призвать может?
— Кто призывает — это еще наука не выяснила. В общем-то, можно сказать, природа. А точнее, если между нами, ты. Тебя я должен благодарить за это призвание.
Сын любил свою работу. Как могла Маняша его отговорить?..
«Здравствуй, дорогой сынок! Доброго здоровица тебе пишет к вам и кланяетца твоя мать…»
Маняша писала долго. Ей было жалко сына, который выбрал себе такую трудную работу. Она не раз всплакнула, но не остановилась, пока не исписала два листа. Сын жил где-то далеко, на юге. Письмо шло туда три дня. Можно было легко подсчитать, когда ответ придет. Три дня туда. На четвертый получит и напишет. Да еще три дня обратно. Через неделю и надо ждать ответ, если все у сына в порядке. Неделю-то уж как-нибудь она прокоротает.
С этой мыслью Маняша и запечатала письмо в конверт. Неделя — не время. Только надо было давно сыну написать. Давно бы и ответ пришел.
— Дурья ты башка, дурья башка! — поругала себя Маняша.
А время уже за полдень перевалило. Маняша снесла письмо на почту, на скорую руку сварила щи и стала копать картошку. До вечера два мешка накопала. День прошел, как обычно, если бы не коза…
Но ни коза, ни письмо к сыну, ни выкопанная картошка не имели к странному сну никакого отношения. О своих родных Маняша давным-давно не вспоминала. В церковь тоже с год, пожалуй, не ходила. Причин для такого сна вроде бы совсем и не было. Да только, может, причина глубже где. Но как в глубину, в самую суть, Маняше проникнуть?..
«Больно умишка-то у меня маловато. Куда уж мне со своим умишком такую тайну разгадать!» — с огорчением подумала Маняша и решила, что всего ей не передумать, пора и на ноги.
Утро было опять славное, теплое. И все было бы хорошо, если бы не сон.
Маняшин кошелечек лежал на комоде. Особенный был кошелечек. Раньше носили такие ридикюли. С железной защелкой. Только большие. А кошелечек у Маняши маленький и уже потертый. Давно уже бегает с ним Маняша. Куплен он еще до денежной реформы, когда мелочь, гривенники да пятиалтынные, совсем в счет не шла. А о пятаках и говорить нечего. Это теперь пятак равен прежнему полтиннику. Упадет — нагнешься и поднимешь: полрубля ведь. Но пятаков сейчас в кошелечке — ни одного. Гривенники есть. Двугривенный один. Рубль металлический, на нем солдат с мечом. Сказывают, юбилейный, рубль особенный этот. И еще в кошелечке три пятерки — все, что осталось у Маняши от пенсии. А пятаков нет и в помине. Но Маняша хорошо помнит, что вынимала из кошелечка пятаки. Тугой был, тяжелый кошелечек.
— Дурной сон, — сказала Маняша. — Ничего не сходится. Дурной — и все. И думать о нем больше не хочу.
Но это лишь было бы сказано. Выйдя на крыльцо, Маняша стала прикидывать. Поглядела из-под руки. Нет, с крылечка ангелов нельзя было увидеть. Они стояли не посредине улицы, а возле самых ворот. Слева отец стоял, справа муж, а между ними мать. Будто Маняша открыла калитку и сразу их увидела. Они поклонились и руки протянули. Ладонями кверху были руки. И в каждую ладонь Маняша по пятаку положила. Потому что в кошелечке одни пятаки лежали. Она хорошо запомнила: целый кошелечек пятаков. И кажется, все новенькие были пятачки. Да, новенькие, на солнце блестели. Положит Маняша пятак на ладонь, а он блеснет, как золотой.
Не забывался, не шел из головы сон!
Маняша выгоняла козу, а видела перед собой ангелов. «У матери крылышки совсем короткие. Как она на таких коротких крылышках летает, бедная!». Выбегала за водой к общественному колодцу и глядела на то место, где, должно быть, стояли ангелы. «Рядышком стояли, крылышко к крылышку, и поклонились ниже пояса в одно время». Возвращалась с водой и вспоминала, как ахнула, узнав мужа. Покойный муж глядел так грустно, внимательно. Не глядел, а спрашивал глазами. О чем спрашивал? Что ему интересно в ее жизни было?
— Не даст покою теперь проклятый сон! — сказала Маняша. — Не даст!
Вот так же много лет тому назад приснилось Маняше, будто зовет ее кто-то. Тихонько да жалостливо: «Маняша, Маняша-а!..» Она жила тогда еще в чужом городе, куда завез ее муж до войны, в большом старом двухэтажном доме, купленном случайно за полцены. Вскинулась Маняша с постели, слушает. Вроде бы тихо все, только ветер шарит за окнами. Дети спят, дышат ровно, не ворочаются. Прилегла опять Маняша, стала засыпать, и снова ее кто-то позвал: «Маняша, Маняша-а!..» Долго она, испуганная, сидела на кровати, прислушивалась. Скрипнет старая доска где-нибудь, а Маняша вздрогнет. Ударит ветер в окно — вздрогнет Маняша, сожмется в комок. Под утро третий раз позвал ее жалобный голос. Кто звал, она не разобрала. Вроде бы женский был голос. Но сказать уверенно Маняша не могла. Целый день думала, волновалась, а к вечеру собрала детей и сказала, что уезжать надо. Город чужой, дом старый, дряхлый, земле кланяется. Война кончилась. Жизнь вроде бы налаживается. Уже и карточки отменили. Уезжать надо! Чужие они здесь, приезжие. Через неделю нашелся покупатель, с руками домище оторвал. Два этажа, шесть комнат да двор — хоромы, можно сказать. Маняша наняла грузовик да и стащила в кузов барахлишко из всех шести комнат. Только один грузовик и понадобился. Уехала она в небольшой городок, от которого рукой подать до ее родного Павловского. И никогда больше не тревожил ее по ночам жалобный голос. Маняша догадалась, сон разгадала по-своему. Это ее родные места звали. Родина позвала. А коли так — надо слушаться. Послушалась, и слава богу.
Ну, а теперь что?..
Про жалобный голос Маняша никому не рассказывала. Взяла и сделала по-своему. Все сама. И помоложе была, и надобности в советах особой не было. Все дети были под боком, под рукой. Теперь же совсем другое положение. И годы не те, и одна совсем, и сон такой особенный, что ума не приложить. В церковь пойти? Так ведь что попу скажешь? Ангелы явились. Ни поверит, пожалуй…
Маняша склонилась над чугунком. Картошка остыла, парок чуть-чуть струился. А Маняша не притрагивалась к ней. Не до еды было. К чему этот сон? Что сулил он ей?
Плохой день выдался у Маняши. Совсем скверный день. Маняша жила как в полусне. Ела не ела, работала не работала… Возьмет в руки тряпку и держит ее, не знает, куда положить. Жует что-то и не чувствует, что жует. А то остановится посредине комнаты, упрется взглядом в угол и совсем не соображает ничего. Хоть смейся, хоть плачь! Да смеяться-то грешно по такому случаю. Тут уж плакать надо.
В середине дня Маняша плюнула на все домашние дела, вышла на улицу и села перед окнами на лавку. И не успела еще оглядеться, как откуда-то взялся и остановился поблизости сосед, Лукьян Санаткин, по давнишнему прозвищу Родимушка.
Соседа этого, дядю Лукьяна, Маняша не то что не уважала, а как-то не относилась к нему по-серьезному. Да и никто на улице не считал его за серьезного человека. В дурачках он, правда, не числился, но и в серьезных тоже не ходил. Звали его теперь чаще всего «женихом», потому что он сватался ко всем вдовам. К Маняше тоже сватался. Но Маняша вежливо отказала, сославшись на преклонные годы и на болезни. «Жених» не обиделся. К отказам он привык. Ему все отказывали. И он всегда говорил, выслушав возражения: «Не ты первая, не ты последняя, на мой век хватит, а пока останемся друзьями». Так он со всеми и оставался друзьями. И с Маняшей тоже. Всех вдовушек и безмужних женщин он звал невестами, И Маняша не составила исключения.
— Ну вот, — сказал дядя Лукьян. — Здорово, невеста. Чего пригорюнилась? О смерти задумалась? А ты не думай, все одно все там будем. Кто раньше, а кто позже, а там будем непременно. Ни один не минует.
Маняша знала, с каких слов начнет дядя Лукьян. У него разнообразия в словах не было. Поэтому она лишь кивнула и стала ждать следующих, тоже знакомых слов.
— Ну вот, присесть-то можно? — спросил дядя Лукьян и, не дожидаясь ответа, начал садиться. Пока что ответ ему тоже был не обязателен.
Садился дядя Лукьян не сразу. Сразу он уже садиться разучился. Теперь все это дело состояло у него из трех приемов. Сначала он долго выбирал то место, куда намеревался сесть, другими словами, целился. Потом сгибался, медленно опускаясь на сиденье и шаря сзади себя рукой. А затем уже разгибался и, ерзая, устраивался поудобнее.
— Сел на место, — говорил он немного удивленно.
Не обошлось без этих слов и на этот раз.
— Старость не радость, — сказала Маняша.
Словом, Маняша и дядя Лукьян разговорились. Но у Маняши не шли слова на язык, и она решила, что пусть дядя Лукьян, если хочет, ведет разговор. И дядя Лукьян, не дожидаясь понукания, начал:
— Ну вот. Про что я тебе хочу рассказать, невеста. Про кровь я тебе расскажу. В науку решил углубиться. Пра слово. Наукой доказано, что кровь у людей разная. Не веришь?
— У всех красная, — ответила Маняша. — Чего же разная?..
— Не то. Не про цвет говорится, а про свойство. Пра слово. Она на группы разбита. Первая, к примеру, не сходится со второй, а вторая с третьей. Какой признак, ты считаешь?
— Какой признак? — спросила Маняша.
— А признак такой, что бога не существует, — уверенно сказал дядя Лукьян. — Это я вывел. Сам вывел.
— Как же это ты вывел?
— Угадай.
— Ты сам скажи, если умный такой.
— А вот как, — сказал дядя Лукьян, приосаниваясь. — В Писании говорится, что бог создал человека по своему образу и подобию. А раз так, и кровь должна быть у всех одинаковая. А она разная. И выходит, бога нет.
— Твое такое мнение?
— Ну вот. Теперь каюк попам.
— Испугались они тебя…
— И не спорь со мной. Науки они боятся. Для них наука — это вот. — Дядя Лукьян полоснул по тощему горлу ладонью. — Смерть. Заявить надо. Может, премию дадут.
— Отвалят! — насмешливо сказала Маняша. — Гляди.
— Обязаны.
— Ну, ну…
Дядя Лукьян был на выдумки горазд. Он почитывал книжонки. Иной раз Маняше и любопытно было послушать какую-нибудь диковинную историю. Но сейчас у нее не было настроения.
Не догадываясь об этом, дядя Лукьян продолжал:
— Ну вот. Полагаю, произойдет открытие. В науке переворот. То-то меня сны замучили.
Услыхав это, Маняша даже обмерла.
— Да все кровь и кровь. Пра слово. Так она и течет, так и хлещет. И пузыри по ней. Все пузыри, пузыри. Бегут и лопаются, и лопаются, и лопаются.
— Лопаются, лопаются, — передразнила дядю Лукьяна Маняша. — На то они и пузыри, чтобы им лопаться. Тут не такие сны бывают!
Она спохватилась, да было уже поздно: дядя Лукьян заинтересовался.
— Ну вот, — сказал он. — А ты объясни, какие такие. Я сны умею разгадывать. У мамаши покойницы научился.
— А-а!.. — пренебрежительно сказала Маняша и махнула рукой. Ей не хотелось говорить дяде Лукьяну о своем странном сне. Но и не сказать кому-нибудь было тоже нельзя. Маняша это чувствовала. Сон к людям просился.
— Напрасно. Пра слово. Это ты напрасно, невеста, — обиженно проговорил дядя Лукьян. — Каждый сон имеет свое объяснение. Чудной, что ли, сон?
— То-то, что чудной.
— Читал я у одного писателя, у Максима Горького: сапоги идут по полю. Ну вот. Голые сапоги.
— Какие сапоги! — сказала Маняша, совсем потеряв терпение. — Что ты за сапоги выдумал? Мне ангелы приснились. Живые ангелы!
— А мертвых не бывает, — спокойно возразил дядя Лукьян. — Ангелы завсегда живые. — И деловито спросил: — Сколько числом?
— Трое, — ответила Маняша. — Два ангела мужского полу, а третий женского.
— Глупые ты слова говоришь, невеста! — сказал дядя Лукьян. — Ангелы-то не парни и девки, они не делятся на мужской и женский пол. Пра слово.
— Как же так не делятся, если я сама видела, своими глазами. Два ангела мужского полу, а третий женского. И все с крылышками.
— Не делятся, — настаивал дядя Лукьян. — Это им ни к чему. Нужды в этом нет. Ну вот. Они одново полу.
Дядя Лукьян говорил, как человек знающий, бывалый, а Маняша стала сердиться.
— Не делятся, не делятся, заладил! Ты же в церкву не ходишь. И никогда не ходил. Ты безбожник! Как тебе знать, какого они полу?
Дядя Лукьян затруднительно почесал лохматый затылок. Только на затылке и остались у него волосы. Зато росли там буйно, как у попа.
— Это верно, — сказал он. — Пра слово. Так ить в церковь не обязательно…
— Я тебе русским языком говорю, что видела ангелов. Вот тут они стояли. — Маняша несмело ткнула пальцем в траву. — Два ангела мужского полу, а третий женского. — Она помолчала и добавила: — Как не понять, если покойные папаша, мамаша были да муж.
— Чего, чего? — спросил дядя Лукьян.
— Папаша, мамаша да муж, говорю, — тихо повторила Маняша.
— Не врешь? — спросил дядя Лукьян, очень пораженный.
— Чего мне врать? Какая корысть?..
— Ну вот! — сказал дядя Лукьян и опять почесал в затылке. — Чудеса! И мамаша, значит? Как же ее в ту кампанию занесло? Пра слово…
Маняша уже не могла сдержать себя и рассказала дяде Лукьяну все до конца: как ангелы просили милостыню у нее под окном и как она каждого из них оделила пятаком. В кошелечке у нее будто бы одни пятаки и были…
— Ну, Маняха, — уверенно сказал дядя Лукьян, — это особенное что-то! Это так просто не бывает. Пра слово. Ангелы — одно дело, а чтобы милостыню просили — совсем другое. Это тут надо покумекать. — И рука дяди Лукьяна снова полезла в гриву волос на затылке.
— К чему может быть такой сон? — спросила Маняша. — Что означает?
— Тут надо покумекать, — повторил дядя Лукьян. — Это дело не простое.
— К несчастью? Или, может, к добру? — тихо продолжала Маняша.
— К добру! — уверенно заявил дядя Лукьян. — Ну вот. Такой сон обязательно к добру. Но это не все.
— А чего же еще? Говори, если знаешь.
— Это — знак тебе. Пра слово.
— Какой же такой знак? — растерялась Маняша. — Божий?
— Погоди. Пра слово. — Дядя Лукьян стал морщиться, словно у него заболел живот. — Про что это мы? Да, про сон. Ты меня не перебивай, Маняха. Сон — это явление научное, доказанное. Мало ли что во сне может привидеться. За это никто отвечать не может. Третьего дня я во сне своего племяша зарубил.
— Ты мне про сон, про сон объясни!
— А он к добру, — сказал дядя Лукьян. — Это и не сумлевайся. Богатая будешь. К богатству сон. Пра слово.
— Да откуда же богатство возьмется? — удивилась Маняша. — Кто мне его даст, богатство-то? Я всю жизнь без богатства прожила. Зачем оно мне на старости лет?
— Так уж ведется. Не жди когда хочется, а жди когда получится. Сон твой к богатству — и все тут. Это уж, пиши, точно. Пра слово. Валяй за поллитрой, невеста, да чарочку поднеси мне. — И дядя Лукьян толкнул Маняшу локтем в бок.
— Вон ты к чему клонишь, — усмехнулась Маняша. — Понятно. За поллитрой бежать. Так я и побегу! Гляди. Сколько ты у меня поллитров выманил?
Маняша пожалела, что завела с Родимушкой напрасный разговор и все рассказала соседу. Не нужно было выдавать ему свою тайну. «К добру!» Дядя Лукьян, пожалуй, это и заладил только к тому, что надеялся на поллитру. Пьянчуга!
— Ну-ка, сколько поллитров выманил? — еще раз спросила Маняша, насмешливо глядя на седое колючее лицо дяди Лукьяна.
Сосед поворошил пальцами загривок и ухмыльнулся. Видно, он и не надеялся на удачу.
— Ну вот, — добродушно сказал он. — А сон-то у тебя занятный, Маняха. Особенный сон. Не к убытку, а к прибытку. Ангелы милостыню просили, так чего уж… У тебя облигации есть?
— Какие облигации? Откуда они у меня?
Маняше все больше и больше надоедал заведенный, как на грех, разговор, и она уже собиралась встать и, сославшись на дела, уйти.
Но дядя Лукьян настаивал:
— Купи облигацию. Али билетов лотерейных. Пра слово. Выиграешь — вспомянешь, что я говорил.
Маняша презрительно посмотрела на Родимушку и поднялась с лавки.
— Некогда мне с тобой лясы точить, у меня работа стоит.
Вывод дяди Лукьяна почти обидел ее. Такой разгадки она никак не ожидала. Чтобы странный сон, не дающий ей покоя, мог означать выигрыш по облигации — нет, она и мысли не могла допустить! То, что сказал дядя Лукьян, было какой-то насмешкой.
«Дура старая! Связалась с кем!» — подумала Маняша.
— Ну вот, — сказал дядя Лукьян. — А ты все-таки поимей в виду.
Маняша пренебрежительно махнула рукой и, толкнув калитку, ушла к себе во двор.
Из окна Маняша видела, как дядя Лукьян оторвался от скамейки и, трудно разгибая спину, двинулся к соседнему дому. По дороге он потревожил кошку, спящую в траве, и кошка с перепугу брызнула к забору. Это дядю Лукьяна заинтересовало, и он долго смотрел на то место, где притаилась кошка. Спешить дяде Лукьяну было некуда. Смотри да смотри.
«Старый шатун», — беззлобно подумала Маняша.
Дядя Лукьян жил чуть наискосок от Маняши. Избенка у него была низенькая и черная, словно обуглившаяся. Когда-то ее срубили на скорую руку. Видно, была нужда у людей. Отпечаток этой нужды остался на избенке до сих пор. Она стояла без наличников на окнах и без крыльца. Строители ее старались поскорее вселиться. Была бы хоть крыша над головой, а о красоте и удобствах потом можно позаботиться. Но что-то помешало им потом украсить избу. Так она и простояла не один десяток лет, портя своим сиротливым, заброшенным видом прямую красивую улицу. Дяде Лукьяну изба досталась уже поизношенной, почерневшей. Он мог бы привести ее в божеский вид. В ту пору, говорят, у Родимушки водились деньжата. Но он и пальцем не пошевелил. Даже палисадник сломал на дрова. Избенка стала еще сиротливее.
— Шатун и есть шатун, — прибавила Маняша, оглядывая ветхое жилище дяди Лукьяна. — Как раньше жил непутево, так и…
Она не договорила. Ни к чему это. Кто знает, что завтра будет?..
— Бог с ним, — прошептала Маняша.
Она привыкла вот так рассуждать с собой. Думает, думает, а потом вставит словечко вслух. И кажется, что не одна в избе. Кажется, разговаривает с кем-то. Так и день проходит. День да еще день. А к ним еще денек!. Вот уж и месяц позади. И год. Жизнь течет под уклон. И позавчера так было. И вчера. И сегодня бы… Да вот…
— Сон, сон… И что это за сон?
Маняша прилегла в полутемной комнате на кровать, хотя было еще не время. Да и вообще она редко ложилась днем. Все как-то было некогда. А летом в особенности. Если же и ложилась, то на полчасика после обеда. Чтобы старые кости отдохнули. Теперь же Маняшу привела на постель не усталость.
Маняша не раскаивалась уже, что рассказала про сон дяде Лукьяну. По правде, разговор с Родимушкой ее даже успокоил. По-глупому и по-смешному рассудил дядя Лукьян, непутевый сосед, но Маняше стало легче. Не страшного он ей наговорил, не встревожил пуще прежнего. На облигацию свернул, старый черт! Да и за это спасибо. А то еще пугать бы начал — страдай потом…
Маняша и сама не знала, что это ей вздумалось прилечь в неурочное время. Сказать, что устала, так нет, усталости она не чувствовала. День еще только начинался. Но Маняша не хотела задумываться над такой причиной. Значит, требовалось. Покой нужен был.
— Жись-то, жись-то… сколько всего пережила! — сказала Маняша и сама удивилась, сколько разного-всякого приключилось с ней за шесть с половиной десятков лет ее жизни. — Чего только не было, боже мой!..
Много всего было. И горького, и сладкого. Больше горького, чем сладкого. Только горькое, оно временем подслащается. Маняша уже давно поняла этот добрый закон жизни. То, над чем в молодые годы слезы проливала, теперь вспоминалось с удовольствием, как маленькое огорчение на веселом празднике. Старое горе сейчас вроде бы уж и не горе вовсе, а так, неприятность.
— Плохое-то забывается, — прошептала Маняша, — а хорошее остается.
И вдруг ей захотелось вспомнить что-нибудь хорошее и светлое. Чтобы можно сказать без зазрения совести: «Да, было!» Чтобы уверенно сказать, что жизнь прожита, как у людей. Но зачем это — уверенно сказать, — и Маняша не знала. Просто захотелось ей. Захотелось и все…
Маняша, ее муж Василий и Пашка Кривобокова
В самом конце 1941 года (Маняша и число помнила — шестнадцатого ноября) Маняшиного мужа Василия, дорожного техника, забрали в армию. Маняша осталась с пятью ребятишками, старшему из которых пошел тогда шестнадцатый год, а младшему не было и пяти. Да и обижаться нельзя было: немец обложил Москву, тяжело воевала Россия и помощи ниоткуда ждать не приходилось. Брали в армию всех, не смотрели, кто дома остается. Василий и то прожил с семьей почти пять военных месяцев. Давным-давно разносили по домам похоронки. Плач подымался то слева на улице, то справа, а то сразу со всех сторон.
Посчастливилось Василию и после мобилизации. На третий день он вечером прибежал домой и сказал, что пока оставляют его в городе и вроде бы почти на старой должности, только жить будет, конечно, в казарме. Так и получилось. На той же неделе Маняша увидела его на городской площади. В серой шинелишке, в обмотках, тощий, непохожий на себя, он вел куда-то таких же понурых и тощих солдат. У каждого из них сбоку был подвешен котелок. А у Василия котелка не было. Неумело подпоясанная шинель вздувалась у него на спине, отчего казалось, что он горбат. Шел он как-то понуро, глядел под ноги, и, хотя у него была привычка — глядеть под ноги, Маняше показалось, что муж совсем упал духом, позабыт, позаброшен. Ей стало жалко его, и она заплакала. Слезы лились по ее щекам. Никогда раньше не роняла она таких обильных слез. Да и позже так плакать ей не случалось. Даже и в тот день, когда принесли на мужа похоронную…
Но не одна Маняша плакала тогда на городской площади. С базара, который в те времена был совсем небогат, но многолюден, как в воскресенье, набежало десятка два баб. И у многих из них тоже текли по щекам слезы. О чем они плакали? Кого вспоминали, глядя на понурых солдат? Об этом и спрашивать не надо было. Русская баба зря не плачет.
А солдаты, почувствовав бабье горе и застыдившись своего невоенного вида, вдруг воспрянули духом. Лица у них посветлели. Задние подтянулись, шеренги выравнялись сами собой. Дошло, наконец, и до Василия. Он перепрыгнул с ноги на ногу, вытянул вперед подбородок и, шлепая о булыжник тяжелыми ботинками, закричал:
— Раз, два — в ногу! Раз, два!
Это показалось ему недостаточно, и он добавил:
— На обед движемся — висселей!
Последнее слово так и просвистело в воздухе, и сколько уж лет прошло, а Маняша все помнит этот веселый звук.
Новобранцы пересекли площадь. Две или три бабы засеменили следом. Маняша бросилась за ними. Василий обернулся и увидел ее. Он махнул ей рукой, чтобы уходила, но Маняша, не сознавая ничего, продолжала бежать. Лицо ее было облито слезами.
Василий крикнул еще что-то и отстал от своих. Маняша подбежала к нему.
— Ты что ревешь? — сердито спросил он. — В могилу рано провожать!
— Да что ты, Вася!.. — сказала Маняша. — Разве же я потому? Разве ж я?..
— Радоваться надо, что при семье остался, — торопливо заговорил Василий. — Других позавчера под Москву послали, прямо в пекло. И мне не миновать, да, видно, не сразу. Меня помощником Семенова назначили. Командир знакомый попался. Я его по Некоузу знаю, он тогда в области, в дорожном отделе, работал. Помнишь, может быть, Семенова? Он у нас один раз ночевал.
Маняша покачала головой. Она не помнила Семенова. Не было у нее сил сейчас вспоминать этого Семенова.
— Мне пора, — продолжал Василий. — У нас в школе-семилетке казарма. Принеси вечером пожрать. Паек военный знаешь какой — с гулькин нос. — И он, махнув рукой, стал догонять своих солдат.
Маняша пробежала за ним шагов десять и остановилась. Куда бежать? Зачем? Теперь за Василием не угонишься. Она и раньше-то за ним не поспевала…
Помнится, тогда перехватила ее возле базара соседка, проводившая на войну трех сыновей. Спросила:
— Своего встретила? Здесь будет?..
Маняша кивнула.
— Счастье-то какое! — горестно сказала соседка. — А мои…
И верно, Маняша тоже так думала. Других под Москву, в самое пекло, а муж — здесь, под боком у семьи. Который уж раз Василию фартило вот так-то.
Маняша бежала домой и думала, что бы такое принести Василию. Сказал: «Принеси пожрать». Надо нести. А что понесешь?
Перед войной люди говорили о войне, но все от нее отмахивались: «А-а, может быть, как-нибудь!..» Вот так — как-нибудь да как-нибудь — и дождались двадцать второго июня. Полез немец от моря и до моря. Застал врасплох. Вскоре хлеб уже продавали по спискам. Потом ввели карточки. Цены на базаре поднялись вдвое, втрое, вдесятеро. Литр молока в октябре стоил восемьдесят рублей. Сто рублей — буханка хлеба. Колхозникам еще было ничего, а городских придавила голодовка. Получай по карточке полкило хлеба (на ребятишек — четыреста грамм) — и до свиданья. Подсобных хозяйств у городских жителей не было. У Маняши положение сложилось такое же, как и у всех. Правда, была у нее корова. Но зато и ребятишек пятеро, из них четверо сыновей. Работать — мальчики, есть — мужички. Две буханки хлеба они уминали и при довоенном приварке. Теперь же, кроме пустых щей да картошки (мера — пятьдесят рублей), никакого приварка не стало. Маняшина корова, как назло, была в запуске, раньше начала февраля ждать молочка не приходилось. Крутись как хочешь!
Но если муж просит: «Принеси пожрать» — надо нести. Такой закон на Руси: сам не съешь, а солдату или арестанту отдай. Солдатам и арестантам все равно тяжелее.
Вот Маняша и соображала, торопясь домой, какую еду ей приготовить к вечеру для мужа. Дома у нее, кроме хлеба да щей, ничего не было. На базаре она тоже не сумела ничего купить. То было дорого, другое предлагалось в обмен на хлеб. А где его, хлеба, взять? Дети как голодные галчата… Оставался один выход — кланяться в ноги Пашке Кривобоковой.
Маняша приметила, что на второй или на третий месяц войны в городе появились особенные люди. Не то чтобы они понаехали откуда-то, нет, их и раньше встречали на улице. Но раньше они не обращали на себя внимания, ничем не выделялись среди других. Митрич да Митрич. Тетка Елена да тетка Елена. Пашка да Пашка. Знали их только ближние, соседи да еще сослуживцы. И вдруг они выделились, и теперь уже каждого из них все замечали за версту и, приближаясь, кланялись, как благодетелям. К таким людям принадлежала и Пашка Кривобокова. Она резала хлеб в столовой.
До войны на Пашку, если не считать гулящих мужиков, никто не обращал внимания. Была она незамужней или вдовой — разобрать трудно. Не раз бабы били в ее окнах стекла. Но Пашка не стеснялась. Таким хоть в глаза плюй. Мужиков, мол, на мой век все равно хватит. Маняша догадывалась, что побывал у Пашки и ее Василий. Да ведь из этого колодца кто не напился! Недаром мужики, ухмыляясь, говорили про Пашку: «Чай, она не казенная». А как грянула война — она, Пашка, и показала себя, неказенная-то. Оказалось, что вовсе и не Пашка она, а Павла Александровна.
— Здравствуйте, Павла Александровна!
— Павла Александровна, как поживаете?
— Павле Александровне наше нижайшее!..
Как раз на своем месте Пашка очутилась. Умела она резать хлеб. К хлебу же, как известно, в голодный год золото липнет. И стали загребать его вот такие пашки. Подавай ей царскую золотую пятерку, золотое кольцо, бриллиант, а она тебе — хлеба, мяса, каши, маслица…
Но справедливости ради, надо сказать, что, случалось, давала она еду и так, почти бесплатно. Приди к ней, поклонись хорошенько, поплачь — Пашка махнет рукой и скажет: «Ладно уж, где моя не пропадала, запишу на тебя, Марья (или Пелагея), день (или два) работы. Ты не возражаешь?» И подаст полбуханки или целую буханку. Такой Пашке за версту поклонишься.
У Маняши золота не было, весь расчет у нее был только на поклоны.
«Авось лба не расшибу», — думала она, торопясь домой.
Пашка Кривобокова тоже жила на Ярцевской горе, рядом с Маняшей, только пониже. Во второй половине дня она всегда бывала дома, и Маняша это знала. Поэтому она решила заглянуть к Пашке, не забегая домой.
Пашка открыла не сразу, проворчала, снимая крючок:
— Отдохнуть не дадут… как на каторге!..
Но увидев, кто пришел, подобрела:
— А-а, это ты, Маняша! И тебе ко мне понадобилось…
— Понадобилось, Павла Александровна, что понадобилось, то понадобилось! — сказала Маняша со вздохом.
— Теперь я всем нужна стала. — Пашка зевнула. — Ну говори, что тебе надо. Что принесла?
— Что я могла принести, — опять вздохнула Маняша. — Ничего у меня нету.
— А дом купила, — усмехнулась Пашка.
— В дом-то все и убухала. Продавать одежонку пришлось. Сама, чай, видишь… Павла Александровна.
— Александровна, Александровна! — Пашка засмеялась, показывая свои белые, как снег, зубы. — Мы-то с тобой можем и попросту. Зови меня Пашей. Я ведь и помоложе тебя буду. Годков на десяток, а?
— На двенадцать лет, — ответила Маняша. Она и это знала.
— На двенадцать, — повторила Пашка. Это ей понравилось. — На двенадцать! — сказала она еще раз. — Выходит, тебе и сам бог велел звать меня — как? Пашей. Ну так чего тебе?
Маняша только сейчас заметила, что Пашка встретила ее в исподнем, но в туфлях на высоком каблуке, и этот Пашкин срамной наряд (рубашка до коленок) поразил и смутил Маняшу. Грудь почти голая, из-под рубашки сверкают белые коленки…
«Вот он разврат-то!» — подумала Маняша.
Пашка села на кровать, закинула ногу на ногу. Совсем срамота! Маняша глаза опустила.
— Ну так выкладывай, за чем пришла? — спросила Пашка, вынимая из коробки папиросу.
— Все за тем же, за чем и другие, — прошептала Маняша.
— Хлеба нужно?
— Да и хлеба бы. Может, и еще чего дашь…
— Еще чего дашь! — обозлилась вдруг Пашка. — Ну и народ! Вы что, думаете, у меня здесь склад? Шоколад да мармелад?
Маняша знала, перечить нельзя. Пришла просить — стой, терпи, слушай. Бог терпел и нам велел. Да чего уж, люди много напридумывали для таких случаев поговорок.
Пашка закурила, пустила в потолок колечко дыма и, любуясь, как оно расплывается под потолком, сказала:
— Бумажки принесла? А бумажек мне не надо. Что, ими стены обклеивать, что ли, бумажками?
— Я отработаю. В долгу не останусь, Павла Александровна, — тихо проговорила Маняша. — Помою что, постираю, огородик вскопаю…
— Да я уже на год вперед знаю, кто на меня будет шить, мыть и стирать.
— Жизнь-то не на один год. На второй тоже кому-то надо мыть и стирать, — заметила Маняша.
Эти слова заинтересовали Пашку.
— А ты думаешь, это больше года продлится?
— Кто знает, — вздохнула Маняша. — Может, и больше…
— Господи, господи! Для кого тебе надо? Заболел кто?
И тут Маняша, хоть и не хотела этого, сказала:
— Да нет… Василий просил очень… Василию бы понести…
Не выдержала — сказала все-таки.
На Пашку это произвело впечатление, и она сразу соскочила с кровати.
— Солдату? Солдату — пожалуйста. Я и записывать не буду. Не такая я гадина, чтобы солдату куска не дать.
Пашка подбежала к полке, отдернула занавеску и, схватив тарелку, протянула ее Маняше.
— На! Себе на ужин принесла…
В тарелке была лапша, а сверху лежали две большие котлеты.
Пашка открыла шкафчик, вынула полбуханки хлеба.
— Вот еще. Бери.
Маняша подумала: «Скажет, чтобы привет Василию передала, — брошу тарелку ей в харю!»
Но Пашка ничего не сказала, и Маняша ушла домой не униженная. Кто ее знает, эту Пашку. Может, и не была она с Василием. Маняша их не видела. Никто ей не говорил. А Догадки, они не всегда верные…
«Я ей все равно отработаю, — подумала Маняша. — Задарма-то чего же брать? Не годится».
Она забралась по Ярцевской горе на следующий порядок и уже подбегала к дому, как вдруг вспомнила о детях. Тарелка с лапшой и котлетами была у нее в кошелке. Лежали там еще три большие свеклы и пять морковок. Только свеклу и морковь купила Маняша на базаре. Красная свекла хороша пареная. Вполне идет вместо сахара. А сушеной морковкой теперь заваривали чай. За продуктами к чаю и ходила на базар Маняша. За чем ходила — выходила, да принесет еще лапшу с котлетами. Младший сын схватит кошелку, заглянет туда и закричит от радости. Сбегутся остальные. А Маняша скажет: «Не для вас, детки, для отца…» Как они станут расходиться, с какими лицами!
Маняша знала, что ни один из них не упрекнет ее, не скажет и слова. Разве что младший похнычет. Младшему-то можно бы отломить кусочек. Но зачем же остальных расстраивать?
«Нельзя нести, — подумала Маняша. — Спрятать надо».
До вечера было еще далеко. Снег скрипел под ногами. Щеки пощипывал мороз. На дворе не спрячешь: к вечеру вся еда в ледышку превратится. «Спасибо, — скажет, — угостила ледком!»
В сарае, где зимовала корова и валялся всякий хлам, оставшийся от прежних хозяев, Маняша покрыла тарелку с едой двойным тетрадочным листом, потом обернула куском мешковины. Разворошила вилами кучу сена и укрыла в нем от детских глаз Пашкин подарок. В кошелке остались свекла да морковь. Дети и этому были рады.
А вечером Маняша разгребла сено. Котлеты и лапша в тарелке еще и не остыли. Василий встретил Маняшу возле школы.
— Принесла? Ну-ка, давай!..
— Здесь будешь есть?
— А где же, в казарме негде.
Маняша присела на корточки. Наклонился и Василий.
— Чего принесла? А-а!.. — он вырвал тарелку у Маняши из рук, уткнулся в котлеты носом, стал нюхать. — Чем это… вроде бы… пахнет?
— Да чем же оно может пахнуть? — испуганно воскликнула Маняша. — Пища-то какая!
— Тарелка, видно, где-то стояла… Ну ладно, у меня время мало. — Василий вынул из кармана ложку и, сидя на корточках, принялся есть. — Жирная лапша! Помянешь сейчас довоенную жизнь!
Он съел все и вылизал тарелку.
— Теперь порядок!
Василий не спросил, где Маняша достала такую сытную пищу, и не сказал жене спасибо. Да Маняша и не ожидала от мужа благодарности.
— Как?.. Что слышно-то? — спросила она.
— Пока ничего. Все в порядке. Семенов сказал, что при себе меня оставляет. Зиму продержусь, а там видно будет. Я Семенова на днях в гости приведу. Имей в виду.
Слова Василия означали: готовь закуску.
— Так ведь где же, Вася?..
— Хоть из-под земли, — сказал Василий. — Нужно позарез. Продай что-нибудь, а мяса достань. Сама понимаешь, не капустой же командира угощать. От него моя судьба зависит.
— Ясное дело, не капустой, Вася… Когда ждать-то?
— На той неделе. Я скажу.
— Сено бы, Вася, с поля привезти…
— Может, устрою. Но имей в виду, чтобы краснеть перед Семеновым не пришлось!
— Да уж как-нибудь, — сказала Маняша, а про себя подумала: «К Пашке не пойду!»
Только идти-то пришлось.
Маняше нужно было пуговицу, У младшего оторвалась на пальтишке пуговица. В картонной коробке всякой всячины было хоть отбавляй. Ржавые наперстки, старые иголки, крючки, мотки ниток. Были и пуговицы, да подходящей не попадалось. А Маняша помнила: где-то у нее валялись такие пуговицы. Она полезла под кровать и вытащила оттуда железную банку из-под ландрина. Ландрин — карамель, такие маленькие твердые конфеточки. Маняша слыхала, что называли их по фамилии хозяина фабрики, на которой эти конфеты делались. До революции во всех деревнях на Маняшиной родине пили чай с ландрином. С той поры еще и осталась железная банка. Теперь в ней был всякий хлам. Маняша высыпала его на стол. Младший полез в ворох хлама ручонкой, вытащил что-то блестящее.
— Мама, что это?
— Что нашел, то и будет, — ответила Маняша. — Ты вот лучше пуговицу ищи.
— А это мне можно взять?
— Возьми, коли нравится. А что там такое?..
— Не знаю. Кругленькое что-то. С пупырышком.
На ладошке у младшего лежало колечко.
— Постой-ка, постой-ка! — сказала Маняша. — Ну-ка дай сюда. Я про него и забыла! Может, оно драгоценное какое.
Младшенький захныкал, разжал кулачок, выронил колечко на стол.
— С камешком, — прошептала Маняша, разглядывая давнишнюю совсем забытую вещь. Колечко тоненькое, золотое, и в него вделан блестящий, радующий глаз камешек. Может быть, в самом деле колечко дорогое?
Маняша задумалась, вспомнила, как оно досталось ей. Василий тогда не поверил ее рассказу. Маняше не пришлось и поносить кольцо. Только, бывало, примерит, полюбуется и спрячет еще дальше, а потом и вовсе о нем позабыла.
Находка обрадовала Маняшу. Хоть и тоненькое, да золотое, И еще камешек. Тоже, может, не простой. С пустыми руками зареклась Маняша к Пашке идти. А колечко… колечко понесет с легкой душой. Пашка золотце любит! Можно и к другому кому, но Пашка ближе. Авось и за лапшу с котлетами хватит расплатиться. Как ни говори, золото все-таки. Маняша завернула колечко в тряпицу и спрятала в надежное место.
Василий назначил срок скоро. Придем, мол, вечером, готовься. Спирт будет, а закуска — Маняшина забота. Маняша поговорила с детьми: так и так, чтобы не вылезали из углов, когда придут гости, а то отец рассердится. Особенно наказывала младшему: глупенький еще, за стол полезет.
— Мам, а кто придет?
— Генерал.
— У-у-у!..
— Спать ляжешь, ладно?
— Ага-а…
И с Пашкой нужно было договориться заранее. Маняша достала колечко, сжала свою драгоценность в кулаке и пошла к благодетельнице. Из окна видела: Пашка только что вернулась домой, притащила в кошелке что-то тяжелое.
— Это ты опять, Маняша?..
— Я, я… открой уж, Павла Александровна… Дело такое.
— Погоди маленько… я тут управлюсь…
«Не сердится, — подумала Маняша. — Это хорошо. Вот как колечко-то пригодилось! Кабы знал тот, кто раньше носил!..»
Маняша разжала кулак. В полутьме коридорчика колечко неярко посвечивало, словно в пепле затухающий уголек. Камешек был похож на маленький белый бутончик. Внутри бутончика горело что-то живое, теплое.
«Знать бы цену…»
Но эта мысль пролетела, не коснувшись сердца. Было бы что принести Пашке, а уж цену-то она укажет!
Пашка что-то мешкала. Маняша терпеливо ждала.
— Иду, иду, Маняша…
Чем она там занималась, Маняша сказать не могла. Только, как и прошлый раз, она увидела на Пашке шелковую исподнюю рубаху, по-благородному — комбинацию, с кружевами внизу, голубого небесного цвета. А поверх исподней, если так сказать, комбинации, висел крестик, надо полагать, золотой, на тонюсенькой, как паутинка, цепочке.
— Что, Маняша, что? — любезно спросила Пашка, видя серьезное удивление соседки. — Я в домашних условиях обожаю неглиже. — Она поймала крестик ладошкой и оттопырила двумя пальцами на груди комбинацию. Цепочка полилась за пазуху.
— Ну да, — кивнула Маняша, — на работе-то, поди, взыскивают…
— Да нет, я на хорошем у начальства счету.
«Чего бы на плохом-то быть, — подумала Маняша. — При хлебе-то…»
— А что ты там в кулаке сжимаешь? — спросила Пашка. Почуяла, видно, золото!
— Да вот нашла, Паша… Может, и стоящее… на твой взгляд.
— Ага, кольцо! — удовлетворенно сказала Пашка. — А уверяла, что золота нет.
Вспоминая после, Маняша удивлялась: еще и кулак не разжала, а Пашка уже определила, что там, в кулаке. «Ага, кольцо!» — сказала. Сквозь землю, что ли, видят такие люди?
— Да вот, Павла Александровна… кабы знала раньше… А то сунулась в банку… оно лежит.
— Почаще в банку соваться надо, — посоветовала Пашка. — Давай, что ли, определю стоимость по номиналу. Если, конечно, не медяшка какая-нибудь.
— Посмотри, Павла Александровна… тебе лучше знать.
И Маняша протянула Пашке колечко.
— Нет, золото, — сразу определила деловая женщина. — Старое, червонное. А вот камешек…
— Да уж чего там камешек, — обрадованная, сказала Маняша. — Ты, Паша, золото посчитай, а камешек… может, стеклянный он.
— Может, и стеклянный, — удивленно посмотрев на Маняшу, согласилась Пашка. — Подделка есть такая, что сам ювелир от настоящего и то не отличит. — Тут Пашка задумалась. — Погоди, — сказала, — я в лупу твое кольцо рассмотрю.
— В лупу?..
— Да. Лупа — это увеличительное стекло.
— Рассмотри, рассмотри, Паша… чего ж…
Нагнувшись, Пашка открыла сундучок, стоявший на полу. Маняша стыдливо отвернулась. Комбинация у Пашки выше колен — и хоть бы что. Бесстыжий-то человек и дома, как в бане…
Найдя, что было нужно, Пашка подошла к окну, приставила к глазу круглое стеклышко в черной оправе и сквозь него долго рассматривала Маняшино колечко.
— Проба… — тихо говорила она. — Все на месте… А вот камень… камень…
— Что, Паша, выходит по-твоему? — утомленная ожиданием, не вытерпела Маняша.
— Сейчас, — сказала Пашка и, последний раз взглянув через свою лупу на кольцо, отошла от окна и села на кровать. — Слушай, Маняша. Ты знаешь цену своему кольцу?
— Да ведь, Паша…
— Ну что ты, к примеру, за него просишь?
— Что прошу… По совести, Паша.
— По совести! — усмехнулась Пашка. — Так ведь совесть-то у людей разная. У тебя одна, у меня другая, у моего начальника третья. Совесть-то, понимаешь, не расценишь по номиналу.
— Кольцо-то золотое, — напомнила Маняша.
— Да золотое. Золото хорошее, лучшей пробы, — согласилась Пашка. — Цену золоту я знаю. Но камешек… Может, это бриллиант?
— Может, и бриллиант.
— А если нет?
— Так ведь я за него и не прошу, — сказала Маняша. — Расцени золото, Павла Александровна, а камешек — плюнь на него.
— Но ты не боишься, что я тебя обижу?
«Конечно, обидишь», — подумала Маняша, но вслух сказала:
— Ты уж смотри, чтобы по-соседски, Павла Александровна…
— Ладно, — решила Пашка. — В камнях-то я не сведущая, но насчет бриллианта… не похоже вроде. Могу тебе его вынуть.
— Да зачем же, Паша?..
— Как хочешь. Камешек не покупаю, а за золото расплачусь по-соседски, не обижу.
— Защитай и котлеты с лапшой.
— Ну вот так. Две буханки хлеба. Десять порций борща или супа на масле. Десять порций лапши на масле.
— Мясца бы…
— И мяса, конечно. — Пашка подумала, подбрасывая колечко на ладони. — Порции и хлеб — я этим отоварю тебя до нового года. А мяса сейчас дам. Как раз принесла сегодня кусок.
«Хоть бы побольше дала!» — подумала Маняша.
Но она не ожидала, что Пашка протянет ей заднюю баранью ногу — окорок, покрытый желтыми пятнами жира.
— Здесь два с половиной кило. Для себя припасла. Какая была бы жареха, если бы ты со своим кольцом не подсунулась! На, бери, пока я добрая. Может, много даю, да все равно. Я тебя в беде не оставлю, и ты меня тоже, если что случится.
Маняша бежала домой, радуясь и удивляясь Пашкиной щедрости. Вот тебе и колечко, не простое, а золотое! В кошелке (и кошелку дала на время Пашка) бараний окорок и полбуханки хлеба. Полторы буханки да десять обедов еще в запасе. Все мясцо Василий с товарищем съедят (бог с ними!), а лапшичка да борщ на масле детям достанется. Лапша масленая, жирная. Маняша помнит, как ел ее Василий. Облизал тарелку и ладонью рот вытер. Хорошо, да мало! От такой лапши дети веселыми будут. Ну, Пашка, молодец баба! Два с половиной кило мяса отвалила и глазом не моргнула. Как не сказать такой спасибо! А все меньшой. Кабы не он, так и лежало бы колечко в банке. Без толку бы век провалялось. Вот оно, какое дело.
Очень радостный, светлый был тот день для Маняши.
Вечером у Маняши был пир горой.
Хоть Василий и говорил, что Маняша должна знать Семенова, она его не помнила. Много разного народа перебывало в гостях у Василия. И в Некоузе. И на станции Ундол. И в Собинке. Да и здесь, перед войной. Дорожные мастера, десятники, прорабы, строители мостов, а то и просто какие-то люди из района. Всех Василий угощал, всем старался угодить. «Нужный, мол, человек, надо, чтобы помнил». А нужный ли он, гость, был — Маняша не знала. Да и знать ей было вроде бы не положено. Сварить, приготовить, поставить на стол, постелить постель — вот ее обязанности. Это она и делала всю жизнь. Да еще детей исправно рожала. Пятерых родила, один помер. Шестеро было бы.
Зажаренную баранью ногу Маняша сначала хотела разрезать на четыре части и подавать на стол порциями. Съедят один кусок — положить второй… Авось и детям останется. Но потом передумала: нет, не стоит, Василий выпьет — все найдет, все заставит на стол метать. Лучше уж детей пораньше покормить. И Маняша от большого куска отрезала широкий жирный ломоть и поделила его на пять равных частей. Дети давненько не пробовали такого лакомства. Сама Маняша отломила прожаренную корочку и пожевала, чтобы слюну унять. Ей-то, может, и за столом достанется…
Василий обещал привести Семенова часам к восьми. Маняше удалось к приходу мужа уложить детей. Она постелила скатерть на стол, поставила стопки, положила вилки. Нарезала хлеба. На кухне у нее лежал в тарелке кочан квашеной капусты, в другой тарелке были соленые помидоры. Купила на базаре. К водке не только мясо нужно. Муж любил и кисленькое.
Едва успела Маняша заглянуть в зеркало, как раздался стук в дверь. Василий стучал всегда кулаком. По этому стуку Маняша узнавала, в каком расположении духа возвращается муж. Иногда так стучал, что у нее сердце замирало: быть бою. Всякое бывало. Сейчас стук был особый. Ясно было, что муж гостя ведет. И не простого — дорогого гостя. Если бы и не сказал Василий, Маняша все равно поняла бы.
— Мама! — крикнул младшенький. — Папка генерала привел!
— Спи, спи, — торопливо прошептала Маняша, заглянув в комнатенку, где спали трое: дочка и два сына. — Помни, что я тебе говорила.
— Помню, помню….
— Ну, вот и мы! — бодро сказал Василий, когда Маняша отомкнула дверь. — Холодище! — он потер руки. — Заходи, Матвей Григорьевич, чувствуй себя, как дома!
И тут только, еще не увидев гостя, вспомнила Маняша, как годов восемь или девять назад этот Матвей Григорьевич смешил ее старшего сына. Он так сплетал и скрючивал пальцы, что тень, падающая на стену, изображала то лопоухого щенка, то прыгающего зайца, а то и волчищу, оскалившего пасть. Маняша и сама залюбовалась тогда его ловкой работой…
— Принимаете, Марья Архиповна, старого знакомого? — заговорил Семенов, стряхивая снег с сапог. — Или, может, забыли?
— Как же забыла? Помню я ваших зайцев, проходите, пожалуйста, Матвей Григорьевич.
Василий первым ввалился в прихожую, зашаркал ботинками, шумно потянул носом.
— Чем пахнет? Баранинкой?
— Раздевайтесь, раздевайтесь…
Маняша глянула на Семенова. Остроносый, в очках. Ну да, он самый, мастер-кудесник. Тощее, с впалыми щеками лицо, как у туберкулезного. У Василия хоть на щеках румянец, а у Семенова щеки серые. Шапки и шинели у них одинаковые. Вся разница лишь в том, что на Семенове сапоги вместо обмоток.
— Раздевайтесь, раздевайтесь…
Семенов замерз. Дул на сжатые кулаки, пританцовывал.
— Сейчас, сейчас согреемся, Матвей Григорьевич, — весело сказал Василий, вытаскивая из кармана зеленую фляжку. — Пошли. Вот сюда. — Он проводил гостя в комнату и, заглянув на кухню, спросил у Маняши: — У тебя что, жареная баранина? Много?
— Сколько достала, Вася.
— Давай, не жадничай. И водички холодной, нам спирт развести надо.
— Уж больно холодна, недавно принесла.
— В самый раз!
Василий ковшом зачерпнул из ведра ледяной воды, унес в комнату.
«Господи, хотя бы Семенову-то этому понравилось!» — подумала Маняша.
Она не хотела ударить лицом в грязь. Останется Семенов доволен — и Василию будет хорошо. Не потрафит Маняша — тут уж ей отчитываться придется.
Баранина, обжаренная со всех сторон, жирная, золотилась на сковородке. Не ел бы, а только глядел на нее. Лишний раз добрым словом помянешь Пашку Кривобокову!
— Ну, с богом, — прошептала Маняша, зацепив сковороду держаком.
Когда она внесла ее и опустила на подставку, Семенов сказал с восхищением:
— Марья Архиповна!..
И Маняша окончательно поняла, что с такой закуской ей не то что Семенов — сам черт не страшен.
— Где же вы, по теперешним-то временам, раздобыли этакое чудо? — продолжал Семенов, сглатывая слюну. — Такой баранины я и до войны не едал. Ай да Марья Архиповна!
— Баба, она из-под земли достанет, — довольный, сказал Василий. — Мужик не достанет, а баба достанет. Такая уж у нее профессия.
— Были бы денежки, — добавила Маняша. — Денежки, они все достают, а без денежек…
— А-а! — Василий пренебрежительно махнул рукой и потянулся за бутылкой, в которой мутно переливалась жидкость. — Денежки, денежки! Что они теперь? Дым. Где достала, мы тебя не спрашиваем.
Эти слова показались Маняше обидными, и она сказала, все еще не отходя от стола:
— Так где же я достала… У Пашки Кривобоковой выменяла. Где сейчас достанешь, кроме как у Пашки.
Василий посмотрел на Маняшу, угрюмо ухмыльнулся, но возражать не стал. Маняша увидела, что он налил только два стаканчика. Да она и не ожидала, что мужчины примут ее в компанию.
— Пойду капустки принесу…
— Стойте, Марья Архиповна, стойте! — вдруг сказал Семенов. — Василий Гаврилыч, это что еще такое! Сажай и жену за стол. Где третий стакан? Садитесь, Марья Архиповна. Ну и ну, Василий Гаврилыч, удивил ты меня! Странные у тебя, извини, порядки в доме.
«Ай-яй-яй! — подумала Маняша. — Как же теперь быть?..»
Она посмотрела на Василия. Тот молчал, только по-прежнему ухмылялся.
— Да у меня по хозяйству еще…
— Никаких слов! — возразил Семенов. Он встал, подошел к Маняше, взял ее за руку и усадил на свой стул. И стаканчик свой поближе к ней подвинул. — А ежели ваш муж меня не захочет пригласить, так я и в сторонке постою.
И тут Василий, конечно, сорвался с места, достал из шкафа третий стаканчик, подставил к столу еще один стул.
— Вот это другой вопрос, — одобрительно произнес Семенов, садясь напротив Маняши. — Давайте выпьем за хозяйку этого дома, тем более что у нас, как я погляжу, баранина уже стынет!
— Стынет, стынет, — торопливо подтвердила Маняша, не зная, что сделать, что сказать. — Мне-то поменьше, Матвей Григорьевич. Я-то еще по хозяйству…
— Никакого хозяйства! На ночь-то глядя какое хозяйство? Пить до дна! — Семенов поглядел в свой, только что налитый Василием, стаканчик, спросил: — Ты хорошо спирт разбавил, по норме?
— По норме, по норме. Ну, дай бог, чтобы не последняя!
Семенов чокнулся с Маняшей. Пришлось чокнуться и Василию. Маняша понимала, что муж раздосадован. Да что делать: хозяин здесь Семенов. Василиев начальник, Матвей Григорьевич. Ему поперек слова не возразишь.
«А-а, будь что будет!» — подумала Маняша.
И выпила стаканчик разведенного спирта. Полный стаканчик выпила, до дна. Сперло у нее все внутри, ударили слезы из глаз. Но Маняша отдышалась, утерла слезы, и стало ей жарко и весело.
Семенов с Василием резали, кромсали баранину, она хрустела у них на зубах. Пожевала и Маняша кусочек. Потом сбегала за капустой. И капустка пошла в ход.
Семенов взял бутылку, еще налил по стаканчику.
— За кого бы это нам выпить? Ну, пожалуй, выпьем за вторую женщину. — Семенов посмотрел на истерзанный кусок баранины. — Вот за нее, за…
— За Пашку Кривобокову. За Павлу Александровну, — подсказала Маняша.
— Вот именно.
— И за вашу жену, Матвей Григорьевич, — еще подсказала Маняша.
— Да, это точно. Это вы правильно отметили, Марья Архиповна. За всех женщин, то есть за всех до единой, за наших жен, матерей, сестер! Ваше здоровье, Марья Архиповна!
Маняша выпила еще стаканчик. Так-таки легко выпила и не поморщилась даже. И удивилась про себя, что так легко пьет, наравне с мужиками, как приученная. Вроде бы даже не к добру.
Удивилась Маняша, но выводов для себя никаких не сделала. Вместо этого захотелось ей поговорить о Пашке Кривобоковой. Про крестик, про этот н е г л и ж е ее.
— А Пашка-то, — сказала Маняша, весело глядя на Семенова, — Павла Александровна наша, она вроде верующая оказалась. Удивительно для меня это! Прихожу я к ней… ну за этой едой… вот… а на ней неглиже висит! На золотой цепочке!
— Что, что? — спросил Семенов и посмотрел на Маняшу как-то оторопело.
— Я говорю, крест на ней… этот самый неглиже висит на золотой цепочке, — повторила Маняша.
Семенов и вилку на стол положил.
— Вы тут ошибаетесь, Марья Архиповна, — сказал. — Крест это крест, а что касается н е г л и ж е, то это, извините за нескромность, будет голая женщина. То есть в чем мать родила, это и есть неглиже.
— Дура! — сказал Василий, расхохотавшись. — Дура! Что ты надумала такое? Уж молчала бы!
Маняша и сама поняла, что надо бы помалкивать, да было уже поздно. Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
— Марья Архиповна ошиблась, — сказал Семенов и посмотрел на Василия неодобрительно. — Она не то хотела выразить. Я и сам…
Семенов о чем-то начал рассказывать. Про какой-то случай из своей жизни, надо полагать. Маняша плохо его слушала. Не до этого ей было. С Пашкиным крестиком — с неглижом этим — совсем она попала впросак!
Но Семенов загладил неловкость, и все пошло бы по-старому, если бы не младший. Маняша думала, что он уснул давно, а он, видно, притворился спящим. И в самый разгар веселья, когда Семенов уже песню задумывал затянуть и Маняшу подбивал на это, младший как раз и заявился. Маняша даже и не заметила, когда он в комнату вошел. Голоса не подал — и прямо к Семенову.
— Дядя, ты генерал? — спрашивает.
Семенов руками всплеснул.
— Да кто тебе сказал! И откуда ты взялся?
— Мне мама сказала. Ты — генерал?
Маняша вскочила. Она хотела схватить младшего, нашлепать его и унести, но Семенов остановил ее рукой, взял парнишку и посадил к себе на колени.
— Нет, я не генерал, — сказал он. — Но, может, и стану им когда-нибудь. Это не исключено. Но пока я не генерал. И до генерала мне далеко.
— А сколько? Сколько, например? Двести верст, триста? Тысячу?
Младший любил задавать такие вопросы, Заведут разговор про Москву — он тут как тут. «Сколько да Москвы? Тысячу верст?» Или про Луну спросит: «Сколько отсюда туда? Сто верст?» Василий не любил праздные вопросы и отвечал на них так: «Семь верст и все лесом». И сынишка спрашивать отца перестал.
Сейчас Василий помрачнел, как будто его до смерти обидели, и посмотрел на Маняшу, словно она была во всем виновата.
А Семенов вступил с младшим в разговор.
— Ну если считать на версты, то, может, и миллиона будет маловато, — сказал он. — До генерала мне далеко. А на что он тебе, генерал? Зачем?
— А так…
— Иди спать, стервец! — крикнул Василий, еще раз сурово посмотрев на Маняшу.
Младший хотел соскользнуть с колен, но Семенов попридержал его рукой.
— Сиди. Не смотри на отца. Я ему прикажу, и он будет у нас шелковым. Ты что хотел спросить? Спрашивай, пока я добрый.
— А почему ты не воюешь?
— Я не воюю? — Семенов засмеялся. — Еще как воюю! С баранинкой, со спиртом. Победы одерживаю!
— Не в войну воюешь. Почему? Так надо?
— Точно, угадал: так надо. Сейчас я здесь, другие там. Потом я там буду, другие сюда придут. Войны всем хватит. Как тебя звать-то?
— Младший.
— Младший? Ну младший так младший. Сережка, наверное?
— Ага.
— Вот я и говорю, Сережка, что войны всем достанется. И мне. И твоему батьке тоже. И тебе, может, когда-нибудь придется. Войны всегда людям хватало. Во все времена.
Семенов замолчал и грустно склонил голову.
— У меня у самого вот такой дома остался. Санька. Голоштанный вот такой. — Семенов похлопал меньшого по голому задику. — Тебе зверей показать?
Пирушка приостановилась. Стол отодвинули ближе к стене. Лампу поставили как удобнее. Семенов ловко скрючивал руки, изображая на стене то зайца, то собаку, то козла. Младший и Маняша радовались немым забавным картинкам. И лишь Василий был без улыбки на лице. Он как сидел на табуретке, так остался на прежнем месте. В одной руке держал вилку, в другой пустой стаканчик. Все о нем забыли, и было даже как-то чудно, что он сидел чуть ли не посредине комнаты, уставившись из-под надвинутых бровей в одну точку.
Маняша знала, чего ей теперь ждать. Василий сидит, сидит да скажет свое слово. Так оно и вышло. Василий разбил стаканчик об пол. Осколки стекла брызнули к двери. Вслед за этим муж метнул вилку, да так, что она воткнулась в дверь.
— Вася, что ты! — крикнула Маняша. — Постыдись!..
Младшенький заплакал, бросившись к матери.
— Папка бить будет!..
— Не будет, не будет, — прошептала Маняша и, подхватив сына на руки, убежала с ним на другую половину дома.
Когда она вернулась, Семенов с Василием опять сидели за столом. Василий молча ковырял кривой вилкой баранину. Он был темнее тучи.
— Может, вам еще капустки поднести? — тихо спросила Маняша, обращаясь к Семенову.
Тот ничего не ответил. Маняша стояла, ждала. Семенов постучал пальцем по столу.
— Так я жду, Витяков.
Василий поднял голову, посмотрел куда-то сквозь Маняшу. Выдавил:
— Тут я… это самое… извини… погорячился.
«Ай-яй-яй, беда-то какая! — подумала Маняша. — Теперь он мне жизни не даст!»
Семенов Матвей Григорьевич, человек культурный, воспитанный, конечно, хотел как лучше. Но он не знал, какой нрав у Василия. Для мужа попросить прощения — все равно что повеситься. Он никогда у Маняши не просил прощения. И Маняша забегала вокруг стола, желая показать Василию, что она вроде бы и не расслышала его слов, Вроде бы эти слова у него с языка и не срывались.
— Пейте, пейте… Кушайте, кушайте… Я капустки, капустки…
Чего она тогда говорила, уж и сама не помнит. Так с поджатым хвостом и провела остаток вечера.
Пир кончился вроде бы как у добрых людей: тихо, мирно, с благодарностями, с прощанием на крыльце.
Благодарил и Василий. То есть он ничего такого не говорил, не низал спасибо на спасибо, как Семенов. Он только хмельно кивал головой и, бестолково тычась в углы, бормотал по-своему:
— Ты это… того… это самое… Ты это… смотри… Мы это… Ты смотри…
Зная Василия, Маняша и принимала его слова за невысказанную благодарность. Хмель перебил у него злость.
Семенов и Василий пошли. Маняша долго глядела им вслед. Мужчины шли не очень твердо.
«Дойдут, — подумала Маняша. — Семенов-то самостоятельный мужик».
Но все-таки она решила, что надо накинуть шубенку да пробежать за мужчинами хоть полдороги. Не ровен час, наткнутся на кого. Василий и скандал учинить может.
Маняша распахнула дверь и застыла у порога. Дети, все пятеро, и младшенький тоже, стояли без рубашек вокруг стола и доедали, что осталось от взрослых.
Маняша заплакала.
Пашка Кривобокова щи и хлеб таскала исправно. По соображению Маняши, вроде бы уж сверх обещанного. Больше нормы вышло еще на прошлой неделе, а Пашка все не отказывала.
— Так ведь перебрала я, Павла Александровна, — сказала ей Маняша.
Пашка посмотрела на нее как-то сбоку, одним глазком, с оценкой на свой лад.
— Знаю. Учена считать-то. Ношу, пока есть у меня такая возможность. Авось и отблагодаришь.
В ту же зиму Маняша ее и отблагодарила.
Один раз в полночь разбудил Маняшу сбивчивый стук в дверь. Стучали в два кулака, будто торопились с перепугу. Маняша сразу поняла, что это не мужнина рука. Подбежала к окошку. На улице была метель. В белом тумане ни зги не видно.
«Господи! Пресвятая богородица, помоги и помилуй…»
Дети спали. Старшего, что ли, разбудить?..
Маняше стало страшно. Она заметалась по дому.
И вдруг с улицы послышался знакомый женский голос. Пашкин голос послышался. Маняша высунулась в коридор.
— Кто там?
— Маняша, Маняша, отопри!..
И точно, Пашка Кривобокова звала. А голос у нее был совсем не свой. Никогда еще Маняша от нее такого голоса не слыхивала.
— Ты одна, что ли?..
— Да одна, одна, открывай, Маняша, ради бога!
«Господи! Пресвятая богородица…»
— Сичас, сичас…
Маняша думала, что Пашка без оглядки рванется к ней в дом, но она распахнула свою доху и протянула какую-то банку.
— На, спрячь! Умоляю!..
Банка была тяжелая. Не ожидая этого, Маняша чуть не выронила ее из рук.
— Да осторожнее! Спрячь подальше!
— А что тут? Зачем?.. — ничего не понимала Маняша.
— Ах, какая ты!.. Ну, вещи, безделушки. Спрячь, я прошу тебя, и никому не говори, что меня видела. Я тебе ничего не приносила!
И Пашка, запахнув на голой груди доху, кинулась вниз по проулку и, как привидение, исчезла в белой мгле. Засвистел ветер. Словно в сговоре с Пашкой, он взметнул целое облако сухого снега, слизал края глубоких следов…
Маняша стояла с банкой в руках, не зная, что делать. Наконец до сознания дошло, что Пашка просила спрятать эту банку. Но куда?..
«В навоз — вот куда!» — мелькнуло у Маняши.
Она вздула трясущимися руками лампу и вышла в сарай, где лежала на боку и посапывала корова.
Утром к Маняше прибежала соседка и, захлебываясь словами, рассказала, что у Пашки Кривобоковой в полночь был обыск. Приходили с понятыми. От этих понятых, мол, вся улица и узнала, как бесстрашно и дерзко вела себя Кривобокова. Она сидела на табуретке в одной сорочке, курила и показывала, где бы надо еще поискать. Так у Пашки ничего и не нашли. Даже корки хлеба и той нигде не валялось.
«Господи! — думала Маняша. — Пресвятая богородица, помоги и помилуй!»
— С сильным не дерись, с богатым не судись, — заключила соседка.
Три дня Маняша жила, как преступница. Ей казалось, что с минуты на минуту и к ней придут с обыском, найдут в навозе чужую банку, посадят в тюрьму, а дети, пятеро, останутся сиротами. Она кляла себя, что взяла у Пашки банку. Обихаживая корову, боялась глядеть на то место, где лежал проклятый клад. Разрыть бы, выбросить банку со двора, да не поднималась рука. Страх сковывал Маняшу, как мороз ночью в открытом поле. На кухне у нее все валилось из рук. Везде чудилась ей тяжелая Пашкина банка, и все время слышался скрип снега возле крыльца.
Но с обыском к Маняше никто не пришел. В ночь на четвертый день заявилась сама Пашка.
— Да не бойся, — сказала она Маняше, видя, что та дрожит. — За мной никто не следит, я проверяла. За эти дни я всех по соседству обегала для конспирации.
— Ой, Паша, Паша!..
— Тебе говорят, опасности для тебя никакой, — продолжала Пашка. — Неувязочка одна случилась — и все. Начальник, который ко мне благоволит, в отъезде был. Сегодня днем вернулся. Я у него уже побывала. Можешь вполне успокоиться, врать не стану.
— Так ведь, Паша…
— Ну, давай, давай банку. Где она у тебя? В печурку, наверное, сунула. Знаем мы ваши тайники!
— Потише бы вы, Павла Александровна!..
— Ну и трусливая ты баба, Маняша! Я и то не боюсь, а тебе-то чего пугаться?
— А оттого, что у меня пятеро их, — сказала Маняша. — Оттого я и трусливая. Вот кабы они были у вас…
— А-а! — пренебрежительно протянула Пашка. — Такого добра нажить — большого ума не надо! Ну, неси, неси банку, освобожу я тебя от страха.
Маняше не хотелось показывать, где она прячет Пашкино добро. Но Пашка потащилась вслед за ней, ни на шаг не отставая. Видно, сейчас не доверяла она Маняше. Боялась, что та не вернет ей все до капельки. Это недоверие обижало Маняшу. И она еще стеснялась, что Пашкина банка зарыта у нее в навозе. Вроде как-то неудобно было перед Пашкой…
— Ну, ну, — поторапливала ее Пашка, видя, что Маняша чего-то не осмеливается. — Где она? В поленнице?
Маняша схватила вилы и вонзила их в навозную кучу. Пашка рассмеялась в ответ.
— Недооценила я тебя, Маняша, ой, недооценила! В таком месте ни одна милиция не нашла бы!
— Нашли бы, если бы захотели. Нате-ка, берите, Павла Александровна!
Маняша отбросила мешковину. Банка была теплая, словно и в самом деле хранилась в печурке. Пашка взвесила свои сокровища на ладони.
— Вся жизнь тут, Маняша.
Не отвечая ей, Маняша сгребала вилами навоз.
— Пойдем, — сказала Пашка, зажимая нос рукавом дохи. — Воняет тут, как…
Маняша надеялась, что Пашка из сарая отправится прямиком домой, но ошиблась: та повернула в избу. На кухне поставила свою банку на стол, села на лавку.
— Ну что, Маняша, пожалуй, завидуешь?
— Чему, Павла Александровна?
— Чему же, вот этому. — Пашка показала на банку. — Добру.
Маняша сполоснула под рукомойником руки. Вытирая их, ответила.
— Не знаю, какое добро там храните, Павла Александровна. Не видела.
— Врешь! — не поверила Пашка. — Будто и не заглянула?
— Так оно и есть. Не заглянула.
— Врешь, врешь! Не уверяй меня, Маняша, все равно не поверю, что ты такая нелюбопытная.
— Не верите, Павла Александровна, ваше дело, конечно. Только я правду говорю.
Пашка молча сняла крышку и опрокинула банку над столом. Зазвенели и посыпались, сверкая в полутьме, браслеты, кольца, цепочки, бусы и монеты. Они растекались по клеенке. Ползли, извивались, как живые.
Маняша шарахнулась в угол, к ухватам.
— Господи! Пресвятая богородица!
— Неужели так и не посмотрела?! — изумленно проговорила Пашка. — Ну, Маняша!..
— Убирай, убирай, Павла Александровна, ради бога!
Маняша кинулась к двери и заслонила ее собой. Привлеченные шумом, могли вбежать дети. А Маняше не хотелось, чтобы они увидели такое.
Пашка стала быстро ссыпать драгоценности в банку. Маняша не отрывала глаз от ее рук. Руки гребли с двух сторон. Пальцы ловко захватывали колечки и монеты, И все это текло в банку.
Одну браслетку Пашка оставила на столе.
— Это тебе.
Маняша даже руками замахала:
— Нет, нет, нет!
— За беспокойство. Это вещь дорогая. Бери!
— Нет и нет, Павла Александровна, хоть убейте, а не возьму! Не надо мне — и все тут.
— А-а… — Пашка досадливо махнула рукой. — Права ты. К чему она тебе?. Что с ней делать будешь? Все одно ко мне принесешь. Это после войны цениться будет. А теперь тебе хлеб нужен. Но хлеба я тебе и так дам. Приходи, Маняша, не стесняйся. А то у меня таких клиентов много, я и забыть могу.
Пашка встала, прихлопнула ладонью крышку на банке.
— Да, по правде сказать, — добавила сердито, — получила ты лишнего хлеба не меньше пуда. На две таких браслетки хватит!
— Отработаю, Павла Александровна, можете не сумлеваться…
— У тебя один ответ. Да на черта она мне, твоя работа! Проводи.
Пашка пошла по улице не таясь, не пряча банку. Наверняка знала, что не грозит ей никакая опасность. И Маняша подумала, что таких-то вот людей больше всего и надо бояться. И сказала себе, что не пойдет больше к Пашке. Зарок дала.
В избе Маняша осмотрела детей. Они спали крепко, сладко, не ведая о большом беспокойстве матери. Маняша порадовалась, что они не проснулись и теперь не узнают, что посещало дом беда.
С той поры Маняша и забыла дорогу к Пашке Кривобоковой. Сталкиваясь на улице, отвечала коротко:
— Бог милует, обхожусь, Павла Александровна.
Не врала, так и было: обходилась. Отелилась корова, появилось свое молочко. Но не дай бог, случись бы что с коровой, все равно не пошла бы Маняша к Пашке. Той ночью она крепкий зарок дала. И выдержала.
Свое молочко давало Маняше и хлеб, и деньги. Корова доилась хорошо. По двенадцать, а то и по пятнадцать литров в день.
Но столкнуться с Пашкой Кривобоковой в тот год Маняше все-таки еще раз пришлось.
«Страшно и вспомнить!» — думала Маняша, когда у нее перед глазами возникали картины того военного голодного года с его свирепой стужей, непроглядными метелями, страхом за детей и ежечасными заботами о лишней крохе хлеба.
Но все проходит. Проходит хорошее, проходит и плохое. Прошла и эта зима. Весна началась с веселыми думами. Василий все еще служил в городе, у семьи под боком, и не было слухов, чтобы его могли отравить куда-нибудь. Корова исправно кормила семью. Старшие ребятишки перешли из класса в класс, учителя их похваливали. И душа у Маняши стала понемножку оттаивать.
Василий в своей особой дорожной части занимал должность начальника контрольно-пропускного пункта. На петлицах у него уже висело по два красных треугольничка. Он служил — не горевал.
Зимой Василий все время жил в городской казарме, а в конце мая, когда прошли теплые дожди и леса обрядились густой листвой, Василий с отделением солдат поселился верстах в двадцати от города. Теперь Василий появлялся в городе редко. Еду солдаты сами себе готовили. Сами и стирали белье. Жизнь у них там была вольная, лесная. Сутки дежурили, сутки отдыхали, сутки работали в своем хозяйстве. Командиру, то есть Василию, было немного похуже. На командире лежала ответственность. По дороге проезжало начальство, случалось, что и большое. Один раз проследовал какой-то маршал. А генералы ехали сплошь и рядом. Могли и проверить. Поэтому командиру, го есть начальнику контрольно-пропускного пункта, приходилось быть всегда начеку. Главным было то, чтобы солдат чего не прозевал. От солдата, стоявшего на посту, авторитет Василия очень и очень зависел. Хорошо, что солдаты ему попались пожилые и все добрые и услужливые.
За зиму у Василия втянулись щеки и запали глаза. Губы и нос были синими. Виски посерели от какой-то чудной, вроде бы грязной седины. И весь он, даже после бани, казался грязным и облезлым, как бездомная собака. Но к середине лета от зимнего Василия не осталось и следа. Лицо у него пополнело, морщины разгладились, на кожу лег коричневый здоровый загар. Спрятались скулы, выпиравшие пониже ушей. Даже неприглядная седина и та исчезла в густоте отросших волос. Отъелся Василий, отоспался на свежем воздухе. Он и до войны таким молодым и упитанным не был. Новая жизнь ему пришлась по душе.
Маняша радовалась. Потихонечку, про себя, чтобы не сглазить. Авось, думала, так и продержится Василий еще годок, а там, может, и война закончится. Не век же ей, войне, идти.
Второе военное лето выдалось в тех местах влажным, грибным. Уже в июне стал попадаться людям белый гриб, а маслят да сыроежек было столько, что хоть косой коси. С июля пошли челыши и подберезовики. Из окрестных лесов тянулись вереницы людей с корзинками и лукошками. Брали гриб и прямо в мешки. Везли возами. Над городом целый день стоял сладкий запах грибного супа.
Один раз собралась по грибки и Маняша.
Незадолго перед этим ее вызвали повесткой на ткацкую фабрику, где она когда-то работала, и там сказали, что она, по спискам, старая ткачиха, дети у нее не грудные, мало ли что одна с пятерыми, люди есть, которые живут и потруднее, ничего не поделаешь, надо работать.
К станку Маняша не встала, старик мастер отрядил ее в подсобницы. А это такая работа, что на часок-другой и отлучиться домой иногда можно было, поглядеть, чем дети занимаются.
Дети-то как раз и повадились в эту пору ходить по грибы. Маняша и сама любила грибки собирать. Меньшой все звал ее съездить к папке. Туда грибники городские не доезжали, и грибов там было невпроворот. Это Василий сам говорил. И Маняша, выбрав удобный денек (на смену ей нужно было заступать вечером), поднялась затемно, разбудила меньшого и на рассвете вышла с ним на шоссейную дорогу. Большую корзину Маняша не взяла. Ехала больше с целью посмотреть, как Василий живет. Может, постирать бельишко. Да мало ли что…
С утра на дороге движения было мало. Но вскоре показалась первая машина. Как раз в нужную сторону. Маняша вынула из корзинки бутылку с молоком и стала махать ею. Шофер, рябой солдат, остановил грузовик.
— Куда? По грибы? — спросил он, покосившись на военного, который дремал с ним рядом, уронив голову на грудь.
— До будки, дядечка, до контрольной, — попросила Маняша.
— До будки не могу. Не имею права.
— Да у меня там мужик служит. Возьми молочка, только подоила.
— Все равно не смогу, — покачал головой рябой, беря и пряча в кабине бутылку с молоком. — Раньше ссажу. Не позволено нам. Нельзя. Лезьте в кузов.
В кузове лежали какие-то ящики. Но сзади был пустой уголок, и Маняша с сыном примостились там.
— Поехали!
— А дядя-генерал там будет? — спросил меньшой.
— Нет, — сказала Маняша. — Не будет его там. Он в городе.
— Не в городе, не в городе, — возразил меньшой. — Дядя-генерал нас там ждет. Туда, куда едем. Там.
— Ну пусть по-твоему, пусть по-твоему…
Маняша не ожидала, что так и выйдет, как меньшой говорил, а после долго об этом вспоминала.
Рябой солдат высадил их на каком-то повороте. Он сказал, что дальше они должны идти пешком, недалеко осталось. И вправду, за поворотом стал виден полосатый шлагбаум и домик около него справа. Еще правее стоял второй домик, побольше. Над его крышей склонились березы.
— Вот и квартира, где папка наш живет, — сказала Маняша меньшому. — А лес-то вокруг какой! Может, по лесу сначала походим?
Маняша хотела прийти к Василию с корзиной, полной грибов. Чего-то она побаивалась заявляться сразу, без спросу-то. Но меньшой потянул ее за руку:
— Хочу, чтобы дядя-генерал киску показал!
— Какой ты! — укоризненно сказала Маняша. — Да нет же его там, не живет он в лесу.
— Нет, живет, — настаивал меньшой, и Маняше эта настойчивость сына была как-то даже неприятной.
— Ладно, пойдем, пойдем…
Меньшой выскочил на чистую тропинку, побежал рысцой, в своих длинных и широких штанах похожий на мужичка-карлика. Не поспевая за ним, Маняша отстала. Меньшой уже подбегал к домику, а Маняша еще была далеко. Ей показалось, что кто-то выглянул в окошко. Выглянул и скрылся, словно испугался Маняши. И был это не мужик. Не мужицкая — густоволосая, рыжая — была голова. А может быть, свет так упал, потому что Маняша не могла допустить, чтобы на контрольно-пропускном пункте в этот час оказалась посторонняя женщина.
Меньшой скрылся за углом, и Маняша вдруг услыхала его радостный крик:
— Дядя-генерал, дядя-генерал!
«Неужели Семенов, Матвей Григорьевич?..» — мелькнуло у Маняши.
Так оно и было. Семенов высунулся из-за угла и сразу спрятался, словно не Маняшу увидел, а какое-нибудь чудище. Обознаться он никак не мог, и выходило, что он тоже испугался Маняши. Оно и верно, непрошеный гость хуже татарина. Только, с другой стороны, с какой стати бояться Семенову жены своего подчиненного?..
Что там говорить, причина для этого была! Маняша видела в окне рыжую простоволосую бабу — и этим все объяснялось. Испуг Семенова подтвердил, что дело тут нечистое.
В эту минуту Маняша была бы рада провалиться сквозь землю. У нее отяжелели ноги. Но она продолжала идти в смятении, боясь подумать, что ее может ждать за углом.
Там кричал меньшой:
— Дядя-генерал, дядя-генерал, куда ты? Дядя-генерал!..
Где-то близко затрещали кусты. Маняша увидела, как мелькала в них голова Семенова. А потом снова затрещали кусты, и теперь уже Василий мелькнул и исчез в лесу. Он бежал, нагнувшись, как от пуль.
— Зайцы-ы! Эх вы, зайцы-ы! Ату вас, ату! — раздался крик. А потом по лесу раскатился такой хохот, что у Маняши зашевелились на голове волосы. — Пятки смазываете! Эх вы, мужики!
Из-за угла появилась Пашка Кривобокова. Да Маняша-то ее уже по голосу узнала.
— Ай, Маняша! Ой, Маняша! — застонала она, приседая от смеха. — Как они от тебя в лес сиганули, ты бы видела, ты бы посмотрела!
Пашка приседала, хлопала себя ладонями по животу. Изо рта у нее высовывался красный и острый, как жало, язык.
— Бесстыдница! — крикнула Маняша. — Постыдилась бы! Что же ты делаешь? На чужих кидаешься! Своего бы завела! Бесстыжая твоя рожа, вот что я тебе скажу!
Пашка была пьяна, но от Маняшиных слов как будто отрезвела, презрительно выпятила губу и сказала:
— Успокойся и направь свои оскорбления по адресу, дорогая! Я к твоему красавчику не имею никакого отношения. Он мне не нужен! Или ты к Матвею Григорьевичу ревнуешь? Семенов о тебе хорошо отзывается! А? — Пашка хлопнула ладонями по бедрам и выпятила грудь.
— Бесстыжая, бесстыжая харя! Шлюха! Паскудница! — Маняша плюнула, стараясь угодить Пашке в лицо. — Тюрьма по тебе плачет! Я тебя в тюрьму упеку!
— Какая прыткая! Руки коротки! Больно-то не грози, а то мне стоит Матвею слово сказать, и твоего муженька к черту на кулички зашлют! У меня такое средство имеется!
— Да уж вижу твое средство, вижу!.. — Маняша готова была обложить Пашку всеми погаными словами, которые знала, но тут она увидела меньшого. Засунув палец в рот, он с ужасом глядел на Пашку и готов был истошно зареветь. Маняша кинулась к нему.
— Что с тобой говорить, мещанка ты! — презрительно сказала Пашка и скрылась за углом.
— Страшной тети боюсь, домой хочу! — закричал меньшой, вцепившись ручонками в плечи матери.
— Пойдем, пойдем, милый!..
Одно желание теперь испытывала Маняша — бежать отсюда, бежать, как от лихих людей, и не возвращаться никогда к этому месту. Держа на одной руке сына, она другой рукой подхватила корзинку. Но корзинка вывалилась. Она нагнулась, чтобы взять корзинку поудобнее, и увидела в кустах Василия. Он уже оделся и крупным шагом шел к ней. Глаза у него были бешеные, собачьи. Опомнился в лесу, накопил злости. Маняша поняла: не успела уйти, теперь бой начнется!..
Василий шел на Маняшу с яростно сжатыми кулаками. Она крепче прежнего прижала меньшого к груди.
— Папка, — прошептал меньшой, — злой, бить будет!
— Тебя не тронет, тебя не тронет, — успокоила его Маняша. — Меня побьет.
— И тебя не надо!..
— Тебя кто просил? Ты зачем? Тебе что здесь надо? — еще издали закричал Василий, Он споткнулся и нехорошо выругался.
— Постыдись, Вася, что ты!.. Как тебе не стыдно! Что ты делаешь! Пятеро ведь, пятеро у тебя! — Маняша заплакала.
Но Маняшины слезы всегда только разъяряли Василия. Он еще раз споткнулся, словно земля отказывалась держать его, опять выругался и бросился на Маняшу с кулаками.
Маняша отскочила, не выпуская сына из рук. И Василий, промахнувшись с полупьяна, упал на колени. Тут уж Маняше пришлось отпустить сына и крикнуть ему:
— Беги! Я догоню! Беги скорее!
Меньшой с плачем кинулся наутек.
— Я тебе дам! Я т-тебе покажу! — взревел Василий, накидываясь на Маняшу. Он ударил ее кулаком в грудь. — Следить за мной, следить?!
Маняша сжалась, закрыла лицо ладонями. Василий хотел пнуть ее носком сапога, но не успел.
— Витяков, Витяков! — раздался предостерегающий голос Семенова. — Назад! Я приказываю!
Маняша кинулась к сыну. Меньшой ревел, кулачишком размазывая по лицу слезы.
— Папка плохой, папка дурак! — говорил он, — Зачем он дерется? Я не поеду больше к папке!
— Не поедем, не поедем!.. — Маняша подхватила сына и побежала от позора.
Тяжелый был этот день. С трудом успокоив сына, Маняша пошла с ним пешком: машины не останавливались. Немного погодя в кузове одного из грузовиков проехали в город Пашка и ее рыжая подруга, женщина, с которой, по намекам Пашки, был Василий. Слезы душили Маняшу. Чтобы не пугать меньшого, который немного повеселел, Маняша глотала их, давилась…
Василий погуливал и раньше. Он всю жизнь был такой, гуленый. Но последние два года утихомирился вроде. Постарел, что ли. И Маняша думала, что старое не вернется. И уж никак не ожидала она, что муженек свяжется с бабами на военной службе!
Не образумила Василия война, ничему не научила жизнь. После того случая через неделю, а может, и раньше прибежал он домой. Растрепанный какой-то, на щеках красные пятна.
— Через час отправляемся!
Старших ребятишек не было дома. Так они и не попрощались с отцом. Меньшой забился под кровать, кричал оттуда:
— Не вылезу, не вылезу, папка драться будет!
С трудом удалось Маняше выманить парнишку из-под кровати. Обливаясь слезами, она подталкивала его к отцу, говорила:
— Простись, простись с папкой, может, и не увидитесь больше…
Василий затравленно огляделся, махнул рукой и сказал:
— Ну, мне пора!
Но сына все-таки обнял и поцеловал. Потом снял с гвоздя свою старую кепку, повертел в руках и повесил.
— Смотрите тут без меня!..
Маняша бежала за ним, а сердце у нее чувствовало, что на этом все и кончится, бежит она за мужем последний раз.
Маняшина любовь
Маняша редко вспоминала свою молодость. Годы, проведенные в Павловском, казались такими далекими. Когда мелькал в памяти какой-нибудь случай из детства, она изо всех сил старалась припомнить, что за день был тогда, ясный или пасмурный, сколько лет ей было и что произошло потом. Чаще получалось так, что никаких подробностей, кроме самого случая, припомнить Маняше не удавалось, и она с облегчением вычеркивала этот случай из своей жизни, уверенная, что это бабушка ей в детстве про свое рассказала. Бабка ей много всего рассказывала. Когда она померла на второй год после революции, ей было восемьдесят с лишним. Дед почему-то звал ее помещичьей дочкой. Какая-то история была связана с этим. Не то в самом деле бабка родилась от помещика, не то у помещика служила. Но и это все Маняша накрепко позабыла, перепутала и уже не могла с уверенностью сказать, сон она вспоминает или явь. К шестидесяти годам жизнь ее как бы сама по себе разделилась надвое: первые восемнадцать лет до замужества и все остальное потом, начиная с того дня, когда в Годунове на празднике встретила Маняша Ваську Витякова, своего будущего мужа. Замужество — вот та черта, дальше которой Маняша, смиряя себя, еще в молодые годы старалась не заглядывать. Да, по правде говоря, и некогда было заглядывать Маняше в далекую девичью часть своей жизни. Мало-помалу она и заволоклась туманом, отдалилась и перестала иметь какое-либо значение. Вот почему Маняше иногда казалось, что она, детская и девичья часть жизни, вовсе и не существовала, Не качалась Маняша в зыбке, не держалась за материнскую юбку, не пасла корову на лугах, не играла девчонкой, а просто ни с того ни с сего отдали ее родители замуж, и потянулись безрадостные дни ее существования вперемежку с разными заботами и бедами.
«Жизнь-то, жизнь-то… сколько всего пережила!» — часто говаривала Маняша.
Прошлым летом, когда гостил у нее младший сын, она вот так же произнесла эти слова, не придавая им никакого значения. А сын возьми да и спроси:
— Ты когда последний раз в Павловском была, мама?
— В Павловском-то?..
Маняша остановилась и задумалась.
— А вот когда…
Но она не могла сразу сказать. Вслух думала:
— В двадцать втором меня в Годуново выдали… Каждый год в гости ездила… В двадцать восьмом Василий в город уехал, а в двадцать девятом… В двадцать девятом-то последний раз и была в Павловском. Да, да, в двадцать девятом, как сейчас помню! Нет, потом еще была, года через четыре.
— Это сколько же с тех пор?.. Тридцать три года прошло, — подсчитал сын. — Тридцать три года!
— Тридцать три? Да не может быть! — Маняша всплеснула руками. — Батюшки, как времечко-то летит! А как сейчас помню…
Не договорив, она печально покачала головой. Что она помнит? Ехали на санях. А дело было весной. На реке по льду хлестала вода. Сани подняло и чуть было не понесло. Хорошо, что лошадь была кормленая, сильная. И это, кажется, все, что осталось в памяти от той последней поездки в Павловское. Как на санях по воде ехали и как сани чуть было не понесло…
— У нас кто-нибудь остался там из родственников? — задумчиво спросил сын.
— Да кто же остался… Никого нет. Ни одной живой души. В Годунове дальние родичи живут, а в Павловском нет.
— Ну все равно. Готовься. Завтра полетим, — вдруг сказал сын. — До Павловского теперь самолет два раза в день летает. А ты ни разу на самолете не летала. Поглядишь с высоты, какой землю бог видит.
Сын говорил полушутливо, и Маняша сперва подумала, что он не всерьез это. Приехал не надолго, обратный билет в кармане. Какое еще там Павловское… Да еще на самолете! И Маняша отмахнулась от его слов. Не поверила.
А он не шутил. Вернулся домой — кладет на стол два билета.
— В девять часов, — говорит, — завтра вылетаем. В девять десять будем в Павловском. Собирайся.
Маняша замахала руками, закричала:
— Нет, нет, нет!
— Да ты не бойся, мама, — весело сказал сын. — Это абсолютно безопасно. В автобусе опасности во сто раз больше. Или тебя на родину не тянет?
— Как не тянет? Тянет, — откликнулась Маняша, с ужасом смиряясь, что придется-таки ей на старости лет полететь по воздуху. — Так ведь… это… не выдержу я: сердце у меня лопнет в самолете-то.
— Не лопнет, — уверенно возразил сын. — Многие так думали, что сердце лопнет. Но еще ни у кого не лопнуло. Мы что с собой возьмем? Хлеба, молока? Может, бутылку вина, на всякий случай?..
Маняша плохо слушала сына. В Павловское?! На старости-то лет! И не мечтала, и не думала об этом! Хочется побывать. Конечно! Только как-то все неожиданно. Все сразу как-то… это…
— …и кулек конфет для ребятишек, да? — продолжал сын. — Живут же там какие-нибудь ребятишки.
— Да уж и не знаю, что делать… И не знаю, и не знаю. Высоко ли он летает-то? — спросила Маняша.
— К сожалению, низко. Полкилометра, может, наберется, не больше.
— Батюшки, батюшки, батюшки-и!..
— Я тебя уверяю, — сказал сын, — что тебе понравится летать. Ты еще проситься будешь. Уверяю тебя.
Маняша собиралась в дорогу, не переставая думать о том, с каким страхом она завтра будет глядеть с высоты на землю. Временами ей казалось, что она уже летит, и замирала и зажмуривала глаза.
Маняша все еще лежала на кровати в полутемной своей комнате, которая в то же время являлась коридорчиком, отделявшим веранду от двух теплых зимних комнат. Двери на веранду и в комнаты были прикрыты, свет падал только в малюсенькое, размером с печурку, оконце, пробитое в незаштукатуренной стене над головой Маняши. Прямо перед ее глазами стоял на деревянной полке круглый будильник с колокольчиком, давным-давно купленный сыном. Это были единственные часы у Маняши в хоромах. Сейчас они показывали пять минут второго. Хотя, может, и отставали на часик: Маняша их давно не сверяла по сигналам радио. Но все равно времени было еще мало. Впереди имелось целых полдня, а работы особой у Маняши еще не накопилось.
«Полежу маленько, — подумала Маняша. — Куда спешить?»
Вспомнившаяся вдруг прошлогодняя поездка в Павловское взволновала ее. Она не забыла слов сына, что в будущем году они снова полетят в Павловское и поживут там денька три, а может, и целую неделю. Сын обещал, и Маняша верила, что так оно и будет, и ей хотелось сейчас думать о том, как она опять сядет в самолет, полетит над лесами, увидит церкви окрестных сел и церковь, где она была крещена. Увидит она с воздуха и дорожки, по которым бегала в детстве, все разглядит получше, чем в прошлый раз, сходит в рощу, где она с покойной бабушкой собирала рыжики, и поговорит с Тимошей, которого любила, когда посватался к ней Васька Витяков из Годунова.
В прошлом году, отправляясь в Павловское, Маняша не ожидала, что случайная эта поездка принесет ей столько радости и заставит вспомнить многое из того, что она давно вычеркнула из жизни и мало-помалу забыла. Теперь все это пришло к ней снова, обступило ее, теснилось в памяти и виделось как наяву. Картины, увиденные год назад, смешались с давними, но они снова были совсем рядом, словно не отделяла их глухая стена почти сорока длинных, проведенных в скитаниях по белу свету, лет.
Под вечер, когда уже все было собрано в дорогу, на небе стали сгущаться тучи и покрапал над улицей мелкий, как бисер, дождичек. Маняша испугалась, что ненастье сорвет завтрашнюю поездку и все страхи и ожидания ее окажутся напрасными. Она то и дело выходила на крыльцо, пристально глядела на тучи, которые сдвигались на небе в одну сторону. Сын уже спал, не ведая волнений. Маняше не спалось. Давно погасла вечерняя заря. Небо совсем очистилось, и высыпало много звезд. Маняша стояла на крыльце, задрав голову, хотя надобности в этом никакой не было. Тучки только попугали ее, погрозили немного и уплыли на край земли. Было тепло. Стояла середина июля. В такое ли время думать о непогоде…
Да Маняша о непогоде уже и не думала. А не спалось ей от одних ожиданий, от каких-то неясных предчувствий нового. Хорошая выдалась тогда ночь. Среди звезд она увидела яркую точечку, которая двигалась, скатываясь к крыше соседнего дома. Маняша следила за ней до тех пор, пока она не скрылась за трубой. Если бы это летел самолет, Маняша услыхала бы его шум. На зрение и слух она не жаловалась. Наверное, это был спутник, и Маняша видела его первый раз в жизни. Ни отцу ее, ни матери не привелось увидеть такого чуда. Не дожили они до такого дня, когда человек сумел подняться туда, где не было ничего, и летать вокруг земли. Он даже вылезал из корабля, крутился во тьме кромешной, не падая в тартарары. Маняша дожила до этого дня, видела этого человека — космонавта — по телевизору, видела, как он кувыркался в небе, а потом слушала его рассказы. Обыкновенный с виду человек и чем-то напоминал по обличью ее Василия, только совсем другой, из другого теста вылепленный. И вот теперь после всего Маняше удалось увидеть и спутник, жаркую звездочку в небе.
Далеко за полночь Маняша подошла к спящему сыну и, постояв над ним в темноте, поцеловала в щеку. Сын сладко зачмокал во сне, перевернулся на другой бок и отчетливо произнес с нежностью:
— Лида…
Так звали его жену, которую Маняша еще не видела… Сын женился весной. Маняша не смогла поехать на свадьбу: промочив ноги в распутицу, лежала в постели. Жалела после, да что сделаешь: болезни как незваные гости, когда нагрянуть, времени не выбирают.
Маняша прилегла в своей полутемной комнате, а в половине пятого была уже на ногах. И сына разбудила за три часа до отправления самолета. Он взглянул на часы, покачал головой, но ничего не сказал, понимая нетерпение матери. Посидели, попили чайку. На крыльце, когда сын сходил со ступенек, Маняша перекрестила его в спину, хотя он никуда и не уезжал. Но все равно так н а д о было. Маняша и сама перекрестилась:
— Господи, благослови…
Аэродром был близко: в овражек да на горку… Тропа вела прямо к домику с высокой мачтой и со столбом, на котором висел, обмякнув в безветрии, какой-то мешок.
— Авиационный день сегодня, — сказал сын. — Прямо как по заказу!
На лавочках возле домика уже сидели люди. На земле стояли чемоданы и кошелки. У какого-то парня пронзительно визжал в мешке поросенок.
«Куда же он с поросенком-то?» — подумала Маняша.
— Посиди, мама, а я пойду доложу, что мы с тобой прибыли, — сказал сын, направляясь в помещение.
Маняша присела на краешек скамейки, спросила у мужчины, сидящего рядом:
— Вы куда, гражданин?..
— Во Владимир, бабушка.
— А я в Павловское, — доверчиво сообщила Маняша.
— А-а, — пренебрежительно сказал мужчина, — десять минут и там! Во-он твой самолет летит, — и он показал пальцем в небо. — Из Павловского вернется, во Владимир полетит. Не задерживай такси, бабуся!
Маняша отвернулась. Ей было не до шуток. Над полем, негромко жужжа, снижался двукрылый самолет. Люди повскакивали со скамеек, стали разбирать свои вещи. Вскочила и Маняша, уцепившись за сумки. Знакомая ей вокзальная сумятица, когда никто не знает, какой поезд подошел к перрону, захватила и ее, наполнила новой тревогой. Но тут откуда-то появился парень с красным флажком в руке. На фуражке у нею были два крылышка как у летчика.
— Рейс на Павловское, — сказал он. — Имеющих билеты, просьба на посадку.
Маняша заметалась с сумками в руках, боясь опоздать. Но появившийся сын успокоил ее и повел вслед за толпой по полю. В этой толпе Маняша увидела парня с мешком на плече. В мешке бился и отчаянно визжал поросенок.
«Куда это он с поросенком-то?» — опять подумала Маняша.
Она не могла и мысли допустить, чтобы можно было забраться в самолет с таким грузом. Но, к ее изумлению, парень тоже залез, как и остальные, в самолет. Маняша со страхом увидела шевелящийся мешок на полу. Парень придерживал его грязными сапожищами.
— Садись к окошку, — сказал сын. — Будешь смотреть.
Из передней дверцы вышел какой-то человек в белой рубашке, стал молча оглядывать пассажиров.
— Летчик, — пояснил сын.
— Свиноферма, значит, — сказал летчик, глядя на шевелящийся мешок. — Надо было второго прихватить, чтобы не скучно было.
Парень, владелец поросенка, похлопал по мешку ладонью, и поросенок смолк.
— Все сели? — Летчик поднял лесенку, захлопнул дверь. Потом он скрылся у себя в кабине, и тотчас же завелся мотор.
Маняша тайком перекрестилась. Она согнулась, уткнула сжатые кулаки в колени. За окошком понеслось зеленое поле, но она ничего не видела, кроме сплошного зеленого пятна.
— Поднялись, — сказал сын. — Смотри, земля под ногами.
Пересилив страх, Маняша взглянула в оконце и увидела под собой овраг и крыши домов.
— Батюшки!
Но с этого момента Маняша уже не отрывалась от маленького оконца, забыла сразу и о поросенке, который больше не подавал голоса, и о парне, его хозяине. Она увидела свою улицу, колодец, из которого брала воду, свой дом наискосок от колодца. По улице ходили белые куры.
— Батюшки, как на ладони!
Мелькнуло шоссе, дома ушли вправо, под крылом проплыло клеверное поле, на тропе стояли люди, крошечные, как годовалые детишки. Впереди синел лес, и где-то далеко над ним торчала церковь. А самолет все подымался и подымался, и деревья в лесу становились все меньше и меньше…
Да, сынок устроил ей на старости лет воздушное путешествие. Сама она никогда не решилась бы слетать в Павловское на самолете. Знала, что летают туда самолеты. Кто-то из знакомых говорил, что больно удобно стало. Вокруг Павловского деревень, пожалуй, с десяток. И все деревенские жители, когда надо, тянутся на аэродром. Утром в город, вечером обратно. Три рубля в оба конца. Дороговато, зато какое удобство! Так говорили знакомые. Но разговоры эти Маняша пропускала мимо ушей. С Павловским ее ничего не связывало. Ни родни там, ни знакомых. Может, знакомые-то и остались да что толку. Сколько лет прошло. Сын подсчитал — тридцать три. Мальчишки стали мужиками. Мужики померли. Нет, не задевали Маняшино сердце разговоры о Павловском. Разве Маняша могла думать, что именно там, в Павловском, встретит она Тимошу?..
По правде сказать, и этот человек уже не имел для нее никакого значения. Случалось, год, а то и два она не вспоминала его имени. Где он, жив ли, помер ли — Маняша долгое время не знала. Тимоша женился неудачно. Жена ему попалась — не приведи господи. Не хотела ни стирать, ни мыть полы. Тимоша терпел, терпел да маленько «поучил» ее. И посадили его, беднягу, из-за своей женушки в тюрьму. Пока он сидел, жена успела и развестись с ним, лишить всего состояния. Вожжи в ее руках были, куда хотела, туда и правила. По закону все было правильно, и после отсидки Тимоша, зная, что лбом стену не прошибешь, подался в город. Зол был он на людей, или так уж жизнь сложилась. Лукьян Санаткин говорил, что с жуликами Тимоша спознался, с бандой. Чуть ли не главным атаманом в той банде состоял. Был хорошим, ласковым парнем, стал разбойником. В цепях увезли, мол, его на север: канал в лесу рыть. Дядя Лукьян уверял, что сам видел цепи на ногах Тимоши. Это для того, чтобы не сбежал в дороге. Вот и все, что за месяц до поездки в Павловское знала Маняша о человеке, которого любила в молодости. Из-за нее, из-за Маняши, он, может быть, и свихнулся.
Тимоша, Тимофей Емельянович Петров, сын «лапотника», как звали все отца Тимофея. Что и говорить, небогато жили Петровы. Поэтому Маняше и не суждено было соединиться с Тимошей. Свели насильно с богатым и заносчивым Васькой Витяковым из Годунова. Васька взял Маняшу почти без приданого. Отцу в ноги кидался, грозил повеситься, если родители Маняшу не посватают. И добился своего. А зачем? Откуда у него взялось желание такое? Маняша до сих пор не могла понять…
А увидела его Маняша первый раз на празднике в Годунове. Зазвала Маняшу на праздник подруга, Аришка Зайцева. Пойдем да пойдем, туда, мол, все девки ходят, там очень весело, и парней собирается много. Уговорила, хотя Маняша и неспроста согласилась: думала, что пойдет с ней Тимоша. Но у Тимоши разболелись зубы, щеку разнесло так, что он на улицу показываться стеснялся. И пришлось Маняше идти вдвоем с Аришкой Зайцевой. У Аришки-то Васька Витяков и выспросил все о Маняше.
Маняша уже смутно помнила тот вечер, когда она ходила гулять в Годуново. Было это осенью, хотя еще стояло тепло, Маняша с Аришкой шли босиком, полугетры с галошами бережно несли в руках. На околице Годунова сели и обулись. Как шли босиком, чтобы не топтать дорогую обувь, как обувались — это осталось в памяти. Но самое главное — что Маняша делала в Годунове, как повстречалась с Васькой Витяковым, как она танцевала с ним кадриль (а он после вспоминал, что она только с ним и танцевала), какое у нее осталось от встречи с Васькой впечатление — это все почему-то не удержалось, выпало, как будто и не было ничего подобного. Да мало ли Маняша позабывала всего: у человека заботы другими заботами вытесняются.
Поездка в Павловское напомнила Маняше многое из того, что давным-давно затерялось и безмолвно лежало где-то на самом дне, в темных глубинах, куда десятки лет не отворялась дверь, не проникал ни один лучик света. Но вдруг эту дверь отворили, из тьмы выплыли картины той давнишней жизни, которая словно ждала возвращения Маняши, берегла свои подарки — и раздарила за один день то, что с трудом сохранялось годами. И Маняша в тот день увидела себя и безгрешной девчонкой, собирающей рыжики в роще, и девкой на выданье, уже вкусившей сладость Тимошиных поцелуев, и горькой невестой упрямого Васьки Витякова, который, презирая все обычаи, брал ее из родного дома нагой и босой, соглашался на все. За один этот день многие дни Маняшиной юности были прожиты ею дважды. Память помогла ей возвратиться в прошлое и отыскать такие подробности, как будто вчера только Маняша бегала босиком по росистой траве, вчера прижималась к теплой груди Тимоши, вчера ее, Маняшу, с боем выдавали замуж за постылого Ваську Витякова…
Маняша бессчетное число раз глядела из-под руки на двукрылых рукотворных птиц, низко пролегающих над ее домом, и уже давно привыкла к шуму моторов. Они поднимались в небо, немножко носом кверху, чуть покачиваясь, а потом поворачивали и исчезали за крышами домов, не вызывая у Маняши никаких чувств. Она ни разу не представляла, как сидят в «воздушной машине» люди и какой видят оттуда, с высоты, землю. Ей это было ни к чему: своих земных забот и треволнений было предостаточно. Маняша была убеждена, что летать мог кто-то другой, даже сосед, дядя Лукьян, но только не она. Нет, нет и нет. Но жизнь-то, как она повернет, разве угадаешь?
И вот произошло то, чего Маняша никак не ожидала: она сидела в «воздушной машине», нутро которой было похоже на салон автобуса, и в круглое окошко глядела вниз, на леса, на села с колокольнями, на речки и на людей, которые напоминали ей муравьев.
«Бог-то, бог-то какими нас видит! — с горечью и с сожалением подумала Маняша. — Как ему разглядеть, сердешному, лики наши! Что человек, что козявка — все одно! Вон они, дела-то какие!..»
— А что это за село справа, узнаешь? — спросил сын.
— С церковью-то? Не Вёски ли?.. Да нет, не похоже вроде. Чай, Андреевское. Андреевское тут должно быть. А может, Покров. Вроде бы Покров это будет. Что-то мы на низ пошли, я? Лес-то вырос. — И Маняша вопросительно посмотрела на сына.
— Правильно, снижаемся. Прилетели, — сказал сын.
— Да батюшки! — закричала Маняша. — Ведь Павловское это! Павловское! Не узнала сверху-то… Говорила: Андреевское, Покров, а это Павловское!
— Точно, бабка, — подтвердил какой-то мужик, — Павловское и есть. А ты думала чего?
— Да ведь сверху-то, сверху-то… как оно!..
Маняша приникла к окошку, но села уже не было видно. Под крыльями мелькало совсем близкое поле. Самолет спустился и побежал по земле.
— И все? — разочарованно спросила Маняша.
— Все, мама. Десять минут лету.
— Он хоть бы покружил!
— Кружить ему некогда: он работает, у него все по расписанию. Как ты себя чувствуешь?
— Да как чувствую, — ответила Маняша. — Как в раю побывала!
Вышел летчик, распахнул дверь. И сразу же заверещал в мешке поросенок. Всю дорогу молчал, а тут заголосил пуще прежнего, словно был очень недоволен, что спустился на землю, где его откормят, а потом зарежут и съедят. Парень схватил мешок, выскочил на волю и побежал с поросенком за плечами куда-то по тропе.
Другие пассажиры тоже расходились в разные стороны. От места посадки вились по полю тропки. Все люди ушли этими тропками. Самолет развернулся и, взяв с собой трех человек, побежал по полю и взлетел. На поле остались только Маняша с сыном. Они одни прилетели в Павловское. Другие пошли в окрестные деревеньки.
— Господи! — сказала Маняша. — Господи… — Она поглядела на старую церковь без колокольни и на домики, разбросанные вокруг нее. — Батюшки мои!
Вот это и есть ее родина. Здесь она родилась и жила до осьмнадцати лет. Здесь пролетели когда-то ее лучшие годы. Но узнает ли она места? Угадывает ли?..
— Пошли, мама, — сказал сын.
По щекам у Маняши текли слезы. Глаза еще не узнавали, а сердце чувствовало. Трава под ногами, кусты возле дороги, пыль, прах дорожный — все было новым, другим, но не чужим. По этому полю Маняша когда-то бегала. Этим воздухом дышала. И ей хотелось сейчас что-то сказать, только она не знала, что люди говорят в таких случаях. Слов у нее не было, а было только чувство тихой радости и подавленного отчаяния, что вот так и прошла ее жизнь…
— Куда, мама? — спросил сын. — Ты веди меня.
— Совсем я уж… — сказала Маняша, вытирая слезы. — Залилась, а чего, сама не знаю. — Она оглядела местность еще раз и прибавила: — Ай-яй-яй, как все изменилось, изменилось-то как, батюшки мои!
И в самом деле, она ничего не узнавала вокруг: и церковь вроде была не та, и построек, знакомых глазу, нигде не было, и даже речка, даже речка не сверкала поблизости. Церковь стояла без колокольни — как ее узнаешь. Постройки поставили новые. А речка, должно быть, высохла. Теперь речки мелеют, зарастают болотной травой.
Покинув аэродромное поле, Маняша с сыном поднялась на высокие места, где стояла церковь. В Маняшиной памяти она осталась белокаменной, за высокой, овитой плющом, оградой. Церковь — краса округи — была видна верст за пятнадцать от Павловского. Не раз, подъезжая к селу, Маняша любовалась ее стройной колокольней и сверкающими на солнце куполами.
— Как все изменилось, ничего не узнаю! — повторила Маняша.
Маняша озиралась кругом, стараясь обнаружить что-то свое, знакомое по давним временам, что-то такое, отчего бы сердце замерло и все озарилось в памяти. Невдалеке паслись коровы и стоял пастух на деревянной ноге.
— Так как же… куда же… — шептала она. — Зимняя была церковь и летняя. В зимнюю-то ход… Откуда же ходили? Господи, ничего не припомню, все забыла, все развеялось…
— Ты говорила, где-то была школа, в которой училась. Где же школа? — спросил сын. — Перед школой, я помню, ты говорила, громовой колодчик…
— А школу-то новую построили, — сказал пастух. — Вот она стоит за погостом. А от старой один подвал остался, там теперь картошка совхозная хранится. И пруд там, и колодчик — это все осталось.
Но Маняшу интересовала церковь, и, взглянув на пастуха, она спросила, отчего стала церковь махонькой, что с ней случилось.
— А летнюю-то сломали, осталась одна зимняя, — ответил пастух. — Еще до войны сломали. Вместе с колокольней.
— Вы местный, гражданин? — спросила пастуха Маняша.
— Да, местный я, — ответил пастух.
Маняша подошла к нему, поздоровалась.
— Я здесь больше тридцати лет не была.
— Да, больше тридцати, — согласился пастух. — Здравствуй, Маняша! Вон как свидеться-то привелось.
— Чей же вы? — вежливо спросила Маняша. — Что-то я вас не узнаю. Не Сидора Семенова сын?
— Нет, не Сидора, — ответил пастух, переступая с деревянной ноги на свою, здоровую.
— А вроде бы похожи…
— Не узнаешь, Маняша? Что ж, столько лет прошло, — грустно сказал пастух, и его морщинистое лицо побагровело, губы дрогнули.
— Не узнаю, — с тревогой вздохнула Маняша. — Вроде бы знакомое лицо, а не узнаю. А вы меня вот сразу узнали.
— Что ж, я узнал, — сказал пастух. — Тимоша буду я. И сразу тебя узнал. Тимофей Петров я. Тимоша.
— Да батюшки! — тихо проронила Маняша. — Батюшки!
— Да, — еще раз грустно подтвердил пастух, — Тимоша. Вот какой я стал. Жил, жил и вот…
У Маняши сперло дыхание. Она забыла все слова. За спиной ее послышались шаги. Это сын уходил по тропе к пруду, оставляя ее наедине с одноногим пастухом, с Тимофеем Петровым, с ее Тимошей.
Тимоша!..
Вот так он стоял, а вот так она… Маняша закрыла глаза и увидела, как стояла рядом с Тимошей, одна стояла, одна-одинешенька. У Тимоши нога деревянная, кнут на плече… А сын уходил все дальше, она уже и шагов не слышала. Не было сына рядом, один Тимоша стоял перед нею, печально глядел и тоже молчал. Страшно стало Маняше.
Она хотя и вспоминала Тимошу иной раз, но, сказать откровенно, как о живом о нем не думала. Ежели увезли в цепях на канал, по словам Родимушки, то на канале Тимофей Петров и сгинул. Закопали в холодных землях и забыли, что жил на свете такой человек. Петровых, Тимошиных родичей, ни одного не осталось: ни матери с отцом, ни братьев. Еще два брата были, старшие. Одного поездом зарезало, другой сам помер. Кому же вспоминать Тимошу? Одна Маняша и вспоминала иной раз. Мелькало в голове имя, мелькали приметы, да с каждым годом все реже и реже. Отдалялся Тимоша, уходил из ее жизни…
Может, за месяц до поездки в Павловское Лукьян Санаткин завел с Маняшей о Тимоше разговор. Напомнил, одним словом, старый бес. А начал вроде бы издалека. Подсел, угнездился, долго смотрел вверх, задрав седой морщинистый подбородок, и, наконец, сказал:
— Облака. Ну вот.
— Это точно, — насмешливо подтвердила Маняша. — Белые.
— Белые, — согласился дядя Лукьян. — Тот же туман, но в сгущенном, как вроде бы молоко, виде. Пра слово. Я, бывало, в Павловском сижу, гляжу, а они текут, текут. Как сейчас, так и тогда, изменений не видно. Революция была. Коллективизация. Потом война. А облака все текут. Мы умрем — они плыть не перестанут.
— А ты бы как хотел?
— Пусть плывут, невеста. Ну вот. Не мы первые, не мы последние. В мире закон: все течет, все проплывает. Конец всему рано или поздно. И человеку конец, и звезде тоже конец. Пра слово. Ты Павловское-то вспоминаешь?
— А чего его вспоминать?
— Ну вот. Чай, родина. В Павловском мы с тобой на свет произведены. Ндравилась ты мне, Маняха, — оскалил свои редкие зубишки Родимушка.
— Ндравилась? — насмешливо переспросила Маняша.
— Ндравилась, — старательно повторил он. — Но ты с Тимошкой Петровым гуляла.
— Ай, отстань, дядя Лукьян, — отмахнулась Маняша.
— Теперь-то что… Теперь ничего… Пра слово. Тимофей Петров был мой друг, товарищ. Как и я, пролетарий.
— Ну и что?
— Да не про то я, Маняша, — поморщился Родимушка. — Не про материальное. Ну вот. Я про сознание. Про это… про идею. Ты хоть знаешь что про Тимоху-то?
— Сам же говорил: в цепях увезли, — неохотно откликнулась Маняша.
— В цепях, — кивнул дядя Лукьян, как будто сомневаясь. — А потом?
— Что потом? Ишь, завел про что, — Маняша отвернулась. — Не интересно мне знать, что потом.
— Тогда я тебе скажу, — обрадовался Родимушка. — Помер Тимошка!
— Помер?..
— Ну вот. Как пришел с войны, через годок, может, и помер.
— С какой это войны? — изумилась Маняша. — Ты чего это, дядя Лукьян, мелешь?
Родимушка поперхнулся.
— Ну вот, — вымолвил с сожалением, поворошив пятерней в загривке. — Я что… Сказывали так. За что купил, за то и продаю.
— Расковали его?..
— Ну вот. Не в цепях воевал. Был прощен, Маняша. По всеобщей амнистии. Но помер. Не знала?
Участливо так спросил Родимушка, и поверила Маняша, что прощение вышло Тимофею Петрову, Тимоше. Выпустили его, и пошел он, как все, на войну. Воевал, был сильно ранен, только не сразу скончался, не на войне, а дома. Только где? В Павловском, что ли?
Дядя Лукьян предупредил ее вопрос: не в Павловском похоронен, а где-то в Москве. Там у Тимоши жил сын. К сыну и приехал с фронта. Не в Павловское — в Москву. Что ему было делать в Павловском? Кто его там ждал?..
«Так, так, — мысленно согласилась Маняша. — Никто не ждал. Некому было ждать Тимошу».
Родимушка врал, а она поверила, потому что в душе у нее давно тайком укоренилась мысль, что Тимофея Петрова нет на этом свете. Дядя Лукьян только укрепил ее уверенность. Да и как же могло быть иначе? Разве ж не долетела до нее весточка, если бы Тимоша выжил?..
А он выжил. Выжил сын «лапотника» Тимофей Петров. Стоит перед Маняшей. У него деревянная нога, кнут на плече. Он стоит на погосте, пастух. Видит его Маняша. Твердо стоит Тимофей, хотя и на деревянной ноге. Живой, не мертвый. Что же врал ей этот шут гороховый, этот старый бес Родимушка?!
И Маняша сейчас вспоминает, что было в тот раз, когда она последний раз повидала Тимошу. Тогда она с мужем ездила из Годунова в Павловское. Дело было весной. Ехали на санях. На реке по льду уже хлестала вода. Сани подняло и чуть было не понесло. Василий выскочил на лед, дико закричал, стал хлестать лошадь. Хорошо, что лошадь была кормленая, сильная. Рванула, вынесла сани на берег. Маняша с ужасом глядела, как посередке реки корежится, встает на дыбы лед. Лишнюю минуту замешкались бы и…
Тимофея Маняша встретила возле школы. Да, так и было: возле школы. Торопилась к Арише Зайцевой. Выбежала из-за угла и увидела злополучного своего миленка. Он словно в снег вмерз. Стоял неподвижно и был совсем синий, зазябший. И Маняша тоже остановилась как вкопанная.
«Люди увидят!» — первое, что пронеслось у нее в голове.
Опасливо поглядела по сторонам, тихо попросила:
— Пропусти…
— Что ты, Маняша.. — сказал Тимоша. — Здорово. А мне сказали, что ты приехала, вот я и…
— Здравствуйте, Тимофей Емельянович!
Тимоша еще раз кивнул.
— Как поживаешь, Маняша?
— Как поживаю! — почти рассердилась она. — Что теперь об этом спрашивать? Поздно.
Маняша могла бы прибавить: «Кабы тогда на Водохлыще посмелее был, не тебе, а Василию пришлось бы спрашивать: как поживаешь?»
Не прибавила Маняша. Зачем упрекать кого-то? Вдвоем они решали, как быть, сойдясь тайком на Водохлыще. На обоих и вина падала.
Водохлыщей в Павловском называли местность, где пасли лошадей. Не луг и не поле — общественная земля на берегу речки Шахи. Мокрые низинки, бочажки, заросший осокой, островками ольховничек такой кудрявый. То там, то сям била из-под земли холодная, коричневого цвета, вода, подземные роднички хлестали, оттого и прозвали всю местность Водохлыщей. На Водохлыще девки свиданничали с парнями. Это было издавна заведено. Старые бабки и те рассказывали, что на Водохлыщу бегали, будто другого места, посуше, вокруг села не было.
Там, на Водохлыще, Тимоша и первый раз обнял Маняшу, и впервые поцеловал. Там же произошло у них и печальное расставание.
Она в смятении через Аришу Зайцеву позвала Тимошу, со слезами призналась, что из Годунова приезжали смотреть. Сам Васька Витяков с матерью. Васькиного отца не было, мать приехала. Маняша не хотела выходить, мамаша силой выталкивала, а отец примирительно сказал: «Ты хоть только покажись». Ваську с его матерью под иконы посадили. Маняша разливала чай, пряталась за самоваром. Маняшиным родителям жених понравился — богатый да красивый, и Васькиной матери вроде бы пришлась по душе она, Маняша. Витяковы даже одежду не стали смотреть, пригласили к себе, в Годуново. Что ей, Маняше, теперь делать?
Она помнит, как повисла у Тимоши на плечах.
Но Тимоша ее руки со своих плеч отвел.
— Выходит, не судьба нам, Маняша, — сказал он. — Твои за меня тебя не отдадут, тут и думать нечего. Да и какая у нас жизнь будет: ни кола ни двора… Я учиться бы поехал, если бы ты подождала. Только не дождешься. Не дадут, Маняша. Я Ваську Витякова знаю: упрямый, в лепешку расшибется, а своего добьется. Не мытьем, так катаньем. Один выход у нас: бежать куда-нибудь.
— Куда? — вскричала Маняша с отчаянием.
Про это уже не раз говорено было. Уехать из села? От матери с отцом? Нет, на такой позор Маняша согласиться не могла. Лучше в омут! Да и куда уедешь? В город? Там и своих хватает. Аришка Зайцева ездила к старшей сестре в Ярославль, весной воротилась несолоно хлебавши: работы мало, разве что к богачам в прислуги… Нет, нет, никуда не поедет Маняша!
Обнял ее Тимоша, поцеловал и сказал напоследок:
— Люблю я тебя, родная, да, видно, нечего делать! Расходятся наши дорожки: тебе на юг, мне на север.
Такая у него была поговорка: тебе на юг, мне на север.
И не о чем сразу стало говорить. Вот как бывает! Сколько слов сберегала она для Тимоши, да и он был не из молчаливых, умел сказать, а тут и у нее и у него попрятались все слова, пустота образовалась. И ни слезинки не упало у Маняши из глаз, ни единой капелечки. Пошли они в село врозь: она впереди, он шагов на десять сзади. А ведь мог бы настоять на своем Тимоша. Лег бы поперек дороги или схватил бы в охапку… Не случилось такого. Тимоша брел за ней все тише и тише, пока не отстал совсем. Хоть припугнул бы, что убьет или сам зарежется!..
Хорошо помнит Маняша, что на другой день утром повезли ее в Годуново. Еще через два дня повенчалась с Василием в Годуновской церкви, стала Витяковой.
Хоть и помнила она те серые дни, оказывается, хорошо помнила — и как вокруг аналоя ее водили, и как венец над головой держали, блестящий венец, золотой, — но перебирать все это в памяти ей больше не хотелось. Перед глазами стоял — там, на тропе возле школы — печальный и неподвижный, будто в снег вмерз, Тимоша.
— Как поживаешь, Маняша? — спросил он.
А она ответила в сердцах:
— Что об этом спрашивать? Поздно.
И Тимоша не то кивнул, не то покачал головой. Было это движение таким скорбным, что у Маняши сжалось сердце как от предчувствия недоброго. Но обиду она не успела перебороть, прибавила, что он во всем виноват. Он, Тимофей Петров, Тимофей Емельянович…
Неумно она сказала, не нужно было этих слов. Спохватилась, да слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
Тимоша снова не то кивнул, не то покачал головой.
— Виноват.
Он согласился покорно, только не последним было у него это слово. Отвернул лицо, вверх посмотрел, на церковный крест.
— Но и ты, Маняша… Что же ты? Не шла бы.
Легко ему было говорить — не шла бы! Но обида уже отхлынула, слезы застлали ей глаза. И лишь тогда она поняла, как ей хотелось увидеть Тимошу. Ведь и к Аришке Зайцевой бежала, чтобы произнести его имя да узнать хоть словцо о нем.
Тимоша увидел ее слезы, выдернул сапог из рыхлого снега, посторонился. И она быстро пошла, чуть-чуть задев его плечом.
— А я тоже женюсь, Маняша, — сказал Тимоша вдогонку.
Она не выдержала, обернулась.
— На ком?
И он назвал имя и фамилию своей будущей жени, той самой, которая через два года упекла его в тюрьму. Вострая это была девка, за словом в карман не лазила. Теперь Маняша забыла ее фамилию, а тогда Тимошину невесту все знали не только в Павловском, но и в Годунове: такие горластые в деревнях были наперечет.
Тимоша и так уже долгонько медлил. Маняша втайне мечтала, что женится он, наконец, на Арише Зайцевой, которая, кажется, тоже по Тимоше сохла. Все ждал чего-то Тимоша. И Ариша тоже ждала. И вдруг: вот тебе раз, какую в невесты себе облюбовал!
Тимошина женитьба, как ржа, разъела светлую память о нем, поранила сразу и быстро умертвила стыдливую девичью любовь. Не стало в душе Тимоши, погрузилась душа во мрак, и только один просвет был у Маняши, один-единственный — дети. Первый, второй, третий… Пошли они один за другим.
О том, что судили Тимошу, узнала Маняша только после войны. От него, конечно, от Лукьяна Санаткина. Он, старый бес, подкидывал ей застарелые новостишки, подливал, шут гороховый, масла в огонь.
«Ну вот, как тут об него не удариться! — подумала Маняша. — И хотелось бы не вспоминать, да куда не повернешься — везде он!»
И она, оставив Родимушку в покое, взглянула на часы — время шло к полудню — и опять перенеслась мыслями в Павловское.
Маняша подошла к одинокому пастуху, тихо поздоровалась.
А он сказал:
— Здравствуй, Маняша! Вон как свидеться-то привелось. Тимоша я. Тимофей Петров. Вот какой я стал. Жил, жил и вот…
За спиной у Маняши послышались шаги. Это сын уходил по тропе к пруду. Не было сына рядом, один Тимоша стоял перед нею. И страшно стало Маняше.
Тимофей Петров стоял перед нею, тот самый Тимоша, которого она давно похоронила.
Маняша смятенно оглянулась, хотела позвать сына, но он уже скрылся за деревьями.
Понял ее Тимоша, успокоил:
— Не бойся, живой я, не привидение.
— Да как же — живой? — произнесла наконец она недоуменно, вроде бы упрекая Тимошу за то, что уцелел: и в тюрьме выжил, и на фронте не погиб, и после войны от ран не помер. — Как же — живой, когда…
Она замолчала, словно хотела сообразить что-то очень важное.
— Так вот, — ответил Тимоша, не удивившись. — Не раз помирал и не помер. Все атаки сосчитал, и большие и малые. Последняя семьдесят шестая была. В Берлине рейхстаг брали. Там я ноги и лишился, — он взглядом показал на деревяшку. — А тебе сказали, что погибший я?
— Говорили, Тимофей Емельянович, — с трудом приходила в себя Маняша. — Будто бы после войны… в Москве. Да этот… дядя Лукьян, Лукьян Санаткин. Его еще Родимушкой звали. Помните такого? Здесь, в Павловском, жил.
Тимоша засмеялся, махнул рукой.
— Как не помнить, товарищи мы были. Али запамятовала, Маняша? Летось встречал я Лукашку. Три часа молол мне про свои заслуги. Кем он только не был!
— И вы ему поверили, Тимофей Емельянович? Да врет он, никем никогда не был! — воскликнула Маняша. — Все около дела. Таким же пустомелей до сих пор и остался. Родимушка и есть Родимушка!
— Мне ли его не знать, — сказал Тимоша. — Ну так, здравствуй, что ли, Маняша!
Он протянул руку.
— Здравствуйте, Тимофей Емельянович.
— Да что ты меня все на «вы» величаешь? — удивился Тимоша. — Не велик барин. Пастух. Похвастаться нечем. — Тимоша помолчал и, вглядываясь в лицо Маняши, прибавил: — Это Лукашка всю жизнь плавал, а я тонул.
«Тонул да не потонул!» — подумала Маняша, и тут страх окончательно освободил ее.
— Растерялась я совсем, — призналась она. — Как о мертвом думала… Схоронила, в общем. Значит, долго жить будете. А звать… непривычно мне после стольких лет по-старому.
— Ну как хочешь, Маняша, а я по-другому не могу. Долгая жизнь, я смотрю, нам с тобой обоим на роду написана. Вон ты еще какая! Прямая и седины вроде нет…
— Ничего, еще бегаю, — похвасталась она. — Кости скрипят, да я внимания не обращаю. Пенсию получаю, сама зарабатываю, живу самостоятельно, ни от кого не зависима.
Зачем она это Тимоше говорила? Только теперь спохватилась. Ведь хвастаться сразу начала. Расхвасталась, дурья башка! А он слушал, кивал головой, будто его все до единого словца интересовало.
Маняша вспоминала и удивлялась, как она быстро разговорилась в тот раз с Тимошей. Куда и страх подевался! Развязался язык, молола себе и молола, как иная бабка у колодца. Ее дома с водой ждут, а она с соседкой целый час судачит, из пустого в порожнее переливает. У Родимушки, что ли, переняла? С ним, с Родимушкой, молча не посидишь, не захочешь, да заспоришь.
Тимоша да Лукьян Санаткин… Вот теперь вокруг них чаще всего мысли у Маняши вертятся. Где Тимоша, тут, гляди, и дядя Лукьян. А где Родимушка, там рядком и Тимоша появится. Два товарища. Правильно говорил Тимоша: за год до Маняшиной свадьбы они вместе ходили, водой не разольешь — такие были приятели.
Встретившись с Тимошей, Родимушка ни словом о Маняше не обмолвился.
— А я не спросил, — сказал Тимоша. — Не знал, что рядом в городе живете.
— И никто не сказал? — спросила Маняша.
— А кому? Годуновские к нам не ездят: мы другого совхоза. В Павловском твоих не осталось. Поди, никого и не узнаешь, если по улице пройдешь.
— И такое может быть. Те, с кем в детстве бегала, где они теперь?..
— Кто где.
— Никого, я думаю, не осталось.
— Чего же не осталось. Кое-кто живет. Арина здесь, — сказал Тимоша.
— Жива Ариша? — встрепенулась Маняша.
— Жива.
— Батюшки! Поглядеть бы на нее!
— Приезжай еще разок и поглядишь. Уехала Арина в гости. Де конца месяца.
— Ай, жалость-то какая! Ариша жива… Сколько же ей теперь лет? Да что я говорю: мы же одногодки. Вместе в школу бегали.
— Да, вместе бегали, — подтвердил Тимоша.
— А вы, Тимофей Емельянович, так здесь все время и жили? — спросила Маняша. — Как после войны, так и…
— С самого сорок шестого года. Сорок пятый в госпитале пролежал, Маняша. Потом до весны у сына в Москве. А как потеплело, потянуло меня на родину. Позвала земля. Дай, думаю, хоть еще разок на свое Павловское погляжу. Полжизни по морям, по волнам, куда только меня не кидало.
После этих слов Тимоша задумался, покачал тихонько головой. Маняша его не понукала. Мало ли что человек вспомнил. Всю войну прошел.
— Я и с Василием твоим однажды повстречался, — подняв голову, сказал Тимоша. — Не писал Василий?
— Нет, — испуганно отозвалась Маняша. — Где же это вам привелось? С Василием… Когда?
— Под городом Ржевом это было. В сорок втором. Осенью, — стал вспоминать Тимоша. — Наш полк одну деревеньку штурмовал. От деревеньки ничего не осталось, печки да и то развороченные. На третий день отбили у немцев мы эти печки, сидим в чужих траншеях. Я засыпать стал. Чувствую, садится кто-то рядом. Посмотрел — Василий Витяков твой. Постарел. Виски белые, щеки ввалились. «Ты, Василий?» — спрашиваю все-таки. «Я, — отвечает. — А это ты, значит, Тимофей?» — «Я самый, — говорю. — Жив?» Он головой кивает: жив, мол, живой пока.
Маняша слушала, затаив дыхание.
— Больше мы ничего сказать так и не успели. Раздался свисток. Я вскочил, — продолжал Тимоша. — А он остался сидеть: команда его не касалась, он был из другой части. Тут по печкам этим немец из пушек ударил. Наш полк вперед пошел. Вот и все, Маняша. Такая у меня была встреча.
— Вскорости его и убило, — прошептала Маняша.
— Там, под Ржевом, много тысяч полегло. И слева и справа — вокруг снаряды рвались, кого осколком, кого кирпичом, а у меня — ни царапинки, — усмехнулся Тимоша. — Вот как бывает. Но, видно, не от пули, не от осколка умереть на роду мне было написано. Кому какая судьба. Каждый свою жизнь прожить должен, Василий прожил свою, ты свою, я тоже свою. Да, о чем я тебе рассказывал? — спохватился он. — Вроде бы как собрался в сорок шестом в Павловское. Думал, хоть недельку погощу. Куда там! Председатель, когда узнал, что еще один мужик приехал, хоть и безногий, от радости напился со мной, говорит: не отпущу, ты отсюда родом, тебе здесь и жить. А мне того и надо было, Маняша. — Тимоша глубоко вздохнул. — Вот так и возвратился. И живу. Я и бригадиром работал, и конюхом, а теперь вот на спокойной работке — скотину пасу. Я на пенсию тоже вышел, Маняша.
— Один живете, Тимофей Емельянович? — спросила Маняша.
Она думала, что Тимоша сам скажет, и ждала с нетерпением, когда он заговорит о семейной жизни, но Тимоша не спешил касаться этой стороны, и Маняша не выдержала и сама спросила.
Тимоша снял с плеча кнут, — а то все держал, — переступил с ноги на ногу. Он не спешил с ответом, и Маняша поняла, что ее вопрос неудобен для него. Что-то мешало Тимоше ответить сразу, как отвечал он на все ее предыдущие вопросы.
«Неужели так и коротал жизнь в одиночку?» — мелькнуло у Маняши. Больно было бы ей это слышать.
Но Тимоша тихо сказал после затянувшегося молчания:
— Нет, Маняша, я сроду никогда один не был. Это для меня хуже смерти. Семейный я. Женат. Второй раз женился. А то бы разве жизнь была.
Теперь Маняша не могла бы удержаться и под страхом смерти. Тимоша словно дразнил ее. Она знала, что первая его жена умерла. Сын, что живет в Москве, это от нее. На ком же он женился второй раз? Может, с собой привез? Это она должна была знать. А Тимоша вроде бы умышленно не говорил.
— Что же не договариваете, Тимофей Емельянович? — продолжала она, видя, что Тимоша снова замолчал, как будто речь перед этим шла о малозначительном. — Здесь женились? В Павловском?
Он кивнул.
— На ком же? — не давала ему ни минуты покоя Маняша.
— Ну коли хочешь все сразу знать, — сдался Тимоша, — тогда я скажу: на подружке твоей, на Арине Зайцевой. Арина — жена у меня. Вот уже двадцать лет.
— Слава богу! — вырвалось у Маняши.
Нет, она не ожидала, что услышит такое. Но сейчас, год спустя, она почему-то была убеждена, что причиной ее нетерпения в разговоре с Тимошей было предчувствие того хорошего в его судьбе, которое пришло к нему как бы в награду за пережитые им в молодости мучения и страдания. Не век человеку страдать. Должно же ему воздаться… Маняша и, о себе точно так же думала. И о Тимоше по-иному не могла думать.
А о том, что Ариша, ее подружка в девичестве, та самая Аришка Зайцева, могла в конце концов стать Тимошиной женой, — об этом Маняша и не помышляла.
У Маняши еще до ума не дошло это известие, не успела она целиком осознать, а сердце уже встрепенулось и подсказало, как хорошо повернулась жизнь.
— Вот так, Маняша. Арина — жена у меня, — повторил Тимоша. — Живем. Трое детей. — Он пристально поглядел на Маняшу. — Ты чего?.. Плачешь?..
— Нет, не плачу я, — ответила Маняша. — Слезы сами выкатились… Рада я за тебя, вот уж как рада!
— Спасибо тебе, — и Тимоша, к ее удивлению, поклонился.
— За что же поклон-то?..
— Сам не знаю, — признался Тимоша.
Больше Маняша не называла его Тимофеем Емельяновичем. Душе стало совсем легко. И с этой минуты Маняша окончательно уверовала в то, что справедливость не достается на долю одному, она делится на всех, а если и не сразу поровну, то это вовсе не означает, что доля к концу жизни не выровняется.
О чем еще они говорили? Всего Маняша не упомнит. Может, с час стояли. Не меньше часа. Сын спустился вниз, к пруду, долго бродил там и, наконец, вернулся, Маняша услыхала за спиной его шаги.
— Сынок твой? — тихо спросил Тимоша.
И Маняша сказала с гордостью:
— Сын!
Тимоша ласково кивнул, и Маняша увидела, что вслед за этим он присмотрелся к ее сыну, словно угадывал, на кого же больше похож парень. Может быть, он искал в нем черты Василия? Но на Василия сын совсем не походил. Ничего от Василия, кажется, не было в сыне. От деда, ее отца, было, от Маняши тоже много было. И Тимоша, убедившись в этом, еще раз кивнул.
— Младший, — прибавила Маняша.
Да, он не похож был на Василия ни обличьем, ни характером, слава богу. И все-таки рожден был от Василия. Витяковская кровь струилась в его жилах. С Василием Витяковым прожила Маняша полжизни. Была в девичестве Гавриловой. Петровой не стала. Стала Витяковой. Нажила пятерых детей. И в том числе этого, младшего, самого любимого сына.
— Так вот, значит, — задумчиво сказал Тимоша.
— Так, — подтвердила Маняша.
Она не знала, о чем он тогда думал. Она же думала о том, что от Тимоши у нее родились бы другие дети. Лучше ли, хуже ли — никто этого не скажет. Может, и лучше, только не такие. А этого Маняше не нужно было. Других детей она не хотела. Другого младшего? Нет, нет! От одной мысли об этом ей становилось не по себе. Он, младший, один такой. Не от Тимоши — от Василия. И выходит, что все правильно. Свою, законную она жизнь прожила. Родила пятерых детей, в том числе и этого, младшего. И все правильно. Жизнь назад не повернешь, по-другому ее не переделаешь. Да и не надо.
Тогда впервые Маняша так ясно поняла, что обижаться на свою жизнь ей нельзя, а она обижалась до этого. На что же обижаться? Детей она воспитала, они выросли, стали самостоятельными. Все живы, здоровы. Не часто пишут, так это тоже понятно. Все ладится, вот и не пишут. И слава богу, она лучше потерпит, подождет письмеца, лучше ждать, чем читать про разные неурядицы и невзгоды. Сама же она живет тоже неплохо. А что? Пенсия, дом, огород, коза и, главное, еще силы есть. Тимоша не зря сказал, что у нее еще и седины не видно. И было это так приятно слышать!
В юности она любила Тимошу, и горячо любила, но чувство иссякло на дальней дороге, осталась одна память о добром и светлом. И о недобром тоже, но недоброе не хотелось помнить Маняше. Добром и светом переполнилась ее душа, текли по щекам светлые слезы.
Вот так и побывала Маняша на своей родине — в Павловском, повстречалась с Тимошей, узнала все, что скрывал от нее Лукьян Санаткин, непутевый сосед. Зачем скрывал? На что рассчитывал?.. Но об этом Маняша сейчас не хотела думать. Она снова и снова убеждалась, что за добрые дела жизнь платит добром, а за содеянное зло доброй награды не жди. Маняша радовалась, что хотя и поздно, только на седьмом своем десятке, но все-таки познала главный закон человеческой жизни.
Смерть Пашки Кривобоковой
Прошел год с тех пор, как Маняша летала в Павловское. Побыла там один день, да и дня не была, часов пять, не больше, а воспоминаний про это и разных раздумий хватило на вторую половину лета, на всю осень, осталось и на зиму. А потом и это событие стало выцветать в памяти, отодвинулось и заслонилось мелкими, но важными заботами каждого дня. За свою жизнь Маняша усвоила не один закон человеческого существования. Она поняла, например, что все заботы делятся на три части. Бывают заботы главные: о детях, о том, как прожить еще года три-четыре без болезней. За ними идут заботы сезонные, их больше: о дровах и углишке для печки, о сенце для козы, о побелке и огороде… А еще больше забот маленьких, сиюминутных. Как бы успеть с утра и печку вытопить и сбегать в магазин за подсолнечным маслом. Помыть голову и постирать исподнее. Не забыть отдать пятерку соседке. Откидать снег от крыльца и упросить кого-нибудь из соседских мужиков, хоть того же дядю Лукьяна, если другие не согласятся, попилить с ней дровишек. Да мало ли их, этих ежедневных забот! То за хлебом, то за маслом, то письмо написать, то просто забежать на часок к знакомой… Вот они — которые по минуте, которые по часу — и отнимают все время, утомляют, да так, что к вечеру начинают гудеть ноги и цепенеть суставы рук. Они-то, эти заботы, и отодвигают прошлое со всем хорошим и плохим. Бугорок да бугорок на дороге, а оглянешься вдруг ненароком — за этими бугорками и гор не видно. Одним словом, все забывается, кое-что насовсем, другое же так, что при воспоминаниях ни голова тоской не мутится, ни сердце радостью не обливается. У всех это, и у Маняши тоже. Был полет в Павловское, была встреча с Тимошей Петровым, волновало это событие, вспоминалось ежедневно, пока мало-помалу не померкло, как свет а окошке к вечеру.
Ни весной, ни в начале лета о полете в Павловское и о встрече с Тимошей Маняша, кажется, не вспоминала ни разу. Мелькала мысль, да сразу забивалась другой, сиюминутной. Ни Тимоша, ни Ариша Зайцева (да, теперь-то она была Петровой!) вестей о себе не подавали, хотя Маняша и приглашала Тимошу с женой в гости. Правда, Тимоша не обещал по двум причинам: во-первых, летом или весной, то есть в рабочее время, отлучиться никак не мог, другого пастух» в Павловском не было; во-вторых, зимой «московский» сын звал его к себе, и Тимоша хотел в эту зиму поехать месяца на три. Могла бы побывать у Маняши Ариша, но, видно, тоже не выдалось свободного денька, как не выдалось его и у Маняши. Свободные деньки, они, конечно, случались, не без этого, но не выдалось такого, чтобы потянуло. Да если бы и потянуло, как ехать одной? Ни осенью, ни зимой самолеты в Павловское не летали, ходил автобус до Годунова, а оттуда еще пешком верст двенадцать. Нет, Маняша на такое путешествие не решилась бы. Оставалось одно: ждать меньшого, когда он приедет и снова повезет ее в Павловское. Договорено было: не на день полетят — на целую неделю. И Маняша ждала спокойно, без нетерпения, как после осени ждут зиму, а затем весну. Люди знают: весна обязательно сменит зиму, и Маняша твердо знала: сын не обманет. Ну, а если что-нибудь случится непредвиденное, так, верно, не судьба. Побывала один раз, встретилась с Тимошей — и хватит. И то хорошо.
Следующая Маняшина поездка больше всего почему-то заботила Лукьяна Санаткина. С весны он несколько раз интересовался, не думает ли она поехать в Павловское. Советовал, лукавый: съездила бы, погостила, чай, Аришка-то подруга детства. Зачем ему это нужно было? То врал, что Тимоши нет в живых, а об Аришке ни словом не заикнулся, то стал уговаривать: поезжай, повидайся. Или совесть у бесстыжего заговорила?
Прошлым-то летом, возвратившись из Павловского, Маняша сразу же позвала Родимушку. Он не знал, куда она летала, и ведать не ведал, подошел с хитрецой, будто ждал, что Маняша ему стаканчик поднесет. А Маняша вместо этого руки в боки и говорит:
— Привет вам от Тимофея Емельяновича, дядя Лукьян! Не кланяться велел — постыдить!
— Это за что же стыдить? — и глазом не моргнув, удивился Родимушка.
— Как за что! За вранье за все! Не ты ли тут говорил, что в цепях увезли Тимофея и что помер он давно? Может, не говорил?
— Ну вот. Чего же отказываться, ежели говорил? Было такое, подтверждаю. Но меня сам Тимофей просил: скажи, что помер. Как он просил, так я и сказал. Пра слово.
— Да врешь ты! Врешь ведь. Как у тебя это язык поворачивается?..
Наглость дяди Лукьяна обескуражила Маняшу. Она стояла, не зная, каким словом пронять соседа. Да, видно, не было таких слов, которые могли бы задеть Родимушку за живое.
— Не вру, Маняша, — убежденно оправдывался он. — Пра слово. Просил меня Тимофей: скажи вот так да так, говорит.
— И о цепях сказать он тебя просил?
— Ну вот. По-твоему, получается, что и от цепей Петров отказывается? Вольному воля. — Он обиженно отвернулся, а потом наклонился к Маняше и прибавил шепотом. — Мне об этом в милиции сказывали.
— Вот Тимоша приедет! — пригрозила Маняша дяде Лукьяну, все больше изумляясь, с каким бесстыдством тот врет. — Тогда ты не откажешься.
Родимушка ничуть не испугался.
— А пусть, пусть. Будем ждать. Когда сойдемся вместе, я ему еще и не то скажу! Пра слово.
Вот и поговори с таким. Ему плюй в глаза, а он свое — божья роса. Вместо того чтобы устыдиться, сам принялся стыдить. Так и не привел ни к чему тот разговор. Дядя Лукьян не отрекся от своих слов. Маняша его не усовестила. Не помогло и ее принужденное вранье: придуманный ею приезд Тимофея Петрова никакого впечатления на Родимушку не произвел.
«Ну и бог с ним! — подумала тогда Маняша. — Горбатого могила исправит».
Углубившись в воспоминания, прошлогодние и давнишние, Маняша и сама не заметила, как позабыла про сон. Привидевшиеся ангелы уже не стояли у нее перед глазами. Да и ангелы ли это были?.. Маняша даже устыдилась: ангелы… отец с матерью да муж… крылышки… Полдня протомилась из-за этого!
— Дурья ты башка! — вслух упрекнула себя Маняша, подымаясь с кровати. — Переживала бы сама, да хоть молча, а то дяде Лукьяну сказала, кому — дяде Лукьяну, Родимушке!
Спохватившись, Маняша готова была изругать себя последними словами. Связалась опять с никчемным человеком, с которым ни слова о серьезном говорить нельзя. Дернул за язык какой-то бес!
Маняша раскрыла дверь в большую светлую комнату, зажмурилась на порожке; солнце уже перевалило через крышу и било в передние окна, наполняя комнату жарким сиянием. Маняше даже показалось спервоначалу, что за окнами все белым-бело, как в погожий зимний день.
И тут она услыхала дробный и как будто поспешный стук в калитку, чужой стук: никто так не стучал, кроме чужих, посторонних, потому что своих — соседей, знакомых, таких как почтальонша — Маняша легко распознавала по стуку, да и стучали они в окошко, а не в калитку. Стук повторился с маленьким перерывом, но стал настойчивее, и Маняша сорвалась с места, подбежала к окну и выглянула. Калитка была недалеко, сбоку, а возле нее стояла, вытягивая шею, чтобы заглянуть во двор, Пелагея Подхомутникова, женщина лет пятидесяти, с которой Маняша лет пять работала на «утильке». С тех пор как Маняша ушла на пенсию, Пелагея встречалась ей только на улице: столкнется и обязательно хоть минутку да постоит, выспрашивая о том о сем. Видно, в этом проявлялось у нее обычное женское любопытство, дружить-то они никогда не дружили. Какая же нужда привела ее к Маняшиной калитке? Пелагея Подхомутникова никогда не посещала Маняшу, хотя и жила не так далеко, через две улицы. На улице встречались, только и всего.
Пелагея третий раз застучала в калитку, крикнула:
— Маняша, Маняша! Ты дома ль?
Маняша распахнула окошко, высунулась.
— Дома, Пелагея, я. Здравствуй. Чего тебе? Что случилось?
У Подхомутниковой рыхлое рябое лицо, верхняя губа сбоку рассечена, глаза синие, как будто не ее. За эти глаза Пелагея и поплатилась: муж ревновал. И Маняша наверняка знала: не зря он подозревал, у Пелагеи было дело с техноруком, только с тех пор прошло, может, лет десять.
— Ты до-ома, — удовлетворенно протянула Пелагея, — а я уж думаю: не застала. Подружка твоя померла! Знаешь ли? Отпевать повезли, а я бегом к тебе…
— Постой, постой, Пелагея, — перебила ее Маняша, — какая подружка?
Особых подружек, надо сказать, у Маняши не было и, главное, по той причине, что почти все «утильковские», с кем она работала, любили винцо, поэтому и сходились вместе, чтобы выпить. Из таких же и Пелагея была. А Маняша вино презирала, не находила в нем ничего полезного, кроме вреда. По этой причине скорее всего и не завелось у нее верных подружек: тут, как говорится, гусь свинье не товарищ. В общем, не любила Маняша пьяных ни мужиков, ни женщин в особенности.
— Про кого ты говоришь? — спросила Маняша, не скрывая недоумения. — Кто помер?
— Да Пашка ж, Пашка Кривобо-о-окова! Отпевать повезли, а я бегом к тебе: знаешь ли?
«Вон оно что!» — подумала Маняша.
На «утильке» почему-то все считали, что Пашка ее первая подружка. То есть Маняша знала, почему сложилось такое мнение: сама Пашка распространяла слух, что еще во время войны они жили душа в душу. То, что они были давно знакомы, Маняша и сама не скрывала, да и зачем было это скрывать, но о дружбе между ними и речи быть не могло, потому что Маняша слишком хорошо знала Пашкино прошлое и еще не забыла, как Пашка издевалась над нею в то лето… Тогда Пашка словно нарочно и, конечно, не к месту поминала Василия всякий раз при встрече, нехорошо подмигивала, намекала разное, хотя Маняша и без нее все знала и ей было больно слышать коварные слова про своего законного мужа от женщины непутевой, гулящей. Нет, не могла быть Пашка ее подружкой, хотя на «утильке» и считали, что они вроде бы дружат.
И вот, значит, Пашка, Павла Александровна Кривобокова, отдала богу душу. Померла бывшая раскрасавица, так легко обольщавшая чужих мужиков. Весть об этом Маняшу, конечно, не обрадовала, но и особой печали тоже не вызвала. Пожалуй, она больше опечалилась бы, узнав, например, что помер дядя Лукьян, хотя Родимушка и Пашка Кривобокова были, как говорится, два сапога пара. И все-таки Лукьян Санаткин был чем-то ближе, тем хотя бы, что не гнался за богатством и не наживался на людской беде, как делала это в трудную военную годину Пашка Кривобокова. Да, дядя Лукьян, этот докучливый сосед и земляк с его враньем, с придуманными им самим прошлыми заслугами, с разными его увертками и выдумками, но и с его бескорыстностью был дороже Маняше, чем женщина, которая в войну подкармливала ее детей. Те куски детишки поедали без угрызений совести, зато у Маняши эти Пашкины подаяния в горле застревали.
— В церкву отпевать повезли, — повторила Пелагея Подхомутникова, должно быть посчитав, что молчит Маняша по причине внезапного потрясения. — Собирайся, а то опозда-аешь.
Зачем собираться? Куда она могла опоздать?..
Но Пелагея глядела на нее с понятливым состраданием, и Маняша догадалась наконец, что своим бесстрастием она в первую очередь обидит эту женщину. Но и притворяться ей тоже не хотелось, двоедушие тут было совсем ни к чему, и Маняша, закивав головой, сказала:
— Спасибо, спасибо, я сейчас… Спасибо, Пелагея!
Подхомутникова торопливо махнула рукой и побежала дальше. Кому-то еще нужно было сказать о смерти Пашки Кривобоковой. А Маняша закрыла окно и присела на диванчик, соображая, как ей поступить в этом положении.
Видно, надо было сходить.
У Маняши с Пашкой Кривобоковой связана была большая часть жизни. Может быть, самые трудные дни переживала она с Пашкой почти бок о бок. И вот умерла Пашка, Павла Александровна. Маняша ее по старой привычке и в мыслях часто звала по имени-отчеству. Умерла вот…
Маняша вскочила, сбросила с себя домашний теплый халат, стала поспешно надевать новое шерстяное платье. Человек помер! Какой бы ни был, все равно… Надо проводить в последний путь.
Одеваясь впопыхах (до церкви еще надо бежать минут пятнадцать), Маняша старалась вспомнить, когда она последний раз видела Пашку. В этом году она ее ни разу не встречала, это точно, а в прошлом… И в прошлом… Маняша не вспомнила, встречалась ли с ней. Кто-то говорил, что болела Кривобокова. Будто у нее рак завелся. Эти разговоры Маняша слышала. А вот когда они в последний раз… Нет, так Маняша и не вспомнила. Выбежала, заперла дом. Калитку тоже надо было запереть. Заперла и калитку. Высчитала в уме, когда козу надо встречать. Ничего, время еще есть. Побежала вниз по тропе, к овражку, откуда был поворот на дорогу, ведущую к монастырю.
Навстречу Маняше поднимался дядя Лукьян. Он двигался осторожно, даже боязливо, словно опасаясь, что земля под ним провалится. Маняша подумала, что примерно так ходят по скользкому льду. У себя перед окном Родимушка передвигался смелее, хотя земля там была не крепче. Маняша раньше не замечала у дяди Лукьяна такой неуверенности. Сама она бегала не разбирая дороги: и под горку бегом, и в горку тоже бегом. А дядя Лукьян старше ее, может, только на два года, если не на год.
«Затронет сейчас!» — подумала Маняша.
И угадала: дядя Лукьян шутя растопырил руки.
— Стой, невеста! Куда спешишь? За билетами?
— За какими еще билетами? — спросила Маняша, порываясь проскочить мимо. — Что ты выдумал?
Не опуская рук, дядя Лукьян заступил дорогу. У него растянулись в ухмылке дряблые, с сединой вокруг, губы.
— Ну вот. Знаю я, — сказал он, хитро подмигивая, — лотерейные билеты побежала покупать. Чего же долгонько думала? Я плохих советов не даю. Твой сон к богатству, пра слово.
— Да отстань ты от меня, ну что пристал! — крикнула Маняша. — И не подумаю я твои билеты покупать. Сдались они мне!..
— Зря. Зря, Маняха. Купи десяток. Глядишь, и выиграешь. Вона у соседа моего как вышло. Знаешь? Купил сразу три билета, на два по рублю выпало, а на третий мотоцикл с люлькой. Пра слово. На мотоцикле будет ездить. Рази плохо?
— Так ты-то что не купил? — насмешливо спросила Маняша. — Или покупаешь, да все мимо.
Дядя Лукьян замотал головой.
— Не-е, Маняха, я не покупаю. Такая у меня установка: я против частной собственности. Она, проклятая, закабалит до смерти.
— А я, думаешь, за нее?
— Ну вот. Все за нее, Маняха. Как погляжу кругом, сердце кровью обливается. Рвут друг у друга. Дай побольше.
— Один ты, значит, против?
— Я лично против, — подтвердил дядя Лукьян. — Вона, гляди, какие у всех дома. Хоромы! А я живу скромно.
— Так это от лени. Ты смолоду не любил работать, дядя Лукьян. Не пахал, не сеял. Все разговоры тебя интересовали.
— Ну вот, — недовольно поморщился дядя Лукьян. Он уже опустил руки и посторонился. — Ты, невеста, не говори про то, что не знаешь. Пра слово.
— А ты меня тоже не учи, чего мне покупать, а чего нет.
— Зря, зря. Пожалеешь.
Но дядя Лукьян уже потерял интерес к лотерейным билетам и к мотоциклу.
— Вот, — сказал он, вытаскивая из кармана просторных сатиновых шаровар газеты. — Свежие номера. Каждый день покупаю. Моя страсть. Сейчас сяду, почитаю. На душе светлее станет. Правильно говорится: просвещение. Пра слово.
— Ну, ну, читай, освещайся, дядя Лукьян… Ой, да я-то что с тобой время трачу! — вскрикнула Маняша. — Мне же по такому делу надо!..
И она, забыв о Родимушке, кинулась вниз, в овражек, чтобы поворотить там направо, к дороге.
На всю жизнь запомнилось Маняше, как Пашка Кривобокова, изнемогая от смеха, приседала и хлопала себя ладошками по тугому подтянутому животу, а изо рта у нее высовывался красный и острый, как жало, язык.
Маняша вспоминала это с душевным содроганием не год и не два. Вот уж врезалась так врезалась в память эта картина! Гибкая была Пашка и не костлявая, она была откормленная, обласканная, дьявол ее побрал бы! Закипало в душе у Маняши, когда она об этом думала. Но со временем боль утихла, успокоилась, и черное в душе у Маняши осело и потерялось на глубине. Пашка исчезла в сорок втором, в ноябре или, может, в декабре: связалась с каким-то интендантом и укатила за ним не то в Омск, не то в Новосибирск.
Маняша этого интенданта видела: пожилой, с бородкой, в шинели чуть ли не до пят, очки на носу. Никто не знал, но и так видно было, что Пашка моложе его лет на двадцать. Что ее в старике прельстило? Был он, этот интендант, полковником. Может, полковничья должность и прельстила. Чин не маленький, почти генерал. Знала Пашка, на что шла, если без сожаления бросила свою «хлебную», можно сказать золотую, работенку. Уезжала, надеясь на лучшее.
Маняша помнила, что падал снежок, когда последний раз повстречала она Пашку. Снежок порошил тихо, падал на платок, на рукава белыми звездочками. У Пашки из-под пухового платка вились светлые волосы, и на нежных завитках снежинки были нанизаны, как украшения. Веселая была Пашка, счастливая.
— Ну, Маняша, прощай, не поминай лихом! — сказала она радостно, как будто и не пробегала между ними черная кошка. — Уезжаю я! Навсегда. Покидаю ваш паршивый город. В Сибирь еду. Замуж я вышла!
Вот так: вышла, наконец, замуж.
— За кого же, Павла Александровна? — сдержанно поинтересовалась Маняша, хотя знала за кого: на улице об этом уже две недели говорили.
— Ну что спрашиваешь, — засмеялась Пашка. — Не притворяйся. За него, за моего полковника. На коленях передо мной стоял. Как рыцарь: люблю, говорит! Такой солидный, а смешной. Подумала я, подумала… ну-ка, думаю, попробую!
— Не стар будет, Павла Александровна?
— Эх! — весело вскрикнула Пашка. — А что молодой? Я сама молодая, с меня и этого хватит. А старик крепче любить будет. Об этом и в песнях поется. — Она дернула Маняшу за рукав. — Ты вкуса жизни не понимаешь, но я тебя не осуждаю: без святых и грешных не было бы. Я всю жизнь по-малому грешила, за это меня и люди не любят. — Пашка засмеялась дерзко, отрывисто. — То есть бабенки, я хотела сказать. Да я плевала на них! По-моему, святые всегда грешным завидовали, нет?
Ввязываться в спор Маняша не хотела.
— Не понимаю я этого, — ответила она.
Завидовать? А чему, с ее такой жизнью, завидовать? Нет, Маняша Пашке не завидовала.
— Ну не понимаешь — и слава богу. Прощай, Маняша! — крикнула Пашка. — Уезжаю завтра. Живите здесь спокойно без меня, а я в путешествие отправляюсь!
И побежала, словно ее ветром в спину подгоняло.
Как она уезжала, Маняша видела. Утром крикнула одна из соседок: мол, с Пашкой улица прощается. Маняша не хотела выходить, да не вытерпела, вышла. С шиком уезжала Пашка — на легковом автомобиле. Солдаты вытаскивали большие Пашкины чемоданы, а сама Кривобокова бережно прижимала к груди увесистый такой портфельчик. Женщины, выбежавшие вместе с Маняшей, шептали понимающе: «Золото никому не доверяет!» С этим золотом, прижатым к груди, Пашка и залезла в автомобиль. Уехала! Сколько золотка увезла — никто не знал. Одна Маняша, пожалуй, и видела Пашкино богатство. Не одна тыща там была, конечно. Не тыщей пахло. Да таким людям, как Пашка Кривобокова, на жизнь десяток тысяч мало. Они живут начетисто, с фокусами.
Ну вот тогда и исчезла Пашка из поля зрения, затерялась где-то в Сибири вместе со своим интендантом. Прошел сорок третий год. Закончился сорок четвертый. В сорок пятом пришел войне конец. Никто Пашку не вспоминал, как будто никогда ее и не существовало на свете. И Маняша стала о ней забывать.
Потом уже, когда отменили продовольственные карточки и жизнь стала налаживаться, Маняша в хлебном магазине прислушалась вдруг к одному разговору. Мелькнуло знакомое имя, Пашкино имя было произнесено. Разговор шел о Пашке Кривобоковой. Будто бы муж у нее, интендант, после войны в одночасье помер, а его взрослые сыновья Пашку из дому выгнали, и теперь она снова работает хлеборезкой в войсковой части. Золотишка, видно, не осталось, утекло, как мелкий песок сквозь сито. Правда все это или нет, Маняша не знала. Будто бы писала кому-то Пашка, жаловалась на свою злодейку-судьбу. Маняша не стала допытываться. Зачем? Постояла, послушала, взяла хлеб (одну буханку, больше не надо было!) и побежала домой: меньшой во вторую смену в школу ходил. В это время она одной мыслью жила: уехать бы поскорее из чужого города, куда перед войной увез ее Василий. Что ей здесь делать, одной, с тремя детьми. Трое с ней к тому времени осталось. Или четверо? Нет, трое. Старшего в сорок шестом взяли в армию. Второй в сорок восьмом уехал учиться в техникум. Конечно, трое. С тремя она переезжала. Меньшой ходил тогда в начальную школу. Маняша продолжала работать на фабрике. Зачем ей нужно было узнавать про Пашку? Со старым было покончено.
Но думала ли Маняша, что снова встретится с Пашкой! И где — на своей родине, как будто это специально кому-то надо было!..
Да, с фокусами жила Пашка Кривобокова, а вот какой фокус привел ее в родные Маняшины места — никто не знал, и она сама никогда об этом не заговаривала, Одна Маняша знала.
Думая об этом, Маняша поднималась из овражка на шоссейную дорогу, которая круто поворачивала к мосту. Монастырь стоял справа, с башнями по углам, с чуть покатистыми стенами — настоящая крепость. С детства запомнила Маняша эти стены, а вернее, одну из них, мимо которой шла дорога из Павловского в город, где она теперь жила. Вот эта, по ней сейчас семенила Маняша. Один раз отец взял ее с собой в город, Ехали на санках, дорога была накатанная. Ну да, поблескивала так, что резало в глазах. Маняша сидела в санях спиной к лошади, пока отец не сказал, чтобы она поглядела на стену. И тут Маняша ахнула: стена вырастала из земли и, кажется, доставала до неба. Выше изб была стена, выше деревьев. Конечно, ей тогда показалось, что и деревья ниже стены. Может быть, она приняла за верхушку стены маковки церквей: они и сейчас возвышались над всей округой. На горе был поставлен монастырь. Теперь внутри только одна церковь. В монашеских кельях давно живут рабочие. Монастырем это место называют по привычке.
В церковь, что осталась от монастыря, и повезли отпевать Пашку Кривобокову. Когда же она бога признала, эта женщина?
Удивительной была ее жизнь. Пила, гуляла, скупала золото, угробила здоровье — и вот потом склонилась к богу, к религии. Вот отпевать в церкву повезли… И она, Пашка Кривобокова, в рай мечтает попасть? А за что? За какие заслуги? Всю жизнь грешила — и в рай?!
Удивительным все это показалось Маняше. Не верила она ни во что это, не могла душой поверить, оттого и в церковь ходила без желания, все равно что по принуждению.
И нечасто ходила, только по большим праздникам. Ну да теперь не об этом речь.
Маняша глазам не верила, когда зимой на привокзальной площади подбежала к ней Кривобокова — та самая! — назвала по имени, обняла и прослезилась. «Она ли?» — спрашивала себя Маняша. Видела, что она, Пашка, та самая, да только откуда и как?..
А Пашка висела у нее на плечах и тоже повторяла:
— Маняша, Маняша, ты ли?..
Не притворялась — радовалась, как будто всю жизнь поминала Маняшу добрым словом, и неподдельная эта радость размягчила и Маняшино сердце, всплакнула и она, всплакнула чистосердечно, а не за компанию.
— Здесь живешь? Давно? Как попала?..
Пашка быстро спрашивала и, не дожидаясь ответа, торопясь, тянула Маняшу за руку, А куда тянула, Маняша сначала не поняла. Думала, что в вокзале хочет потолковать Пашка, на лавочке, в тепле. Но Кривобокова потащила ее прямиком в ресторан.
— Посидим. Что ты! За такую-то встречу!.. Я сейчас винца закажу.
Говорила, а сама все тянула Маняшу, подвела к свободному столику, смахнула ладошкой крошки со стула. Потом назвала какую-то официантку по имени. Сделала ей рукой знак. Та понимающе кивнула.
— Ну, Маняша! — садясь напротив, радостно сказала. — Вот не думала, не гадала! Поминаешь ли жизнь-то нашу?
— Что ее поминать? — боязливо озираясь, откликнулась Маняша. — Что было, то прошло.
И прибавила просительно:
— Ты бы это… не надо, Паша. Я вина не пью.
— Не пье-ешь? — протянула изумленная Пашка. — Да ты что, Маняша! Ну, даешь!.. А я так ничего другого лучше и не нахожу. Бутылочка на столе, а вторая под столом очереди ждет — вот и счастье все! Такая наша жизнь. Или ты баптисткой стала, Маняша? Нет? Ну ладно, ты не обижайся. Я-то все больше в компаниях с пьющими… А ты нет? Ну, Маняша, ну, жизнь-то как повернулась!»
Будто она могла что-то знать о Маняшиной жизни. Или только о своей говорила? Чудно было Маняше, что она сидела в ресторане, первый раз сидела — и с кем: с Пашкой Кривобоковой, с Павлой Александровной. Или это самое Пашка и имела в виду?..
Изменилась она. Не то чтобы очень постарела, нет, сказать этого было нельзя. Выцвела, что ли? Скорее всего так. По-прежнему красилась, мазалась, но гуще, заметнее. Помада на губах издали бросалась в глаза красным пятном, а бровок вроде бы и не осталось. Красивые они раньше были у Пашки, черненькие и гибкие — жили на лице, то дугой заманчиво выгибались, то вытягивались змейкой. Теперь остановились, не играют больше. И шрамик между бровей. Припудрила его Пашка, но все равно заметен рубец багрового цвета. Кто-то шибко Пашке, как говорится, врезал между глаз. И вообще она сероватой стала, Пашка, спустилась с высот на грешную землю. Даже голос переменился. Что с хрипотцой, это понятно: вино, табак. (Она сразу закурила, пустила дым колечком.) Но хрипотца была вместе с елейностью, угодливостью. И торопливость появилась в разговоре, спешила Пашка сказать, как будто боялась, что прервут, не дадут докончить.
— Ну так что же, Маняша? — спохватилась она. — Как ты здесь очутилась? И давно ли живешь?
Об этом самом и Маняше не терпелось спросить. Она-то, можно сказать, живет на своей родине, поколесила с муженьком по белу свету, хватит. А Пашка? Помнится, говорили в Вязниках, что родом Кривобокова из Москвы. До столицы чего ж не доехала?..
Пашка выпустила изо рта два колечка дыма, прибавила к ним третье, проследила, как они плыли над столом, и усмехнулась.
— Не пустили, Маняша. Не пустили меня в столицу блюстители. Говорят: живи в окрестностях, не ближе, чем за сто километров. Что ты на меня так глядишь? Ну, сидела. Было. Три с половиной годика. Сынки моего полковничка посадили. Помнишь, в шинели до пят, очкастый? Как он дуба врезал, я вещички кое-какие приладилась продавать. Ну это и не понравилось деткам. А в общем, свое же продавала, Маняша, ты не подумай что. Помнишь, мою шкатулку? Не забыла, я думаю? До сих пор помню, что ты у меня браслет золотой не взяла! Глупо поступила. Браслет тысячи стоил. Цены не было тому браслету! А ты ни грошика у меня не взяла, ни монетки не прикарманила. Изумила ты меня, честное слово!
— Не привыкла чужого брать, Паша.
— Какое там чужое, общее все было. Со всего города снесли мне. Общее, Маняша. Я же не своим хлебцем золотишко оплачивала. Своего у меня было… знаешь что, одна фигура.
— Ну хоть пожила…
— Я жила? Сон это был! — крикнула Пашка. — Жизнь, золото — все к чертям собачьим. Проснулась — и нет ничего!
Официантка принесла в графинчике вино и закуску на тарелках. Маняша попробовала — поставила рюмку на стол. Пашка выпила вино залпом да еще губами чмокнула: ах вкусно!
— А как меня били! — пожаловалась она. — Если бы ты видела, как меня били! Кто меня только не бил! На мне живого места не осталось!
И Пашка вдруг расплакалась, размазывая помаду по лицу. Расплакалась горько, громко, навзрыд. Один раз Маняша только и видела ее плачущей — там, в ресторане. Один раз за всю жизнь. Больше Пашка Кривобокова никогда при ней не плакала, ни слезинки из ее глаз не выкатилось. А в ресторане ревела, как дите обиженное. Нервы, что ли, не выдержали?..
И было это светлым воспоминанием у Маняши. Самым светлым, пожалуй, если касаться только переживаний, связанных с Пашкой. Кривобокова рыдала, и Маняша понимала, что с Пашкой происходит, какие деньки своей жизни она оплакивает. Чувствовала Маняша: не золота было жалко Пашке, не золота — жизни. На что она у нее ушла? Кто помянет ее, Пашку, кто пожалеет?..
Маняша пожалела. Там, за ресторанным столом, она забыла прошлое, видела только плачущую Пашку, лицо у которой стало страшным, словно по нему размазали кровь, видела Пашкино горе и утешала ее, как могла. Бабьи Пашкины слезы были по-человечески понятны Маняше, она чувствовала, как слаба Кривобокова, как она несчастна. Пашкина слабость подкупила Маняшу. Слабых жалеть надо, и Маняша жалела — попросту, по-настоящему.
А Пашка все-таки допила свое винцо, не оставила в графине ни капли.
— Вот мы с тобой и встретились, — заключила грустно, — и поговорили.
Она безнадежно качала головой, и Маняша видела, как пусто, темно у нее в глазах.
Давно ли это было? Давненько. Маняше еще не исполнилось и пятидесяти. Она работала в «утильке». Так называли в городе утилькомбинат. Чтобы уходить на пенсию, об этом тогда и разговора не было.
В Вязниках Маняша работала на ткацкой фабрике, а здесь первое время маялась без постоянной работы: в городе, кроме маленького заводика, промышленных предприятий не было. Заводик этот да железная дорога — вот и весь выбор.
Первую зиму Маняша ходила на станцию: расчищала от снежных заносов железнодорожные пути, скалывала лед на перроне. С лопатой да с ломиком. Случалось так, что с утра и до позднего вечера. И ночью приходилось. Если днем метель, буран — ночная работа, считай, обеспечена. Платили, правда, хорошо.
Весной она на сплаве вместе с мужиками бревна выволакивала из речки. Тянули бревна баграми, укладывали на берегу в штабеля. Получали за каждый штабель. Тоже выходило в среднем неплохо. Но и эта работа была скоротечная, сезонная. Пришлось дожидаться покоса. Косцы требовались везде: в совхозах, в подсобных хозяйствах. Косила Маняша целый месяц. Дети по неделям оставались в доме одни. Нужно было подыскивать какую-нибудь постоянную работу.
И работенка, наконец, нашлась — в «утильке», всего в каких-нибудь десяти минутах ходьбы от дома. Шла однажды Маняша с покоса: коса на одном плече, тяжелые солдатские ботинки на другом. У мостков через речку повстречался ей старичок. Поглядел на нее, неуверенно спросил:
— Ты не Витякова ли, случаем, будешь?..
Маняша кивнула, тоже вгляделась в старичка и вдруг узнала в нем Петра Михеева, бывшего соседа: в Годунове через дом от Витяковых жил.
Михеев обрадовался встрече, расспросил обо всем и, узнав, что Маняша мыкается без работы, пообещал устроить на хорошее место. Маняша обрадовалась. Работка оказалась — поискать такую.
Михеев (все звали его просто Михеичем) заведовал в «утильке» моечным цехом. Мыли грязную, в мазуте и саже, тряпку. За высоким деревянным забором стояли громадные котлы, возле них — помосты. Тряпку, разную рвань, поднимали на эти помосты и сбрасывали в котел с кипящей водой. Сбрасывали женщины. На носилки — и в котел, в котел. Мужик в то же время колом топил тряпку, пока котел не заполнялся до краев. Тогда опускали крышку, и тряпка кипела часов семь или восемь. В основном, конечно, ночью. А с утра котел открывали, мужики начинали баграми вытаскивать тряпки, женщины подхватывали, таскали на носилках в специальные чаны и там мыли. Положено было по инструкции не меньше чем в трех водах, но часто тряпка попадалась чистая, воду всего лишь разок спускали. Михеич сам командовал, когда надо в трех мыть, а когда в двух, глаз у него был наметанный.
Приняли Маняшу, день на четвертый, кажется, подпустили к котлам. Женщины, а их было на каждом котле по двое, сначала зароптали: третью прилепили, вроде бы лишнюю. Но Михеич твердо пообещал: «Меньше, чем прежде, не выведу, свое получите». И получили. Маняше причиталось столько же. Она глазам своим не поверила, разглядывая ведомость. Тряпья навозили целую гору. Моечный цех ежемесячно перевыполнял план. Руководство утилькомбината похваливало: ай да работнички! Михеич привел на «утильку» и Пашку Кривобокову. Пашка сама нашла дорогу к заведующему моечным цехом, Маняша ей не подсказывала. Но о работе рассказала: грязная и тяжелая, да денежная. Думала, что трудности Пашку оттолкнут. Ей бы куда-нибудь в столовую… Только столовая теперь Кривобокову не устраивала. Она, видно, быстро сообразила, что к чему, и дня через два после встречи на вокзале Михеич ее и привел в цех.
В зимнее время мойщики мяли и трепали лен. Работы хватало как раз до тепла. А если лен кончался, то потихоньку мотали нитки. Но в тот год льна было много, мялки и трепалки работали непрерывно. Сначала лен нужно было пообмять, для этого и существовали мялки — специальные нехитрые устройства: одной рукой мнешь, другой постоянно подаешь в мялку пучки льняной тресты. Кончила мять — переходи к трепалу. Бери горсть льна, трепи, расчесывай ее на этом самом трепале. До чистоты расчесывай, чтобы костры в волокне не осталось. Рядом кадка с водой. Помашешь над ней горстью. Если костра в воду не падает, значит, горсть чистая, принимайся за следующую. Дело нехитрое, ребенок справится, но утомляло так, что не все выдерживали. И пылища отпугивала. А Маняша трепала без ропота: на ткацкой фабрике пылищи было не меньше.
Михеич поставил Пашку на мялку. Кривобокова проработала ровно день. На другой день ее увидели в конторе — с папироской, губы накрашены. Не то наряды выписывала, не то бумажки подшивала — нашла дело почище. Так что права оказалась Маняша: испугали Пашку трудности.
— За вредность не платят, а я, Маняша, не скотина, — сказала она.
До весны так и просидела в теплой конторе, хотя в списках числилась разнорабочей. Надо думать, что не только Михеичу сумела угодить.
Моечный цех имел свою баньку. Люди у котлов да чанов на полоскании за день угваздывались так, что становились похожими на чертей. По домам расходиться в таком виде не было никакой возможности. Поэтому и топили баньку, чтобы отмыть мазут с лица, с рук, с ног. В баньке было две половины — женская и мужская. Но мужиков осталось в цеху раз-два, и обчелся. Им вытаскивали ведерко горячей воды, и они умывались за углом. Щеки, ладони отмоют — и кто куда. Женщины мылись основательнее, по всем правилам: с парком, с мочалками. Пар отъедал всю нефть, вроде бы отбивал запахи сального промасленного тряпья. Хорошее, полезное это было дело — банька в моечном цехе. Пашка никогда в баньку эту не ходила.
Года через три — тогда Маняша уже вышла на пенсию — мелькнуло в церкви постное Пашкино лицо в черном платочке. Маняша вгляделась: да Пашка ли?.. Это была она. Прошла мимо, поклонилась, произнесла елейным, медоточивым голосом:
— Здравствуй, Маняша.
«На кой ляд церковь!» — кричала когда-то. А нашла туда дорогу. И Маняша готова была повторить слова Лукьяна Санаткина, что только на грехах людей попы и держатся.
Умирала Кривобокова долго и трудно. Маняша знала об этом из случайных разговоров, сама же больную Пашку не видела. И вот теперь она запоздало раскаивалась, что так и не собралась Пашку проведать. Воспоминания растравили Маняшу, растревожили ее сердце. Пока она бежала мимо длинной и высокой монастырской стены, память подсказала ей, как в тот день, когда ее отправляли на пенсию, Пашка выступила на собрании и назвала Маняшу лучшей работницей. «Нету у нас таких и не будет!» — заявила она, и никто не возразил, даже директор слова против не сказал. Пашкина речь тогда смутила Маняшу. То, что выступила именно Пашка, было как-то неприятно ей. Не только дружеского расположения, но и простой человеческой симпатии у нее к Кривобоковой так и не возникло, хотя Пашка и добивалась, чтобы у них наладились хорошие отношения. Маняша даже не пригласила Пашку на вечерку, когда отмечала в кругу подруг по работе уход на пенсию. Правда, кто-то говорил, что Кривобокова не пошла бы. Кажется, в то время она уже повернула к богу. Но все равно неправильно поступила тогда Маняша, надо было пригласить Пашку. Теперь Маняша раскаивалась и жалела Кривобокову. Пашка переменилась к концу жизни, уже не гналась за лишним рублем, даже пить бросила, а это, как говорили знающие люди, дается не так-то легко. Теперь Маняша могла оценить такую перемену и спрашивала себя с укором, почему же не оценила раньше.
«Ах, Пашка, Пашка! — думала она с горечью. — Жила, чего-то добивалась… и вот нету ее. Жила — и нету, как и не было. А ради чего все это? Зачем?..»
На эти вопросы ответов было много. Каждый мог думать, как хотел. Маняша считала: никто не знает.
Горько было сознавать Маняше, что еще один человек закончил свое земное существование. На земле не нашла счастья, так на небе рассчитывала дополучить. А вдруг нет никакого неба, и все счастье, все до капельки, получает каждый человек на грешной земле? Кто больше, кто меньше, кто совсем ничего, но только здесь, на земле.
Маняша миновала автобусную остановку и подбежала к воротам. Возле них сидела на корточках слепая старушка, с алюминиевой кружкой для подаяния. Маняша пощупала в кармане забытую мелочь, вынула монету. Это оказался пятак. И она бросила пятак в кружку.
«Не сон ли сбылся? — мелькнуло у Маняши. — Может, все проще простого. Кинула старушке пятачок — вот и ответ. И вся жизнь, может, к малой простоте сводится. Да только к какой?»
За монастырской стеной слева возвышалась над липами белая колокольня. Колоколов на ней уже давно не было, от старого назначения осталось одно название. Да еще красота. На колоколенку любо было посмотреть. Манила взгляд прямота ее и стройность. Как бежишь, так обязательно поднимешь глаза к небу. Люди и в старину знали, как надо строить.
От колокольни до храма рукой подать. Маняша свернула под липы, чтобы пробежать напрямик к паперти. Она хотя и бежала не шибко, переходила и на шаг, но все равно запыхалась, дыхание перехватило, в левом боку кололо. Решив, что все равно успеет, остановилась, чтобы немножко отдышаться. И тут как раз из-за угла медленно выехала грузовая автомашина. В кузове сидели женщины, все в черных платках. К кабине была прислонена черная крышка гроба. Эту крышку Маняша сначала не увидела. Машина развернулась и тихо поехала дальше, мимо стены храма, чтобы повернуть направо, к воротам, сквозь которые только что прошла Маняша. На кладбище ехала машина, и везла она гроб с телом новопреставленной рабы божьей Павлы Александровны Кривобоковой. Не успела Маняша. Опоздала на какие-нибудь две минуты. Из-за дяди Лукьяна, из-за Родимушки этого, конечно, опоздала!
Кричать? Нет, сил для этого Маняша не находила. Опоздала, так чего уж… Машина проехала мимо шагах в сорока, никто из женщин на Маняшу не обратил внимания. И она никого не узнала. Только один шофер почему-то посмотрел на нее. Может быть, привлекло человека выражение ее лица… Стоило Маняше махнуть рукой, он остановил бы грузовик. Но Маняша не махнула, стояла онемевшая, скованная по рукам и ногам неуверенностью. Напрасно бежала… Чужую хоронила. Да, чужую.. Как была чужой, так она и осталась, Пашка Кривобокова. Скупала золото, приманивала, ловила мужиков, сидела в тюрьме, охальничала в «утильке» — и закончила дружбой с попами, церковным постом. Царство ей небесное!
Грузовик въехал в ворота и скрылся за ними. В вершинах лип зашумел ветер, словно хотел что-то сказать Маняше. Она подняла голову, прислушалась. Волнуя листву, ветер побежал дальше и смолк. Мелькнул около лица и упал к ногам пожелтевший лист.
«Август кончится, осень настанет… а там и зима скоро», — почему-то подумала Маняша. Она почувствовала грусть.
«Вот прибежала… А что стоять? Идти надо».
Но с места она не сдвинулась. Спешить ей было некуда. Какие дела дома? В огороде, конечно, можно бы покопаться, помидоришки собрать. Да бог с ними, успеется, все равно день пропал. Она завтра с утра огородом займется. А сегодня…
Сегодняшний день выпадал из размеренной, с устоявшимися привычными заботами, жизни, и Маняша не знала, на что потратить оставшееся до вечера время, которого всегда как будто не хватало. Домой идти не хотелось. Стоять возле церкви тоже не имело смысла. Скажут, что это тут стоит бабка, кого дожидается. Пора бы и с места сойти. Но куда податься теперь? К знакомым, к сестре двоюродной? Так у сестры была третьего дня. А у знакомых свои дела, что мешать…
«Безделье-то! — неприкаянно озираясь по сторонам, подумала Маняша. — Хуже всякой работы угнетает!»
Конечно, жаль, что она к Пашке не успела. Лукьян Санаткин, старый бес, помешал. Но, с другой стороны, на кладбище она все равно не поехала бы.
Странное превращение, случившееся с Пашкой, вызывало у Маняши недоверчивое чувство, и в нем почти без остатка растворялась жалость к Кривобоковой. Пашка сама перевернула о себе мнение, из черненькой стала беленькой, да правдоподобна ли такая быстрая переделка? В глубине души Маняша не верила Пашке. У Кривобоковой и в повороте к богу была корысть. И, значит, не только старые воспоминания мешали Маняше по-настоящему пожалеть Пашку. А пожалеть бы надо: помер человек. И не старый совсем, молодой, лет на двенадцать моложе Маняши. Помер, не оставив на земле ростков. Как не пожалеть такого!
Размышляя над этим, Маняша сдвинулась с места, незаметно пошла, миновала колокольню, обогнула церковную паперть. Напротив нее виднелись вторые ворота, глубокие, в виде арки. Они вели к речке и когда-то считались центральными. Народ через них ходил а церковь. Теперь отсюда был выход к железнодорожному поселку. Он виден был на другом берегу, стоял в зелени. Туда Маняша ходила к своей двоюродной сестре, а сейчас шла просто так, не зная цели.
К монастырской стене с ее наружной стороны прилепились домишки. До войны тут к городу примыкала целая деревенька, по берегу тянулись фруктовые сады. В войну полдеревни сгорело. Возвратившись из Вязников, Маняша застала лишь три или четыре дома да десятка два старых яблонь. Дома перестраивали, обновляли, а о яблонях не заботились. Деревья сохли одно за другим, и теперь осталась одна-единственная яблоня, на самом берегу. В прошлом году она еще уродила. Маняша видела с моста, как мальчишки обивали зеленые яблоки. Под это дерево, под яблоню, она и пришла. Какой-то добрый человек поставил рядышком скамейку. Маняша на нее и села.
Берег в этом месте был крутой. Зеленый гладкий склон заканчивался желтой песчаной полосой. На песке четко отпечатались малюсенькие крестики — птичьи следы. Маняша порадовалась, что еще может без очков различать такую малость. Потом увидела в реке рыбу величиной с ладонь. Она стояла возле берега, как бы принюхивалась, и у нее чуть-чуть шевелились красные плавнички.
— Ну чего ты стоишь, глупая? — дружелюбно спросила Маняша. — Хочешь на крючок подцепиться? Плыви в омут. Ну плыви скорее!
И рыба поплыла вглубь, словно послушалась, Маняша улыбнулась, перевела взгляд на середину речки, где ветер тонко рябил воду. Так же вот и в детстве, она помнила, мерцала веселая рябь на речке Шахе…
«Как это дядя Лукьян про облака сказал? — подумала Маняша. — Что они плывут, плывут… Мы перемрем — они плыть не перестанут. Так вроде. И верно, это же самое и про речку можно сказать. Одни умрут, другие будут, и те в землю сойдут в свое время, а ветер все не перестанет воду рябить. Белого света не убавится, никто с собой и капли малой в могилу не унесет, все для других останется. Только бы жили все не злобно, не завистливо. К чему? Конец для всех один, только сроки разные. Пашка раньше, я позже, а вполне могло быть и наоборот».
И мысли у Маняши вновь возвратились к старому, к тому, что было связано у нее с Пашкой Кривобоковой.
Старая вязниковская знакомая сказала Маняше, что они, видно, одной веревочкой связаны. То есть судьба у них такая — рядом жить. «Может, и умрем вместе, и положат нас рядом», — шутила она, по-своему кривя губы: они у нее растягивались куда-то вбок, чуть ли не к подбородку. В Вязниках таких гримас у Пашки на лице Маняша не примечала.
Кривобокова, еще когда работала в конторе, все набивалась к Маняше в гости, манила к себе на квартиру, которую снимала у какой-то одинокой старухи. Маняша отнекивалась, находила причины, чтобы не пойти к Пашке, не отвечала на ее намеки. «Ну как? Ну что?» — настаивала Кривобокова, встречаясь с Маняшей на территории «утильки». «Вот еще привязалась! — сердито думала Маняша. — Больно нужна ты мне…» Она помнила, как закончился у них разговор за ресторанным столиком, и не хотела, чтобы это повторилось. Разные скандалы, слезы на людях, шум — все это Маняше было не по душе. А Пашка скучала без громких разговоров, крика, выпивок, сплетен. Она искала себе подруг и, как все люди, обживающиеся на новом месте, первое время чувствовала себя неприкаянной. Тогда Маняша ей особенно была нужна. Через нее Пашка искала знакомств. С ней, видно, ей хотелось иногда вспомнить старое. Ей-то хотелось, да Маняша избегала этого.
Может, и не стоило так упорно уклоняться от общения с Пашкой. Теперь Маняша понимала, что действительно не стоило. Да ведь говорится среди людей: сердцу не прикажешь. Не могла пересилить себя Маняша, лежала между ней и Пашкой пропасть, да такая, что не перескочишь. И вот что удивительно: не злопамятная была Маняша, ни на кого обида у нее в сердце долго не держалась. Ни на кого, за исключением Пашки. Одна Кривобокова у нее выделялась, стояла особняком. А по какой причине, Маняша не понимала. Нет, обиды Пашка ей наносила. Да велики ли были они, эти обиды?..
Маняша смотрела на середину реки, где солнцем высвечивалось пятно отмели, видела чистый песок на дне, переводила взгляд дальше, словно искала что-то. Может быть, отражение какое-то? Может, хотела на воде прочитать то, что написано и ей на роду? «Одной веревкой связанные», — говорила Пашка. Но веревка эта взяла и оборвалась, а ничего в жизни у Маняши не изменилось. Как жила она, так и станет жить. Спозаранок вскочит, допоздна провозится, ляжет уставшая и опять со светом на ноги поднимется. Пашка зря говорила, пустые ее слова. Маняша верила: совсем пустые.
«Что мне Пашка про колечко-то плела?» — вдруг вспомнила она.
Разные разговоры у нее с Кривобоковой, конечно, были, не без этого. На работе случались перерывы: то тряпье кончилось, то котлы выходили из строя. И тогда Пашка старалась подсесть к Маняше, вызывала на воспоминания. Сладкие они были, прежние Пашкины деньки, как их лишний раз не вспомнить!
Один раз зашел разговор о тех драгоценностях, которые Пашка, почуяв беду, притащила Маняше. Вообще об этом Кривобокова вспоминала часто, хвасталась своим прошлым богатством, но в тот день она не стала перечислять браслеты да ожерелья, никого вокруг не было, они сидели возле баньки вдвоем. Про что Пашка тогда спросила? Вот про что: про навоз. Как додумалась спрятать ее бесценные побрякушки в навоз. Не иначе как этот тайничок и раньше использовала. А что прятала? Какие у нее хранились в то время богатства?
Маняша засмеялась и ответила:
— Твои же, Павла, твои. Не догадываешься? Котлетки с лапшой — вот что. Рядом, в сене, прятала. Только я не от милиции, а от детей хоронила. Лапшичку, тобой подаренную. Дома мне ее спрятать негде было. А Василий приказал: принеси. Там до вечера и простояла тарелка.
— Неужто-о? — весело изумилась Пашка. — Я свое добро с неделю не могла в комнате держать, так от него разило!
— А говорят, золотце не пахнет, — заметила Маняша.
— Дерьмо, Маняша, и на золото налипает.
— Да знаю я…
— Чего ты знаешь? Повидала бы с мое. Я, может, не одну, а четыре жизни прожила. Четыре, а теперь вот пятую ломать начинаю.
— Ну вот, — сказала Маняша с иронией, — ты бы заодно и утробную посчитала. Так у каждого жизней, глядишь, с десяток поднаберется. Да и что старое вспоминать: что было, то прошло, не воротится.
— Не воротится, — согласилась Пашка. — А я так вспоминаю, Маняша. Мне есть что, товарка, вспомнить! В соболях вся ходила, бриллианты грела на груди. Здесь вот, — хлопнула она ладонью, — у себя, на белой грудышке!
— Не своим трудом они у тебя, бриллианты, Павла Александровна, были заработанные.
— Своим трудом только могилу заработаешь, а больше ничего! Ты, чай, колечко свое — помнишь? — тоже не на мужнины гроши приобрела.
— Ни копейки не платила, Павла.
— Откуда же оно у тебя взялось, колечко такое?
— Откуда?.. Я и сама не знаю.
— Не зна-а-аешь! — насмешливо протянула Пашка, и губы у нее перекосились, растягиваясь с одной стороны к подбородку. — С неба упало колечко? Или в пыли, скажешь, нашла?
— Правду говорю, Павла, что не знаю, откуда у меня взялось это колечко, — повторила Маняша. — Кто подарил, мне не ведомо.
— Ах, все-таки подарили, значит! — расхохоталась Пашка.
— Может, и не подарили… Не знаю. А дело было так.
— Ну-ка, ну-ка! — недоверчиво заторопила Маняшу Пашка и придвинулась поближе, словно собираясь послушать сказку.
История, про которую думала рассказать ей Маняша, и в самом деле похожа была на сказку. Она знала, что Пашка в это все равно не поверит.
В тот год, когда Маняша в предпоследний раз ездила в Павловское, в селе раскулачивали богатеев. В Павловском за это дело взялись раньше, чем в Годунове, село шумело: кто радовался, кто плакал. Имущество кулаков описывали, а хозяев увозили. Люди, то есть кулаки эти, вели себя по-разному: одни садились в розвальни добровольно, других вели под руки.
Маняша не удержалась, побежала. Раскулачивали недалеко, дома через четыре. Там уже скопилась толпа. Два милиционера вывели на крыльцо хозяина, чернобородого, похожего на цыгана, его так и звали по-уличному Цыганком. Он упирался, кричал:
— Все одно моим добром подавитесь! Все одно. Сгорит все, прахом пойдет!..
Милиционеры толкнули его в розвальни, вскочили сами, сани помчались, разбрасывая снег. К крыльцу живехонько подкатили другие, на крыльце показалась сноха Цыганка, молодая красивая баба. Вспоминая сейчас, Маняша подумала, что чем-то она напоминала молодую Пашку Кривобокову, похожа была отчасти. Ее привели в тот же год, когда и Маняшу выдали. Гордая была, своенравная женщина, на соседей глядела свысока. Она и в тот раз посмотрела с крыльца презрительно. Милиционера, который ее поторапливал, ударила по руке. Так и увезли ее с презрительной улыбкой на белом бескровном лице.
Маняша была в толпе, толкалась вместе со всеми, в шубейке да в вязаном платке. Когда народ стал расходиться, пошла и Маняша. Помнит: руку в карман шубейки сунула, укололась о что-то острое. Ощупала: кругленькое, немножко колется. Вытащила — глазам не поверила: колечко с камушком, золотое, камушек блестящий, граненый. Откуда?! Кто-то, значит, сунул ей в карман колечко?.. А кто?
Два дня боялась говорить Василию, мучилась, потом призналась. Тот усмехнулся со злостью:
— Подарочек чей-то? Чей?
Маняша божилась, что и знать не знает, сунула руку в карман, а там оно, колечко это. Может, кто по ошибке не в тот карман положил?..
— Ну да, как же! — издевался Василий, уязвленный. — Карманы перепутали!
— Так я его выброшу, — обиделась Маняша.
— Твое дело, тебе подарили.
Муж не верил, что колечко досталось Маняше по ошибке. Да и сама она сомневалась. Но кто мог сунуть? Тимоша? Так его в толпе не было, она искала Тимошу, даже спрашивала у Аришки. Нет, Тимоша не мог положить кольца, кто-то другой. А кто, так и осталось тайной. Маняша колечко, конечно, не носила, упрятала в банку, мало-помалу забыла о нем. Василий в драгоценностях тоже не разбирался, и он не напоминал.
Вот и вся история. А как ее рассказать Пашке? Ведь тоже не поверит.
И Маняша сказала после молчания:
— Как оно было, я уже и запамятовала. Дело прошлое, что об этом вспоминать.
— Не расскажешь? Понятное дело, — опять усмехнулась Пашка, отодвигаясь. — Так бы и сказала сразу. Ну, где взяла его, теперь уж не важно. — Она помолчала и спросила: — Но ты хоть знала, сколько оно стоило?
— Нет, не знала, Павла.
— Не знала? — придирчиво допытывалась Пашка.
— Не знала, правду говорю.
— Тогда ты прогадала, Маняша, — с опаской взглянув на нее, призналась Кривобокова. — Кольцо твое с настоящим бриллиантом. Цены ему не было! А ты за паршивый кусок хлеба такую драгоценность отдала.
— Ну и что же, — спокойно ответила Маняша. — Я знала, что ты все равно меня обманешь, и не жалела. Хлеб-то дорог был.
— Не жалела? А теперь?
— Теперь и подавно. Чего жалеть-то? Как оно мне досталось, так и ушло.
— Ну я… — хотела что-то сказать Пашка, но оборвала речь на полуслове. — У меня долго совесть неспокойной была, по правде сказать, — прибавила она минуту спустя. — Болела душа, что обманула тогда тебя. Все-таки зла ты мне не сделала, наоборот…
— Да, я зла не сделала, — подтвердила Маняша.
— А могла бы, — сказала Пашка.
— Я? Тебе? — удивилась Маняша.
— Ты, ты. Еще как могла бы!
— Не знаешь ты меня, Павла, не было и нет у меня такой моды.
— И в мыслях будто бы не держала? — допытывалась Пашка.
— Побожиться, что ли?
— А побожись, Маняша, побожись, все мне спокойнее будет.
Странный завела Пашка разговор. Не понимала ее Маняша. Ну что пристала? Смеха ради, что ли? Так нет вроде, серьезным было лицо у Пашки, без подвоха допытывалась.
— Да ей-богу! — искренне сказала Маняша. — Чтобы меня громом пришибло, если вру!
— А в бога ты веришь? — спросила Пашка.
Ну что она могла ей ответить? Маняша и сама не знала.
— Что молчишь? Я спрашиваю: бога ты признаешь?
— Когда как, Павла. Нужда приходит, так признаю.
— Верно, — усмехнулась Пашка, — и у меня такое бывает. Но я тебе честно скажу: побаивалась тогда за свою банку. Что тебе стоило присвоить или в милицию донести.
— Зря грешила, Павла.
— Вижу, что зря. Ты, наверное, обижаешься на меня за Василия? — спросила Пашка.
— Чего теперь обижаться…
— Так знай: чистая я перед тобой, не была с твоим Василием. Фенька-рыжая…
— Ну и бог с ней, чего теперь вспоминать…
— Бабы злопамятные насчет мужиков, Маняша. Я тебя уверяю за Василия, чтобы ты зла на меня не держала: напрасными будут твои подозрения. У меня с Матвеем Григорьевичем эти дела были, с Семеновым. Хороший был человек, вовек не забуду!
— И его убили?..
— Погиб, бедняга.
— Ты и погубила, Павла, — не выдержав, прошептала Маняша.
Думала, что Пашка взовьется, станет возражать, но Кривобокова в ответ покорно кивнула головой:
— Может, и я. Я, Маняша, думала, что все одно немцы придут.
— А они не пришли!
— Не пришли, я тут здорово ошиблась. За это меня судьба после и не побаловала.
— А меня за что?..
— Маняша! — воскликнула Пашка. — Да ты бога благодари, что твой Васька живым не вернулся! Ты с ним жила, света не видела, он же, кроме своего пуза, никого не уважал!
— Не тебе судить, Павла, не говори об этом. С войны живым вернулся бы, может, другим стал.
— Гадать можно, конечно, только нужно правде в глаза глядеть: война людей не исправляет, а то бы добрым делом ее считали и век воевали. Хорошие люди и с войны хорошими приходят, плохие еще хуже становятся. Закон такой, Маняша, и ты со мной не спорь. С войны бы твой Васька зверем пришел.
— Не тебе судить, — повторила Маняша.
— Ну все, — сказала Пашка, — это твое дело.
Она встала и быстро ушла, словно испугавшись продолжения этого разговора. А чего добивалась? Что накатило на нее? Не поняла Маняша.
Не вышло у нее с Пашкой Кривобоковой дружбы. Вскоре ввели закон о новых пенсиях, и ушла Маняша на покой. Больше о Пашке и вспомнить было нечего.
«Опустили уж теперь, — подумала она. — Или, может, даже закопали…»
Была Пашка — и нет ее. Вот она, жизнь…
Маняша пригорюнилась на скамеечке, представив в эту минуту и свой конец. Съедутся ли дети? Может, только в этот день и соберутся все вместе. А она их уже не увидит, всех пятерых сразу. Младший хотя бы скорее приезжал…
Речка катила свои воды почти неслышно. К берегу снова приплыла рыбка, остановилась. Та ли самая? Или, может, другая?
— Ну что тебе? — опять тихо спросила Маняша.
Рыбка шевельнула хвостом.
— Не скажешь, глупая. И я тебе ничего не скажу. Живи, пока живется, как я живу. Пары-то нету у тебя? Я полжизни одна прожила. С детьми. Их у меня пятеро. Без Василия прожила, слава богу. Одна, все одна.
Рыбка стояла и как будто слушала.
— Одной не сладко, — продолжала Маняша. — На улице с утра до вечера дядя Лукьян мельтешит. Ты не знаешь. Старичок такой. А у вас в воде такие попадаются? Нет? Такого и на земле второго не сыщешь. Сон мне нынче объяснил: к богатству, говорит. Чего старый бес придумал, а! Я ему и говорю: ври, ври, да не завирайся, я не малое дитя — тебе верить.
Светленькая рыбка стояла смирно, готова была и дальше слушать, но Маняша спохватилась, смущенно поглядела по сторонам. Дурья башка, с рыбой, с немой тварью разговорилась! Привыкла с козой разговаривать… Да коза хоть понимает хозяйку по-своему: то бородищей тряхнет, то проблеет. Ее поругаешь, она морду отворачивает: стыдно, значит.
Маняша махнула рукой, сердясь на рыбку:
— Плыви, плыви, ну тебя! Засиделась я тут…
Она подумала, что через часок, наверное, стадо по домам погонят. Если просидеть еще этот часок, можно и козу свою тут за монастырем встретить. До лав отсюда недалеко, а около лав — мостка через речку — Маняша всегда козу встречала. Боялась: забредет к чужим коза. А люди разные есть. Закроют да прирежут.
Целый час Маняша, может, уже прокоротала в раздумье. Солнце вроде еще высоко. И радио поблизости не играет, чтобы время послушать. Нет, что сидеть, она еще и домой успеет. Там по часам поточнее определит. И переоденется заодно. Жарко в шерстяном. Надевала выходное теплое платье Пашку провожать. А козу встречать… кто же в выходном платье животную встречает? Еще на смех бабы поднимут.
— Домой надо, — сказала Маняша вслух.
Она встала и тотчас же услыхала резкий звук, который нарастал, разбегаясь по воде. Маняша вздрогнула от неожиданности. Звук все приближался, становился пронзительнее. На высокий мост, который был виден слева, вдруг вылетела большая красная машина, за ней появилась другая. С воем они проскочили мост и скрылись за углом монастырской стены.
«Пожарные!» — догадалась Маняша.
Машины промелькнули мимо, как жутковатое видение, но сирена не переставала выть, только теперь звук удалялся, становясь все глуше и глуше. И наконец совсем стихло, как будто оборвалось. А Маняша все стояла, словно оцепеневшая. Пожарники напугали ее, и она никак не могла сообразить, куда и зачем они промчались с таким шумом. По мосту теперь бежали люди, с того берега на этот.
И тут Маняшу словно кто-то стукнул по голове: не пожар ли?! Пожарные промчались, люди побежали… А ведь пожар, видно! Да, батюшки, кажется, пожар!
Маняша шагнула и почувствовала, что ноги не идут. Какими-то ватными стали. Вот-вот совсем подкосятся, и тогда рухнет Маняша на землю полумертвая. Ей бежать бы сейчас надо, а она стояла да покачивалась на подгибающихся ногах…
Пожар
По мосту люди бежали все быстрее, как будто старались не отстать от пожарной машины. Они что-то кричали, размахивали руками. Но слова не долетали, ничего нельзя было разобрать. Да Маняша и не могла вслушиваться в тревожные крики людей. Пожар! Не было слова страшнее для нее, не знавала она страха лютее. Так напугал Маняшу огромный пожар на второй год после ее замужества. До этого она лишь раз видела, как горела баня в Павловском у попа. Но это был пожар зимой: баньку быстро закидали снегом, было больше пара, чем дыма. Зимой вообще горело в деревнях реже. Зато летом даже большие села выгорали дотла.
Тот страшный пожар случился летом, как раз на петров день. Только начали жать рожь, стояла жара с ветром, и пожары вспыхивали то тут, то там. Из Годунова слышны были далекие набаты. И вот дошла очередь до Павловского.
Маняша жала рожь со свекровью. Свекор укладывал снопы в копны, а Василий спал на краю поля: родители жалели его, как маленького, он не больно перерабатывал. Часов в двенадцать это было, посередке дня. Свекровь распрямилась и говорит:
— Дым какой поднялся из-за леса. Не Павловское ли горит?
Маняша тоже увидела дым, и у нее так и похолодело в груди. Дымище был черный и густой и поднимался в той стороне, где находилось ее родное село; из-за леса даже церковь в ясную погоду была видна.
— Ой, мамаша, неужто Павловское? — ужаснулась Маняша и взмолилась: — Я побегу, а?
— Ну вот еще, — возразила свекровь. — Чего бегать? Нечего бегать. Поможешь, что ль, если что?.. Вон ржи еще сколько в поле осталось!
Подошел свекор. Он был добрее.
— Кажись, мать честная, Павловское горит! За дымом и церкви не видно. Павловское, не иначе. Беги, Маня!
Маняша сорвалась и помчалась. До леса было с полверсты, лесом версты четыре, а там напрямик, через речку, еще версты две, не больше. Прямые тропы были. По дороге-то от Годунова до Павловского двенадцать верст считалось, это если через мост осенью или весной, когда большая вода была. Летом же и на подводах через мост не ездили, все прямиком, вброд. Маняша летним временем частенько домой бегала, за три часа легко оборачивалась. Хватятся ее: где, куда исчезла? А она уже бежит, лицо кумачом пылает: дома побывала.
Гарью запахло еще в лесу. Маняша несколько раз падала, спотыкалась о корни, разбила в кровь колени, поцарапалась. Бежала так, Что себя не помнила. Как сердце тогда из груди не выскочило! Лес пробежала и не заметила. За лесом низинка была, речная пойма, а дальше — вот оно, Павловское, в сплошном огне, в дыму! Огонь стеной стоял, гудел и трещал так, что набата почти не слышно было, все село горело от края и до края! Облако дыма, отрываясь от огня, закрывало полнеба.
Маняша рухнула на колени, руками закрыла лицо. Ей казалось, что земля под ней дрожит и рушится, а это Маняша сама дрожала, как в лихорадке. Нужно было бежать дальше, только сил совсем не осталось. Маняша поползла с зажмуренными глазами. Ветер бил ей прямо в лицо, овевал ее всю жаром страшного огня. Руки почувствовали что-то мокрое, ноги проваливались в мягкое, засасывающее. Маняша поняла, что она ползет по болотцу. Его надо было обойти. Маняша испугалась, что провалится, хляби в этих местах были коварные, испуг поднял ее на ноги, опасение за свою жизнь помогло прийти в себя. Вскочив, она повернула в обход. Тут была сухая пешеходная тропа, она выводила на общественный луг, где обычно паслось сельское стадо.
Маняше сначала показалось со страху, что горит все село до последней избы, но теперь она разглядела, что пылает лишь одна сторона, ближняя, там избы были поставлены особенно густо, одна к одной. Маняшина родня, вся, кроме теток, жила на дальней от речки стороне, Аришка Зайцева, Тимоша Петров тоже жили на дальней. Но радоваться было нечего, какая уж радость, если половина села пылала от края и до края, а вторая половина может вспыхнуть в любую минуту!..
Языки пламени большие, наверное, раза в два больше, чем самое высокое дерево, отрывались от земли, летели вверх и пропадали бесследно в дыму, словно их втягивала куда-то какая-то могучая, ненасытная сила. Дым клубился, завивался кольцами в вышине, его тащило через речку на луг, он уже тяжелой зловещей пеленой несся у Маняши над головой. Солнца не было видно, но от огня, бушующего на бугре, все вокруг сияло так ярко, что болели глаза. Жар становился все острее, и Маняша подумала тогда, как бы от огня не закипело в речке.
Но до речки было еще с полверсты. В воздухе стали сверкать искры, мелькали какие-то длинные багровые нити. Вдруг впереди сверкнуло что-то большое, похожее на развернутую пылающую скатерть. Оно метнулось прямо на Маняшу, ударилось возле ее ног, осыпав искрами, и обернулось черным, рассыпающимся по скошенной траве пеплом. Маняша шарахнулась в сторону. Вторая пылающая скатерть рухнула рядом, третью понесло дальше к лесу. Все это было похоже на светопреставление, которым Маняшу пугала в детстве покойная бабка. Огонь словно преграждал Маняше путь, но она, не останавливаясь, все бежала и бежала. Она уже видела людей на крышах изб, и ей подумалось тогда, что добежит она — и спасет от огня дальнюю сторону, не добежит — все село сгорит дотла.
Вышло по-Маняшиному, она добежала, успела, спасла от огня дальнюю сторону, и хотя после говорили, что отстоять поселок удалось, потому что ветер дул поперек, а не вдоль и не вкось, — Маняша все равно долгое время считала, что вымолила спасение на бегу. На дальней стороне сгорел лишь один дом, он-то и занялся первым, с него огонь перекинулся на речную сторону, и тут уж ветер не помощником был для людей, а врагом. Может быть, люди и отбились бы от огня, если бы сидели по домам, но они почти все были на жнитве, а когда прибежали в село, избы их полыхали, как кучи хвороста. Почти никто ничего не спас. Ребята малые, правда, не сгорели, старухи и старики тоже выползли кое-как, одной старушки лишь не досчитались на следующий день…
После этого пожара Маняша чуть ли не на неделю лишилась сна, у нее пропало молоко, первенец ее вскоре помер. Свекор убивался, жалел, что отпустил невестку на пожар. Василий тайком увел ее в ригу и там безжалостно избил. Он уже и до этого не раз замахивался, совал кулаком в бок, такая у него была привычка. Защищая Маняшу, свекор косился на него. А тут свекра поблизости не было, Василий бил, как хотел, не опасался отцовского гнева. Вдвойне, втройне запомнился Маняше тот пожар!
И вот она снова бежит не лесом, не полем — монастырским двором, мимо храма, мимо колокольни. Пожар! Там, в той стороне, где она живет, может быть, на ее улице. А если так, то кто поручится, что не Маняшин дом сейчас пылает? Времена сухие, как тогда, дома на улице тоже рядом, о крыши на крышу огню перекинуться легче легкого. Беги, Маняша! Скорее беги! Собери все последние силенки и мчись, что есть мочи, а то останешься в одном шерстяном платье без крыши над головой! Эх, горе наше!..
Десятки лет отделяли теперь ее первый страшный пожар от этого. Молодость прошла, жизнь прошла. Силы были не те, ноги не бежали. Подламывались ноги. Маняша задыхалась. Воротник платья вдавливался в горло, как веревочная петля. Каждый шаг отдавался болью в груди. Перед глазами плыли мокрые, с багровым отсветом, круги. Маняша чувствовала, что не добежит, но не могла остановиться. Что-то толкало ее в спину, влекло к дому, нельзя было пересилить эту силу, смертушка пришла…
— Эй, бабка! — раздался чей-то крик. — Смотри надорвешься!
Кто кричал, Маняша не поняла. Кругом никого не было.
— Пожар, — выдавила она одними губами.
Никто не отозвался.
Маняша почувствовала, что стоит, прислонившись к липе. Дрожащей рукой смахнула с лица пот. Расстегнула воротник платья. Пот тек у нее по спине, по ногам. Лицо было горячим под рукой, взбухло от жаркого нота. И теперь уже, кажется, не было сил, чтобы оторваться от дерева. Оттолкнешься и рухнешь, как сноп. Дерево держит, одно, дерево…
«Тихонько надо, не торопясь. Сделай один шаг, потом второй… потихоньку. Шаг да еще шаг. Ну сделай, надо ведь, сделай первый шажок! — уговаривала себя Маняша. — А там пойдешь, а там и побежишь. Сделай. Ну давай, все одно надо, хоть умирай, да беги! Вон до того дерева, до следующего. Только до следующего, а там опять можно отдохнуть. Отдохнешь, обязательно отдохнешь, это я честно говорю, слово даю!»
Упросила себя, обманула усталость. Оторвалась от липы и снова затрусила. Шажок да шажок, пошла переступать, побежала бабушка! Топ, топ, топ… хоть шажком, да топается. Вон и ворота близко. Дотянула и до ворот. Откуда и силы взялись! Ноги идут, земля дрожит, еще живет Маняша, еще глядит на белый свет сквозь слезы.
Она думала, что люди за воротами толпами бегут. А людей на дороге не было. Пусто на улице. На автобусной остановке ни души. И дыма над крышами не видно. Да пожар ли, в самом деле?! Не померещилось ли Маняше?
На небе ни облачка, на улице ни души… Все на пожар убежали? А где он? Где дым, где шум? До ее двора осталось не больше полверсты. Где же горит? Маняша на бегу (бежала, бежала все-таки) крутила головой, но ничего подозрительного не замечала. Ей и хотелось верить, что пожар померещился, и не могла она в это поверить. Красные машины были, с ревом по мосту мчались. И люди бежали по мосту. Своими глазами видела Маняша пожарные машины и людей, бегущих в ту сторону.
Из переулка вывернулся какой-то мужчина.
— Гражданин, — взмолилась Маняша, с трудом переводя дух, — пожар, что ли?
— Пожар, бабушка, пожар, — охотно отозвался мужчина, — да уже, можно сказать, погасили.
— Что горит-то?
— Избушка одна.
— Где? Не возле колодца?..
— Там. Пожарные возле колодца стоят.
«Моя избушка!» — снова садануло Маняшу. Колодец совсем рядом с ее домишком. С крыльца колодец виден. Маняша сначала на крыльцо выходит, смотрит, большая ли у колодца очередь. Если большая, ждет. А то и в очередь станет, если поговорить с живым человеком охота. Колодец этот всего в каких-нибудь сорока шагах от нее. Она, Маняша, значит, горит!..
Возле колодца, по обе его стороны, стояли еще три дома, ее четвертый, сгореть мог любой из них, могло гореть и дальше, мало ли что машины возле колодца стояли, но сообразить все это Маняша не могла, не доходило до нее в горячке испуга. Теперь ей наверняка казалось, что сгорел ее дом, и в голове у нее метались мысли-вопросы: что она не погасила, не выключила? Электрический утюг? Самовар? Керогаз? Что включала? Что у нее горело? Утюг она включала? Когда платье гладила. А гладила? Когда же ей гладить было? Бежала, как на пожар! Вот горе-то, если не утюг, то что же она не выключила? Самовар? Какой самовар?! Она по большим праздникам и то самовар не ставит, в чайнике воду кипятит. Выходит, керогаз? Да не зажигала она керогаз, незачем было. Лежала на кровати, когда Пелагея Подхомутникова ее окликнула. Но отчего же тогда загорелось у нее? Не могло же само собой воспламениться. Правда, у них на «утильке» воспламенялось тряпье, случаи такие бывали. От промасленных тряпок так и жди беды. Но у нее-то, где оно, тряпье, да еще промасленное? Не имела привычки Маняша разную рухлядь беречь: если нищим не отдавала, то выбрасывала.
Мысли неслись вперегонки и вроде бы успокаивали: не могло у нее загореться, не было для пожара причин. Но успокоиться Маняша не могла, душа не принимала счастливых расчетов, Маняше мерещилось худшее: раскиданные как попало полуобгоревшие бревна сруба, растоптанный впопыхах огородишко… ни окон, ни пола, ни крыши… жизнь по чужим углам… без сараюшки, без козы… Слава богу, хоть коза-то спаслась! Вдвоем они теперь остались: старушонка да коза. Маняша упрямо предполагала самое худшее, но в глубине души сознавала, что это защитная хитрость такая: думай о худшем, готовь себя к беде, авось и ошибешься. Вот недавно с козой точно так же было: в мыслях распрощалась с дорогой животиной, а она до сих пор молочком поит.
Между тем приближался поворот в овражек. Там тропка в лопушках. Спуск вниз и подъем с поворотом налево. Вылезет бабушка на бугорок — и пятый дом с правой стороны, напротив колодца…
«Дотопаю ли? — терпеливо думала Маняша. — Немножко осталось… совсем ничего. И лопушки… вот они… лопушки уже… Доплюхаю… добегу».
Только в овражке она почувствовала, как запахло гарью. И сразу определила: сухое старое дерево горело. Тряпки пахнут по-другому, жир, мясо тоже имеют свой запах. Одно дерево горело, за это Маняша могла ручаться. Но рассуждать было некогда: крайний дом на улице уже виден и вот он, бугорок… Влезла на него, собрав все последние силы, и увидела красную машину, увидела людей… вроде немного их было. И домик слева увидела. Не справа, а слева. И точно, возле колодца избушка сгорела, совсем близко, напротив Маняшиной… Крыши нет, стоит один черный обуглившийся сруб, забор повален, раздавлен… Лукьян Санаткин сгорел! Над его обезглавленным черным жилищем угарный дымок вился… В Родимушку средь бела дня молния ударила…
Санаткины погорели и тогда в Павловском. Но разве Маняша могла думать, что и на этот раз именно дядя Лукьян сгорит! Не мелькнуло об этом мысли, хотя сама же нынешней весной предрекала ему пожар. И не со зла, была особая причина, потому что загорелся уже Родимушка, факт был. Утром как-то дядя Лукьян печку затопил и пошел, беспечный старик, по привычке за своими газетками. Пока ходил, у него из печного чела уголь выпал, сухая тряпка на полу занялась, огонь на занавеску перекинулся, пошло пылать в избе. Хорошо, что сосед как раз на работу шел, огонь в окне увидел. Вбежал в избу, — а дядя Лукьян свою конуру никогда не запирал, — старым полушубком прихлопнул пламя. Тогда и попугала Маняша Родимушку большим пожаром. И как в воду глядела — по-настоящему опять погорел Лукьян Санаткин!
— Да батюшки! — выдохнула Маняша.
Проворные пожарные в своих касках и брезентовых куртках играючи скатывали в рулоны брезентовые шланги. Одна красная машина уже разворачивалась посреди улицы, попугивая зевак звоночками. Люди теснились к заборам. Маняша и у себя под окошком увидела толпу. Оттуда как будто доносился смех. Сначала Маняша подумала, что ослышалась. Смех на пожаре? Этого на Руси отродясь не бывало. Плач, крики, старушечий вой — другое дело… Но сейчас Маняша ушам не верила: из толпы, сгрудившейся у нее под окном, явственно слышался смех.
«Господи, — с испугом подумала она, — уж не сон ли? Может, сплю и это мне снится?..»
Маняша обвела взглядом машины, пожарников, обугленный остов Родимушкиной избенки, людей, сбежавшихся на пожар. Вспомнила о смерти Пашки Кривобоковой. О том, как сидела на берегу речки и разговаривала с рыбкой. Не сон ли?
— Эй, бабка, постор-ронись! — кто-то гаркнул у нее возле уха.
Маняша шарахнулась в сторону. Два пожарника протащили мимо нее свой рулон. Они были красные, распаренные, словно только что побывали в бане. Маняшу так и обдало густым запахом мужского пота. Не сон. Какой там сон! Но смех… тогда он зачем?..
Смех возле ее окон не прекращался, и Маняша, боязливо озираясь по сторонам, стала продвигаться вперед, к своей калитке. Люди не обращали на нее внимания, своих она не видела. На пожар понабежали чужие, с соседних улиц. Из-за речки по мосту мчались, как будто тут целая улица горела. А говорят, что рабочих рук не хватает. Как работать, так не хватает, а как на пожар бежать, так вона сколько!
Маняша теперь уже сердилась. Страх у нее прошел. Она даже отталкивала зевак, по пути приговаривая:
— Ну чего, чего… другого дела нет? Интересно? Дом сгорел, а вам интересно? Ну чего, чего?
— Хозяйка, что ли? — раздавалось среди зевак. — А она где была? Вона, вся запаленная! Пробегала свой домишко! Дед с газеткой сидел, бабка судачить бегала…
Глупые люди! Да если бы она была погорелицей, разве ж к чужому дому пробиралась? Ну, народ!..
Маняша хотела растолкать мужиков, сбившихся у нее под окнами, но взрыв хохота остановил ее, погасил суровую решимость.
— Лукьян Макарыч, — услыхала она чей-то веселый, с озорством голос, — сколько ж ты там сидел?
— А я знаю? — послышалось из толпы. Это уныло отвечал Лукьян Санаткин, несчастный погорелец. — «Правду» прочитал всю, «Известия» дочитывал. Ну вот. Помню «Спорт» еще был. «Спорт» не успел.
— А кабы он и «Спорт» успел, — подхватил кто-то с тонким визгом, — у него и читальня б занялась! Ги-ги-ги!..
— Го-го-го! — поддержали визгливого басы, надрываясь от смеха. — Ну, Лукьян Макарыч! Ну, Санаткин, д-дал жизни! Газетки читал!.. И где-е-е!..
— Вы бы не издевались так, ребятки, — униженно просил дядя Лукьян. — Пра слово.
«Да что же это такое!» — возмутилась Маняша. В толпе она узнала и своих уличных мужиков. Они ржали вместе со всеми.
— Что это такое! — крикнула она, изо всех сил толкая первых попавшихся. — Бесы-ы! Как вам не совестно! Человек крова лишился, а вы гогочете и рожи корчите, как черти в аду! Постыдились бы, у человека беда! Проваливайте отсюдова, а то милицию позову!
Она так звонко кричала и так решительно орудовала руками, что мужики подались и расступились. И Маняша увидела погорельца. Он сидел на лавочке. Лицо у него было в саже. Сажей были густо покрыты рубаха и штаны, словно Родимушку вытаскивали на волю сквозь печную трубу.
— Дядя Лукьян! — горестно всплеснула руками Маняша. — Ты ли?
Санаткин сидел, сложа руки на коленях. Чумазое лицо у него было обиженным, как у ребенка.
— Я, Маняша, — покорно ответил он, — это я самый. Пра слово. Ну вот, до самой точки жизни дошел. Как ты мне предсказывала, так и вышло. По-твоему получилось, сгорел я. А ты откуда, Маняша? Ты-то где была?
— Ты бы сама у него спросила, где он газетки читал, — подтолкнул Маняшу один из мужиков, самый смелый. — У него одна читальная теперь и осталась.
Маняша сердито замахнулась кулаком.
— А я вам еще раз говорю: идите прочь все! Это моя изба, я тут хозяйка, и нечего под окошками толкаться!
— Пошли, товарищи, — пряча усмешку, сказал сосед справа, железнодорожный машинист. — А то и в самом деле, нехорошо мы тут… Давайте по домам, все кончено.
— Уведи, уведи их, Михайла Иваныч, ты у нас самый сознательный, — похвалила его Маняша. — Над погорельцем измываться не положено.
— Это ты верно, Маняша. Расходитесь, граждане, давай все по домам!
Озорники с сожалением отступили, исчезая один за другим.
— А ты чего же, дядя Лукьян, здесь сидишь? — укоризненно заговорила Маняша, — Где твое барахлишко? Ведь растащат.
— Ну вот, — ответил Санаткин, безнадежно покачав головой. — Нечего тащить, все погорело. Все как есть. Пра слово.
— И одежда, и бельишко?..
— Все погорело. Все подчистую.
— Да как же теперь ты будешь жить?!
— Сам не знаю. Ну вот. До точки дошел. Как ты мне предсказала, так и вышло. По-твоему получилось. То-то мне все кровь мерещилась! Вот она, кровь с пузырями! — и дядя Лукьян высоко поднял черный палец, показывая этим, что он был близок к разгадке сна. — Твой сон к богатству, мой к пожару. Но это еще не все. Меня и другие беды ждут. Пра слово.
— Что ты мелешь? — жалостливо покачала головой Маняша. — Какое богатство, Лукьян Макарыч? Ты не в себе, подумай, что говоришь.
— Нет, я лично в себе, — осознанно сказал дядя Лукьян. — Меня ни пожар, ни мор, ни другая какая катаклизма с панталыку не собьет. Я когда-нибудь добро свое берег? Ты помнишь, какую я жизнь прожил? Ну вот. У меня большая жизнь за плечами.
— Да брось ты про жизнь, нечего теперь… Умылся бы. Пойдем, я тебе из кружки полью.
— Куда ж идти? — пожал плечами дядя Лукьян. — Погоди. Ты сама вся мокрая. Кто облил тебя? Али тушить помогала?
— Да нет. Бежала я…
— Чай, думала, твое строение горит, — криво усмехнулся Родимушка.
— Не помню, что и думала. Боюсь я пожаров-то.
— А их и надо бояться. Пра слово. Помнишь, как полыхало в Павловском? Ну вот. Век не забуду. И небо огнем занялось. А это разве ж пожар? И огня-то хорошего не было. Тьфу, пра слово!
— Ну и слава богу, что не было, хоть сруб остался. Пойдем во двор, умыться тебе надо.
— Погоди, Маняха, дай людям на Лукьяна Санаткина налюбоваться. Эй! — крикнул он слабым хриплым голосом, обращаясь к зевакам, стоявшим поодаль. — Что вам еще? Пожар-то кончился! Один я сгорел. Никого больше не задело. Свое сгорело! Сплясать вам? Сплясал бы, да сил нету. — Дядя Лукьян насмешливо покачал головой и прибавил: — Ну вот, Бегите, рассказывайте: пока Лукьян Санаткин газетки читал, у него дом сгорел. Разносите по городу, пра слово.
— Так, так, Лукьян Макарыч, постыди их, — охотно вмешалась и Маняша. Она тоже повернулась к зевакам. — Чего вам, телевизора мало?
— Пусть глазеют, пусть! — снова крикнул дядя Лукьян. — Мне лично не жалко. Ну вот. Издалека, я вижу, прибежали. Хорошо, да мало, так? Ну уж, не взыщите, гореть было нечему, мебелей-гарнитуров не нажил. А стол, деревянные лавки мне не жалко. Вот керогаз сгорел. Керогаз жалко. Пра слово. Чай теперь не на чем вскипятить. А вы, сердешные, когда бежали, керогазы-то выключили? Смотрите, у меня керогазишко вон каких делов наделал!
Не успел он произнести этих слов, как две или три любопытные старушки сорвались с места и засеменили вниз, в овражек.
— Я знаю, чем их пронять, — засмеялся Родимушка.
— Ну ладно, дядя Лукьян, — сказала Маняша, почувствовав, что платье ее прилипло к телу, — ты их еще постыди, а я сбегаю переоденусь да ведерко воды для тебя вынесу. Посидишь?
— Беги, Маняха, посижу я. Только… — дядя Лукьян грустно посмотрел на нее, вздохнул.
— Чего ты, Лукьян Макарыч?..
— Угадай мою мыслю, Маняха. Вот если угадаешь, уважать тебя стану по гроб жизни.
— Мне и угадывать-то не надо, — сказала Маняша. — Ладно, коли такое дело, поднесу тебе стаканчик. У меня настоечка есть. Ха-а-арошая настоечка!
— Знаю я твою настоечку, знаю, пивал, невеста! — обрадовался Родимушка. — Верно в народе говорится: нет худа без добра. Вот не сгорел бы — стакашек бы не поднесла. А тут — живи да радуйся, пра слово!
— Тебе и пожар не в пожар, дядя Лукьян, — покачала головой Маняша.
— Ну вот. Для кого пожар, а для меня праздник! — громче прежнего заорал Родимушка. — Неси, невеста, стакашек, я еще песню запою!
«Ну и человек!» — неодобрительно подумала Маняша. Но ей и завидно стало немного: легко живет, старый бес, не унывает. Таких людей немного. Особенные, что ли, они…
В избе у Маняши пахло дымом. Видно, дыма натянуло в форточку. Маняша ее никогда не закрывала. Без свежего ветерка в шкафу заводилась плесень, под кроватью в углу, где была щель в полу, тоже плесневело. Плесенью в комнатах попахивало, нечего греха таить, сыроват был домишко, но сейчас горький запашок дыма перебил все другие запахи, у Маняши даже защипало в глазах. Она распахнула окошко, пошире растворила дверь из чулана на веранду, схватила тряпку и торопливо помахала ею, как она это делала, когда выгоняла мух. Из окна хорошо был виден обгоревший, с провалившейся крышей, остов избы Санаткина. Рябины вокруг него были частью сломаны, частью стояли обтрепанные, с поникшими и искромсанными ветками. Малинник в палисаднике частью выгорел, частью был вытоптан. Одна береза высоко поднимала свою высохшую макушку над пожарищем. Сейчас над березой кружились и кричали галки.
«Жить-то дяде Лукьяну теперь где? — подумала Маняша. — Хоть бы пристроечка какая осталась…»
Не осталось у Санаткина пристроечки, ничего не осталось, кроме четырех черных стен да неба над головой. Конечно, время-то летнее, теплое, но если дожди пойдут?..
Маняша оборвала свои мысли. О чем призадумалась! Ей ли об этом думать? Дяде Лукьяну лучше знать, где жить, что делать. Застрахован, чай. Страховку получит. Да мало ли что…
Она снимала свое шерстяное платье, а вернее, отдирала его от тела. Тесновато было платьице, шито годков семь назад, тогда Маняша потоньше была. Когда работала в «утильке», сальцом не обрастала. Теперь вот врачи людей бегать учат. Бегайте, мол, больше, укрепляйте здоровье. Один мужик у них на улице за чистую монету этот совет принял, побежал. В овражке поскользнулся, ногу сломал, ходит хроменький, бедолага. Бегать надо тоже умеючи, не так, как сегодня бежала Маняша. Думала, что сердце не выдержит. Болит и сейчас, будто уголек в грудь вставили.
— Сердце-то уж какое, — вслух сказала Маняша. — Старое сердце.
И опять она подумала о дяде Лукьяне. Где он все-таки жить будет? До осени еще кое-как. А с осени? Покрывать избенку станет? Или к дочери уедет? Дочь у него где-то на Урале была. Ни разу к отцу не приехала… Вот беда у человека!
Накинув халатик, Маняша вытерла разгоряченное лицо платком и, подхватив ведро с водой, заторопилась во двор, где ее ждал Родимушка.
На улице уже почти не было зевак, только у дальнего дома осталась кучка о чем-то рассуждающих старух. Пожарные машины тоже уехали. Над разоренным домишком дяди Лукьяна курился слабый голубенький дымок. А сам дядя Лукьян сидел на скамейке в прежней своей позе — с руками, сложенными на коленях. Глаза у него были закрыты, словно он внезапно уснул.
— Лукьян Макарыч?..
— Ась? — встрепенулся Родимушка. — Принесла стакашек?
— Да нет, погоди ты, сначала помойся, стакашек от тебя не уйдет. Вставай, заходи во двор.
— А ты не обманешь, невеста?
— Ты как малый ребенок, дядя Лукьян. Сказала, что поднесу, значит, поднесу. Ну, отрывайся от лавки, заходи да снимай рубаху. Вода у меня не холодная, нагрелась на веранде.
Маняша сбегала за мылом. Дядя Лукьян уже стоял во дворе возле куста сирени, измазанная сажей синяя рубаха висела на ветке.
«Ишь, пузцо-то наел! — подумала Маняша, окидывая взглядом сутулую и тонкую фигуру Санаткина с тощими, как плети, руками, впалой грудью и необыкновенно круглым упитанным животиком, почти разрезанным надвое продолговатым пупком. — Пузцо-то, будто у беременной бабы, и вроде бы в веснушках», — еще отметила она.
Выпирающий живот дяди Лукьяна действительно весь был в рыжих крапинах, и волосики на нем росли — жиденькие и рыжие.
«Такая же и харя в молодости у него была, — вспомнила Маняша, — а потом посерела, будто выгорела».
Санаткин нагнулся, протянул руки и сложил ладони лодочкой.
— Ну вот. Я так, Маняха?
— Чего так?..
— Ну в позицию встал. Таким макаром?
Маняша не выдержала, прыснула от смеха.
— Чего ты в артисты не шел, дядя Лукьян? Тебе на сцене только представлять. Дело у артистов легкое, денежное.
— Нет, — покачал головой Санаткин, — ты не знаешь, невеста, у артистов трудная работа. Пра слово. Я узнавал. Ну лей, коли взялась, поухаживай за погорельцем.
— Беда у тебя, Лукьян Макарыч, такая уж беда, — пригорюнилась Маняша. — Без крова остался. Все барахлишко сгорело… Да ведь сам и виноват, на кого же теперь пенять?
— Это верно, сам, пенять не на кого. Никого не виню, сам виноват. Лей помаленьку.
— А как же оно хоть вышло? Что про тебя мужики болтали? Так я и не поняла.
Дядя Лукьян, отплевываясь, размазывал по лицу сажу.
— И не спрашивай, Маняха.
— Секрет какой, что ли? Что они, ироды, потешались над тобой?
— Ну вот. Смешно было, оттого и смеялись. Ты лей, лей, не переставай.
— Смешного мало. Погоди, я полотенце принесу. Да не три своей грязной рубашкой, опять выгвоздишься!
— Стакашек, стакашек принеси! — напомнил дядя Лукьян. — Ты обещала, Маняха. Мне нервы подправить надо. Пра слово. Нервы у меня больно разгулялись, не подлечу — мослы крутить начнет.
— Сичас, сичас.
Наливая из графина в стакан, Маняша подумала, что наливочки маловато осталось. С четверть графинчика, не больше. А вдруг сын приедет? Чем сынка угощать? Он тоже любит ее наливочку. Но не из стакана пьет — из рюмочки. Нальет — на свет поглядит. Попробует — язычком пощелкает. Приятно и смотреть, когда к добру, такое отношение. Не то что у пьяниц, которые лакают зажмурясь. Который — сморщится, сердечный, страдает, словно ему яду налили, а держит стакан, как хищник, не вырвешь добычу и не думай. Слава богу, хоть дядя Лукьян не такой. Он пьет благородно, уважительно, как причащается. Еще не попробует, а уже похвалит. Понюхает, многозначительно головой покачает, словцо одно произнесет. Обязательно произнесет. Забыла это словцо Маняша. Как его… Да Родимушка напомнит, чего зря память напрягать.
Дядя Лукьян первым делом на стакан нацелился, полотенце отклонил.
— Эликсир!
Вот оно, словцо, сразу и вылетело. Эликсир, лекарство, значит. Может, оно и так. Да что, это правда, лечит ее настоечка, там не одна водка да ягоды, там еще и корешки есть. От бабушки Маняша научилась целебные корешки добывать. Их полно вокруг, только не все люди про это знают. Надо вот не забыть сыну растолковать. Каждый раз собирается и забывает. И младшему, и другим детям, им всем пригодится.
— Ну вот, Марья Архиповна! — торжественно сказал дядя Лукьян. — Я поднимаю этот тост за твое здоровье! Пью за тебя, чтобы у тебя ни пожару, ни другого какого стихийного бедствия никогда не было! Будь здорова, невеста!
— Да ты за себя, за себя пей, — замахала руками Маняша.
— Дай бог, чтобы не последняя, — быстро прибавил дядя Лукьян.
Он выпил наливку маленькими глотками, поцеловал донышко и постоял немного, сердечно улыбаясь.
— Пошла, дядя Лукьян?..
— Ох, пошла, да как еще пошла-а! Без задержечки, родимая. Как по маслу! Не пошла — поехала-а! Так бы и вся жизнь катилась… ах ты, матушка моя, ах, мать честна-ая! — залился соловьем Родимушка.
«Больше не дам, — подумала Маняша, — сыну не останется».
Может, дядя Лукьян и попросил бы еще, да не успел. В калитку постучались.
— Кого-то черт несет, — недовольно проворчал он.
Маняша подумала то же самое. Она не привыкла, чтобы люди видели у нее во дворе мужчину со стаканом в руке. Еще подумают нехорошее…
— А кто там? — осторожно спросила она.
Дядя Лукьян хотел открывать, но Маняша его отпихнула.
— Надень рубаху… вот еще горе мое! — Маняша прислушалась и снова спросила: — Кто это?
— Маруся Витякова здесь живет? — раздался за калиткой тихий певучий голос.
На улице стояла женщина в черном платке и в таком же платье, на ней и чулки черные были. Совсем монашка. Таких Маняша только в церкви встречала.
— Я это буду. Здравствуйте…
— Здравствуй, Маруся, — поклонилась женщина. В руке у нее был какой-то узелок. — Я от Павлы Александровны, усопшей, упокой, господи, ее душу… По ее поручению. Перед смертью она мне поручила. Что же ты проводить-то не пришла?
— Да бегала я. Не успела, — вымолвила Маняша, не отрывая взгляда от узелка. — Поздно сказали мне. Не успела. Пелагея Подхомутникова прибегала… а я не успела.
— Ну вот, — сказал за спиной у Маняши дядя Лукьян. — Божественный человек к нам пришел. Не к добру!
— Это погорелец у тебя? — смиренно спросила черная женщина.
— Погорелец, погорелец, гражданочка. Он малость не в себе, извините уж…
— А ты меня не позорь, Маняха, — обиделся дядя Лукьян. — Пра слово. Нормальный я. Вполне.
— Помолчите, Лукьян Макарыч.
— Не хочу. Я погорелец. У меня сегодня такая привилегия. Она меня узнала. Так? Имею я право? Ну вот. Буду ей вопросы задавать.
— Да какие вопросы! — всполошилась Маняша. — Зачем ей нужны твои вопросы, ты подумал своей деревянной башкой?
Но Родимушку, причастившегося наливочкой, остановить было невозможно.
— Вопросы сурьезные, — сказал он. — Я погорелец. Ну вот. А почему?
— Да потому что керогаз не погасил, — ответила рассерженная Маняша.
— Это… как его… следствие. А причина? И не тебя я спрашиваю, а ее. Ты не знаешь. Отойди, Маняха, в сторонку, я не с тобой диспут веду. Почему? — обратился дядя Лукьян к черной женщине.
— На все божья воля, старичок, — смиренно ответила та.
— Не отве-е-ет! — торжествующе протянул дядя Лукьян. — Отписка! Это каждый может сказать — воля. А почему? Ну вот. Я ставлю вопрос ребром: почему я, а не Маняха или, к примеру, мой другой сосед? Была бы моя воля — ему первому гореть. А он — не сгорел. Вор, стяжатель, по бабам шастает — куда еще больше, а не сгорел! Почему? Где он, бог? Подай мне его сюда!
— Смирись, старичок, не гневи бога, — посоветовала пришедшая.
— А-а-а! — завыл дядя Лукьян. — Смири-ись! Не гневи-и! А коли я гневить хочу? А коли я с ним один на один выду?
— Иди прочь! Иди, иди! — потеряв терпение, затолкала Родимушку Маняша. — Ты мне тут не устраивай, не устраивай!..
— Оставь его, — попросила пришедшая. — Я вот что, старичок, скажу: божью кару от благодати не каждый отличит, бывает и кара в награду, и награда за грехи, все бывает, и только душа, богу открытая, без ропота принимает все, что свыше ниспослано.
— Аминь! — насмешливо крикнул дядя Лукьян, размахивая рубахой, как кадилом.
— Аминь, — смиренно повторила черная женщина и повернулась к Маняше. — Это тебе Павла Александровна велела передать. — Она протянула узелок. — Такое было ее предсмертное распоряжение.
Маняша покорно приняла узелок. Она сразу, как увидела, почувствовала, что он предназначается для нее. Почему так почувствовала, не знала. Кольнуло что-то, подсказало: тебе принесла. А что?..
— Что это? — спросила Маняша.
— Не знаю, — ответила пришедшая. — Павла Александровна велела тебе, Маруся, передать. Она очень тебя уважала. Перед смертью все поминала.
— Чего ж меня?.. — растерянно произнесла Маняша. — И не знаю я… Мы, конечно, были знакомы. Еще в Вязниках… А тут… Не знаю я.
— И я не знаю, Маруся. Но, значит, было за что. Помолись за нее, — пришедшая поклонилась. — Я пошла. До свиданья! Может, еще и свидимся, бог даст.
— До свиданья…
— Нет, ты постой, — возразил дядя Лукьян. Он еще не успокоился. — Я тебе свое скажу. Ну вот. Бога нет. И я тебе сейчас докажу. К примеру, возьмем кровь. Я докажу!
— Никто еще не доказал. А какие пытались! И ты не докажешь, старичок. Себе разве что.
— Нет, докажу и тебе!
Маняша не стала слушать глупого разговора, понесла узелок. Он был легкий, как пушинка. Будто одна бумага в узелке была. Почему-то боязно было разворачивать его. Что еще могла передать покойница?..
У Маняши дрожали руки. Она развязала узелок. Там была коробочка. Обыкновенная, беленькая. В таких, Маняша знала, часы продавали. Она раскрыла коробочку и ахнула:
— Да батюшки!..
Сын
Дядя Лукьян всю жизнь воевал с богом и с попами. Маняша помнит, как он в Павловском сбрасывал с колокольни колокол. С высоты колокол упал так, что земля тяжко загудела, родила под ногами какой-то жалобный, похожий на стон, звук. Колокол, вонзившись краем в землю, еще долго гудел сам по себе, а Санаткин с Петровым и другие парни плясали вокруг него, кричали, что религия — опиум для народа, и пели:
Маняша с Аришкой стояли в сторонке, тоже радовались, но приближаться боялись. Картина была непривычной, все село взбудоражилось, летали слухи, что близок конец света, где-то в соседнем селе один богомольный старик заживо лег в гроб, на него ходили смотреть, но потом старичка подняли и увезли, колокол отправили на переплавку, церковь прикрыли, а конца света так и не получилось, и Лукьян Санаткин гордо расхаживал по селу, похваляясь удалью.
У Родимушки многие малые дела получались на практике, с большими он справиться не мог и ссылался всегда на скудное образование. Но хотя он в молодые годы и не нахватался знаний, все же теоретически (на базе начальной школы, по его словам) силен был мужик. Маняша иногда диву давалась: в школе те же самые ступени одолел, что и она, а теории разводит, будто всю жизнь беспрерывно учился. Вот и про кровь кое-что новенькое придумал, опять бога извел!
Под окном он громко растолковывал богомольной женщине, что кровь у людей не одинаковая, она по составу разная, и что его открытие на деле подведет, наконец, к самому убийственному удару по безнаучной теории божественного творения человека, пра слово. Женщина отбивалась от дяди Лукьяна, она была другого мнения, но Санаткин наседал, опровергая все возражения, и голос его долетал до Маняши широко и глухо, сплошным звуком, в котором нельзя было разобрать отдельных слов. Да Маняша и не пыталась их разобрать. Она опустилась на стул и смотрела, не веря глазам, на коробочку из-под часов, в которой лежало колечко. Ее колечко, золотое, с бриллиантиком. Ее, то самое. Так легко оно выскользнуло из ее рук и так легко и странно возвратилось. И что это теперь может означать?..
Маняша тупо глядела на коробочку, которая таила в себе… ну, если не чудо, то какую-то удивительную загадку. Ошарашила ее эта неожиданная коробочка. Мысль, что Пашка Кривобокова возвратит ей колечко, добровольно возвратит, не требуя взамен благодарности, не укладывалась у Маняши в голове. Не понимала сна сейчас и того, как могла Пашка сохранить колечко, пройти с ним через всяческие искушения. Значит, прятала? Нет, не могла охватить Маняша всего, не сходились вроде бы концы с концами.
Женщина, принесшая коробочку, все еще стояла под окном, дядя Лукьян добился своего, она ввязалась с ним в спор. И можно было бы выскочить к ней или просто позвать в окошко, расспросить по-хорошему. Но Маняша на это не решалась. Весь опыт ее жизни, — а бывало всякое, — заставлял Маняшу поостеречься. Может, Пашкина посланница и не знает, что за штуку она принесла. Начнет сама расспрашивать, пойдут разговоры… Нет, уж лучше помалкивать, а там видно будет… все само собой установится… Вот сын приедет… что посоветует.
Маняша решила: надо подождать до приезда сына. Он в августе обещал побывать. В Павловское, говорит, полетим, мама. Недельку поживем, по твоим тропкам побродим. Где ты рыжики брала, что это за Водохлыща там такая… Да август давно начался, середка месяца близко. Скоро должен появиться сынок. Тогда и покажет ему колечко Маняша. Помнит ли он? Навряд ли, давно это было. Как он полез в ворох хлама ручонкой, вытащил что-то блестящее. «Мама, что это?» — «Что нашел, то и будет», — ответила меньшому Маняша. Но поинтересовалась: что же такое? Глядит, а у сынка на ладошке колечко, нечаянный подарок. Кто подарил, до сих пор не знает. Чудеса! Видно, случайный кто-то по ошибке ей в карман шубейки колечко сунул. Хотел в другой, попал в ее карман. Мало ли что бывает. А Василий тогда вроде бы заподозрил нехорошее. Приревновал. Да и то сказать, кому это понадобилось — такой подарок дарить. Не копеечная вещь, теперь Маняша хорошо знала, что не копеечная. Золотое колечко и бриллиант настоящий, не стеклышко какое-нибудь, это ей Пашка честно открыла. А колечко-то, выходит, у себя держала. Не спустила вместе с остальными побрякушками. Ну и Пашка, Павла Александровна!.. Поди-ка, пойми ее…
Маняша потянулась к коробочке, вынула колечко. Блеснул белый, как ледок в ясный морозный день, камешек. Случалось, в молодости любовалась им Маняша. Тайком вынет, на палец наденет. Испугается мышиного шороха, скорее снимет, спрячет кольцо. На какой она палец его надевала? Теперь колечко и на мизинец не лезет. Кривые стали пальцы, крючковатые, на каждом по мозолистому горбу, а то и по два. Нет, не надевалось кольцо ни на один мизинец, ни на другой. Ноготь пролезет, а дальше ходу нет. Пашка-то носила ли его? Вряд ли, у нее все пальцы были толстые, мясистые. Кто же носил колечко это? Когда? Одна тайна у нее в жизни, только вот эта…
— Да отстань, отстань ты от меня! — явственно донеслось с улицы. — Пристал как банный лист!..
Это все Пашкина посланница отбивалась от настырного дяди Лукьяна.
«Да как хоть звать ее? — опомнилась Маняша. — Забыла и спросить!»
Она сунула колечко в коробку, заметалась по комнате. Куда бы спрятать. В шкаф? Да кто его знает… Сунула под матрац. И тут почувствовала, что какое-то дело упустила. Что-то должна была сделать, а не сделала. Не пообедала? Ну да не до этого было. А что тогда?..
Маняша выскочила на крыльцо. Калитка на улицу была распахнута настежь. Возле нее никого не было. И голосов не раздавалось за забором.
— Эй, дядя Лукьян?..
— Что, Маняха? — отозвался Родимушка из глубины двора. — Я тут, у тебя…
У нее, значит. Залез в чужой двор, старый бес, и хозяйничает.
— А где женщина?
— Ушла. Вырвалась. Ну вот. Правда, она никому не ндравится. Я говорю: конец твоей леригии, поповским мракобесиям. А она свое твердит. Темная! Ну да теперь призадумается. Это ей даром не пройдет.
— Ты меня извини, Лукьян Макарыч, — осерчав, сказала Маняша, — но, по-моему, после пожара у тебя голова совсем покосилась! Вот чего ты к женщине этой привязался? Она не к тебе пришла, и твое тут дело сторона. Стоял бы да помалкивал. Что она обо мне подумает, какого я у себя химика приветила!
— Чего это ты, Маняха, вдруг взъярилась? — удивился дядя Лукьян. — Будто подменили тебя. Пра слово.
— А чего ты тут ходишь?
— Ты же сама позвала. Стакашек вынесла. Я инцативы не проявлял. А потом, понятное дело, наливочка меня развеселила, но тут я не виноват. Мы обои с тобой виноватые. Ну вот. А теперь я зашел, чтобы туалет у тебя поглядеть, — Родимушка неодобрительно покачал головой. — Маняха, переделывать надо. Позови, я тебе туалетик за милую душу сделаю. И вылазить не захочется! Пра слово. Мне теперь денежки нужны будут. Но с тебя я много не возьму. А то у тебя туалет, можно сказать, непригодный. Нельзя так жить в наше время. Позовешь, так я завтра же могу и начать. Сделаю по-хозяйски!
— Ты у себя по-хозяйски делай! — еще больше возмутилась Маняша. — Мастер какой нашелся! Что же избенку свою не украсил? Она у тебя и до пожара была, как курица общипанная. И поди ты вон, не шастай по двору моему. Поди, тебе говорят, поди!
Именно в эту минуту Маняша вспомнила о козе. Козу-то она позабыла встретить! Солнце уже совсем низко опустилось, стадо, наверное, к мосткам пригнали. Коза теперь бегает по берегу, ищет хозяйку, если мостки сама не перешла. О самом главном, о козе забыла!..
И Маняша вытолкала Родимушку за калитку.
— Иди, иди, я тут совсем очумела с тобой и про козу забыла! Козу мне надо давно встречать!
Постоянной клички у Маняшиной козы не было. Маняша звала свою скотину по-разному: чаще всего просто козой, бяшкой, иногда дочкой, кормилицей, реже — это когда сердилась — рогатой образиной. Раньше, когда дети еще при Маняше были, она держала корову, у коровы, как и положено, кличка имелась. Потом надобность в молоке отпала, да и сено подорожало. Разлетевшиеся по белу свету дети посоветовали корову продать и купить козу. Маняша так и сделала, купила молодую козочку, а кличку ей дать забыла. У нее коз никогда не водилось, и она как-то упустила из виду, что козе, как и корове, тоже своя кличка нужна.
Но хоть и без клички жила, коза была хорошая, и Маняша ею, конечно, очень дорожила. Кто привык к козьему молоку, тот знает, что оно вкуснее коровьего, а у Маняшиной безымянной козы молоко было особенно вкусным. И доилась она хорошо, обеспечивала Маняшу. К тому же понятливая была коза, умная: Маняша с ней и поговорить могла. Из отрицательных качеств у козы было только одно: гуленой уродилась, пошататься любила. Вот это и заставляло Маняшу каждый день встречать ее возле мостков. Она знала, что были случаи, пропадали козы, и всегда очень по этому поводу тревожилась. Коза все-таки! Хоть и не корова, а тоже скотина. Двурогая. Маняша привыкла к ней, как к живой душе. Когда одна живешь, то и коза тебе товарищ.
Вытолкав Родимушку, Маняша на скорую руку заперла калитку и снова побежала вниз, в овражек. Ей той же дорогой нужно было бежать — к монастырю. Оттуда стадо пригоняли. Пастух только до монастыря за животными следил. А дальше, говорит, не его дело. Он пас, он пригнал в целости и сохранности — теперь, хозяюшки, пожалуйте сами. А ему не с руки каждую скотину до двора провожать. Мол, не условливались. И это верно, пастух, он не нянька, он каждую коровенку, каждую козу до ворот не может провожать. Да кабы пастухи честные были, чтобы доверять им было можно! Не-ет, из доверия вышли, голубчики. Скажет: к месту пригнал. А пригонял ли? Поди проверь…
Опять трусила Маняша той же дорогой, опять она торопилась. Когда же конец придет? За козой бегай, по разным другим делам бегай… Всю жизнь вот так пробегала: то на пожар то за Василием, то на фабрику… И на «утильку», бывало, неслась как угорелая. Проспит — и ну ноги в руки, только ветер в ушах свистит! Хотя на «утильке», правда, дисциплина была не строгая.
Удивительно все это было Маняше. Как, почему?.. Не верилось, что колечко — то самое! — вернулось к ней, побродив по белу свету. Пашка Кривобокова вернула колечко! Думала ли Маняша?.. Да подобного и вообразить было нельзя! В чем же причина? Сама Маняша на этот вопрос не находила ответа и склонялась к убеждению, что дело это смахивает на чудо. Иначе как объяснишь, что Пашка сохранила колечко да не какое-нибудь, их у нее было много, а именно это, Маняшино. Впрочем, если по совести, и не Маняшино… неизвестно чье. Кому оно по праву принадлежало, теперь и не скажет никто. Очутилось вдруг в кармане Маняшиной шубейки. Тоже как чудо…
Опасливые мысли о козе перебивались у нее удивленными мыслями о колечке, и Маняша не знала, за что теперь в первую очередь схватиться: и коза ее, гулена, донимала, и возвращенное колечко не давало покоя. А тут еще пожар у дяди Лукьяна. Хочешь не хочешь, а об этом тоже невозможно не думать. Человек пострадал, и хоть не близкий, да полжизни рядом с ним прожила. Куда ему теперь? Да, многовато для одного дня: сон, покойница, пожар, колечко… и вот если еще коза. Многовато, бабушка, многовато таких переживаний, полегче бы надо жить.
Маняша опять почувствовала сильный укол в левой части груди. Она остановилась и даже присела чуть-чуть. Боль была острая, но быстро отпустила. Маняша не испугалась — привыкла: сердце у нее давненько покалывало. Что ж, пора, седьмой десяток идет, а сердце у любого человека не железное. Но еще стучит, слава богу, гонит ее сердчишко кровь. Ничего, авось постучит еще годков пяток. Больше-то и не надо, и то хорошо. Пяток или там десяток. Маняша при этой мысли невольно усмехнулась. Согласна, видите ли, еще на десяток. Может, и от целых двадцати не откажешься, старушка? А что, только бы ноги носили да сердце помаленьку стучало. Ну беги, беги, ищи свою козу. Где она, гулена проклятая, образина рогатая?
И Маняша снова затрусила помаленьку.
«Надо бы на часы взглянуть, — размышляла она. — А то не рано ли я всполохнулась? По солнцу вроде бы не рано. Вон оно уже за деревьями скрылось. Не рано, видать, вечер наступил».
И все-таки она зря всполошилась. Ошиблась. Не опоздала она. Как раз вовремя, будто по звоночку, выбежала. И о козе своей напрасно плохо подумала. Коза, ее коза, такая важная из себя особа, впереди следовала. Самой первой, как генерал какой-нибудь, по дороге вышагивала. Вела все стадо. Вот тебе и образина двурогая. Как бы не так — полководец козлиный! Походка степенная, взгляд такой ответственный, не стадо — войско ведет. Вот она какая, Маняшина коза!
— Дочка, Дочка-а-а!..
Коза задрала свою бородатую мордаху, призывно, ласково проблеяла в ответ, ускорила шаг, побежала навстречу. Тяжелое, вздувшееся вымя у нее болталось, чуть ли не доставая до земли.
Маняша любовно охлопала козу, похвалила:
— Умница, умница… молодец! Я тебе сейчас свежей капустки срежу. Или морковки дам. Молодец!
Подумав, она прибавила:
— Ты не знаешь еще, у нас беда-то какая! Дядя Лукьян наш погорел! Все начисто, все до тряпки — вот какое дело! А ты гуляла себе, ни о чем не думала.
Коза семенила рядом с хозяйкой, дружелюбно слушала, покачивала головой, как будто соглашалась. В голосе хозяйки она не чувствовала упрека, а все остальное ее не интересовало. Какой дядя Лукьян? Какой пожар? Какое колечко? Главное, чтобы хозяйка была добра да чтобы пастух не колотил. Коза, она и есть коза. Но Маняша и с ней была рада отвести душу.
— Жила бы ты у дяди Лукьяна, — тихо продолжала она, — что тогда? Пришла из стада, а изба вся обгорелая стоит, и сараюшка твоя сгорела. Хорошо, что ли? Ну вот. Да он сам, конечно, старый, виноват, соображать перестал. Политика не для таких, как он. Там нужна большая голова! А он, дядя Лукьян, всю жизнь так. А теперь что? Я не знаю. У тебя сараюшка есть, теплая, сухая, сенца я заготовила на зиму.
Маняша говорила, и ей казалось, что коза соглашается, поддакивает. Иначе и быть не могло. Ее коза, личная. Что она скажет, то для козы и закон.
«Вон мысли-то поплыли какие! — подумала Маняша, усмехаясь. — Умные не приходят, видно, все поизрасходовала. Скажешь кому, так смеяться станут. Скажут: совсем из ума выживает бабушка. Козу в подружки выбрала, только на это и пригодна. А еще Лукьяна Санаткина страмит! Тот хоть проблемами занят, с самим богом спорит. Не существует, по его мнению, бога, и все тут. Хоть сомнения, видно, бывают, а все одно твердит: нету!»
Так рассуждала Маняша, поворачивая из овражка в гору, к своей избе. Почуяв дом, коза вырвалась вперед. Маняша за ней не поспевала.
— Спеши, спеши, Маняша, — сказала соседка, что жила за три дома до дяди Лукьяна. — Ждет.
— Кто ждет-то, Прасковьюшка? — повернулась к ней Маняша. — Дядя Лукьян?
— Какой дядя Лукьян! Не знаешь. Сюрприз тебе!
— Да что ты говоришь, Прасковьюшка? Кто же?..
— Говорю: сюрприз. Беги, Маняша, счастливая будешь!
И Маняша побежала, не чувствуя земли под ногами.
Сын! Сын приехал! Сыно-о-ок!
Он стоял возле калитки, рослый, улыбающийся. Чемодан у ног, на чемодане пиджак. Приехал меньшой. Не обманул!
Маняша повисла на плечах у сына, заплакала навзрыд.
— Сыно-ок! — шептала она. — Родненький! А я тебя так ждала!
— Ну ладно, мама, хватит, — отвечал сын, — уезжаю — плачешь, приезжаю — плачешь. Довольно, перестань.
Радуясь встрече, он целовал мать, прижимал ее к груди.
— Давно ждешь-то? Я за козой бегала. А ты автобусом приехал?
— Автобусом, мама. Недавно. Пять минут, может, стою, не больше. Пойдем в избу. Что у вас тут такое?.. Еще дымок курится. Сегодня, что ли, случилось. А дядя Лукьян?.. Он где? Не пострадал? — оборачиваясь на пожарище, спрашивал сын.
— Да он-то не пострадал. Ой, сынок, беда с ним, с нашим дядей Лукьяном… он тут у нас, знаешь, как опять прославился! Люди не знают, горевать им или смеяться. Такую штуку оторвал, что расскажу тебе — не поверишь! Только ты погоди, не до этого сейчас… Ты один приехал? А Лидочку что не привез? Что же ты это так, сынок?.. Я невестку-то свою и не видела. Хоть показал бы, а то что же?.. Я думала, на этот раз привезешь.
— Мама, никак не мог, у нее отпуск только в октябре. Она же работает первый год. Редактор сказал: раньше октября нельзя. А в октябре мы думаем в Гагру поехать, я уже и путевки получил. Так что вот так. Я, мама, за тобой приехал. Лида говорит: вези сюда, пусть у нас месяцок поживет.
— Ой, да что ты, сынок! На кого же я дом оставлю! Хозяйство… огород, коза. Где она? Дочка, Дочка! Дайка я впущу, а то ей особое приглашение требуется.
Оставив сына возле калитки, Маняша выскочила на улицу. Коза терпеливо стояла на тропе, ждала.
— Чего же ты не идешь, гулена? — спросила ее Маняша. — Гулять больше не пущу, и не думай. Ну-ка, домой. Что смотришь? Вот я прутик возьму! Давай, давай, некогда мне с тобой возжаться: ко мне сынок приехал!
Маняша говорила громко, почти кричала. Ей хотелось, чтобы все слышали: она не одинока, ее не забыли, у нее гости дорогие. Но на улице, как назло, никого не было, даже дядя Лукьян и тот как будто сквозь землю провалился.
— К козе ты, мама, как привязанная, — сказал сын, снова обнимая Маняшу. — Да ну ее, твою козу, никуда она не денется.
— О-о-о, сынок, не скажи, ее в два счета под нож пустят. А жалко все же. Который год она у меня… Беги, беги к себе, не путайся под ногами! — легонько пнула она свою двурогую образину. — Любопытная какая!
Сын с улыбкой поглядел на отскочившую козу и тотчас же забыл о ней.
— Ты не постарела, по-моему, мама, за год, все такая же быстрая, проворная.
— Да, слава богу, бегаю еще, сынок! Ноги носят, жаловаться грех. На что уж сегодня денек выдался… Вот только сердце побаливает. Схватит и отпустит, схватит и отпустит. Видно, все-таки время подходит…
— Значит, полечиться надо. Я бы тебе путевку в санаторий достал. А? Поедешь? На юг, в город Кисловодск. Вот, например, на ноябрь месяц.
Маняша протестующе замахала руками.
— Да что ты! Куда мне?.. Не видали еще таких в санаториях! Нет, сынок, спасибо, я и без санаториев жизнь доживу. Как-нибудь, помаленьку, — Маняша прытко взбежала на крыльцо. — Я сейчас… отопру… Тут у меня замочек на замочке. Два замка… все имение свое стерегу, — смущенно призналась она.
— Да ты не торопись, не спеши.
Забота сына, его ласковые, чуть смешливые слова — такая у него была привычка — радостно подстегивали Маняшу, поднимали ее, как на крыльях. Она еще на крыльце, отпирая замок, зримо представила, как завтра и послезавтра, когда скажет сын, они снова полетят в Павловское, и она опять увидит внизу свой домишко, колодец, обгоревшую избу дяди Лукьяна, поле, лес за железнодорожным полотном, другие леса и поля и, наконец, свое родное село с его обезглавленной церковью, возле которой изо дня в день пасет скотину Тимоша. Она все это вновь увидит и не только увидит, но и наглядится всласть, наглядятся ее глаза, наиграется ее сердце. Так-то наиграется, ах, как наиграется!
— Да ты не спеши, ну что ты, — успокоил ее сын. — Давай-ка я сам. Ты что? Опять плачешь? Отчего?
— Да от радости, что ты не видишь, от радости ж! — крикнула Маняша.
Сын ввел ее в избу, усадил на диванчик, на котором обычно, когда приезжал, любил полеживать. Диванчик совсем короткий, с боков валики, сын откидывал валики, диванчик становился длиннее, но все равно ноги свешивались вниз, сын сгибал их в коленках и лежал на спиче, глядя в потолок. «Мне здесь хорошо думается», — говорил он. Из-за этого и держала Маняша старый диванчик. Он еще в тридцатых годах был куплен.
— Ну вот, и снова я дома, — глубоко вздохнул сын. — На юге сейчас жарища, мама, небо лиловое, а у нас здесь благодать. Нет, я там у них не приживусь! Родное тянет, родина зовет. Но об этом потом. — Он сел рядом с Маняшей. — Наплакалась?
Маняша вытерла лицо.
— Надолго хоть, сынок?
— Как и обещал. До конца августа здесь поживу, а в начале сентября в Москву съезжу, подарочек тебе один привезу.
— Какой, сынок? Зачем тебе деньги тратить?
— Денег не много на него уйдет. Подарочек маленький. Вот такой, — он показал. — Книжку.
— Свою, что ли?
— Твою, мама. У меня ничего своего нет. Все от тебя, все твое.
О книжке Маняша знала, сын рассказывал. Будто бы выйдет у него книжка, под его фамилией. Но она не могла представить и не верила, что сын ее, обыкновенный мальчик, такой, как и все, и учился не так чтобы хорошо, даже, можно сказать, неважно учился, двойки и те были, да, и двоечки были, — а вышло в результате вон как странно: книжку какую-то сочинил. Сам, без подсказок, как какой-нибудь писатель, — а мать у него совсем простая, малограмотная, три класса и один коридор, дядю Лукьяна и то понять не всегда может, запинается. Как в это можно поверить? Как постигнуть куцым своим умишком?
— Не знаю, что и сказать тебе, сынок. Чудно больно все это. Не верится. А может, ты это так… надо мной подшучиваешь?
— Ну конечно, мама, подшучиваю! — воскликнул сын. — Ты поверила, что я вправду говорю? Верь мне, я еще и не то выдумаю! — Он вскочил, прошелся по комнате, чему-то улыбаясь, и продолжал: — Мне и самому не верится, это же чудо, как это может быть! Может, это сон? Так что давай пока терпеть и говорить: нет, ничего нет, никогда не будет ничего подобного.
Взволнованные слова сына вдруг напомнили Маняше про ее сон и про колечко, возвращенное Пашкой. И она почувствовала, как что-то тревожное защемило всю ее душу. Что могло быть такое?.. Ну сон-то, бог с ним, мало ли что наснится глупой бабе… а вот как насчет колечка? Тут дело другое. Даже верить и то не хочется! Как хотите, а не укладывается в голове. И у Маняши мелькнула мысль, что сыну надо поскорее все рассказать. Он у нее умный. Посоветует.
— Хорошо мне здесь, мама, — прохаживаясь по комнате и оглядывая стены, пол, потолок, говорил между тем сын. — Так покойно, светло на душе становится, когда я приезжаю. Как будто и родился здесь. Из окна ли посмотришь… — Он нагнулся к окну: — Нет, из окна теперь не та картина. Бедный дядя Лукьян! Что у него произошло, мама? Как загорелось?
— Погоди, сынок, все расскажу. Тут у нас… история. Да пока это погодит. Ты, чай, устал с дороги. Поесть хочешь… — Маняша тоже вскочила, словно ее что-то обожгло. — У меня и угостить-то тебя нечем! — Она всплеснула руками с отчаянным сожалением. — Наливочку и ту дядя Лукьян сегодня почти всю допил! Как же быть? — заметалась она, заглядывая в окно. — В магазин, сынок, побегу, ты уж извини… денек такой выдался… не запаслась я.
— Мама, мама, — остановил ее сын, — никаких магазинов, у меня все есть. Я из Москвы захватил и винца, и закуски. Даже хлеба московского привез. И ты не торопись, я не хочу есть. Сыт. Дай мне оглядеться. Мои поздравительные открытки ты вместо картинок на стены клеишь? А это что за трава у тебя на комоде стоит? И вообще расскажи, что у вас новенького. Как наши родственники дальние, все живы-здоровы?
Сын спрашивал, радуясь, что он ходит по комнате, в которой рос, где учил за столом уроки, где спал на коротком диванчике, свернувшись калачиком, и Маняша чувствовала его радость так хорошо, как будто она сама ходила по комнате и спрашивала свою мать о том о сем. Маняша следила за сыном счастливыми глазами, счастье переполняло ее, распирало грудь, слезы снова подступали у нее к глазам, сердцу было горячо, у Маняши временами перехватывало дыхание, и тогда казалось, что пол уплывает из-под ног.
— Живы, живы… все живы, — твердила она, стараясь вспомнить, о чем она думала за минуту до этого, какими заботами своими хотела поделиться с сыном. Взгляд ее упал на кровать, где под матрацем спрятала она узелок, в котором завязана была коробочка с колечком. — Вот только… Да ты помнишь ее, сынок? Павлу Кривобокову, вязниковскую? То, что я рассказывала… которая на старости лет к церкви прислонилась.
— Ну помню, как же. Эту разрисованную? А что с ней?
— Померла, сынок. Сегодня схоронили. Вот какое дело, — Маняша снова посмотрела на кровать, туда, где было спрятано колечко. — Хоть ты и с дороги, сынок, устал, а я тебе сейчас покажу… не терпится. Извини, я вот тут сунула… Вот.
Говоря это, Маняша вытаскивала из-под матраца узелок, развязывала его, открывала коробочку. Сын заинтересованно следил за ней.
— Вот, — повторила она, кладя раскрытую коробочку на стол. — Погляди-ка, сынок. Узнаешь?
Колечко лежало камешком кверху. Камешек сверкал, лучился, как будто внутри у него был заключен холодный, но яркий огонь. Сын подошел. Не беря коробку в руки, заглянул.
— Узнаешь? — снова спросила Маняша.
— Нет, мама, — сын пожал плечами. — Не узнаю… — Он наклонился пониже, все еще не дотрагиваясь до коробочки. — Кольцо. С бриллиантом, очевидно. Наверняка с бриллиантом. И бриллиант довольно крупный, больше, чем полкарата.
— Да ты возьми в руки-то, погляди.
Сын с какой-то странной недоверчивой улыбкой вынул кольцо из гнезда, положил на ладонь.
— Разве не помнишь? — спросила Маняша. — Подумай. В руках держал.
— Нет, мама, — помолчав, ответил сын. — Ты мне какие-то загадки загадываешь. Я впервые это кольцо вижу. Во всяком случае, мне так кажется.
— Забыл, значит, как в банке рылся. Чего там только не было: и бусишки разные, и лоскутья… В Вязниках, в войну. Не помнишь? — разочарованно спросила Маняша. — Ну, а дядю-генерала? Товарища Семенова?.. У отца твоего начальником был такой.
— Дядю-генерала, мама, помню, — улыбнувшись, сказал сын. — И многое другое помню, — прибавил после короткого раздумья. — А вот кольцо… Нет, не помню, — решительно сказал он. — Чье оно? Ты что-то рассказать хочешь? Я чувствую, тут что-то кроется.
— Кроется, — согласилась Маняша. — Только я и сама не знаю. Вот тут какое чудное дело, сынок.
И Маняша бесхитростно, как могла, рассказала сыну все, что знала: и про то, как досталось ей колечко, и про все остальное.
Сын слушал молча, не перебивая, лишь вначале, когда Маняша упомянула, что в тот раз раскулачивали Цыгана, попросил рассказать об этом поподробнее. Особых подробностей Маняша не упомнила, но все же напряглась и перечислила, что осталось в памяти на донышке. Глаза у сына стали круглыми и темными.
— Какая же у Пашки этой корысть была? — спросила Маняша, закончив рассказ.
— Да, Пашка… Павла Александровна, — проговорил сын, взволнованный. — Вон как все обернулось! Дорогое же колечко…
— Очень дорогое?
— Ему, мама, цены, по-моему, нет. Но тут не в этом дело.
— Неспроста это что-то, сынок.
— Неспроста. Но почему ты думаешь, что корысть?
— А как же думать-то, сынок? Ведь Пашка-то… какая она была?
— Видимо, она была разная, мама. Корысть? — задумчиво произнес сын. — Да уж какая тут корысть… А если совесть? Если безмолвный отзыв на твое добро? Если последняя дань уважения?..
— Так за что же?
— Мама, вот ты мне все рассказала… и не понимаешь — за что?
— Да что же я ей хорошего сделала?
— Не знаю, как тебе объяснить. Да и надо ли? Я о Павле. Мама, ты знаешь, что такое русский человек?
— Чего же не знать. Сама русская.
— Да нет, мама, и не такие люди, как мы с тобой, пытались всю жизнь раскусить этот орешек. Вот та же Павла… Как ее какой меркой измерить? Ты же мне много о ней и раньше рассказывала. Да я и сам ее видел, знаю тоже, — сын задумался на минуту. — Русский человек, мама, всегда в глубине души, в подсознании своем, стремится к добру, свету, справедливости и совершенству. Да, к совершенству. Он понять хочет все вокруг. Он задает себе вопрос; «А зачем я жил?» Зачем жил, мама. И что это такое — жизнь его?
— Верно, сынок, — согласилась Маняша. — Это верно. Это я по себе…
— Каждый — по себе, мама. А Кривобокова, она трудно, страшно трудно жила, гнусно, не по-человечески. Да поняла это, видно, поздно. Я корысть отвергаю. Запоздалое раскаяние — это вернее. Нет, мама, не просто все это, не просто, если уж Кривобокова сохранила колечко. Было у нее в душе что-то, было светлое ядрышко. Доброе было. Тут, мама, добрым пахнет.
— Добрым?..
— А как бы ты думала?
— Не знаю, как и думать. Постигнуть этого случая пе могу, сынок. Голова кружится, мысли путаются…
— Но что тебя тревожит?
Что ее тревожит? И тревожит ли? Маняша не могла сказать. Может быть, и тревожило что-то, да как объяснить сыну. Она и сама не понимала, что ее беспокоит. А если самой еще не понятно, то и заводить разговор об этом не время.
И Маняша спохватилась:
— Зачем я тебя баснями-то кормлю, с дороги, чай!.. Пока у меня керогаз разогреется, пока… А ты умойся, отдохни… я быстро, сынок.
— Погоди, мама, не надо. Всю жизнь ты торопилась, привыкла. А теперь зачем спешить? Я не на один день приехал. Мы еще наговоримся всласть. Вот давай сейчас так: ты управляйся по хозяйству. Я знаю, что тебе козу подоить надо, да? Подои ее, сделай все, что нужно, без спешки, а я пока похожу, осмотрюсь. Целый год не был, мне здесь все интересно. Договорились?
Меньшой приезжал к Маняше чаще других детей. Он бывал у нее даже чаще дочери, которая жила совсем рядом, в Карабанове. В году он появлялся обычно раза два, а то и три, и только нынче у него случился большой перерыв. Но он предупреждал, уезжая в прошлый раз, что появится не скоро: с юга не близкая дорога, да и подвалило дел много. А дочь последний раз гостила у Маняши прошлой весной, и то пробыла всего два дня. Все ей было некогда, все она куда-то торопилась: то муж не переносил одиночества (нервный мужичок попался), то сынишку (четвертый годик крохе пошел) нужно было на море вывезти. К бабушке привезла бы, лучше всякого моря, так нет, бабушка, по ее мнению, недоглядит. Обижалась втихомолку на дочь Маняша. Она у нее особенная какая-то уродилась: двух мужей сменила, теперь был третий.
В кого уродилась — неизвестно: хитрая, ядовитая, злопамятная. Сыновья, те выросли совсем другими, про меньшого и говорить нечего, все бы такие были, но и трое других Маняшу ничем не огорчали. Правда, приезжали редко, еще реже, чем дочь. Маняша на это не обижалась. У всех, как теперь говорят, уважительные причины были. Один в армии служил, при ракетах. Он вот уже пятый год не показывался, только письма исправно писал. Другой в Сибири работал, очень далеко где-то, в Иркутской области, название города Маняша все никак не могла запомнить. Третий на пароходе плавал, ловил рыбу в теплых морях. И вот четвертый, меньшой… Этот в детстве все стихи писал. Чудное это дело. «Из одной, — говорит, — книжки слово возьму, из другой выберу подходящее, и новенькое получается, вроде бы свое». Объясняет, а сам смеется. Так, мол, все статьи и эти, как их, книжки пишут, никто ничего нового не придумывает. По-серьезному о своей работе говорить не хочет: все со смехом, с шуточками. Старший сын, военный, уговаривал его: иди ко мне в армию, у меня хорошо. Рыбак к себе звал: на пароходе зарплата хорошая, нигде лучше не зарабатывают. Меньшой посмеивался в ответ: у меня, мол, своя делянка, никуда от нее ни на шаг до самой смерти. Маняша сожалела втихомолку: втемяшилось ему в голову это сочинительство! Чего хорошего? Словцо не то вставил — и, пожалуйста, держи ответ.
Нет, не стала бы хвалить Маняша работу меньшого. Побаивалась она. Дядя Лукьян и тот утверждал, что многие от этого дела головой тронутые. Хорошо ли? Жалела Маняша своего меньшого. В его книжку она не верила. Какая там книжка! Откуда ей взяться?
Обо всем этом Маняша думала и раньше. Мелькали у нее эти опасливые мысли и теперь, когда она доила козу, а потом металась по огороду между огуречными грядками и малинником. Сын любил огурчики маленькие, с пупырышками, малина ему нравилась желтая, была у Маняши ягода такого сорта — крупная, на вид как будто незрелая, но сладкая и сочная на самом деле. Маняша нарвала полную миску огурцов, нащипала большую кружку малины, и все это за какие-нибудь полчаса. Сама себя подгоняла. Надо было еще яичницу поджарить, чайник вскипятить. На одном керогазе со всем этим не больно скоро управишься.
Отдаивая козу, Маняша слышала, как сын вышел, принес воды, потом голос сына доносился с улицы. Он был у нее общительным, меньшой. С детства его тянуло к людям. Любил слушать рассказы взрослых, сидел молча, не перебивал вопросами, только глаза становились круглыми и темными, если сильно удивлялся. Когда подрос, стал записывать разные словечки. Скажет что-нибудь Маняша, он встрепенется: как, мама, как, повтори! И побежит к тетрадке — записывать. Тетрадей с такими записями у него скопилась целая пачка. А в школе учился не очень старательно, так, серединка на половинку. Все своей писаниной увлекался. Вся эта писанина до сих пор в сундуке у Маняши лежит. Тетрадки пронумерованы: часть первая, часть вторая… Части какие-то. Полный сундук частей. Когда собирались переезжать из Вязников, Маняша хотела тетрадки меньшого сжечь. Сын взъярился, закричал: «Ты понимаешь, что это такое?! Это же мои опыты!» Ну что с ним сделаешь, побросали в кузов и эти «опыты».
Года через три или четыре Маняша приладилась исписанными тетрадками печку растапливать. Вырвет из одной тетрадки листок, из второй тоже. Сын уже в Москве учился. Один раз вернулся и застал мать за этим занятием. Маняша огорченно спросила: «Ругаться станешь, сынок?» Меньшой пожал плечами, спокойно сказал: «Не жалко, так жги». — «Ну не буду, не буду!» С тех пор она к его бумагам не притрагивалась, а он не напоминал о них, верно, охладел к старой писанине…
Маняша помыла малину. Керогаз уже разгорелся, на нем стоял чайник. Маняша принесла и мясца, свежей козлятины. В сарае у нее был устроен ледник. На льду ничего подолгу не портилось. Хороший ей ледничок устроил дядя Лукьян. Ему только стакашек посули — он за любое дело примется, много не спросит.
Мимоходом отметив и это, Маняша забежала в переднюю комнату, чтобы постелить новую скатерку, и увидела, что сын уже распаковал свой чемодан. Он вынул и поставил на стол бутылку вина, положил рядом завернутую в белую хрустящую бумагу разную провизию. На комоде лежала большая цветастая коробка конфет. Где-нибудь подарок и посущественнее лежит. Вона, за шкаф спрятал. За шкафом у Маняши табуретка, на ней разное бельишко. Меньшой всегда так. Сунет куда-нибудь, чтобы не на виду было, а потом Маняша спросит: «А это что, сынок?» — «Да так, — ответит, — пустяки. Возьми себе, если понравится». Что на этот раз привез, хоть взглянуть… А-а, кофта. Ай-яй-яй, батюшки, кофта какая дорогая! Шерстяная, знать. Точно, шерстяная. Так это же рублей на пятьдесят! Не-ет, теперь Маняша такого подарка не примет, теперь у него у самого жена, семья, нет, нет. А кофта, конечно, хорошая. Ой, какая кофта! Мягкая да легкая…
С улицы донесся радостный голос Лукьяна Санаткина:
— Смотри-ка, Серега, пра слово, углядел! Что значит, молодые глаза. Спасибо, сосед! А я не туда… затмение вроде нашло: все, думаю, подчистую, гол как сокол теперя.
Дядя Лукьян увидел в окне Маняшу, закричал громче:
— С праздником тебя, невеста, с приездом сынка! Он у тебя орел! Сундучок с зимней одежей у меня откопал. Не страшна зима, я ее не боюсь, шалишь!
— Ну вот! — отозвалась Маняша. — Гляди-ка, еще чего не осталось ли. А то, легко ли дело, без зимней одежки.
Звать сына Маняша сейчас не решилась: еще этот бес за ним увяжется. Он и за стол сядет, не постесняется. Тут сына целый год ждала, сын приехал, с сыном одной посидеть охота, а Санаткину, бесу, и дела до этого нет: бутылка на столе — главное для него удовольствие.
Дядя Лукьян хлопал меньшого по плечу, восторгался:
— Ну, Серега, ну молодец! Люблю я тебя, пра слово! Все расскажу тебе, все запишешь. Я т-такое, брат, знаю! Революция, гражданская война, коллективизация — все это я пережил как свидетель. У меня к старости не голова, а эта… как ее… подскажи, Серега, слово иностранное запамятовал.
— Энциклопедия, Лукьян Макарыч.
— Во-во, энциклопедия! Полная! Ну вот. Ты меня только позови: все по порядку выложу, как было. А то теперь в книжках моду взяли, не все пишут.
«Ишь ты, бес! — подумала Маняша, злясь на дядю Лукьяна. — В книжках не все, а у него, получается, все!»
— Ты бы, сынок, помылся с дороги, — вмешалась она.
— Да, — согласился сын, — сполоснуться надо. Посиди, Лукьян Макарыч, отдохни, а потом мы что-нибудь придумаем.
— Все, Серега, сижу! Я тебя понял. Люблю я тебя!
— Ой, сынок, — укоризненно сказала Маняша, когда меньшой взошел на крыльцо, — ну что он тебе, наш дядя Лукьян?.. Нашел с кем посередке улицы беседовать. Что он путного тебе расскажет? Я в десять раз больше знаю.
Сын обнял ее.
— Не надо, мама. Ну зачем? У старика горе.
— Так сам виноват.
— Сам, конечно, — сын под руку ввел Маняшу в комнату. — Но поддержать же его надо. Надо, мама. Ты разве против? Так исстари у нас повелось.
— Разве ж я против, помочь надо, это верно. А разговаривать с ним… чего интересного?
— Почему же, он по-своему интересный человек.
Маняша засмеялась.
— Ну да, избу-то как спалил!
— Смешно, конечно. Но если смотреть непредвзято, ну, проще сказать, по-человечески, то жизнь такая штука, что сплошь и рядом плетется вот из таких трагикомедий. Были старые писатели, большие мастера, они это понимали. Жизнь, мама! А это и Павла Кривобокова, и дядя Лукьян, и другие, другие, другие. Люди, Человеки. Все вместе, и дядя Лукьян тоже. Человек.
— Бесполезный.
Маняша чувствовала, что это ревность загорелась у нее, и не хотела, чтобы меньшой догадался об этом.
— Если человек, то уже не бесполезный, — возразил меньшой. — Не придирайся к нему, мама. — Он подошел к Маняше и снова обнял. — Не ревнуй.
«Догадался!» — втайне устыженная, подумала Маняша.
Стало смеркаться.
Сын сел бриться. Маняша выбежала по воду. Санаткин вызвался помогать — стал крутить ворот.
— Дождалась сынка, невеста. Ну вот.
— Дождалась, Лукьян Макарыч.
— А я тебе что говорил?
— Что ты мне говорил?
— Да про твой сон-то?
— Ты много разного говоришь. Все не упомнишь.
— К богатству, говорил, сон, — уточнил дядя Лукьян. — Пра слово. Вот оно и привалило — на двух ногах. Али не согласна?
— Согласна, согласна. Лей, дядя Лукьян. Да не ми-мо-о! — Маняша отскочила, вытерла ладонью ногу. — Экий ты стал неуклюжий, Лукьян Макарыч!
— Глазомер, Маняха, не сработал, осечка произошла. Ну вот. Я сейчас добавлю. Вода не казенная.
— Да уж добавь, будь любезен.
— Это мы мигом, невеста. Это у нас не заржавеет.
«О пожаре и не вспоминает», — подумала Маняша.
И в самом деле, дядя Лукьян вроде бы забыл о пожаре.
— А вот что я хочу спросить у тебя, Маняха, — проговорил он. — Что за предмет такой тебе богомолка принесла?
Маняша знала: не утерпит Родимушка, спросит об этом. И точно, спросил, бесхитростно уставившись на соседку.
— Все ты хочешь знать, Лукьян Макарыч. Все тебе любопытно.
— А как же? Затем и живет человек, чтобы все знать. Пра слово. Мне бы хоть что принесла, я тебе первой сказал. Ну вот. Но мне не приносят.
— Ты подымай ведро-то, коли взялся.
— А оно на чепи, не потонет, — осклабился дядя Лукьян.
«Во! — подумала Маняша. — Ведро в полон взял!».
— Ты, я гляжу, мастер сны отгадывать, Лукьян Макарыч. Все по-твоему выходит.
— То-то и оно! — торжествующе поднял палец дядя Лукьян. — Я все знаю.
— Да что ты знаешь?
— А то, что кольцо тебе принесла богомолка. Золотое. Драгоценное.
— Ну и что?.. — Маняша смолкла, не договорив. Откуда же этот старый бес узнал? Кто ему сказал про колечко?…
— Видала! — торжествовал Родимушка. — Ну вот.
— Ну и что? — повторила Маняша. — Мое кольцо, не чужое. Мне оно принадлежало. Ну и вернули хозяйке. — Маняша помолчала. — Тебе что, меньшой все рассказал?
— Ну вот! — живо откликнулся дядя Лукьян. — Он не то, что ты. Он меня уважает. Ему-то с высоты виднее. Ну да ладно. Показала бы колечко, невеста. Пра слово.
Маняша отвернулась. Ей было обидно, что сын рассказал о колечке дяде Лукьяну. Зачем было говорить-то? Но она и не совсем верила. А вдруг под окном подслушал сосед?
— Так покажешь?
— Чего ж, покажу. Покажу, коли знаешь… Я вот думаю, кто мне тогда его в карман сунул… По ошибке али нет? Когда раскулачивали, народу много собралось… Тимоша Петров мог бы. Но Тимоши, я помню, в тот день не было.
Дядя Лукьян вдруг встрепенулся, как петух.
— Не было Тимохи, — многозначительно подтвердил он. — Не мог Тимоха. А кто сунул, я знаю, невеста.
— Знаешь? — протянула Маняша.
— Ну вот.
— Кто же?
— А то не догадываешься?
— Не догадываюсь. Людей много было.
— Да я. Пра слово, — виновато сказал Родимушка.
— Ты-ы?!
— Я. Лично. Тимохи в тот раз, сама говоришь, не было. Ну вот. А я был. Вспомни, был я?
— Ну хоть и был. Ты везде бывал, так что из этого? — насмешливо сказала Маняша, качая головой. Она знала, что пристыдить Родимушку невозможно, и поэтому не особенно старалась. — Был, да не клал кольца. С чего бы ты его положил?
— Ну вот. Ндравилась ты мне.
— Ндравилась! Да тебе все ндравились. Вспомни-ка.
— Ты, невеста, в особенности. Пра слово. Кабы не Василий…
— Ну да, кабы не ухабы! — оборвала его Маняша. — Перестань врать, дядя Лукьян, ты знаешь, что я этого не люблю! Не докажешь, что кольцо клал, и не пытайся.
— А ежели возьму и докажу?
— И не пытайся, говорю. Подымай ведро.
— Погоди, невеста, ведро потерпит. Я правду говорю: мое кольцо… то есть я клал. А было так…
Тут Родимушка призадумался.
— Ну, ну — как? — подзадорила его Маняша.
— Кого в тот раз кулачили-то?
«Схитрю сейчас!» — решила Маняша.
— Да соседа твоего. Митрия. Забыл, что ли?
— Во-во, Митрия, его самого. Помню, как же, хорошо помню! — обрадовался Санаткин. — Дело было, помню, по весне. Ну вот. Снежок уже почти весь сошел. Не было снежка, стаял.
«Помнишь ты! — подумала Маняша, радуясь, что так ловко заманила Родимушку в ловушку. — Снега было по колено, зима была. Сани в снегу увязали! И не Митрия кулачили. А он — помнит!»
— Ну я в сенях был, — продолжал дядя Лукьян. — Колечко-то в щель закатилось. А золото, оно — блестит.
«Блестит, да не там! — говорила свое Маняша. — Мокрое было колечко, как сейчас помню: не из щели его брали, а из снега. Так со снегом в карман мне и сунули. Ну, ври, ври дальше!»
И Родимушка врал безбожно:
— Я ногой наступил, а потом — цап и в карман! Пра слово. Ну-ка, думаю, где Маняха? — он повертел головой, показывая, как искал ее тогда. — Ты стоишь, рот разинула: целиком и полностью зрелищем увлечена. Я тебе колечко-то и опустил в карман. Ну вот.
— И все?
— Все, невеста. А чего еще? Опустил, и все. А ты и спасибо не сказала. Ну вот. Теперь ты всю правду знаешь. Полную.
— Митрича, значит, по-твоему, кулачили?
— Митрича. А кого же еще? Ты сама сказала.
— Я-то сказала. А ты подумал?
— А что? По-твоему, не так? — спросил Родимушка.
— Совсем не так. Не получается у тебя тютелька в тютельку. Митрич всю жизнь на Цыгана горбину гнул, Цыган с компанией его и научили. Митрича как подкулачника выслали, за поджог риги. У него в избе сквозь потолок небо светилось. Беднее его в Павловском одни Петровы были. Откуда же у Митрича тогда кольцо взялось? На какие бы шиши купить ему? Это теперь у баб все пальцы кольцами унизаны. А как мы жили? Вспомни.
— Верно, — не споря, согласился дядя Лукьян. — Не то что-то вроде… Кого же раскулачивали, ежели не Митрича?
— Тебе виднее, — засмеялась Маняша. — Ты кольцо клал!
— Ну вот. Это точно, что я клал. А кого увозили, запамятовал. Пра слово. Времечка много утекло. Не подскажешь?..
Маняша оттолкнула Санаткина.
— Врать не надо, Лукьян Макарыч, вот что я скажу! Я и сама ведро-то подыму. Ну-ка, поди прочь! Отойди, я тебе говорю, дальше! Ишь, помощник нашелся, кольцо он подкинул! Твое, значит, колечко? У-у, врун старый! А еще газетки читаешь!
— Обижаешь, Маняха, — грустно покачал головой Санаткин. — В такой день обижаешь… Ну вот. Я потерпевший. Погорелец. Зачем обижаешь?
Маняша молча вытащила из колодца бадью, долила из нее в свое ведро, подняла его и, не отвечая дяде Лукьяну, пошла к калитке. Нечего тут! Пусть знает, как врать. Вот еще чего вздумал!
— Напрасно, невеста, ты, напрасно, — вслед ей твердил дядя Лукьян, — напрасно это. Ни за что обижаешь. По больному бьешь. Пра слово, ни за что лупишь.
Не удостоив соседа взглядом, Маняша скрылась у себя во дворе. Поставила ведро у крыльца, прижала ладонь к груди. Зашлось сердце, заболело, словно иглу кто воткнул. Сын увидел в окошко, выбежал:
— Мама, да разве ж я воды не принес бы!
Маняша вдохнула побольше воздуха. Ничего, отошло вроде бы…
— И-и, сынок, — сказала она, — всю воду ты мне все равно не перетаскаешь. Я привычная. Ношу да ношу помаленьку. Тут вот соседушка-то наш что удумал. Скажу, так не поверишь. Ну и хи-и-мик! Про колечко-то…
Маняша присела на кровать. Меньшой поставил ведро с водой на веранде, вошел в чулан.
— Только, сынок… зачем ты ему про колечко сказал?
— Я сказал? Нет, мама, я ни слова не говорил.
Маняша всплеснула руками.
— Подслушал, бес! Под окном стоял, слушал! Вот он какой, наш Лукьян Макарыч!
— Любопытный старик. Так что же он удумал?
— А вот что…
Сын слушал, покачивал головой, тихонько посмеивался.
— Подскажи, говорит, кого кулачили, когда я тебе колечко совал, — Маняша тоже засмеялась. — Да еще в какой карман — сказать надо. Ишь хитре-ец! Чего он хотел-то хитростью своей, как ты думаешь? Может, колечко выманить?..
— Скорее всего, жизнь свою хотел приукрасить, мама.
— Это как же?
— Да очень просто. Романтической историей. Никто не хочет, чтобы о нем люди плохо думали. А похвастаться, случается, особенно нечем. Вот и…
— Так, может, и Пашка так?
— Может, и так. Хотя, я думаю, все гораздо сложнее. Мы про Кривобокову мало знаем, мама. Жизнь Санаткина была у нас… у тебя, во всяком случае, вся на виду, а Павла жила потаенно…
— Верно. Больно она ко мне в подружки навязывалась, как вспомню! — вздохнула Маняша.
Сын положил на ее плечо руку.
— Кривобокова на свет шла, а пришла… в церковь. Вот как бывает.
— Ты вроде меня осуждаешь, сынок?
Меньшой покачал головой.
— Я говорю только, как непроста жизнь. Скоро судить это легче всего. Жизнь спрямлять мы все мастера. Одно отсечем, другому не придадим значения. А иногда задумаешься…
«Про сон ему не расскажу, не надо», — испуганно подумала Маняша.
— Да нет, — перебил свои мысли меньшой, — дядя Лукьян тоже корысти не искал. Ах, чудак! Ах, лирик!..
— На стакашек-то уж непременно напрашивался, — не совсем уверенно предположила Маняша.
— А мы ему и поднесем, мама. Иди, зови соседа к столу.
— Зачем, сынок? Посидели бы вдвоем. Вдвоем бы поваднее. А то он и слова сказать не даст. Его не переслушаешь.
— То-то и хорошо! А вдвоем мы еще посидим, — сын поднял Маняшу, прижал к груди. — Мама, ты же добрая! Добрая ты, да? Ну конечно, добрая, и дядю Лукьяна тебе жалко. Я уверен, что жалко. Жалко?
— Да, жалко, сынок, — всхлипнула Маняша. — Ну куда он теперь, старый бес? Жил-жил и вот…
Сын поцеловал Маняшу.
— Ну так зови старика, а я пошел бутылку открывать!
Лукьян Макарыч Санаткин сидел за столом по-хозяйски, обводил всех торжествующим взглядом.
«Ишь ты, сияет, как начищенный пятак!» — подумала Маняша.
— Попробуй, дядя Лукьян, вот этой рыбки, — потчевал меньшой. — В баночке, видишь?
— Вижу, Серега. Такая махонькая? Пескари?
— Сардины, Макарыч. Не наши. Марокканские.
— Марокканские? Сардины? В песке живут?
— Почему в песке? В Средиземном море.
— Ну вот, — дядя Лукьян торжествующе поглядел на Маняшу. — Я к тому, что Марока эта — страна песчаная. Жить людям там худо. Оттого и Марока. Я в точку гляжу, Серега?
— Бери, бери рыбу, Макарыч. Дай-ка, я сам тебе положу.
— Во, Маняха! Во, сын-то у тебя!.. А! Пра слово. Уважил, угодил. Ну, уважил, угодил! Да мне что? Мне много ли надо? Уваженья маленько — вот и все.
— Конечно, дядя Лукьян, конечно.
Санаткин совсем расчувствовался, пальцами вытирал слезы на обвисших щеках.
— Я ить какую жись-то прожил? Ты, Серега, может, и не знаешь, какая у меня жись за плечами. Я все видел. Ну вот. Спроси меня, чего я не видел? И я тебе скажу: все видел! Пра слово.
— Конечно, конечно, Лукьян Макарыч.
— Во!
— Да что ты мне все пальцем грозишь? — не выдержала Маняша. — Что ты, дядя Лукьян, меня все пронзить желаешь? Не пронзишь, и не думай.
— Это как же тебя понять, Маняха? — удивился Родимушка. — Пальцем пронзить-то? Как это в природе возможно? Я не пронзить хочу, я факт контракт… констракт…
— Констатируешь, дядя Лукьян.
— Константирую! — снова вознес палец над головой Санаткин.
— А-а, — досадливо отмахнулась Маняша. — Ты вроде как поп на амвоне!
— Ну вот. Какой же я поп? Я с ними, с попами, всю дорогу не прикладая рук боролся. Они меня анафеме за это предали. И ты не махай, ты тоже не махай, невеста. Чего махать-то? Уж чего тут? Пра слово. Все вместе. Все за столом.
«Как свой!» — мелькнуло у Маняши.
— Ты бы лучше кофту надела, — продолжал дядя Лукьян. — Показалась бы в новой кофте. А, Серега? Подскажи матери, чтобы она в праздничной кофте за стол села. Красивая ж кофта! Ты моложе в ней будешь, невеста, пра слово!
Маняша поняла: от Родимушки теперь не отвязаться. Да ей и самой хотелось кофту новую примерить. Она вопросительно поглядела на меньшого.
— Надень, мама, чего ж, в самом деле.
Сын немного выпил. Глядел то на дядю Лукьяна, то на Маняшу, светло улыбался.
В новой кофте Маняша несмело вошла в комнату, остановилась возле порожка, сложив на животе руки. Богатая была кофта, что и говорить, длинная, теплая, и цвет приятный — такой серовато-голубоватый, правда, маркий, надо сказать. Да ведь не у печки стоять в этой кофте, не у керогаза и не обедать садиться — раз в год выйти на люди, на улице покрасоваться.
— Ну, Маняха, ну, невеста, ну!.. — закричал дядя Лукьян, голос у него сорвался, перешел в хриплый лающий кашель. Поперхнулся, что ли?..
Меньшой пошлепал его легонько ладонью по спине.
— Ты что, дядя Лукьян?..
— От такой красоты, Серега… это самое… дыханье сперло. Пра слово. На мать погляди-ка, а! Королева. Королева заморская ты, Маняха!
— Пошел, поехал! — смущенно отозвалась Маняша, не двигаясь с места.
— Ну вот. Вспомни, что я тебе говорил? Слушай, Серега, я что скажу. Сон ей был. Мамаше твоей — сон. А я и говорю…
— Молчи, помолчи, Лукьян Макарыч! — всполошилась Маняша. — Нечего безделицу нести, ты о деле, о деле лучше.
Про сон она не хотела вспоминать. Не думала о нем рассказывать. К чему такое знать меньшому?
— Все, невеста, все, — послушался дядя Лукьян. — Но ты имей в виду: я привел тебе свое доказательство.
— Привел, привел.
— Послушай сына теперь, Маняха, вот послушай. Ну вот. Я ему… это самое… про кровь. Ну, что открытие сделал. А он… — Санаткин наставил палец, словно пистолет какой, в грудь меньшому. — Ты что, Серега, про меня сказал, а?
— Я сказал: ты голова, дядя Лукьян.
— Видала?! — Обрадовался Родимушка, бодро встряхиваясь и даже пытаясь вскочить. — Слушай, что твой сынок Серега про дядю Лукьяна говорит! Ну вот. Ему с высоты виднее. Го-ло-ва!
Он так и не смог вскочить, только стол толкнул, на нем зазвенели рюмки.
— Не делай землетрясения, дядя Лукьян, — сказал меньшой. — А ты, мама, садись. И прямо в кофте, зачем снимаешь?
— Но ты подтверди, подтверди, Серега, — потребовал Санаткин. — Голова, а?
— Так я же сказал: голова. Голова, Лукьян Макарыч. Правда, не всегда попадаешь в цель.
— А что такое, Серега? — встревожился Родимушка.
— Зачем ты матери про кольцо наплел? Ведь соврал.
Санаткин очумело поглядел на меньшого.
— Признайся, что соврал, Лукьян Макарыч.
— Н-ну, Серега! — тонко вскрикнул Родимушка. — А ты тоже голова! Го-ло-ва!
— Нет, ты скажи: соврал?
— Соврал, Серега. Честно, как на духу, соврал! Ну вот. Не было такого. Пра слово.
— А зачем? Зачем тебе это? Ты же говорил: жизнь такую прожил! Разве тебе мало разного другого?
Теперь Маняша торжествующе смотрела на дядю Лукьяна. Но Санаткин не смутился.
— Чего уж, — сказал он, — угодить хотел тебе, Маняха. Лучше нет, как хорошему человеку угодить, ничего лучше этого нет. Пра слово. Порадовать я тебя хотел.
— Ну да, радость принес.
— А чего? А чего, невеста? Я как рассуждаю. Я так рассуждаю. Ну вот. Ты бы сказала разок мне доброе слово, я и порадовался бы. Все же мне приятно было бы.
— Я тоже так думаю, дядя Лукьян, — примирительно сказал меньшой. — Голова ты.
— А чего ж, Серега, — грустно продолжал Санаткин, не обратив внимания на похвалу. — Приятное слово сказать, ох, как много значит! — Он совсем пригорюнился.
— Ну ладно, Лукьян Макарыч.
Санаткин сидел, грустно покачивая головой.
— Дядя Лукьян, — тихо произнесла Маняша, — ты бы выпил еще винца. Чего уж там…
Санаткин поднял голову.
— Нет, не мешай пока разговору, невеста. Я вот что хочу спросить, Серега. Можно тебя спросить?
— Конечно, можно. Спрашивай, Лукьян Макарыч.
— Так ли люди живут, Серега?
Повернувшись к Санаткину, меньшой долго смотрел на него, но ничего не говорил.
— Что ты молчишь? Я спрашиваю, так ли люди живут? Правильно ли?
— Вон ты какой вопрос задаешь, Лукьян Макарыч. А сам-то как думаешь?
Меньшой уже не улыбался по-своему, говорил серьезно.
— Я? — Санаткин почесал пятерней гривастый затылок. — Я, Серега, в большой задумчивости нахожусь. Ну вот. Что у меня? Какие классы? Но вопрос сверлит. Куда идем?
— Так сразу хочешь и ответ получить? — спросил меньшой.
— Это хотелось бы. Требуется, Серега.
— И в двух словах, так?
— Не знаю. Тебе виднее.
— Куда идем? Куда надо, — вмешалась Маняша, испугавшись, что своим вопросом Родимушка поставил сына в тупик.
— Вот, — кивнул меньшой, — если в двух словах, то лучше не придумаешь. Но ты же задаешь вопрос, Лукьян Макарыч, в философском плане?
— В философском, — и глазом не моргнув, отчеканил Санаткин.
— Ну, значит, все в порядке, — сказал меньшой.
— Не пойму что-то. Проясни, Серега.
— Я говорю, если возникают у людей такие вопросы, значит, беды не будет. Не погаснет огонь.
— Так, — тряхнул своей гривой Санаткин. — Уразумел кое-что. А напрямик ответить не хочешь?
— Напрямик тебе мама ответила, Лукьян Макарыч.
Санаткин вздохнул:
— Вот то-то и оно. И выходит, не просто все.
— Ведь это для кого как, дядя Лукьян.
— Тогда что ж… Тогда наливай, Серега!
Заря на западе догорала, когда Маняша неслышно вышла на крыльцо. В августе ночи стали прохладными, но сейчас — то ли от выпитого вина, то ли от пережитого волнения — Маняша не чувствовала холода. Щеки у нее горели, как исхлестанные, даже ногам было тепло…
«И звезды теплые», — подумала Маняша.
Звезд было очень много. Давно она не видела на небе столько звезд. И отдельные звездочки, и целые россыпи — они сверкали над головой, притягивая взгляд, и Маняша долго глядела на них, стараясь сообразить, почему они так ярко загорелись на небе. И пришла к выводу: сын приехал!
Пусть будет так. Она перевела взгляд на окно и в щель между занавесками увидела сына. Он склонился над своей тетрадкой, о чем-то думал. И долго еще, наверное, сидеть так будет, полночи просидит.
Маняша с крыльца невольно перекрестила сына, постояла еще немножко, полюбовалась на своего меньшого, а потом осторожно спустилась по ступенькам во двор. В сарае на сенце спал дядя Лукьян, утомившийся от переживаний, умных разговоров и вина. Выпил он много и теперь громко храпел, тревожа козу. Маняша слышала, как она ворочалась в своем загончике в углу сарая.
— Терпи, бяшка, — шепотом промолвила Маняша. — Такого вот квартиранта к тебе подселили…
«Беда, беда теперь с ним!» — подумала она.
Постояв возле сарая, Маняша возвратилась назад, на крыльцо.
«Тихо-то как! Вроде бы и тишины такой никогда не было…»
А и в самом деле тишина стояла неслыханная, веточка и та нигде не шевелилась, ни шороха, ни хруста не раздавалось вокруг, и даже шум машин почему-то не долетал из центра города. Да и поздновато было, машины тоже уснули…
«Светлый мир, — успокоенно подумала Маняша. — Вот так добром бы все. Без драк, без войны».
Хорошо было в мире, хорошо, и душа у Маняши тихо радовалась. Рядом сидел сын. Сияло праздничное небо.
«Звезд-то сколько, звезд! И не пересчитаешь их».
Маняша так долго водила по небу взглядом, что у нее даже закружилась голова. Чтобы не упасть, она ухватилась за крылечную стойку. И только, переждав малость, махнула рукой и прошла на веранду.
Сын поднялся ей навстречу, не выпуская тетрадки из рук.
— Ты где была, мама?
— Да так, на улице постояла…
— Уснул дядя Лукьян?
— Храпи-ит. Легкий он человек. У него изба сгорела, а ему и горюшка мало.
— Хорошо это или плохо?
— Чего же хорошего. Какой ни на есть, а все ж дом был.
— Садись, мама. Если спать не хочешь, поговорим немного.
— Еще высплюсь, сынок. Смотри, как ты.
— Я раньше двенадцати никогда не ложусь. Который у нас час? Всего лишь пятнадцать двенадцатого. Время есть.
Маняша сидела на диванчике, меньшой напротив нее на стуле.
— Чудно, сынок? Кем же ты теперь работаешь?
— О моей работе мы еще поговорим, мама. Ты лучше о себе расскажи. Часто ли хвораешь?
— Какая хворь, некогда хворать. Вот только сердце стало побаливать. Так уж годы, сынок, не молодой возраст.
— А к врачу, конечно, не сходила?
— Не привыкла я врачей беспокоить. Пусть они молодых лучше лечат, а нам, старым бабкам, чего уж… — Маняша усмехнулась. — Я не была у них, у врачей, ни разу. Ну их. У меня травки есть. Я вот тебе покажу, сам научишься и жену научишь.
— Травки дело хорошее, но врачу тоже надо показаться. Ладно, вот поедем ко мне, я сам тебя поведу.
«Никуда я не поеду, — подумала Маняша. — Как ехать? Козу-то на кого?.. На дядю Лукьяна ее не оставишь».
Маняша представила, как сосед-погорелец доит ее гулену-козу, и ей стало смешно.
— Ты что улыбаешься?
— Да что, сынок… Я вот подумала. Ты давеча-то говорил… Ну вот Пашка Кривобокова. Вот дядя Лукьян. Вот я. А что это такое?
Маняша сказала, чтобы отвести мысли от козы. Но вдруг ее словно укололо. Она увидела Пашку, дядю Лукьяна и себя рядом с ними. Вот они сидят, двое живых и одна покойница. А что же это такое? И зачем?..
Меньшой понял ее.
— Что такое? Проще простого, мама: жизнь. Просто-напросто жизнь. Разная: хорошая, плохая, трудная, легкая, светлая, большая, маленькая… всякая. Я сотню слов еще скажу и то все не перечислю.
— А зачем? — тихо проронила Маняша.
— Удивляюсь, мама, — покачал головой меньшой, — вы с дядей Лукьяном как будто сговорились. Зачем? Одним словом спросила. И хочешь, чтобы и я одним словом ответил? Пожалуйста: не знаю. Не знаю, мама! И в то же время знаю, чувствую. Зачем? Чтобы встать с постели, выйти на крыльцо, вытянуть руки к светлому небу, сказать: «Жизнь!» Чтобы хоть одну книжку написать. Чтобы пятерых детей вырастить, в люди вывести. Чтобы заплакать в конце концов вот за этим столом, как дядя Лукьян! Мама, заплакать-то разок — это тоже много стоит.
— И верно, заплакал Лукьян Макарыч, — запоздало удивляясь, произнесла Маняша, — зарыдал, как малое дитя.
— Ну вот, мама, а ты еще спрашиваешь: зачем?
Маняшу разбудил какой-то звук. Она вскочила, прислушалась. Из комнаты слышно было спокойное дыхание сына. Не похоже, чтобы он вскрикнул во сне. Тогда отчего же она всполошилась?..
Вроде бы кто-то бубнил поблизости. Со двора, — а маленькое, с форточку величиной, оконце чулана выходило во двор, — доносилось это «бу-бу-бу». Вот смолкло. И снова возникло. Что за новость такая?..
Маняша накинула халат, осторожно открыла дверь на веранду. Двери у нее везде открывались легко и бесшумно. Бесшумно открывалась и дверь на крыльцо. Возле калитки никого не было. И улица еще была пустынная, у колодца — ни души. Солнце только поднялось, и вершины рябин еще не разгорелись, листики зябко подрагивали. Свежо вообще было во дворе.
Маняша сошла с крыльца, повернула за уголок и остановилась как вкопанная. В углу двора, где была такая ровная лужайка, она увидела Лукьяна Санаткина. Родимушка, что-то бубня под нос, размерял лужайку шагами, вертел в земле каблуком ямки, снова и снова отсчитывал между ними шаги. Он так был увлечен своей работой, что не замечал ничего вокруг. А Маняша стояла в пяти шагах от него.
— Дядя Лукьян, а дядя Лукьян? — наконец подала она голос. — Ты что делаешь тут у меня?
Санаткин вскинул, как от испуга, голову, но сразу успокоился:
— Маняха, ты? Здравствуй, невеста! Ну как спалось? Снилось ли чего? Я думаю, вряд ли что тебе снилось.
— Я спрашиваю, ты что тут это… соображаешь?
— То, что обещал, невеста.
— Что же ты обещал?
— А туалет своей конструкции. У меня слово твердое.
Маняша не верила своим ушам. Вот тебе и на! Хозяин, значит, отыскался. Она его переночевать пустила, посочувствовала погорельцу, а он хозяйничать сразу начал!
— Жить, как ты живешь, Маняха, нельзя, — продолжал дядя Лукьян. — Ну что это за скворешня у тебя стоит? Страм! Ни виду, ни удобств. Пра слово… Не-ет, так теперича люди не живут.
«Жить меня учит, старый бес!»
— Ну вот. Теперя как? Теперь, когда квартиру в городе получают, первым делом куда идут? Не знаешь? То-то и оно. В санузел! Смотрят, совмещенный он или нет.
«Да что же он мелет такое, бесяка бездомный!»
— Наука, Маняха. Наука вперед нас толкает. Семимильными шагами. Но про это потом. Ты вот сначала скажи: гостей к себе можешь пригласить?
«Ах ты, окаянный зверь! Да что же я стою!»
— Можешь. Ну вот. Но неудобно при этом скворешнике. А я кого угодно могу пригласить.
Маняша поискала глазами предмет потяжелее.
— Так вот что я тебе скажу: ты и приглашай. К себе!
Она схватила то, что под руку попалось, — беззубые грабли, и пошла на Санаткина, как с ружьем наперевес.
— А ну-ка, очищай мою территорию! Ну-ка, иди вон!
— Маняха, ты что? Маняха!..
— А то, что слышал!
— Не бей, Маняха! — взмолился Родимушка. — Совесть замучит. Я погорелец, судьбой обиженный.
— Умом ты, дядя Лукьян, обиженный, — Маняша опустила грабли. — Чего распоряжаешься в чужом дворе? Кто тебе такое право давал?
— Да ты что ж так, невеста?.. Ведь говорила вчера, что туалет у тебя ветхий. Смотри, говорила, Лукьян Макарыч, не провались.
— Не провалился?
— Чудом, Маняха, чудом уцелел.
— Ну и слава богу, что жив остался.
— Так ить не велика шишка и не обо мне речь. Ну вот. К тебе сын приехал. Сыно-ок. Какого сына-то вырастила, Маняха! Куда пошел, а! Весь в тебя, от твоего корня. Он-то… это самое… как? Ему каково?
— Лукьян Макарыч, — сказала Маняша, — не смеши людей! И что это у тебя за вид такой? На лбу перо присохло, в волосьях сзади тоже перья. Ты что, кур трепал?
— Где у тебя куры-то? — Санаткин смахнул перо со лба, постучал по лбу пальцем. — Подумай. Перья в сарае одне.
— Не рассыпала я там перьев. Ты мне козу еще испугаешь. У нее молоко пропадет.
— Ничего с твоей козой не станется, — снова повеселел Родимушка.
— Мама! Дядя Лукьян! — донеслось с крыльца.
Сын вышел на крыльцо, босой, в белых трусах, без майки. Большим вырос. Тело у него было коричневое, прокаленное южным солнцем. В плечах широк, в талии узок. Брови черные, волосы на лбу вьются. Красивым вырос меньшой!
— С добрым утречком, сынок!
— Доброе утро, мама!
— Чего же так рано, поспал бы.
— Спать? Что ты! Смотри, мама, какая красотища вокруг! — Он сладко зевнул и высоко потянулся, зажмурив глаза. — Эх, жи-и-изнь!..
Сладко, радостно стало и Маняше. Она снова увидела, как высок, строен и красив ее меньшой. Она глядела на сына, и глаза ее застилала радостная слеза. А сын глядел на рябины в огороде, на колодец, на небо, на то поле, откуда летают самолеты в Павловское. И Маняша глазами сына видела рябины, колодец, небо, поле — всю, всю землю вокруг. Она видела все это, слышала, чувствовала.
Жизнь! — говорило ей раннее солнышко.
Жизнь! — шептал ветерок в рябинах.
Жизнь! — доносилось с запахами цветов и трав.
Жизнь, жизнь, жизнь!..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Когда хоронили Марию Архиповну Витякову, моросил холодный дождь. Народу на кладбище было не очень много. Вокруг рыжей могилы на скользкой земле столпились дети: дочь, три сына с женами, жена четвертого сына — все, кто смог приехать на похороны. Как только стали опускать гроб, женщины зарыдали. Но громче всех плакал навзрыд, падал на колени, бился в мокрой глине и порывался броситься в могилу сосед покойной, Лукьян Макарович Санаткин, по-уличному — Родимушка.
Александровские невесты
Повесть
1
Москва гостей не баловала. В «Южной», где Сергей обычно останавливался, свободных мест не было. Не было их и в «Украине», «Центральной», «Варшаве». Раньше хоть администраторы посылали всех в Останкино, а теперь на вопрос, где можно переночевать, отвечали удивительно однообразно: «Не могу вам сказать». Сергей тревожно задумался. Московские гостиницы он знал наперечет. Но есть ли смысл колесить по огромному городу?..
«Так-то вот, Сергей Сонков, сын Сонкова Василия…»
Сергей вошел в метро, сел в поезд и спохватился только на станции «Комсомольская». Он вспомнил вдруг, что никогда не заходил в высокую гостиницу на Каланчевке, и выскочил из вагона.
В «Ленинградской», конечно, тоже номеров не было.
«Ну его к черту! — рассердился Сергей. — Надо хоть сдать на хранение чемодан…»
Обычно он сразу сдавал вещи на Казанском вокзале. На этот раз, сгоряча позвонив приятелю и узнав, что тот в командировке, невольно пренебрег своим первым московским правилом. Сказывалось волнение, угнетавшее Сергея последние дни. Он страдал от обиды и внезапного одиночества, хотя и понимал, что ничего страшного с ним не случилось. («Жизнь прожить, Сергей Сонков, сын Сонкова Василия, — не поле перейти!»)
Милиционер остановил поток автомобилей из-под моста и стал взмахами руки подгонять прохожих: мол, быстрее, быстрее. Люди с чемоданами и мешками на плечах неуклюже побежали. Побежал и Сергей, задевая чемоданом за чьи-то сумки и сетки с провизией. Из-под моста снова в два ряда ринулись на Комсомольскую площадь автомобили…
Сергей повернул вправо, к камере хранения, но на первых же шагах настиг его хрипловатый, какой-то дребезжащий голос:
— Серега? Ты, что ли?..
Не останавливаясь, Сергей обернулся. Сзади обернулся еще один прохожий. Сергеев на Руси великое множество.
— Ба, отцы родные, Серега! Какими судьбами?..
Именно к нему, к Сергею Сонкову, бежал тщедушный бородатый дедок с корзинкой в руке и пустым вещевым мешком за плечами.
«Кто это может быть?..»
— Не узнал, поди? Да я же это, я, Машуткин двоюродный брат, дядя Андрей из Александрова!
«Александровский Андрей Васильич!» — мелькнуло у Сергея.
Он не видел двоюродного брата матери лет двенадцать. Да, именно двенадцать лет. В пятьдесят втором году последний раз был Сергей в Александрове, когда приезжал с матерью хоронить деда. Тогда уже Андрей Васильевич носил бороду, но еще не был плешив. Он жил в пригородной деревеньке, имел корову, кабана, пасеку и все жаловался, что плохо живет, большие налоги, дешев на рынке медок. Больше ничего Сергей не помнил. Он и самого Андрея Васильевича лет семь уже не вспоминал.
— Не узнал, не узнал, парень! — огорченно вздыхал дядя Андрей, у которого Сергей угадывал фамильные черты Князевых: короткий нос, широкие скулы и глубоко посаженные, с синевой, глаза. — По каким таким делам в Москву-матушку? Мамаша-то как поживает? Здорова?
Сергей опомнился, обнял старика. Они расцеловались, вызывая светлые улыбки прохожих. Дядя Андрей стал расхваливать Сергея, его костюм, желтый кожаный чемодан. Он хлопал родственника по плечу и радостно смеялся. Заулыбался и Сергей.
— К нам в Александров-то заедешь?
— В Александров?..
— Ну да, чай, не длинная дорога, два часа — и там. Не брезговай, Серега, родными, обидишь! Липовым медком угощу. Медок свой, не купленный. До смерти обидишь!
— А вы все там, в деревне, живете?
— Да что ты, отцы родные! Была деревня, а теперь в городской черте! Автобус ходит. Не жизнь пошла, а малина. Только вот купить что… — дядя Андрей хлопнул рукой по корзине. — На наше счастье, Москва под боком: ездим раз в месяц. Я к вечеру дома буду. Приедешь?
«А что, — подумал Сергей, — не съездить ли в самом деле?»
Дядя Андрей с улыбкой глядел на Сергея, ждал ответа.
И Сергей понял, что это счастливый выход: друг его вернется из командировки через три дня, эти три дня Сергей проживет в Александрове у родных, вспомнит старое, побродит вокруг бывшей слободы, отдохнет в лесу. Кстати, бабушка просила привезти целебной травы зверобоя. В Москве зверобоя не нарвешь…
— Ладно, Андрей Васильич, — сказал Сергей, — вот только гостинцев наберу…
— А-а, чего там, отцы родные! Ну там по малости, если что… конфетишек Юльке купи.
— Юльке? — переспросил Сергей.
— Ну да, младшенькой, приемной. Она у меня невеста. Осенью замуж выдаю. Приезжал бы на свадьбу, Серега!
«Как время-то летит! — думал Сергей, сидя в вагоне александровской электрички. — Юлька, та самая Юлька, шесть лет было, а вот уже и невеста!»
2
«Лосиноостровская, Мытищи, Пушкино, далее со всеми остановками». Электричка тронулась, промелькнули первые подмосковные платформы, появились невдалеке леса…
«Ну, вот так, Сергей Сонков, сын Сонкова Василия».
Миновав Мытищи, Сергей словно проснулся. Куда он едет? Зачем? Почему? В Александрове у него не было ни одного по-настоящему близкого человека, если не считать Юльки, которая когда-то уснула у него на руках и нечаянно обмочила рубашку и брюки. Двенадцать лет назад Юлька бегала за ним, как собачонка. Сергей в лес — и Юлька за ним, Сергей в город за квасом — и Юлька тут как тут. Беленькая, босоногая, в дырявых рейтузах ниже коленок. У нее были тоже чуть подсиненные, как две капли прозрачной воды, глаза. Старшая, неродная, сестра Лизка, часто била ее. Один раз отшлепал и Сергей. Юлька не заревела, ни одной слезинки не выкатилось из ее глаз. Она смотрела на Сергея и улыбалась. И Сергей понял: преданная девчонка не поверила, что дядечка Сережа побил ее взаправду. Сергею стало стыдно, он поднял Юльку на руки и стал целовать, как свою дочку. Вечером, перед отъездом Сергея, Юлька залезла к нему на сеновал и уснула рядышком, сказав, что она пойдет провожать его на станцию. Сергей пообещал разбудить ее, но вставать надо было рано, и он пожалел девчонку. В пятьдесят седьмом году, вскоре после окончания института, он ездил в командировку на Урал. От Москвы поезд шел через Александров, и бабушка, узнав, что в Александрове будет остановка, уговорила Сергея захватить с собой три банки алычового варенья — гостинцы родственникам. Была послана телеграмма. Встречать Сергея пришла жена Андрея Васильевича. Сергей успел только сунуть в ее руки авоську с банками да передать поклоны. С вагонной подножки, махая ей рукой, он вдруг заметил на перроне беленькую девочку лет двенадцати. Она стояла, подняв руку, рот у нее был приоткрыт, словно она хотела что-то крикнуть. «Юлька-а!..» — догадался Сергей. Юлька побежала по перрону, смешно подпрыгивая, расталкивая людей. «Здравствуй, Юлька-а!» Проводница строго сказала, чтобы Сергей прошел в вагон.
Да, Юльку он помнил хорошо и хотел снова увидеть ее. Но та, двенадцатилетняя Юлька, навечно осталась в пятьдесят седьмом году, в теперешнем шестьдесят четвертом жила на свете совсем другая Юлька; пожалуй, и Юлькой-то ее назвать нельзя было. Для Сергея она была уже Юлией, Юлей, а для кого-то — Юлечкой, невестой. Эта Юлечка наверняка Сергея и не вспоминает. Куда он, в самом деле, едет?..
«А куда же прикажете ехать? Назад в Красноград? — подавляя сомнение, усмехнулся Сергей. — Александров — это даже интересно. Александрова слобода — знаменитая когда-то резиденция Ивана Грозного, историческое место, центр опричнины, древний городок! К тому же родина матери, этого забывать нельзя».
Мать Сергея родилась в той самой деревеньке, куда теперь ходил городской автобус. До тридцать третьего года она и не слыхала о городе Краснограде. А в тридцать третьем, после воинской службы на Дальнем Востоке, заехал в деревеньку южанин Василий Сонков. По поручению своего сослуживца Андрея Князева он привез драгоценное лекарство — корень женьшеня. Корень, похожий на человечка, оставил, двоюродную же сестру Андрея, Машу Князеву, увез, не спрашивая родительского благословения. Машин отец хотел снаряжаться в погоню, но передумал. Нечаянный зятек был парнем деловым. Род плотников Сонковых в окрестностях Александрова и Карабанова хорошо знали: до переселенья на юг после гражданской войны Герасим, отец Василия, поставил в ближайших деревнях не один десяток изб; с успехом плотничал он и в городе. «Простим ему, окаянному, — сказал Машин отец жене. — Увез, чай, по доброму согласию, пусть, бесстыжая, пеняет на себя! А Сонковых я знаю: не захочет — не возьмет, а ежели взял — не бросит. Да и коммунист Васька-то, по женской части у них, бают, строго!» Поплакав, Машина мать тоже согласилась: «От судьбы не уйдешь…» Через год в солнечном Краснограде родился Сережка Сонков, на крестины приехали дед с бабкой, окончательно помирились с зятем, в сорок третьем году где-то севернее Курска Героя Советского Союза капитана Сонкова сразила фашистская пуля…
Вырвавшись из теснин почти сплошь застроенного Подмосковья, электричка мчалась сквозь леса. Софрино, Абрамцево, Хотьково — эти названия станций Сергей помнил смутно, как довоенную жизнь в Краснограде. Сладкая тревога чуть-чуть волновала Сергея. Полузабытые названия остановок (в детстве он часто ездил на лето к деду и бабке) вызывали воспоминания, которых Сергей давным-давно не касался. Туманные воспоминания эти плыли, как деревеньки, овраги и осыпанные цветами косогоры за окном, и исчезали, забывались, чтобы уступить место новым. Странно, почему люди могут спокойно жить, забывая счастливые годы, не возвращаясь в прошлое? Сейчас Сергею это казалось противоестественным. Какое богатство оставляет человек на дороге! Умные люди, наверное, возвращаются, с наслаждением пользуются им. У Сергея оно лежало все еще не растраченным. Первый раз он вспомнил в эту минуту, как ездил с дедом по грибы на станцию Арсаки, как в лесу сделалось черно от наплывшей грозовой тучи, как по стволам берез хлестала ручьями вода. Черт возьми, жизнь, оказывается, можно продлить, возвращаясь в любой день дважды и трижды! Это может сделать каждый без подготовки и даже без особого воображения: на помощь приходит память, обнажая то один, то другой сокровенный денек прошлого. Жизнь складывается из открытий, но открывать можно и в прошлом, как открыл сейчас Сергей дремучий черный лес, молнии на черном небе и поток воды, струящийся по белому стволу березы.
Осталось позади Бужаниново. А вот и Арсаки — грибная станция, маленькое чудо мирного и светлого, как солнечное утро, Сережкиного детства. Вот станционный домик, вот тропа, ускользающая в лес…
Не по этой ли тропе он когда-то шагал с маленьким лукошком на боку? У деда в руках была можжевеловая палка, он раздвигал ею кусты, ворошил засохшие листья и говорил Сережке: «Разве же я грибы ищу? Это моя палка ищет». Да, ведь было все это, было!..
3
Промелькнуло за окном Струнино. Пассажиры стали снимать с полок сетки с белыми московскими батонами и сумки с колбасой. Снял свой чемодан и сетку с гостинцами и Сергей. Поезд остановился, пробежав по расписанию два часа четырнадцать минут. Открылись автоматические двери. Радостный, просветленный, Сергей вышел на жаркий от солнца александровский перрон.
«Садись на второй номер и, как слезешь за монастырем, налево…»
Дорогу от монастыря до дома Князевых Сергей помнил. Дядя Андрей напрасно растолковывал, каким проулком ему пройти. Но вот был ли в пятьдесят втором на привокзальной площади сквер, Сергей сказать не мог. Привокзальную площадь он не узнал. Может быть, изменений было мало, но сразу после войны в Александрове бегал, кажется, один кургузый автобус, а сейчас только возле вокзала стояло шесть длинных, почти новых, машин.
Двенадцать лет назад и еще раньше, в детстве, Сергей редко ходил дальше кинотеатра и городского парка, который все называли тогда сквером. Помнится, дорога была неблизкой. Теперь нее расстояния резко сократились. Кинотеатр и парк были рядом с монастырем: под горку к речке и в гору. Монастырь словно съежился, усох, и только стены его по-прежнему казались высокими, и они действительно были высоки, то тут, то там светились узкие щели бойниц. Александрова слобода была когда-то грозной крепостью. При Иване IV стекались сюда опричники, свозили на эту гору со всей Руси невест для царя. Теперь в палатах, где Грозный принимал иностранных послов, был городской краеведческий музей. В кельях женского монастыря жили рабочие и служащие. Сергей помнил, что в монастыре росли большие березы, липы и тополя, в августе в ветреный день шумно было от галочьего крика…
Сразу за монастырем раньше был пустырь. Теперь Сергей тоже не узнавал этого места: все было застроено. Невдалеке стояло большое белое здание, по всей вероятности, школа. И слева и справа появились новые улицы. Не видно было ни синего леса, ни деревеньки, где жили Князевы. Выйдя из автобуса, Сергей остановился. Как лучше пройти? И пройдешь ли еще, свернув в ближайшую улицу?..
Озираясь вокруг, Сергей увидел приметную, рослую девушку, которая сидела в автобусе впереди него и тоже сошла на этой остановке. Теперь она стояла — точно вытянулась в струнку — шагах в десяти и присматривалась к Сергею. Ему показалось, что она хочет что-то сказать. Сергей в упор встретился с ней взглядом. У девушки приоткрылся рот, но она по-прежнему молчала, и, смущенный, Сергей отвернулся. Он чувствовал, что девушка упорно глядит на него, и снова встретился с нею взглядом. Она стояла и, как заколдованная, просто не сводила с него глаз.
«Не Лизка ли Князева?» — мелькнуло у Сергея.
Улыбаясь, он сделал к ней неуверенный шаг. Улыбка его мгновенно вызвала ответную улыбку на губах девушки.
— Простите, вы… кажется, Лиза? — выдавил Сергей.
Девушка покачала головой. В глазах ее Сергей уловил блеснувшее на миг огорчение.
— Прошу прощения, я обознался, — сказал Сергей, еще раньше сообразив, что эта красивая, явно не князевской породы, девушка не могла быть Лизкой Князевой, теперь замужней тридцатилетней женщиной. Такой она не была и двенадцать лет назад, угловатая и неуклюжая, как утка, Лизка Князева, с которой Сергей как-то нечаянно поцеловался в темном чулане, а потом стеснялся сказать, что она не нравится ему; она писала ему смешные любовные письма. Где она сейчас? Давно ли замужем?
Сергей хотел идти, но что-то удержало его. Сероглазая девушка в сарафане с глубоким вырезом до удивления упорно не спускала с него глаз. И улыбка все еще светилась на ее губах. Сергею стало совсем неловко. Он понял, что девушка тоже обозналась, но еще не догадывается об этом.
— Боже мой, неужели вы меня не узнаете?! — тихо воскликнула она.
Теперь Сергей покачал головой: он ее не узнавал, вернее, он никогда раньше с ней не встречался.
— Да я же Юлька! — обиженно, с вызовом сказала девушка.
«Не может быть!» — подумал Сергей и еще раз покачал головой.
— Сережа, да узнай же меня! — взмолилась она.
«Нет, — по-прежнему качал он головой. — Вы меня обманываете. У Юльки были синие глаза».
Глаза у этой девушки были серыми. Чудесные серые, с чуть заметной синевой, глаза. С синевой… Сергей вгляделся в красивое лицо и замер: «Неужели Юлька?»
— Юлька, — прошептал он. — Юлечка?..
Юлька, словно оттолкнулась, взлетела и повисла у Сергея на плечах. Он выронил чемодан и сетку-авоську, обнял девушку.
Юлька плакала. Сергей чувствовал на щеке ее слезы.
— А я-то, как села в автобус, все оглядываюсь, оглядываюсь!..
Да, кажется, она оглядывалась, но Сергей безотрывно глядел в окно — искал знакомые дома, знакомых людей. Черт возьми, он ведь Юльку вот эту самую искал среди прохожих! А она ехала рядом.
— А ты никакого внимания! Да что же это такое?
— Но как же ты меня узнала?
— А я тебя и не забывала. В пятьдесят седьмом — помнишь, тогда? — ты был таким же.
— Вот странная история! — сказал Сергей и поцеловал Юльку.
— Юлька-а! — раздался визгливый голос. Кричала женщина из очереди возле водоразборной колонки. — Я вот скажу Вальке… Постеснялась бы!
Юлька даже не обернулась, а Сергей отрезвел. Он спросил:
— Замуж выходишь, Юлька?
— Кто тебе сказал?
— А я в Москве Андрея Васильевича встретил.
— Пусть он и выходит замуж, твой Андрей Васильевич! А я не спешу.
— Ну и изменилась ты, просто красавицей стала, — смущенно сказал Сергей.
Вся очередь у колонки — женщин пятнадцать смотрели на них, даже воду качать перестали.
— Правда?
— Ну, конечно, что ты… Ничего в тебе прежнего нет, даже глаза стали серыми. Кто тебя так перекрасил? Волшебник какой-то!
— Ты бабку мою по родному отцу не видел, я вся в нее, — сияя влажными («Две капельки прозрачной воды!») глазами, проговорила Юлька. — А глаза у меня бывают разные, то синие, то серые, это уже все заметили. — Она лукаво засмеялась и спросила, снизив голос до шепота: — Хочешь, я сделаю тебе их синими?
— Не надо, Юлька, и серые хороши. Пойдем, пожалуй. Тут так застроили все это место!
— И не узнать теперь, да? — Юлька схватила сетку. — Ты письмо мое получил, Сережа?
— Письмо? Какое письмо? Когда ты его послала?
— Дня три.
— Нет, Юлька, не получал я твоего письма, не успел. А что?..
«Ладно, потом, — Юлька махнула рукой: дескать, несущественное это. — Я совета у тебя просила. Но это потом, потом. — Но, должно быть, письмо было серьезным, она не выдержала и добавила: — Я хотела к тебе ехать. Вот сейчас расписание на вокзале узнавала. Я ведь и на заводе рассчиталась уже, только батька не знает, думает, что в отпуск пошла.
«А я ведь тоже рассчитался в Краснограде, Юлька», — чуть было не сказал Сергей.
— А ты приехал, словно чувствовал, — продолжала Юлька. — Так должно и быть. Я так и знала.
Сергей встревоженно и удивленно посмотрел на нее.
— Что у тебя случилось, Юлька?
— У меня? Да ничего, ничего особенного. Это потом. А ты тоже: «Лиза, Лиза!» — Юлька укоризненно покачала головой. — Твоя любимая Лиза теперь как клуша: у нее четверо ребят.
— Прости, Юлечка… Я тебе конфет привез.
— Конфет? — Юлька опять пожала плечами. — Ирисок в обертках? Как тогда? И куклу не позабыл?
— Нет, куклу не привез, Юлечка. И ирисок тоже. На этот раз трюфелей…
— Большое спасибо, Сергей Васильевич! — насмешливо сказала Юлька и пошла вперед, размахивая сеткой с гостинцами.
«Не притворяйся, — подумал Сергей. — Ведь любишь конфеты, Юлька! Любишь, не притворяйся!»
Все неприятности последних нескольких дней сейчас казались Сергею несущественными. Они отдалились и стерлись. Сергей жил другой жизнью — одновременно в прошлом, когда Юлька бегала за ним в своих дырявых рейтузиках, и в настоящем, когда та же (та же, да не та же!) Юлька шла впереди, вела его за собой. Сергей думал, как мила его александровская сестренка, отчего-то волновался и чувствовал себя совсем счастливым.
4
Лизка Князева вышла замуж и давно уже переехала в Струнино. В большом пятистенном доме, поставленном перед самой войной и недавно подремонтированном, Князевы жили теперь втроем: Андрей Васильевич, Авдотья Емельяновна, его жена, и Юлька, ее дочка от первого мужа, которую Андрей Васильевич удочерил сразу же после женитьбы. За просторным домом был сад: пятнадцать яблонь, малина, смородина, крыжовник; в саду, на обрыве к речке Серой, пасека, три десятка избушек на курьих ножках.
Хозяйство дяди Андрея было размашистым, прочным, и Сергей сказал Юльке, которая водила его по саду:
— Богато живет Андрей Васильич, А раньше-то все жаловался…
— Он и сейчас, когда выгодно, жалуется, только не производит это впечатления. Нас в глаза помещиками, тунеядцами зовут! — запальчиво проговорила Юлька.
— В самом деле?
— Правда. И поделом! Ведь одна я работаю, да и то еще года нет. Отец и мамка моя — самые знаменитые люди на городском базаре. Князевы! Торгаши!
— Может, ты преувеличиваешь по молодости, Юлька?
— По молодости… — нахмурилась Юлька. — Ничего я не преувеличиваю. У батьки одна страсть: деньги копить. Притворяется инвалидом… Плохо все это! Стыдно!
— Вот замуж выйдешь — уйдешь…
— Да не пойду я замуж, враки это! — Юлька прижалась щекой к плечу Сергея. — Я тебе серьезно говорю…
— Но почему?
— Тебя увидела — и расхотелось, — тихонько засмеялась Юлька.
— Дурочка, — Сергей ласково погладил девушку по голове.
— Ну что ты! — смущенно сказала Юлька и опять нахмурилась. — Как маленькую!.. Пойдем, мамка обед приготовила. — Она быстро побежала мимо яблонь к дому.
«Сестренка», — провожая ее взглядом, с нежностью подумал Сергей. Двенадцать лет назад он впервые так назвал Юльку. Юльку, а не Лизку. Лизка возмущалась: «Она же тебе совсем не родная!» Лизка, конечно, имела больше прав, только родной-то Сергею хотелось называть Юльку…
«Это здорово, что я приехал!» — подумал Сергей.
— Ну как, поглядели, Сергей Васильевич? — спросила его Авдотья Емельяновна, когда он вошел со двора в кухню.
— Поглядел, Авдотья Емельяновна. Богато живете.
— Живем, как можем, ничего, — не без хвастовства заговорила Авдотья Емельяновна, собирая на стол. — Пчелишки, кабанчик, коза, коровенку содержали. Ну и курчишки, собачонка, кошонка бегают. С утра и до вечера по хозяйству: того накорми, ту подои. Хлопотно, зато сытно. Юлька вон: «Кулаки, помещики, стяжатели!» А как иначе? Не пожнешь — не поешь.
Юлька иронически фыркала в соседней комнате. Сергей молча сидел за обеденным столом в кухне, смотрел, как Авдотья Емельяновна ухватом вынимает из печи чугун со щами. На столе уже стояла тарелка с копченой колбасой и красной рыбой, ало пламенел на солнце мед в литровой банке. Сергей слушал и не слушал Авдотью Емельяновну: он думал о Юльке. «Я ведь и на заводе рассчиталась уже». Сергей только сейчас по-серьезному вдумался в эти слова. Почему рассчиталась? Зачем собиралась ехать в Красноград? Наверняка что-то неладно у нее.
— …а вот замуж выйдешь, поймешь: в хозяйстве и лишний гвоздь — сбереженная копейка, — снова донесся до слуха голос Авдотьи Емельяновны. — Ничего! Лизка вон тоже поначалу морщилась, а теперь, гляди, как добро с мужем наживают! Правильно я говорю, Сергей Васильич?
— А? Что такое, Авдотья Емельяновна?
— Умаялся, родимый мой! — всплеснула руками хозяйка. — Ну-ка вот щец похлебай. Мясные щи, наваристые, как чувствовала, что ты, гостек дорогой, приедешь!
Авдотья Емельяновна, кажется, и не постарела, только будто оплыла внизу: ноги, перевитые синими жилами, как тумбы, зад распирает, юбку — таких женщин называют бабищами. Но если бы встала за забор высотой в полроста человека, никто не поверил бы, что так несуразна у нее нижняя часть тела: лицо по-прежнему молодое, глаза чистые, тоже, как у Князевых, с синевой, седины нет и в помине, плечи по-девичьи узкие, грудь маленькая.
Если глядеть сверху, до пояса, Юлька похожа на мать. Да, Юлька, Юлька!.. Она обедать не села: ела в полдень, «заботится о талии». Это сказала Авдотья Емельяновна. Ну что ж, теперешних девушек волнует это — талия, а Юльке-то уж полнота совсем не к лицу.
Сергей машинально водил ложкой в тарелке, улыбался. Вот и вторглась в его жизнь новая человеческая судьба, и судьба близкая, родная!
— Да ты не мешай, щи-то не горячие, — сказала Авдотья Емельяновна.
— А не выпить ли нам по рюмке? — спросил Сергей, доставая с подоконника бутылку муската. Он вынул из кармана нож и выдвинул штопор. — Вино хорошее, крымское. Юля, ты не выпьешь вина?
— Ах, вина! — сказала Юлька, мгновенно появляясь в кухне. — Я как ты, Сережа.
— Охочая какая! — неодобрительно отозвалась Авдотья Емельяновна и неуверенно посоветовала: — До вечера, до вечера бы подождали. Отец приедет, тоже бутылку привезет. Вальку, может, позовем.
— А Вальку зачем? — удивленно спросила Юлька.
— Дак чтоб Сергей Васильич поглядел.
— Это совсем ни к чему!
— Отец настоит, Юлюшка. Ты не сердила бы отца-то раньше времени.
У Юльки озорно засветились глаза.
— Хочешь посмотреть моего женишка, Сережа?
— Да хотелось бы, Юлечка.
— Ладно. Только звать его не надо. Он сам придет. Он водку за версту чует. Да вон он идет! Идет, мой голубчик! — Юлька недобро засмеялась. — Что я говорила? Учуял, учувствовал!
— Легок на помине! — Авдотья Емельяновна как будто не обрадовалась, но побежала к двери встречать. — А-а, Валентин Иваныч! Заходите, заходите, пожалуйста! Ничего. У нас гости, Сергей Васильич, нашей Машутки Князевой родной сынок!
Юлька вздохнула, печально посмотрела на Сергея, встала и ушла в соседнюю комнату.
— Извиняюсь! — громко, по-хозяйски сказал на пороге широкоплечий парень в выгоревшей майке и штанах с пузырями на коленях. — Не помешал? Я прямо с предприятия. Еще раз извиняюсь, не переоделся.
— Ничего, в самый раз, в самый раз к обеду поспели, ничего, присаживайтесь! — Авдотья Емельяновна вытерла фартуком табуретку.
— А раз так, примите и мою подружку, — Валька вытащил из кармана пол-литра водки и поставил на стол рядом с бутылкой массандровского муската. — «Здравствуйте! Разрешите быть знакомым: Валентин Иванович, технический работник. — Он протянул руку через стол. Ладонь была широкой и мясистой. Сергей крепко сжал ее. Валька невольно поморщился, красный нос его стал шире, ноздри раздулись. Сергей хотел извиниться, но Валька, сделав вид, что ничего не произошло, приветливо продолжал: — Значит, с юга, из жарких стран, пустыней Дагестана? Хорошие, говорят, там… как их… арбузы!
Валька был плешив. Довольное и добродушное лицо его лоснилось от пота. Он беззастенчиво разглядывал и, кажется, оценивал Сергея, даже заглянул под стол: наверное, любопытно было, какие у гостя ботинки. Наконец осмотр был закончен, последовал вопрос:
— И надолго к нам?
— Да нет, — ответил Сергей, — дня на три.
— Чего же торопиться? Погостили бы, погостили. Все дела не переделаешь: вчерашние-то на завтрева остаются, а потом пропадают, как и не было.
— Как и не было, как и не было… — поддакнула Авдотья Емельяновна.
— Извиняюсь, по какой линии работаете, Сергей Васильевич? — продолжал Валька.
— Я инженер, — неохотно отозвался Сергей.
— Смежные, значит, у нас профессии, близкий профиль, очень рад, — сердечно улыбнулся Валька. — Ну так что же, выпьем? Под такую закуску грех не выпить. Рыбку-то почем брал? — Валька зубами сорвал с бутылки металлическую головку, уверенно разлил водку в стопки, подставленные услужливой Авдотьей Емельяновной. — Юлька-а-а! — крикнул он. — Ты что там прячешься? Вылазь.
— Да ничего, она пообедала, Валентин Иваныч.
— Ну так что? Ей поправляться надо, пусть мясо нарастает. Выйдет замуж, два раза обедать заставлю, я тощих не люблю, — Валька подмигнул Сергею. — Ну, дай бог, не последнюю!
— Простите, — остановил его Сергей. — Если вы не против, я налью себе муската.
— Интеллигентское винишко? Ну, дело вкуса. Мы, например, по-рабочему, белое с устатку потребляем. Белое, оно здоровее, энергии в нем больше.
— Больше, Валентин Иваныч, больше…
Сергею вдруг стало весело. Он вонзил штопор в пробку, потянул. Вылезая из горлышка, пробка туго чмокнула.
— Юлечка! — позвал Сергей. — Ты же хотела выпить. Вино разлито.
И Юлька тотчас же появилась в проеме двери, подошла и села рядом с Сергеем.
— С тобой выпью, Сережа! — подняв стопку, она подержала ее в воздухе и не торопясь выпила, как показалось Сергею, с наслаждением.
— Вот это я люблю! — воскликнул Валька. — Люблю в Юльке уважение к родным, даже дальним. Со мной можешь когда и не пить, но с го-остем!.. С ним и поцеловаться не грех даже при стечении народа. Это я в ней уважаю, — и он осторожно притронулся своей рюмкой к рюмке Сергея.
— Доносчики работают, — сказала Юлька и засмеялась.
— Ну, Юля, зачем же так? — ухмыльнулся Валька. — Ты же у меня не набедишь, я тебя знаю.
— Спасибо, Валя, за доверие.
Валька выпил водку, крякнул, прищурил один глаз. Поднял вилку и клюнул ею в ломоть севрюжины. Съел кусок и облизал пальцы.
— Хороша закусочка! — похвалил он. — У нас в Александрове не бывает, не доходит до массового потребителя. Где добывают-то? Под небом Дагестана? В тех, я полагаю, краях?
— Спасибо, Сережа! — сказала Юлька. — У меня дела. — Она встала и вышла.
— Хороша девка, а? — подмигнув Сергею, проговорил Валька. — В Александрове таких раз-два — и обчелся. А как меня любит, у-у! Только вида не показывает. Я ее как миленькую раскусил.
— Да? — проронил Сергей.
— Как пить дать! Я ее берегу. Полагаю, такая уж у нее натура. А я, по правде сказать, это люблю. Мне это интересно. Повожжаться, поухаживать. А что? Нежные чувства мы тоже понимаем, не только нажать, но и уступить девушке можем. Нам это не к спеху! — он засмеялся. Зубы у него были белые, крепкие. — А что? Правду я говорю, Авдотья Емельяновна? Я хочу как лучше, по-честному. Под руку свою Юльку свожу в парк и приведу в целости и сохранности. Так я говорю, Авдотья Емельяновна?
— Да ничего, мы на вас, Валентин Иваныч, надеемся, — неуверенно подала голос хозяйка. Пить и есть она не стала и сидела молча, время от времени поддакивая. — Отец-то уж вот как вас уважает!
— А что, мы с ним находим общий язык! Семья у вас, я полагаю, хорошая, деловая, у меня родня тоже крепкая, отец — пенсионер, брат — начальник цеха, сестра — ткачиха. Рабочая династия — основа основ, фундамент. Я с Юлькой припеваючи буду жить!
Валька уже выпил две стопки и наливал третью. Широкий нос его стал ярко-розовым, вспотел, разбух.
— Вернее, припиваючи вы будете жить, — с усмешкой заметил Сергей. — При-пи-ваючи.
Вальке это понравилось. Он захохотал. Тихонько засмеялась и Авдотья Емельяновна.
— Молодец! — Валька хлопнул Сергея по плечу. — По-нашему жизнь понимаешь, по-нашему! Я полагаю, мы найдем общий язык. Выпей водочки. Со знакомством!
— Нет, — сказал Сергей, — я выйду.
— Головокружение? Ну, освежись, освежись. Авдотья Емельяновна! За родственные связи! За нашу будущую жизнь!
Сергей вышел на крыльцо. Вслед за ним выскользнула и Юлька.
— Ну, как женишок? — тихо спросила она.
— Что, Андрей Васильич заставляет?..
— Он неволит, — вздохнула Юлька.
— Понимаю…
— Иде-ет! — выдавила Юлька.
К калитке подходил согнувшийся под тяжестью рюкзака, улыбающийся дядя Андрей.
— Отцы родные, Серега, а я думал, ты пообещал только!..
5
Было десять часов вечера, а на улице еще не стемнело. Сергей лежал на сеновале затылком на ладонях и видел в распахнутую дверцу розовый, с отблеском зари, купол монастырской церкви. От запаха свежего сена у Сергея кружилась голова. Он дышал и не мог надышаться. Но такое уже было в жизни Сергея, он опять возвращался в прошлое. Восемнадцатилетним парнем он вот так же лежал на этом сеновале, и тоже так пахло сено, и купол церкви был таким же розовым.
«Боже мой, ведь ничего не проходит, ничего не исчезает на земле! — подумал Сергей. — Не исчезает плохое, вернее, исчезает, да медленно, но не исчезает и прекрасное! Оно вечно, и поэтому так хороша человеческая жизнь, и даже не очень обидно, что она так коротка!»
Восемнадцатилетним парнем Сергей не думал об этом. Тогда на уме было совсем другое, мальчишеское, глупое. Теперь прошлое возвращалось обогащенным, и все-все, даже сухая травинка возле носа, было вдвойне дороже. А еще лет через пятнадцать ценность этих медлительных, неповторимых минут опять возрастет, и, может быть, Сергей увидит и поймет тогда самое главное и заветное…
«Самое главное и заветное, — подумал Сергей. — Как его постичь, как опознать?»
В последнем письме с фронта отец писал ему: «Ходи прямо, Сергей! Главное в жизни — ходить прямо, во весь рост! Человек не так давно встал на ноги, его сгибает к земле. Иные люди до сих пор бегают на четвереньках, только не всем это бросается в глаза. Всегда ходить прямо не так легко, Сергей, вот почему надо всегда, каждый день, стремиться ходить прямо!»
В этом, может, самое главное и заветное?
И в этом, конечно. Но и в Юлькином смехе, и в розовом отблеске зари на церковном куполе, и в травинке возле лица — тоже, тоже и тоже.
«В принципе я поступил правильно и честно, не согнулся, — подумал Сергей. — По-другому не мог. И надо считать себя до конца правым, хотя справедливость и не восторжествовала».
Да, проект, который отказался подписать Сергей, вероятно, все-таки утвердят, головной образец машины будет изготовлен. Главный инженер, автор проекта, своего добился. Но настоял на своем и Сергей Сонков. Он сказал: «Категорически возражаю ставить свою подпись под конструкцией машины, которая морально устарела еще в чертежах, отказываюсь даже под угрозой увольнения с работы». Директор института после изнурительных переговоров раздраженно предложил: «Подавайте заявление». Сергей через десять минут принес ему заявление, и директор сразу же подписал. Сергей уволился, не сказав об этом даже матери. В тот же день ему позвонил знакомый, директор крупного периферийного завода: «Хоть сейчас напишу приказ о зачислении в штат! Через месяц будет квартира». Но Сергей решил сначала попытать удачи в Москве. Приятель, заместитель директора одного из столичных научно-исследовательских институтов, год назад предлагал работу, обещал устроить перевод. Сергей сказал матери, что получил отпуск…
Конечно, Сергей мог сманеврировать. Главный инженер согласился бы на незначительную доработку.
«Что правда, то правда, — подвел итог Сергей, — на четвереньках бегать лучше».
Ему не хотелось больше думать ни о проекте, который наверняка утвердят, ни о директоре, который, конечно, ценил Сергея. От этих воспоминаний ему стало неловко, словно он в чем-то был виноват. Странное это чувство Сергей испытал еще в вагоне. Тогда тоже в глаза лезли — другого слова и не подберешь — строки последнего письма отца. Но разве он изменил убеждениям, нарушил отцовское завещание? Разве он хоть на минуту стал на четвереньки? Он категорически отказался подписывать проект, доказывал директору, что машина — дрянь, боролся. И в конце концов подал заявление об уходе, иного выхода не было. Правда, инструктор обкома советовал сходить к секретарю обкома и поделиться с ним своими сомнениями. Но у Сергея уже лежал в кармане билет на московский поезд. Он ответил инструктору, что речь идет не о сомнениях. Он сказал, что убежден в своей правоте, и ушел. Да, он был обижен. Это естественно. Он знает себе цену. Недаром слух, что он уволился, разнесся в тот же день. Директор завода, который звонил Сергею, сказал, что понимает мотивы его решения. В общем, Сергей поступил правильно. Наверное, и через пятнадцать лет, возвращаясь в прошлое, он согласится с этим.
И все-таки, как ни уговаривал себя Сергей, странная неловкость не проходила. Он подумал, что, наверное, немножко шалят нервы, и решил не обращать на это внимания. Лучше смотреть на купола, лучше думать о чем-нибудь хорошем, приятном…
Розовый свет на куполах начал темнеть, гаснуть. Но запах сена стал еще вкуснее, ярче. Вот именно, он стал ярче. Сергей улавливал то один, то другой. Сено пахло то земляникой, то укропом, то вдруг лопнувшим зеленым арбузом. И еще — чуть слышно — молодой, свежей, опрятной женщиной…
«Какое же это наслаждение — вот так лежать живому, здоровому человеку! — подумал Сергей. — Лежать, не думать об огорчениях, следить, как гаснет закат…»
Только тут Сергей заметил, что на сеновале очень быстро потемнело и на улице ничего не стало видно. Но узкий проем дверцы Сергей различал. Проем и силуэт головы с пушистыми волосами.
— Се-ре-жа? — раздался громкий шепот. — Ты не спишь?
Юлька! Это Юлька заслонила собой почти все небо и монастырские купола. Она стояла на лестнице и вглядывалась в ароматную темноту сеновала. И Сергей тотчас же вспомнил, как она в пятьдесят втором тоже карабкалась по лестнице и, постанывая от страха, копошилась в сене, ползла к нему и прижималась сбоку, как котенок. И отказывалась спуститься вниз до самого утра. Как будто вчера это было!
— Ты не спишь, Сережа? — повторила Юлька.
— Не сплю. Ты что?..
— Скучно. Валька с отцом все пьют. Ты бы послушал их разговор, настоящий сатирический спектакль!
— Да, как говорится, элемент сатиры есть…
Часа два назад дядя Андрей пытался уговорить Сергея снова сесть за стол, «выпить стаканчик белого винца со встречей». Но Сергей отказался: он уже выпил и поел, в общем, сыт по горло. Хотя посидеть ему хотелось. Посидеть, полюбоваться Юлькой. А это могло обидеть дядю Андрея, который уже привык считать Вальку будущим зятем…
— К тебе можно?.. — спросила Юлька.
Этого Сергей не ожидал. Он не думал, что Юлька, как и двенадцать лет назад, влезет на сеновал и попросится к нему. Правда, тогда разрешения она не спрашивала. А теперь… Шутит, что ли? Сергей растерялся.
— Ну можно? — повторила Юлька. — Ты что молчишь, как проблему решаешь?
— Но, Юлька…
— Да я посижу и слезу.
— Давай лучше я слезу, Юлька.
— Да ну тебя! — рассердилась она, и захрустело, подымая волны новых запахов, сено. — Ты где? Ну подай голос. — Юлькина рука дотронулась до плеча Сергея. — А-а, вот ты!
Сергей сел, обхватив руками колени. Юлька легла на спину и счастливо вздохнула. На сеновале снова посветлело. Только уже не видно было ни розовых куполов, ни неба.
— А если Валька твой искать начнет? — спросил Сергей.
— Ну и пусть! Скажешь, что меня тут нет.
— Ах, Юлька, нескладно ты живешь, по-моему!
— Ты можешь тоже лечь, лежи, — ласково разрешила Юлька. — Ты помнишь?
— Помню, конечно, — улыбнулся Сергей.
И Юлька тоже улыбнулась, хотя Сергей и не видел ее улыбки. Он осторожно прилег, опираясь на локоть. Юлька прижалась к его руке плечом.
— Я тогда ревела целый день.
— Но ты так сладко спала…
— Все равно, нельзя было обманывать.
— Пожалуй, ты права.
— Я о тебе часто думала.
— Часто?
— Почти каждый день. Правда.
— Почему, Юлька?
Сергей ждал ответа. Ему хотелось знать, что она скажет. Но Юлька не отвечала.
— Ты что молчишь?
— Я не молчу, — сказала Юлька. — Я хотела спросить… Что ты думал, тогда, на перроне?
— Я думал, что так мало стоит поезд.
— Я тоже. И все?
— Нет, — Сергей уже забыл, что он тогда думал. Лгать ему было стыдно. Но Юлька даже перестала дышать, ожидая, что он скажет, и Сергей ответил: — Я думал о тебе. Как тогда не разбудил тебя… Какая ты стала большая… Я ехал на Урал и думал о тебе, Юлечка.
— А потом?..
— А потом?.. Ну, потом разные дела… — смущенно сказал Сергей.
— И больше никогда не вспоминал?
— Ну что ты, вспоминал!..
— Нет, ты не вспоминал, — уверенно и грустно сказала Юлька. — Но я не обижаюсь. Я понимаю. Правда. Вот ты спросил меня: почему?.. А как я тебе могу ответить? Я просто не знаю, как тебе ответить… Вот, например… ты помнишь, как читал мне сказки?
— Хорошо помню, — встрепенулся Сергей. — Я читал тебе, Юлька, сказку «Про гордого Мальчиша-Кибальчиша, про измену, про твердое слово и про неразгаданную Военную тайну». Как сейчас помню. «В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был Мальчиш-Кибальчиш».
— «В ту пору, — подхватила Юлька, — далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов, и тихо стало на широких полях, где рожь росла, где гречиха цвела». Эту сказку я буду читать своим детям! — Юлька вздохнула, и Сергей понял, что ей хорошо и счастливо сейчас. — Но ты читал мне и другие сказки.
— Нет, я читал тебе повести Гайдара. А мне читал их мой отец.
— Для меня они тогда были сказками, — продолжала Юлька. — Вот и ты не забыл этого. А я запомнила на всю жизнь. И тогда, на перроне, я все запомнила: и твое лицо, и как ты кричал, и как та проводница схватила тебя за руку… Нет, не буду я больше говорить! Сама не знаю, — почти вызывающе заключила она, но еще не замолчала. — Хотелось думать… А как увидела тебя сегодня на вокзале… — Смущенная признанием, она отодвинулась от Сергея и прошептала: — Я приветы тебе всегда передавала.
— А я забывал…
— Не забывал. Ты тоже всегда передавал.
«Значит, мать», — догадался Сергей.
— Но передавать приветы и думать — это не одно и то же.
— Почему же ты мне ни одного письма не написала? — невольно краснея, спросил Сергей.
— Сначала, когда я в школе училась, стеснялась, я потом все не решалась. Конечно, нескладно живу. Согласие на свадьбу дала…
— Это шутка, конечно! — Сергей приподнялся.
— Сказала отцу, что согласна выйти замуж. За Вальку. Подожди, не волнуйся! Ну, ты понимаешь, что человека может довести до такого состояния… Да и не в том дело. Я нарочно… Ну, из озорства, что ли, дала обещание. Чтобы не приставали! А дед и Валька приняли всерьез. И смешно и страшно! Дурни, не понимают: никакой свадьбы не будет! Я к тебе хотела поехать! Ну, ложись, мне поговорить с тобой надо. Сережа, скажи честно, ты поможешь мне?
— Ясное дело, помогу, — ответил Сергей. — Только ведь нельзя так, Юлька. Валька уверен, надеется… да и отец…
— А им наука будет! Пусть не думают, что главное в жизни — деньги. Торгаши они!
— Но все-таки…
— Давай честно, Сережа… если бы я к тебе приехала?.. Может… может, твоей жене это не понравилось бы?..
— Тебе моя мать ничего не писала? — спросил Сергей.
— Ни-че-го, — выдохнула Юлька.
— У меня нет жены, Юлька.
— Ты с женой разошелся?
— Это она разошлась.
— Ты ее любил?
— Любил, Юлька.
— Что же она…
— Она думала… главное в жизни — деньги. После окончания института я мало зарабатывал.
— Ну, не жалей о ней, жалеть не надо!
— Да сейчас-то я уже не жалею. Пять лет прошло. Года два я ее еще любил, а потом как-то привык к холостяцкой жизни. Ну, тебе, наверное, это еще не очень понятно.
— Очень понятно! — сказала Юлька, — Что ты, я все понимаю… У тебя есть какая-нибудь близкая женщина?
— Ну, Юлька, что ты!..
Юлька помолчала, а потом тихо, но очень серьезно заговорила:
— Не считай, пожалуйста, меня девчонкой. Обо мне ты теперь все знаешь. Я не утаила ни капельки. Но я хочу знать: могу ли я приехать в Красноград? Я не перестану любить тебя (она произнесла слово «любить» так спокойно, просто и естественно, что Сергей, не задумываясь, принял его и перевел: «Не перестану уважать тебя»), если ты откажешь мне.
Неделю назад Сергей сразу бы ответил Юльке. Но как он мог обещать сейчас?..
— Я был бы рад, Юлечка, — умоляюще сказал Сергей, страшась, что она его не поймет, — но позволь мне ответить на твою просьбу попозже. Понимаешь, сложились такие обстоятельства…
— Ладно, я подожду, Сережа, — тихо ответила Юлька.
— Ты не обижайся, я не оставлю тебя в беде, ни за что не оставлю! — сказал Сергей и с нежностью обнял Юльку, поцеловал ее в щеку. — А теперь тебе надо уходить.
— Ну вот еще! Я утречком слезу.
— Нельзя, Юлька.
— Можно, — решительно сказала она. — Ты спи, если тебе хочется спать, спи, а я тоже усну, когда захочу. Пусть тебе приснится хороший сон. Спи, ты устал с дороги.
— Что подумают отец с матерью?
— А пусть что хотят!
Сергей понял, что возражать бесполезно.
Юлька уснула раньше Сергея. Он осторожно подлез к двери и слез вниз, во двор. Шел, пожалуй, первый час ночи. В доме было уже темно и тихо. И вокруг не слышно было ни шороха, не видно ни огонька, блестели одни звезды. Невдалеке с трудом угадывались смутно проступающие мрачные и громадные ночью строения бывшей Александровой слободы. Сергей несколько минут пристально вглядывался в них, и у него мелькнуло, что когда-нибудь, может, лет четыреста назад, глядел с тоской и страхом на очертания царской крепости какой-нибудь темный холоп, дальний предок инженера Сергея Сонкова. О чем, он думал, на что надеялся? Какие видел сны?.. Перебивая мысль Сергея, сонно, зарычала собака. Сергей ласково окликнул ее, и она утихла. Сергей сел на крылечко. Теперь бы закурить! Он пожалел, что не курит.
«Да, вот так, Сергей Сонков, жизнь прожить — действительно не поле перейти».
Юлька собиралась ехать к нему… А если бы она приехала неделю назад? Например в тот день, когда он подал заявление… Так, может, напрасно она не поторопилась? Нет, чушь это. Сергей отогнал неудобную мысль. Отогнать бы еще мысли о всех красноградских делах. Забыть, вычеркнуть из жизни разговор с директором. Сергей тяжело усмехнулся. Легко сказать — забыть, вычеркнуть… Нет, от этого не отмахнешься!
«И Юлька, Юлька», — подумал он. Еще за столом, до появления Вальки, он смутно почувствовал что-то новое, на миг защемило сердце от предчувствия какого-то поворота в жизни. Теперь это ощущение стало определеннее, яснее.
«Нет худа без добра, — улыбнулся Сергей, вспомнив любимые слова бабушки. — Не так уж все печально, и нечего расстраиваться. И вообще утро вечера мудренее».
Сергей поднялся с крылечка. Собака снова зарычала.
— Ну, что, что, пес? Не бойся, это я, я, свой…
Но собака вскочила, гремя цепью, и зарычала громче. Она рычала зло, непримиримо, явно не соглашаясь с Сергеем.
Из сада, от речного обрыва, тянуло холодом. Сергей зябко поежился. Делать было нечего, и он опять полез на сеновал. Юлька тихонько посапывала на старой шинели. Сергей прилег с краешку и, чувствуя совсем рядом тепло молодого Юлькиного тела, медленно уснул.
6
Стрельцы в шлемах стояли на горе и из-под руки глядели вниз, где змеилась, уходя к лесу, санная дорога. Позади стрельцов, как пешее войско, сплошной стеной застыла толпа: бородатые мужики в полушубках и армяках, бабы в шалях и ребятишки в шапках, похожих на шутовские колпаки. Время от времени толпа подавалась вперед, и тогда стрельцы, скрестив бердыши, кричали: «Куда прешь? Осади назад!» От полушубков, армяков и шалей, от кафтанов, от снега пахло сеном. Сергей зачерпнул снега в пригоршню и поднес к лицу. Но снег вдруг превратился в сено. Оно было совсем свежее, незалежавшееся. Солнце в небе пекло по-летнему. Стрельцы на горе зашевелились, один из них побежал мимо толпы к монастырской стене. «Везу-ут! Везу-ут!» — закричали остальные стрельцы. Из лесу появилась повозка. Лошаденка бодро помахивала мордой. Скрипел снег. Стрелец добежал до лобного места, на котором восседал горбоносый рыжебородый человек в красных сафьяновых сапогах, и упал лицом в снег. «Везу-ут!» — прохрипел он. Горбоносый человек — это был, кажется, царь — встал во весь рост, оруженосец подал ему шлем. Царь надел шлем и вскинул руку. Толпа повалилась на снег, только один Сергей не пошевелился. Царь посмотрел на него (у него были глаза Вальки-жениха) и процедил сквозь зубы: «Интеллигенция!» Стрелец стал пятиться задом, потом вскочил и помчался к своим товарищам, вопя: «Встречай! Встречай царскую невесту!» Запел церковный хор, ударили в монастырские колокола. Лошаденка, хрипя и роняя пену, втянула возок на гору, стрельцы окружили его и с криком побежали рядом. Кучер в красном кафтане, похожий на дядю Андрея, лихо нахлестывал лошаденку кнутом. «Прими, царь-батюшка, невесту свою, Марфу Собакину!» — браво закричал он. Царь дал указание: «Выводи!» Две боярыни вытащили из возка упирающуюся, плачущую девушку, подхватили под руки и со словами: «Вот она, царь-батюшка, вот она, негодница!» — поволокли к лобному месту. Сергей узнал в царской невесте Юльку Князеву. Царь похлопал ее по плечу и, захохотав, сказал: «Припеваючи жить-то будем, Марфа Собакина!» — «Не Марфа это — Юлька! — закричал Сергей, бросаясь к царю. — Не смей ее в жены брать, насильник проклятый, моя она, Юлька, моя!» — «Холоп! — рявкнул царь. — Пиши заявление! Вяжите его, слуги верные! Стрельцы, ко мне! Вяжите агента, государственного преступника! В бердыши его, в бердыши! На цепь, в подвал, на пытку!» Но Сергей расшвырял стрельцов, вырвал у одного из них бердыш, размахнулся — и царя словно ветром сдуло. В руках у Сергея оказалась коса. До самого леса раскинулся украшенный цветами луг. Сергей косил, и после каждого взмаха ложилось слева сено, сено, сено…
— Юлька! — вскрикнул Сергей и проснулся.
Юльки рядом не было. В щели над головой Сергея ярко пробивалось раннее солнце, и весь сеновал был расчерчен золотистыми полосами. Ослепительно сиял в дверце купол монастырской церкви.
Сергей слез, взошел на крыльцо. В комнате — из раскрытого окна хорошо было слышно — разговаривали Авдотья Емельяновна и Юлька.
— А если бы отец увидел? — говорила Авдотья Емельяновна. — Бесстыдница ты, бесстыдница!
— Бесстыдница та, которая делает стыдное и при этом не стесняется, а я ничего стыдного не делала, — отвечала Юлька.
— И в кого ты у меня такая уродилась!
— В Сережу.
— Видать, что в чужого. Ничего, я вот и Сереже твоему укажу. Не малое дитя, тридцать лет стукнуло, понимать должен.
— Ну да, ну да, — насмешливо сказала Юлька, — поучи его, он не понимает!
Сияя озорной улыбкой, она выскочила навстречу Сергею.
— Я от мамки нотацию выслушала, теперь твоя очередь. Выходи ко мне поскорее!
— Ах, Юлька!.. — Сергей неодобрительно покачал головой, но не удержался, рассмеялся от души.
— Необдуманно вы поступаете, Сергей Васильич, очень необдуманно! — сказала Авдотья Емельяновна.
Сергей смущено развел руками.
— Авдотья Емельяновна!..
— Да я понимаю, что вы серьезный человек, только на чужой роток не накинешь платок. Люди скажут: дыма без огня не бывает. Скажут, мать не уследила.
— Нечего за мной следить! — крикнула с крыльца Юлька.
— Видите, какая она? И чего это Валька, дурак лысый, не раскусит ее? Такую любить — себя губить. Грешно говорить такое о родной дочери, да правде рот не заткнешь.
— Не говорите так, Авдотья Емельяновна, я не согласен, — тихо возразил Сергей. Ему не хотелось, чтобы Юлька услыхала его слова. — Не обижайте Юльку, она золото.
— Самоварное, самоварное, — огорченно отозвалась Авдотья Емельяновна. — Вы поостереглись бы, Сергей Васильич, не нравится мне, что она вами день и ночь бредит: «Сережа, Сережа, Сережа…»
Сергей хотел ответить — не нашел слов. Он умылся, тщательно выбрился, надел белую свежую рубашку и вышел к Юльке, которая сидела возле калитки на лавочке.
— Чем закончились прения? — лукаво спросила она.
— Да ты же подслушивала.
— Нет, я просто угадала.
— Я очень неловко себя чувствовал, Юлька. Мать по-своему права.
— Ты думаешь, что ей хочется, чтобы я за Вальку замуж вышла? Как бы не так! Плохо ты ее знаешь. Она чудо, клад, а не мамка! Конечно, в известной степени. Я ей все про себя рассказываю. Почти все. Только она батьки боится: он дерется под горячую руку, когда меня дома нет.
— А когда ты дома?
— Не смеет. Боится.
— Значит, ты уже взрослая, Юлька.
— Нет, я девчонка. Девчурка. Во-от такая, от горшка три вершка, — Юлька погладила ладошкой траву под ногами и рассмеялась. — Садись. Ты что во сне все кидался?
— Стрельцов расшвыривал.
— Я так и подумала. Стрельцов с бердышами?
— Ты читала, Юлька, о царской невесте Марфе Собакиной? — спросил Сергей, глядя на монастырские купола.
— Читала. Иван Грозный выбрал ее в Александровой слободе из двух тысяч невест, потом она вдруг умерла. А совсем недавно раскопали ее могилу, и оказалось, что царская невеста лежит, как живая. Чудеса, правда?
— Чудеса, — согласился Сергей. — Мне приснилась сегодня эта царская невеста. Только…
— И мне, — перебила Юлька Сергея.
— Не ври, пожалуйста. Только она была почему-то похожа на тебя.
— Так это же я и была! — воскликнула Юлька. — То же самое и мне снилось. Правда.
— И стрельцы в шлемах?
— И стрельцы.
— И кучер в красном кафтане?
— Какой кучер? Разве в то время были кучера?
— Не пойму, Юлька, — с сомнением сказал Сергей, — врешь ты или правду говоришь?
— Да в самом деле царская невеста снилась! Я проснулась и думаю: вот бы и Сереже это приснилось! Приснилось, значит?
— Если так, то это тоже чудо.
— Нет, — грустно сказала Юлька, — это просто обыкновенная жизнь. И все научно обосновано. — Она встала, отошла немножко и, взглянув на Сергея исподлобья, договорила: — Просто я, наверное, дурочка и тебе не до меня. У тебя свои дела, свои заботы. И тебе даже некогда поглядеть на меня…
И она ушла во двор. А Сергей задумался. Что она хотела сказать? Он не осмелился вникнуть в смысл ее слов. Но подумал: а не уехать ли ему сегодня?..
«Вот если найду в себе силы встать мгновенно — уеду», — решил он.
Прошла минута, другая… Сергей все сидел на скамейке, все сидел…
«Не думай об этом, не думай, — приказал он себе. — Ты уедешь послезавтра утром. Не забывай, что Юлька ждет твоего ответа. Скажешь ей, что уже не живешь в Краснограде, и уедешь».
Но это было бесполезно: не думать он не мог. Да, Юлька ждала ответа. И Сергей должен был решать. Что-то надо было придумывать, да так, чтобы это устроило и его, и Юльку.
Вчера на крылечке Сергею показалось, что все разрешится легко и просто. Он не знал точно как, но какой-то выход был. Например, Юлька могла поехать в Красноград одна. Квартира есть. Работы в городе искать не придется. Можно и учиться, было бы желание. Рядом с Юлькой будет мать Сергея и бабушка. А Валька, технический работник, пусть подыскивает себе другую невесту. Проще простого…
Сергею хотелось убедить себя, что это самый простой и легкий выход. Но он не знал, как отнесется к этому решению Юлька. Ведь, наверное, она мечтает поехать в Красноград вместе с ним. Она не знает, что в Красноград Сергей уже не возвратится… Поедет ли она одна? Нет, не так-то все было легко и просто!
Сергей сидел на скамейке еще минут десять, а встав, медленно пошел к речному обрыву. По обе стороны речки Серой раскинулись маленькие картофельные поля, похожие сверху на одинаковые зеленые, с белыми бутонами, лоскутки. Слева возвышались монастырские стены, окружающие бывшую Александрову слободу, мрачную резиденцию жестокого российского царя, которому народ метко прилепил зловещее прозвище; жестокие дела творились и раньше, и после, но Грозным народ прозвал лишь одного тирана…
И Грозный тут, в Александровой слободе, вдоволь полицедействовал, поковарствовал, а уж железо-то лязгало вовсю! Сергей ненавидел этого царя с его детищем, черной опричниной.
«А картофель-то цветет!» — подумал Сергей.
Да, блестела, как четыреста лет назад, речка, плыли облака по небу, и жила в Александрове Юлька, та Юлька, которая среди двух тысяч царских невест была самой прелестной. Та да не та, Юлька возродилась другой, свободной, ее уже не поведешь под руки, уж никому не отдашь без согласия в жены. Возрождается не столько плохое, чаще и быстрее рождается хорошее, льется свежая под солнцем жизнь, и ничто не задержит этого живого, вечного течения.
Прошлое, в которое заглядывал Сергей, стоя возле Александровой слободы, было темным-темно. Но Сонковы-то наверняка жили в нем, дышали, видели это солнце и эту речку, и Сергей глядел сейчас глазами одного из них. Он видел, как под торжественный гул набата везли перепуганные насмерть бояре своих дочерей, две тысячи невест съезжались со всех сторон в Александрову слободу. Две тысячи покорных, как птенцы, невест, и среди них она, Юлька. Она жила, принимала муку и умирала, а потом возрождалась, и вот опять возродилась в Александрове, чтобы сказать Сергею:
— Так это же я и была! То же самое снилось и мне. Я люблю тебя, Сережа!
«Я люблю тебя, Сережа…»
Нет, этого она еще не говорила. Вернее, говорила, да не так, не о том…
Сергей махнул рукой, лег на лужок лицом кверху и сказал вслух:
— Ну, какого черта я себя обманываю! Именно так, именно о том.
Сергей понимал, что Юлька еще вчера на сеновале призналась. Ей же восемнадцать лет! А он разговаривал с ней, как с шестилетней девчонкой, которой читал когда-то гайдаровские повести. Она же ничего не забыла! Она счастлива сейчас, бесстрашна и бессмертна. К ней приехал ее родной, ее необыкновенный, живой, выдуманный ею Сергей Сонков!
Сергей вскочил в горячем смятении. Он увидел золотые купола, синюю речку, белые облака в ней и над нею — все, что не раз видели и безвестный холоп Сонков, и сотни тысяч других людей, и Юлька. Да, и Юлька, Юля! И только поэтому никогда все это не забудется, не уйдет в небытие, навеки останется с ним.
7
Дядя Андрей притащил два мешка клевера. Свежим клевером был устлан почти весь двор.
— Соседи-то, поди, еще потягиваются со сна, а я с рассвета на ногах!, — горделиво сказал дядя Андрей Сергею. — Хозяину спать — добро терять.
— У вас что, свой участочек на лугу есть? — полушутя спросил Сергей.
— Какой там участочек! — дядя Андрей махнул рукой и засмеялся. — Колхозное подбираю.
— Что, разрешают?..
— Разрешают. Бригадир — покладистый мужик, мокрым берет. Сунь бутылку — и работай весь день до вечера.
— Но это же плохо! — возмутился Сергей.
— Чего уж тут хорошего, бутылок не напасешься.
Сергей отвернулся, взглянул на часы и хотел отойти в сторону, но дядя Андрей схватил его за руку, потащил в сад.
— Хозяйство тебе покажу!
— Мне Юля показывала.
— Что она понимает! У нее амуры в голове.
Дядя Андрей подвел Сергея к яблоням, рассказывая, какие у него растут сорта и где он добыл их. Но, видно, на уме у него было другое.
— Поинтересоваться хочу, — вдруг сказал он, — ты где работаешь, Сергей? На заводе? Матушка-то скупо пишет.
— В институте…
— Вона. А как должность твоя называется?
— Должность? — Сергей помедлил немного. — Исполнял обязанности главного конструктора…
— Вона, отцы родные! — с изумлением воскликнул дядя Андрей. — Твой отец в плотниках числился, а ты каких чинов достиг!..
— Учился…
— Молоток ты, Сергей Васильич!
Маленькие глаза дяди Андрея глядели по-собачьему льстиво. Он хотел еще о чем-то спросить, да не посмел, должно быть.
— Ну, отдыхай, отдыхай как дома! — заключил он. — А я на лужок побежал.
Сергею было неприятно, стыдно, что он соврал дяде Андрею. У него появилось ощущение, что этой ложью он сравнял себя с ним и с тем бригадиром, который за бутылку водки позволяет расхищать колхозный клевер. После светлой радости, охватившей Сергея на берегу речки, это чувство подействовало на него особенно неприятно.
«Зачем было врать? — упрекал себя Сергей, косясь на ворованное сенцо. — Не смогу я прожить здесь три дня. Надо и об отъезде думать».
Он решил сходить на опушку леса за зверобоем. Узнав об этом, Юлька объявила:
— И я с тобой.
Сергей затаенно ждал этих слов. Ему хотелось поговорить с Юлькой, побродить с ней, и он вопросительно посмотрел на ее мать.
— Ступай, ступай, Юлечка, — сказала Авдотья Емельяновна, — и нам насобираешь, ничего, если уж трава такая полезная.
О целебном свойстве зверобоя рассказал ей Сергей. По мнению одного украинского собирателя лекарственных трав, «зверобой обыкновенный и наша родная болотная сушеница не менее интересны, чем китайский женьшень». Об этом написано было в книге, которую как зеницу ока хранила Сергеева бабушка. Она и сама разбиралась в лекарственных растениях. Выслушав все это, Авдотья Емельяновна всплеснула руками.
— Женьшень меня спас! Я так болела, так болела!..
По ее словам, зверобоя в окрестностях Александрова было видимо-невидимо.
— К обеду-то возвращайтесь, — предупредила она, — и отец подойдет.
— А вы не ждите, если опоздаем. Правда, Сережа?
— Не опаздывайте…
Сергей с Юлькой вышли за калитку… и сразу остановились, досадливо переглянувшись. Улицу переходил, помахивая рукой, Валька.
— Горячий привет! — издали крикнул он. — Юлечке особый.
Сергей сухо поздоровался с ним. Юлька кивнула.
— Чего это вы вчера как сквозь землю провалились? — спросил Валька. Сегодня он был в соломенной шляпе, трикотажной рубашке навыпуск, серых в крупную клетку брюках и желтых ботинках на микропорке. — Андрей-то Васильич обиделся: мол, побрезговал дорогой гостек в компании посидеть.
Утром дядя Андрей не выражал Сергею своего неудовольствия, наоборот, он изо всех сил старался услужить гостю. Валька просто врал. Сергей пропустил его слова мимо ушей.
— Я ему говорю, — продолжал Валька, — у нас свои семейные разговоры, а ему, вам то есть, этот вопрос, я полагаю, не интересный. Ну, он согласился. А вообще-то обидчивый старикан. Правда, Юлька?
— Тебе виднее.
— Вона! Я его три года знаю, а ты?.. Кстати, где он?
— Траву за рекой ворует.
— А-а, не вовремя, — поморщился Валька, — медок бы надо идти продавать: привозного нет, на пятьдесят копеек цена подскочила. Такого момента упускать не надо. Скоро ли вернется?
— К обеду.
— Ну, успеет. Вечерком с завода люди на базар пойдут. — Валька помолчал и добавил: — Не следит Андрей Васильич за конъюнктурой, не следит!
— Видно, на вас надеется, — сказал Сергей.
— Сказать по совести, я ему хорошими советами постоянно помогаю, — похвастался Валька… — Вот и Юлька соврать не даст, правда, Юлька?
— Я это на себе чувствую.
— Да, — не унимался Валька, — вот и сейчас цитатку одну принципиальную принес. Важные слова. Андрей Васильич-то жалуется: соседи… и вообще. Косо посматривают, укоряют, что на себя много работает. Вы понимаете, Сергей Васильич, человек на пенсии…
— Да не на пенсии он, — перебила его Юлька.
— Ну по болезни, не все ли равно. Известно, грыжа у человека.
— А спросить бы, что это такое, он не объяснит.
— Не наговаривай на отца, Юлька. Он хоть и не родной тебе, а как тебя уважает! Вот говоришь: ворует… А сама знаешь, что разрешение есть. Договор у него имеется. Людям и так завидно: дом — полная чаша, — Валька повернулся к Сергею. — Вот я принес ему цитатку, чтобы Андрей Васильич показал при случае. — Он вынул из кармана листок бумаги, развернул. — Полдня искал, а нашел. Вот: «Это и есть социализм, когда каждый желает улучшить свое положение, когда все хотят пользоваться благами жизни». Пусть теперь этой цитаткой Андрей Васильич завистникам в морду сунет. — Откуда же эта цитата? — поинтересовался Сергей.
— А уж на этот счет я пока умолчу. Цитатка существенная.
— Понятно, — сказал Сергей.
Валька продолжал:
— Демагогов хватает. Да и вообще есть неустойчивый народ. Особенно у нас, в Александрове. Церемонимся с такими. Смотрю я на них и спрашиваю: ну чем им плохо? Раньше бы, до революции, их вообще за людей не считали бы, — он немного помолчал. — Забывают люди, забывают. А я не такой. Кем бы я был до революции? Пастухом, я полагаю.
— Подпаском, Валя, — сказала Юлька.
— Подпаском, — согласился Валька. — А сейчас я кто? Скажи, Юлька, кто?
Он разошелся, говорил громко, размахивая руками.
— Обидишься, Валя, — сказала Юлька.
— Обижусь? Да на что мне обижаться-то? Ну, кто?
— Дурак, — притворно-ласково сказала Юлька. — И до революции был бы дураком, и сейчас дурак. Это, Валя, бывает, не каждому дано, и Советская власть тут ни при чем, не обижайся.
Сергей ждал, что Валька возмутится, но в ответ на Юлькин дерзкий выпад он самодовольно подмигнул Сергею и сказал:
— Во разошлась!
Юлька махнула рукой и ушла.
— Видали, как ндрав выказывает? — опять подмигнув, продолжал Валька. — Это она перед вами себя самостоятельной представляет. Дураком обозвала. Это я-то дурак? — ухмыльнулся он. — Но я не обижаюсь, знаю, что шутит. У-у, люблю я ее за это! С ней не заскучаешь.
— Да, скучать вам с ней не придется, — сказал Сергей.
Валька принял его слова за похвалу и опять ухмыльнулся. Это стало забавлять Сергея. На короткое время он опустил голову, чтобы не видеть Валькиного лица и не расхохотаться. Но когда он опять взглянул на Вальку, ему вдруг стало жутковато: в узких щелках Валькиных глаз сгустилась, как в глубоких колодцах, враждебная темнота. Валька прицеливался, словно намеревался прострелить Сергея. Сергей понял, что ухмылками, самодовольством, добродушием Юлькин женишок прикрывал ненависть. Валька, кажется, и боялся и ненавидел Сергея.
— Рад, что одобряете выбор. Ваше мнение для меня ценное, — с мрачной ухмылкой сказал Валька. — Уважаю будущих родственников, даже если они совсем дальние. Приезжайте, всегда встречу. Когда, значит, уезжаете в долины Дагестана, послезавтра?
Ответ Сергея интересовал Вальку больше всего. Ну да, не хотелось Вальке, чтобы Сергей долго жил у Князевых. Беспокоил Сергей будущего (а вернее, настоящего) хозяина этого дома. А вдруг что-нибудь?.. Вдруг у Сергея на уме опасное?..
Чтобы успокоить Вальку, Сергей сказал:
— Думаю, что долго не задержусь: гостить некогда.
Лицо у Вальки опять стало добродушным и простоватым.
— И то верно. Я сам не люблю утруждать людей. Ну, увидимся еще, я полагаю. Вот, собачонке колбаски принес, — Валька вынул из кармана кусок ливерной колбасы. — Злая, подкармливаю. А как же, пусть признает за хозяина! — Он понюхал колбасу. — Надо перекинуться словцом с Юлькой. Вчера мы с Андреем-то Васильичем решили: чего со свадьбой тянуть? Теперь, я полагаю, надо сроки с невестой согласовать. Вы уж извините, товарищ Сонков, я хочу с ней побыть, а то после обеда на работу мне. Не мешайте уж нам.
Он не выдержал, провалил роль простоватого добряка, последние слова произнес резко, почти угрожающе, и еще раз шмыгнули, словно выстрелили, в узких щелках Валькины глаза.
Сергей пожалел, что, разговаривая с Валькой, ни разу не оборвал его и даже старался его успокоить. Но он подумал, что разговаривает с ним не последний раз…
Валька вошел во двор, держа в вытянутой руке колбасу. Когда он скрылся за крыльцом, Юлька выпрыгнула в окно и юркнула в калитку.
— Побежим скорее! Пока он найдет, мы за угол повернем, а то еще увяжется!
Юлька схватила Сергея за руку, но тот покачал головой.
— Мы что, боимся его? Или нам стыдно? Черт с ним, увяжется — прогоним.
— Не постесняешься прогнать? — спросила Юлька.
— Даже и не задумаюсь.
— А если он в драку полезет? Он здоровый, дубина.
— Пусть попробует. Я драться умею.
— Умеешь? — не поверила Юлька.
— С Валькой-то справлюсь.
— Если даже ты хвастаешь, все равно здорово! — воскликнула Юлька. — Пойдем. Мне нравится, что ты такой храбрый, но драться я тебе не дам.
— Тебе отец ничего не говорил? — спросил Сергей, когда они скрылись за углом. — Валька вчера с ним о свадьбе договорился.
— Наплевать! Теперь не страшно. Мне теперь, Сереженька, ничего не страшно. Я уже лечу. Нет такой сети, в которую меня поймать можно.
— Но я убежден, что ты должна сказать отцу.
— Нет уж, доживешь у нас свой срок спокойно. Это для меня дороже. Я возьму тебя под руку. Хочется побахвалиться перед знакомыми, что иду под руку с таким высоким и красивым… ну, как тебя назвать?.. мужчиной.
— Ну какой же я красивый, Юлька?
— Ладно уж. Лучше нас с тобой в Александрове и нет никого. Я как вчера тебя увидела…
— А ты, оказывается, о себе высокого мнения.
— Да разве ж это мнение? Это правда, Сереженька. Я из-за этого и на танцы только с Валькой хожу: все хотят со мной потанцевать. А Вальку мои кавалеры боятся. Он однажды шестерых расшвырял, всем носы порасквасил. А-а… Не хочу о нем и разговаривать! Давай не вернемся из лесу до вечера?
— Мать велела поспеть к обеду.
— Какой ты дисциплинированный! — сказала Юлька и вздохнула. — Сразу видно: гость. — Помолчав, еле слышно добавила: — А мне было бы приятнее, если бы ты чувствовал себя хозяином.
«Ты права, Юлька, — подумал Сергей, — надо чувствовать себя хозяином».
Сергей вспомнил главного инженера, который сейчас, может быть, торжествует, и у Сергея первый раз мелькнула мысль, что ему тоже еще, может, придется с ним разговаривать.
8
Бабка учила Сергея: «В лес не ходи, ищи зверобой на опушках, вокруг кустарников, на пустырях, по канавам». Сергей не раз собирал эту целебную траву на черноморском берегу, между Геленджиком и Архипо-Осиповкой. Бабка говорила: «Натуральный, хороший зверобой, но наш полезнее. Российского бы достать». И как только Сергей объявил, что едет в Москву, бабка заказала: «Хочешь не хочешь, а зверобоя нашего привези. В Александров не поедешь, я знаю, поленишься, так хоть под Москвой, там электрички в разные стороны бегают. Без зверобоя не возвращайся!» Сергей пообещал, хотя и не знал, когда вернется. Он действительно не собирался в Александров, но поехать пришлось — и теперь уж с пустыми руками не возвратишься: бабка обидится до смерти.
«Вот так-то, Сергей Сонков, сын Сонкова Василия».
Да, не встреть он на Комсомольской площади дядю Андрея, ничего бы этого и не было, не было бы Юльки, и еще не скоро бы, наверное, собрался Сергей путешествовать в прошлое. Да что в прошлое, — может быть, не увидел бы Сергей так ясно и свое будущее. Может быть, может быть… Что же ему теперь делать, свободному? Оставаться в Москве? Возвратиться назад?
Вчера эти вопросы мучили Сергея, угнетала его, как болезнь, неизвестность. Еще и сегодня утром он побаивался заглядывать в будущее. А сейчас он подумал об этом легко и даже не без иронии. Что-то уже случилось. Началось это вчера. Наверное, началось, это еще в вагоне александровской электрички и потихоньку продолжалось все время: и за столом, и рядом с Юлькой, на сеновале, и во дворе, когда он думал о ней, и утром, когда очнулся ото сна… Продолжалось это еще и сейчас, словно мало-помалу сползала с глаз пелена.
— Ты такой молчаливый вдруг стал, — сказала Юлька. Они уже перешли по шаткому мостику речку и теперь поднимались по тропе в горку, на которой виднелось зеленое кружево низкорослого кустарника. — О чем задумался, Сережа?
Сергей обрадовался, что она задала такой вопрос.
— Видишь ли, Юля, я считаю, что в принципе мне везет в жизни, — сказал он. — Хотя со стороны может показаться, что я человек очень несчастный. Я рано лишился отца, рос сиротой, от меня ушла жена и, наконец… — Он не договорил и, улыбнувшись в ответ на Юлькин вопросительный взгляд, заключил: — Но счастье никогда не покидало меня.
— Никогда? — усомнилась Юлька.
— Никогда, — повторил Сергей. — Любовь к женщине, даже и после развода — счастье. Любимая профессия — счастье. И, наконец, я понял, что еще не до конца прожил свои лучшие дни в прошлом. Прошлое никуда не уходит. Для человека время уйти не может: в один и тот же прожитый день можно возвратиться тысячу раз. Может, тебе не понятно?
— Все понятно. Во сне я постоянно возвращаюсь. Мне кажется, я жила везде: в Древнем Египте, в средневековой Европе, в скифском стойбище, здесь, в Александровой слободе. Но только… — Юлька помедлила: — Мне кажется, что у тебя что-то случилось, не все в порядке.
Сергея совсем не удивило, что Юлька так просто заговорила об этом. Он понял, что ждал этого, и снова обрадовался. Давно нужно было сказать Юльке правду. И он решил сделать это. Но сначала спросил:
— Скажи, Юлечка, а ты в самом деле видела тот сон?
— Ладно, не отвечай, — сказала она, словно не расслышала его вопроса. — Ты действительно счастливый человек, я это чувствую.
— И сегодня я счастливее, чем вчера, — добавил Сергей.
Юлька тихо шла, опустив голову. Она как будто прислушивалась к чему-то. К чему она прислушивалась, чего ждала? Как радостно и сладко было смотреть Сергею на Юльку! Теперь он сам взял ее под руку и сказал:
— Я рад, что приехал в Александров, Юлечка!
— Может быть, ты приехал потому, что я сильно захотела этого, — прошептала Юлька.
— Может быть…
— Сережа, — громче начала Юлька, — а почему ты не сказал, что о твоем отце написана книга? И мама твоя не писала…
— Да… — после молчания сказал Сергей. — Фронтовые воспоминания.
В книжке было напечатано и письмо отца, последнее напутствие десятилетнему Сергею.
«Ходи прямо, Сергей! Главное в жизни — ходить прямо, во весь рост! Человек не так давно встал на ноги, его сгибает к земле. Иные люди до сих пор бегают на четвереньках, только не всем это бросается в глаза. Всегда ходить прямо не так легко, Сергей, вот почему надо всегда, каждый день стремиться ходить прямо!»
— Кто же тебе сказал о книге? — спросил Сергей.
— Я сама узнала. Из «Комсомольской правды». В прошлом году была статья о тебе…
— Да, была, — смутился Сергей.
Говорить о статье Сергею было неприятно. Журналист ставил инженера Сонкова в пример другим. В статье была даже фраза, что великий Эйнштейн тоже был инженером. Сергей старался не вспоминать эту статью, хотя она многим в институте понравилась. Это — дело прошлое, и разговор, заведенный Юлькой, был совсем некстати…
Сергей и слова сказать не успел, как спохватился: почему же некстати? Нет, кстати, кстати, Сергей Сонков, сын Василия Сонкова!
— Тот журналист, который писал обо мне, ошибся, Юлька, — сказал он. — Если он приедет второй раз, как обещал, то уже не встретит меня: я уволился. — Сергей усмехнулся и добавил: — По собственному желанию.
— Вчера вечером я сразу что-то почувствовала, — не удивилась Юлька. — Что же случилось?
— Банальная история, — облегченно вздохнув, сказал Сергей. — Я воспротивился появлению одной машины. Один уважаемый, лучше сказать, уважаемый за прошлые заслуги товарищ изобрел велосипед. Ну, не совсем велосипед, но что-то такое в этом роде. Машина была раньше времени разрекламирована. Некоторые люди, видные, но в технике весьма неосведомленные, потирали руки: и мы движем технический прогресс! Разговоры о недостатках машины тонули в громовом хоре похвал. Стоило мне поставить свою подпись, и… Но я ее не поставил. Наверное, никто этого не ожидал. Я ведь только исполнял обязанности главного.
Сергей вспомнил, как директор института уговаривал его быть разумным, и, снова усмехнувшись, добавил:
— Между прочим, меня поставили на это место вскоре после той статьи. А если бы я подписал проект, наверняка утвердили бы в должности главного.
— Ты жалеешь, что не подписал? — испугалась Юлька.
Сергей легонько сжал ее руку. Ему был приятен Юлькин горячий протест.
— Я жалею не об этом. Хотя решился не без раздумий.
Да, он не сразу решился на это. «Ваше мнение?» — спросил его директор, когда стало ясно, что он тянет. Главный инженер ни о чем не спрашивал. Он держался скромно, дружески здоровался с Сергеем. А директор настаивал все решительнее. Сергей пошел посоветоваться к приятелю, тоже инженеру, работавшему на заводе. Тот сказал без колебаний: «Лишняя плохая машина — ну и черт с ней!» — «Ты так думаешь?» — «Тут и думать нечего! Подпиши, тебя утвердят, и ты получишь возможность работать по-настоящему. Вот тогда-то пусть они попробуют заставить тебя подписать дерьмовый проект!» Совет приятеля вызвал у Сергея раздражение. «Я подпишу один плохой проект, ты подпишешь, третий, четвертый подпишут — и наберется десяток новых плохих машин». — «Так зачем же пришел за советом? — обиделся приятель. — Поступай как знаешь». На другое утро Сергей сказал директору, что он проекта не подпишет.
— Совсем не об этом я жалею! — повторил Сергей. — Понимаешь, Юля, мне казалось, что я поступаю хотя и вынужденно, но разумно. Со мной не соглашаются, я против, — значит, выход один: заявление об уходе. Но это был самый легкий выход…
Да, теперь ему уже ясно: самый легкий и стыдный, — и только поэтому он и в вагоне (да и дома еще!), и на сеновале, и сегодня утром все мучился, испытывая эту странную неловкость, словно обманул кого-то. Перед тем как написать заявление об уходе, он задумался: не сгоряча ли, не с обидой ли делает это? Решил, что нет, так и надо, сделал все, что мог. А получилось — и сгоряча, и с обидой. Что же он сделал, дубина, способный, извините, инженер, сын героя, которому отец писал перед смертью. «Ходи прямо, Сергей!» Он раскланялся перед обнаглевшим конъюнктурщиком и уступил ему дорогу: «Милости прошу, выкатывайте вашу машинку!»
Юлька не задавала ему вопросов, не перебивала его. Он смолкал, и она молчала, ждала, что он еще скажет. Все она, кажется, понимала, Юлька!
— Горько и стыдно, Юля, махать руками после драки! А еще горше, когда понимаешь, что настоящей-то драки и не было.
— Как мне хотелось собраться и поехать к тебе раньше! — сказала Юлька. — Но ты не мучься, не мучься!
— Да я не мучаюсь. Я радуюсь! — воскликнул Сергей и, устав сдерживать себя, обнял Юльку. Он обнял ее, постоял немножко и отпустил, разведя руки. — Чувствую: все настоящее — и трава, и воздух, и солнце. И я стал вроде настоящим — проснулся.
— Ну, а дальше? — спросила Юлька, которая, может быть, и не заметила, что он обнял ее не как девчонку, которой читал когда-то повести Гайдара. — Что же теперь дальше?..
— А дальше… а дальше, — весело сказал Сергей, — а дальше — утро вечера мудренее. Дальше уж мы придумаем что-нибудь! Дальше, — он с удовольствием выговаривал это слово, — дальше — вот зверобой у нас под ногами! — Сергей нагнулся и сорвал большой стебель, густо опушенный яркими, бросающимися в глаза, цветками. Они подошли к опушке леса. Зверобой только зацвел. Он рос кучно, то тут, то там кострами горели по краям разношерстного кустарника его ярко-желтые цветочки. Зверобой словно говорил людям: «Я не напрасно так выделяюсь, я специально бросаюсь в глаза, берите меня, срывайте, я ваш лучший друг!» И Сергей с Юлькой рвали, рвали и рвали целебные цветы на длинных стеблях. За какие-нибудь полчаса они нарвали их по целой охапке, сложили на полянке, возле которой сгрудились полукругом белые стройные березки.
— Ты видишь? — показала Юлька в ту сторону. — А что там такое?..
— Как они на нас смотрят!
Сергей вгляделся, и ему показалось, что березки действительно смотрят на них с удивлением и тихой радостью.
— Ну конечно, мы же цари природы, — улыбаясь, сказал он.
— Цари природы, — повторила Юлька.
Она сняла тапочки, приподнялась на цыпочках и подняла кверху руки.
— Я так отдыхаю, — сказала она. Ветер шевелил ее светлые волосы и юбку. — Я так себе снилась, — добавила она. А потом, тихонько засмеявшись, возразила: — Нет, пожалуй, я это только что придумала.
Сергей понимал, что Юлька рисуется, кокетничает. Но она была еще молоденькой, да к тому же кокетство было Юльке к лицу, и Сергей прощал ей все. Юлька только начинала жить, что с нее возьмешь?.. Сергей изо всех сил старался рассуждать, как старший брат, но ему плохо удавалось. Ему совсем это не удавалось. И, понимая это, Сергей радовался. Он думал:
«Ты это запоминай, запоминай, чтобы этот миг вернулся еще не раз. Полянка, березки, которые смотрят на людей, солнце и девушка между землей и солнцем…»
Юлька блаженно вздохнула, опустилась с зажмуренными глазами в траву, разметала руки. Ветер приподнял ее юбку, откинул выше колен…
— Никуда я не пойду отсюда! — прошептала Юлька. — Никуда и никогда, и не уговаривай!..
Сергей медленно отходил, смотря на Юльку, и слышал только это: «Не уйду, не уйду…» Ему тоже захотелось по-мальчишески броситься в траву, кататься в ней, хохотать от распирающего грудь счастья. И он тоже подумал, что никогда не уйдет отсюда, останется навеки здесь с Юлькой, и ради этого стоило жить, возвращаться в прошлое, исправлять ошибки, бороться, любить и ненавидеть.
Юлька приподнялась и, не увидев поблизости Сергея, засмеялась и оправила платье.
— Да ведь здесь земляника! — воскликнула она. — Я лежала на землянике! Сережа, иди посмотри, у меня, наверное, вся спина в землянике!
И в самом деле, на белой Юлькиной кофточке алели еще не просохшие, яркие, как кровь, пятна.
— Как же ты не заметила, — укоризненно сказал Сергей.
— Ты ведь тоже ничего не заметил, Сереженька! — лукаво отозвалась Юлька.
Сергей шагнул к Юльке. Она растерянно и нежно смотрела на нею сбоку, и Сергей, взглянув на ее лицо, понял, что она не знает, что ей делать — отбежать или броситься к нему навстречу. Он остановился и, когда она уже готова была протянуть к нему руки, проговорил:
— Все-таки… к обеду мы не будем опаздывать, Юлька.
Юлька махнула рукой.
— Ладно уж, хозяин ты неудачный!
А потом ей, как и Сергею, стало неловко, она покраснела и, схватив охапку зверобоя, побежала к опушке.
— Теперь ты стала молчаливой, — сказал Сергей, как только они вышли на бугор, с которого была видна половина города, весь монастырь, сверкающие петли речки Серой и луга по ее берегам. — Наверное, устала?
— Ни капельки, ну что ты! — покачала головой Юлька. — Мамку что-то стало жалко. Она ведь у меня добрая, безответная, как раба. Если бы не мамка, я давно бы куда-нибудь сбежала. И Вальку только из-за нее терпела.
— Но ведь это все уже кончилось, не так ли? Мать согласна, что тебе с Валькой не по пути.
— Она-то согласна, да дед… я его редко отцом зову. Он крепко за Вальку держится. Рыбак рыбака видит издалека. Ох уж этот дед!
— Ему льстит, очевидно, что Валька технический работник.
— Кто-о? — Юлька рассмеялась. — Да это он сам выдумал. Технический работник! И ты поверил?
— Где же он работает?
— В артели складом заведует — вот и вся его специальность. Артель недавно заводом стали звать, переименовали, — насмешливо сказала Юлька. — Но дело-то вовсе не в этом. Я раньше тоже не догадывалась, зачем деду Валька понадобился, Но потом поняла: защитничек ему нужен. Это же все так просто! Валька, по-моему, и справку об инвалидности деду достал. У него связи есть, он пролетарием прикидывается. Расчетик у Вальки хитрый. Ты думаешь, он не понимает, что я его в глаза оскорбляю? Понимает, да терпит: ждет, когда хозяином станет.
— Я это почувствовал, Юлечка. Мой приезд его, видимо, испугал.
— Еще бы! У него инстинкт сработал. У них, у всех таких, звериный инстинкт!
— Ну, а дядя Андрей?.. Что же он думает?
— Сереженька, ты его плохо знаешь! Согласись Валька меня из дому взять, они давно бы по рукам ударили. Валька же в дом хочет, а два медведя, как известно, в одной берлоге не уживутся. Вот дед и тянул, да, видно, не выдержал: уступил. Победил Валька! — Юлька засмеялась. — Забыла, как называется такая победа…
— Пиррова, Юлька.
— Пиррова. Ну и взревет же Валька, когда узнает!
— Он хоть любит тебя? По-своему, пожалуй, любит…
— А как же, любит! Любит, как хозяин овечку: есть ее будет, когда откормит и зарежет. Такая любовь! Он добрым, щедрым, ласковым может быть. Ах, не хочется говорить об этом! — махнула Юлька свободной рукой (другой рукой она прижимала к груди охапку зверобоя). — Только бы ты из-за этого не волновался! Валька пойдет на все. Пусть он ни о чем пока не подозревает.
— Сильнее Вальки зверя нет, так?
— Да я его совсем не боюсь! Я о тебе забочусь.
— Не беспокойся. Если ты не боишься, мне и подавно бояться нечего. Мосты сожжены, отступать некуда.
— Утро вечера мудренее? — спросила Юлька, и Сергей понял тайный смысл, заключенный в этих словах.
— Утро вечера мудренее, — подтвердил он.
— Тогда я сама поговорю с Валькой.
— Мы будем говорить вместе, Юля.
Узкая тропа спускалась вниз, к речке. Идти рядом было неудобно (мешал зверобой), и Юлька чуть отстала. Они замолчали. Сергей задумчиво глядел по сторонам. Слева и справа шелестел на ветру сизый овес, в овсе было светло от белых цветов гречихи: прошлый год, видно, убирали гречиху кое-как…
«Откуда же взялся овес?» — подумал Сергей. Когда они поднимались в гору, овса, кажется, не было. А теперь он шелестел, волновался под ногами. Резала глаза бросовая гречиха.
«Выходит, стал я зорче?» — подумал Сергей.
Ну, что ж, сомневаться не приходится: с тех пор как он вышел с Юлькой из дому, снова многое изменилось. И он стал другим (сейчас он хорошо это чувствовал), и Юлька кое-что узнала и поняла. И хотя Сергей знал, что еще не все преодолел, вперед он глядел увереннее. Сергей знал теперь, что ему делать. Он и в недалекое свое прошлое оглядывался без всякой боязни. Там было немало плохого, ошибочного, но было и хорошее, светлое. А ведь хорошее возрождается быстрее и чаще плохого. Хорошее победит!
Сергей с нетерпением и удовольствием представил, как он вернется в город, позвонит директору института и попросит заказать ему пропуск. Директор не откажет, но, прежде, чем распорядиться насчет пропуска, наверняка позвонит главному инженеру. Мол, зачем? С какой он, Сонков, целью?.. Ясное дело, что разговаривать о машине. Усидит ли главный инженер в своем кабинете? Может быть, Сергей застанет его у директора? Сохранит ли он свое добродушие и вежливость? Только нет, не таков главный инженер, про которого говорили, что он съел четырех директоров! Не уронит он себя в глазах Сергея Сонкова, преспокойно он усидит, лишь усмехнется, когда ему позвонит директор. Или даже и не усмехнется, а радушно скажет, что очень хотелось бы ему повидаться с инженером Сонковым, да, к сожалению, занят он. Главный легко найдет какие-нибудь вежливые убийственные слова. А вернее, даже и слов тратить не станет. Кто для него теперь он, Сергей Сонков? Уволившийся по собственному желанию инженер, посторонний человек. У главного есть заслуги, положение, а у Сергея только диплом да репутация способного, думающего работника. Главный морально устойчив (не курит, не пьет, не волочится за женщинами), проверен, состоит в активе, у него есть покровители. А у Сергея — пока что неустроенная личная жизнь (об этом даже говорили как-то на партийном собрании) да один знакомый журналист в Москве. Но все-таки, все-таки главному придется с ним считаться! Ему не удастся отмахнуться. У него — желание построить никудышную машину. А у Сергея — долг воспрепятствовать появлению этой машины.
Сергей снова представил, как директор позвонит главному инженеру. Ведь дрогнет же у него сердце! Он не дурак! Он знает Сергея. Ему до сих пор, наверное, не верится, что Сергей без схватки уступил поле боя. Какое у него будет лицо, когда директор скажет, что бывший исполняющий обязанности главного конструктора еще раз хочет поговорить о проекте? Сергей постарался вообразить главного инженера в эту минуту, но перед глазами вдруг всплыло ухмыляющееся лицо Вальки. И он увидел своего противника — в знакомой Сергею курточке, с золоченой самопиской в кармане, с круглым портретиком Юрия Гагарина над кармашком и с лицом Вальки, заведующего складом.
— Сережа, что ты как на пожар торопишься? — раздался сзади голос Юльки. — Иди потише.
— Ах да… Прости, Юля!
Сергей замедлил шаг. Он шел и думал, как ловко люди, которые и не знают друг друга, поменялись лицами. Но это не было для Сергея неожиданностью, и он не удивился. Завтрашний день сулил Сергею борьбу. Сергей не строил иллюзии. Он знал, что нелегко ему будет. Но на его стороне была правда. А правда побеждает, побеждает хорошее, и Сергей готов был до последнего дыхания отстаивать вечную новизну этих слов. Сергей глядел на землю вокруг себя, на дальний лес за городом, на облака, которые отражались глубоко в речке. В просторном прекрасном мире Сергею доставались свобода и счастье.
Вечером Сергей сказал Юлькиной матери:
— Авдотья Емельяновна, вы соберите Юлечке, что надо.
— Договорились? — обрадовалась она.
— Да, все в порядке. Мы едем в Красноград.
— Ну и слава богу! Я хоть тревожусь, а ничего, рада. Все равно у Юльки с Валькой ничего не выйдет: не создана она для этого, для хозяйства. Только вот отец…
— Отступать некуда, Авдотья Емельяновна, Юля уже рассчиталась на заводе. Впрочем, вы ведь все знаете…
Авдотья Емельяновна кивнула.
— Мы поедем в Красноград. Вы за Юльку не беспокойтесь. Я за нее головой ручаюсь, Пока она у моей матери поживет, а замуж выйдет… — Сергей замолчал, не договорив.
— Если вы так говорите, замужества ей не видать, — огорченно сказала Авдотья Емельяновна, — у нее один вы на языке. Она с вашей карточкой и не расстается.
— С какой карточкой?
— Машутка ей прислала вашу карточку, она просила.
— Я этого не знал… Но…
Сергей почувствовал, что Юлькина мать ждет от него каких-то важных слов. Слова эти были, он мог легко найти их, но выговорить вряд ли бы сумел. Он и Юльке не сказал бы этих слов. Видно, не пришло еще время. И хотя Сергей желал, чтобы оно наступило быстрее, и думал об этом, но мысль, что можно ускорить счастливую развязку, поторапливая свое чувство, была ему неприятна.
— В общем, собирайте Юлю в дорогу, — наконец проговорил Сергей, — и ни о чем не беспокойтесь.
— Не знаю, Сергей Васильич, ничего не знаю. Дело ваше.
Юлькина мать нахмурилась, и Сергею показалось, что она совсем упала духом.
— Авдотья Емельяновна, — желая успокоить ее, произнес он. — Плохо ей не будет, я за это ручаюсь!
Утром, открыв глаза, Сергей сразу увидел Юльку: она стояла на лестнице и, сияя улыбкой, глядела на него.
— Утро вечера мудренее, — сказала она. — Здравствуй, Сережа!
9
После разговора в саду дядя Андрей уже не называл гостя Серегой. В хрипловатом голосе старика появилось что-то медовое и заискивающее.
— Никак не поговорю с тобой, Сергей Васильич, — сказал он, снимая косу со стены сарая. Мешки, свернутые в рулончик, лежали на крыльце.
— Поговорить надо, — отозвался Сергей. — Я и сам хочу с вами поговорить.
— То рынок, то клеверок… Заботы, хозяйство! А мне с тобой бы посоветоваться надо.
— Разоблачат вашего бригадира, который мокрым берет. И вас вместе с ним… Прекратите лучше, Андрей Васильевич. Вот вам мой первый совет.
— Спаси господи, что ты!.. — испугался дядя Андрей. — Я, чай, не задаром кошу. У меня нынешний день оплачен.
— А в музей? — вдруг подбежала к Сергею Юлька. — Когда мы в музей пойдем?
— То в лес, то в музей… Валентин Иваныч на тебя жаловался, смотри! — проворчал дядя Андрей, хватая мешки.
— Не понравился разговор, — усмехнулся Сергей, провожая Юлькиного отчима взглядом.
— Я боялась, что ты ему скажешь, — призналась Юлька.
— Конечно, скажу. Ты думаешь, я тебя, как полонянку, тайно увезу?
— Почему тайно? Не тайно… Но я согласна и тайно! — тихо воскликнула Юлька. Наверное, ей хотелось этого. Но она понимала, что такой путь Сергея не устраивает. — Как ты хочешь. Только пусть мамка ему первая скажет. Она говорит, что дед задумал на работу устраиваться. Это что-то новое. Хитрый он, за версту все чует.
— Что же он чует?
— Подожди. Вот посмотришь… У меня такое предчувствие, что он о чем-то догадывается.
— Ладно, пошли в музей.
В монастыре под березами было безлюдно, тихо и прохладно, даже холодновато было и в краеведческом музее. Сергей и Юлька осмотрели все его экспонаты за какие-нибудь полчаса. Ничего интересного не было, если не считать двух-трех довольно старых икон, осколков цветной черепицы времен Ивана Грозного да одного любопытного документа. Он гласил: «Холоп боярского сына Лупатова — Никита изобрел деревянную машину с крыльями и рулем, опустился с колокольни Александровой слободы. «Отцы церкви» свирепо расправились с ним. Приговор:
«Человек не птица, крыльев не имат. Аще же приставит себе крылья деревянные, против естества творит. То не божьи дела, а от нечистой силы. За сие содружество с нечистой силой отрубить выдумщику голову. Тело окаянного пса бросить свиньям на съедение. А выдумку, аки дьявольской помощью снаряженную, после божественной литургии огнем сжечь».
— Не дурак был этот гад, что писал, стиль есть, — тихо сказал Сергей. — Он вгляделся в картину, на которой был изображен Никита в полете. — Один из первых русских летчиков, Юлька! Изобрел деревянную машину с крыльями и рулем… Изобретатель. Мы с ним как-никак одной профессии! Жаль, что чертежи, конечно, не дошли до нас. Если они были…
— Все спалили мракобесы.
— Никита! Счастливый был человек! — продолжал Сергей. — Может быть, ему снились Гагарин и Терешкова?
— В образе святых, — добавила Юлька.
— Нет, — возразил Сергей, — этот человек в бога не верил. Право летать, кроме птиц, принадлежало только богу и его свите. А он посягнул на это право. Вот кому бы музей-то посвятить — первому летчику Никите, холопу боярского сына Лупатова!
Юлька посмотрела на Сергея, потом опустила глаза. Сергею показалось, что она хотела о чем-то спросить его. Он почти предчувствовал этот вопрос. Но Юлька не решилась и отошла. За распахнутой дверью, на ступеньках, прижавшись к Сергею, она сказала шепотом:
— Мне всегда кажется, что я уже была здесь. Вон там, — она протянула руку, — сидел этот страшный царь. Когда ученый Герасимов вылепил его лицо, я сразу узнала… — И Юлька побежала вниз по лестнице, словно спасаясь от преследователей. Под березами она остановилась и засмеялась. — Чего только не примерещится! Сумасшедшая я! Как раньше говорили, блаженненькая.
— Блаженная — это почти святая, Юлечка.
— Не-ет, тогда нет! Я не святая.
Они вышли за монастырскую ограду, Юлька вдруг замолчала и задумалась. Сергей ждал, что она задаст свой вопрос. И Юлька спросила:
— Кто же он такой был, этот Никита? Может, Сонков?
— А может, Князев, — ответил Сергей. Он ждал, конечно, не этого вопроса.
— Может, и Сонков. Ведь Сонковых в Александрове, пожалуй, не один десяток.
— Сережа, а все-таки как задержать тот «велосипед»? Ну, ту машину?
Теперь Юлька спрашивала о том самом, Сергей был уверен, что этот вопрос не переставал волновать ее со вчерашнего дня. Он тоже все время думал о своей ошибке и прикидывал, как ее исправить. И у него и у Юльки на уме было одно и то же, и это о многом говорило Сергею.
— Может, у вас там недоумевали? В обкоме тебя поддержали бы, — добавила Юлька. — Почему ты решил, что тебя там не поддержат? У тебя были основания?
— Да не было никаких оснований! — с горечью сказал Сергей. — Может, и недоумевали. Может, в конце концов и поддержали бы. Написав заявление, я ходил, словно околдованный, в каком-то полусне.
— Если бы я тебе могла помочь!..
Сергей с нежностью посмотрел на нее.
— Да ты мне уже помогла, Юлечка!
— Хорошо, если хоть немножко… — прошептала Юлька, и Сергей увидел, как у нее засияло от радости лицо. — Ты думаешь, что дело еще можно поправить, добиться правды?
— Машины еще нет, она в проекте. А значит, от нас еще кое-что зависит! Завтра в Москве я кое-куда забегу!
— Эх, мать честная! — лихо воскликнула Юлька. — Поставить бы на место твоего главного инженера настоящего изобретателя! И дать ему помощь…
— Помощь дьявольская… — Сергей стукнул себя ладонью в грудь и засмеялся. — Прошу любить и жаловать, один из дьяволов, которые помогали бедняге изобретателю!
— За что же жаловать? На костер обоих! — и Юлька тоже засмеялась.
Сергей подумал, что, значит, им ничего не страшно, если они могут вот так шутить и смеяться над его ошибкой.
Но они переглянулись и нахмурились, посуровели, когда увидели Андрея Васильевича.
— Сидит, ждет!.. — с досадой прошептала Юлька.
— Разговаривать буду я, — решительно сказал Сергей. — И без возражений.
Дядя Андрей сидел на лавочке, медленно скручивая цигарку. Он был сдержанно холоден. Проводив Юльку сумрачным взглядом (она, не останавливаясь, прошла во двор), он сделал знак Сергею, чтобы тот задержался.
— Что же это такое, Сергей Васильич? И как это понять? — строго, но несколько сконфуженно спросил он. — Вы уж мне объясните, отцы родные, что в моем доме творится?
Сергей сел рядом.
— Я сам вас хотел спросить, Андрей Васильевич, что у вас творится. Как в старое время, выдаете дочь замуж, не считаясь с ее желанием.
— Отцы родные, да неправда ваша! Свое согласие она мне изъявила еще год назад, я ее за язык не тянул.
— Знаю. Но с тех пор многое изменилось.
— Что же изменилось такое, отцы родные?
— Юлька изменилась — это главное. Не явись я, она бы тайком уехала.
— Весь ваш род Сонковых такой — тайком увозить!
— Но я-то тайком не увожу, Андрей Васильевич, — улыбнулся Сергей. — Истину нельзя искажать.
— Ты ее, Сергей Васильич, от жениха увозишь.
Сергей впервые по-серьезному разговаривал с Юлькиным отчимом. В день приезда, вечером, дядя Андрей в основном слушал Вальку, поддакивал ему. И Сергей сразу тогда определил Валькину роль в этом доме. Дядя Андрей глядел Валькиными глазами, слушал Валькиными ушами и говорил Валькиным языком. Сейчас Сергею стало жалко этого старика, и он сказал:
— Неужели вы не понимаете, Андрей Васильевич, куда Валька метит? Он вашим хозяином будет. Это для него главное. И вас, и Авдотью Емельяновну, и Юльку в кулак зажмет да еще какой-нибудь цитатой пришлепнет. Вы и не пикните!
— Что верно, то верно, — как-то сразу согласился дядя Андрей. — Крепко он, Валентин Иваныч, уцепился. Ему в рот палец суешь, а он кулак норовит отхватить. А мне пятьдесят восемь! Я еще десяток, чай, протяну. В приживалах неохота старость коротать.
— Вот видите, — сказал Сергей, удивляясь неожиданной перемене.
— Я тут работку одну подыскал. Ничего не поделаешь, время такое. Работенка подходящая для меня, по силе возможности. Только вот к чему клоню, отцы родные: ты на каких правах, Сергей Васильич, Юльку-то забираешь? Мне мать что-то толковала, да не понял я ее, темную.
Деловитый вопрос неприятно задел Сергея.
— Я считаю Юлю сестрой, — сухо ответил он.
— Ну, какая она сестра! Чай, не родная кровь, — не поверил дядя Андрей. — Не уразумею я никак…
— Я отношусь к ней, как к сестре, — повторил Сергей.
Дядя Андрей опять не поверил.
— То есть на иждивенье девку берешь?
— Не беспокойтесь, ваших денег не потребую.
— Так ведь какие у меня деньги? Отцы родные, все дорого…
«Налоги большие». Сергей ждал этих слов, но дядя Андрей остановился и снова деловито спросил:
— А у тебя, Сергей Васильич, жалованье-то какое?
— Было не очень большое. Сто семьдесят…
— Вона, отцы родные! — воскликнул дядя Андрей. — Месяц прошел — получи сто семьдесят. Чай, не пни корчуешь. Умственная работа хлеба много не спрашивает. Ладно, забирай Юльку! Мать-то чемоданишко с тряпками уже приготовила. Да если что, не брезговай нами, в гости приглашай… когда у Юльки ребеночек народится. — Он добродушно засмеялся, и Сергей понял, что он и смеется почти как Валька.
Сергей хотел встать, но дядя Андрей удержал, положив руку на его колено.
— Ты на меня не обижайся, Сергей Васильич, все бывает. И на сестрах люди женятся. Тут вот что: я денечка на два к куму в деревню уеду, кум что-то захворал.
— Не понимаю, почему вы так Вальки боитесь?
— А карась щуки завсегда боится. Чернокнижник он… Я его чернокнижником зову. Он, Валентин Иваныч, начитанный, в политике силен. Слова мне вчера принес. Я эти слова кому следыват показал — не верят. Не с того конца, говорят, подходим, то есть наоборот все вывернули. В горком хотят идти. Не те слова мне принес, люди-то поумнее есть, — с сожалением сказал дядя Андрей. — Твоя правда, Сергей Васильич, он и на меня любые слова отыщет. Слов-то теперь много, на всех хватит.
— Да уж на таких, как Валька и его друзья, хватит! — сказал Сергей. — Есть достойные слова!
— А я что говорю? — добродушно заулыбался дядя Андрей. — Карасю со щукой не породниться. Увози Юльку, бог с тобой!
«Кто из вас карась, а кто щука — это еще гадать надо», — подумал Сергей.
— С богом, — сказал дядя Андрей. — Я человек сговорчивый. Валентину Иванычу скажу, что без меня все приключилось.
— Как хотите, так и говорите.
Минут через десять, наскоро попрощавшись с Юлькой, прослезившись для порядка, дядя Андрей ушел. И только тогда Сергей заметил синяк под глазом у Авдотьи Емельяновны.
— Вот негодяй! — выдавил Сергей сквозь зубы.
— А ничего, я привыкшая, — успокоила его Авдотья Емельяновна. — Это еще ничего, от радости он раз вдарил и перестал, терпимо, ничего. Без боя согласился. — Она улыбалась, словно ее одарили чем-то.
— Может, и вы бы с нами поехали? — спросил Сергей.
— Ну что вы, что вы! — испуганно всплеснула она руками. — Я с ним останусь, век прожила. Он, когда не злой, ничего, добрый.
«Вот именно — ничего», — подумал Сергей.
Он нашел Юльку на сеновале. Она плакала, уткнувшись в сено.
— Я выплачусь и приду, Сережа…
И Сергею вдруг захотелось сейчас же, сию минуту увезти Юльку из этого дома, где ей была уготована участь ее матери.
10
Валька шел медленно и важно, с большой коробкой под мышкой.
— А я полагал, вы уехали, — увидев Сергея, притворно удивился он. На нем был длинный сиреневый пиджак. — Зачем это вы вчера Юльку увели? Вы главным конструктором работаете. Серьезная должность, я полагаю. Человек семью, ячейку государства, создает, а вы мешаете. Разве не понятна вся суть? Я не хочу, чтобы это повторилось. Вы бы уезжали. Давайте-ка, товарищ Сонков, на знойный юг, в пустыни Дагестана! Погостили — хватит, хорошего понемножку.
Голос у Вальки был требовательный, хозяйский. Смысл слов предельно ясен: «Проваливай к чертям собачьим, а то!..»
— Видите ли, я сам решу, когда мне надо ехать, — холодно отозвался Сергей.
— Так, значит, — выдавил Валька, — до вас не доходит. Ясно. — В щелках Валькиных глаз было темным-темно. — Придется не на шутку с дядей Андреем поговорить. Андрей Васильич!
— Он уехал в деревню.
— В какую деревню? Вранье! — огрызнулся Валька.
— Медок, что ли, опять дорогой, Валя? — раздался с крыльца насмешливый Юлькин голос. — На сколько копеек дороже?
— Здравствуй, Юлюшка! — с трудом сдерживая раздражение, отозвался Валька. — Зови сюда батьку.
— Правильно тебе говорят: уехал он.
— Куда? Надолго?
— Не знаю.
— А ты что же вчера меня обманула? Только я не злопамятный. На родственничка твоего злюсь, а на тебя погожу: вот подарочек тебе принес, — Валька показал Юльке коробку.
— Неси в комнату. Тут велено тебе передать кое-что.
— Ну и умная ты у меня, Юлька, просто ужас! — почти с угрозой сказал Валька. — Только пусть и родственничек заходит, пусть. Я подарков не скрываю. Я щедрый, ничего — ни шуб, ни платьев — для своей жены не пожалею. Сам буду в рваном ходить, а жена пусть как куколка!
— Женой меня считаешь. Не рано ли?
— Невестой, Юлюшка, невестой. Пока невестой. Всякому грибку, я полагаю, свой срок. Правильно, товарищ Сонков?
Сергей не отозвался. Входя на крыльцо, он увидел Юлькину мать: она испуганно выглядывала из сарая.
— А вы что же, Авдотья Емельяновна?
Она замахала руками, замотала головой: давала понять, что ее нет дома.
— Сильнее Вальки зверя нет, — усмехнулся Сергей.
А Валька торжественно священнодействовал на кухне: медленно развязывал коробку, осторожно (явно тянул для эффекта время) раскрыл ее. В коробке лежали черные лакированные туфли. Двумя пальцами Валька вынул туфельки и поставил посредине стола. Подарок был дорогой, наверное, очень дорогой. Валька чванливо взглянул на Сергея и хлопнул в ладоши.
— Юлюшка, ты бы поглядела хоть!..
Сергей сел на стул, закинув ногу на ногу.
Юлька не показывалась.
— В загс в них пойдем, — Валька отогнал вьющуюся над туфлями муху. — Свадебное платье и фату тоже куплю, не поскуплюсь. Чтобы вы ничего такого не думали, дорогой товарищ конструктор! У нас все по закону, все по кодексу.
— По кодексу?
— По кодексу, — убежденно повторил Валька. — Соблюдаю все статьи, я полагаю. А как же? Ну, а если я пооткровенничал чего с вами, так это по-родственному. Я полагаю, вы меня индивидуально поймете.
— Не бойтесь, я писать не буду, — с презрением сказал Сергей. — Пусть вас сами руководители ваши раскусят, им стыдно будет. Только вот что: не примазывайтесь вы к рабочему классу!
— Чего-о? — Валька погрозил Сергею пальцем. — Не трожьте моих руководителей, это вас не касается. Поосторожнее, дорогой товарищ конструктор, ясно? — Он стукнул ладонью по столу и крикнул: — Юлька, я же звал тебя!
Юлька вышла на кухню с чемоданом в руках.
— Отодвинь-ка свою обнову, — сказала она.
— Твоя обнова, примеряй, — сказал Валька, подозрительно косясь на чемодан.
— Все свое я уже померила, — Юлька распахнула чемодан. В нем лежали коробки и свертки, перевязанные ленточками, какие-то кульки. — Получай свои вещички, Валечка. Вынь блокнотик, сверь, все ли на месте. Затрат на новую невесту не сделаешь. Разве что туфли… Да ты ведь человек хозяйственный, с тридцать пятым размером женку себе подберешь.
Валька некоторое время молчал, а потом недоуменно спросил:
— Это как понять?
— Уезжаю я.
— Куда уезжаешь?!
— Далеко, отсюда не видать.
Валька гневно повернулся к Сергею.
— Это ваша работа?
— Да ты на меня смотри! — крикнула Юлька. — Я с тобой разговариваю. Забирай свои подарки, я до них не дотрагивалась…
— Не с тобой разговор! — оборвал ее Валька. Он сунул руку в карман и, простреливая Сергея взглядом, шагнул к нему. — Что, пондравилась девушка? Семью разбиваешь?
— Нет, ты со мной, со мной разговаривай! Никакой семьи нет и не будет!
— С тобой мы еще поговорим. Я вот к тебе, конструктор, обращаюсь!
— К вам, к вам, — надо говорить.
— К ва-а-ам! — взвыл Валька. — Да я тебя-а-а…
Он выхватил из кармана нож. Юлька пронзительно закричала. Но Сергей уже приготовился: вскочив, он поймал Валькину руку, скрутил, вывернул за спину. Замычав от боли, Валька упал на колени. Нож выпал из парализованной руки.
— Я же не теленок какой-нибудь, — сказал Сергей, ногой отшвыривая финку в угол, — что же ты меня резать хочешь?
— Пусти руку, сломишь, — прошептал Валька.
Сергей оттолкнул Вальку, опять сел на стул.
На Юлькин крик ворвалась в кухню Авдотья Емельяновна. В руке у нее была кочерга. Увидев Вальку на полу, она растерянно остановилась.
— Вставай, вставай, борец Бамбула! — сказал Сергей. — У тебя теперь работка есть: цитатку на меня подыскать. Сам найдешь или подсказать?
Валька вскочил, кривясь, потирая руку.
— За это вы ответите! Я в больницу сейчас пойду! Авдотья Емельяновна, что же это такое? Где Андрей Васильевич? Где закон?
— У Юльки спрашивай, она тут хозяйка, — не поднимая глаз, пробормотала Авдотья Емельяновна.
— Забирай свои вещички и поскорее проваливай, — сказала Юлька.
Сжав кулаки, Валька готов был снова наброситься на Сергея.
— Учти, технический работник, я к тому же еще и боксер, — предупредил Сергей. — Так что, Юлечка, можешь спокойно ходить со мной на танцы.
— Физическую силу применяете? Угрожаете расправой? Засорили мозги девчонке. Одумайся, Юлька. На что идешь?
— Да проваливай ты! — крикнула Юлька.
Валька схватил туфли, сунул их в чемодан, захлопнул крышку. Он хотел поднять и нож, но Сергей преградил ему путь.
— Стоп, финочка здесь останется. Рабочий-то класс разве ходит с холодным оружием?
— Ладно, возвернете, — проговорил Валька, еще раз прострелив Сергея ненавистным взглядом. — Я скоро вернусь, Юлечка, будь уверена. А вы, Авдотья Емельяновна, я полагаю, здесь последняя спица в колеснице.
— Ничего, ничего, — пробормотала Юлькина мать.
— Мне дяде Андрею стоит слово сказать! И ты, Юлечка, никуда не уедешь, ты на работе работаешь, я общественность подыму! Еще обсудим, когда потребуется, твой моральный облик!
— Ну, если зашел разговор о моральном облике, мне придется встать, — сказал Сергей.
Валька рванул со стола чемодан:
— Не боюсь! Мы еще померяемся силами! Я и газету привлеку! Ты у меня еще, Юлечка, на коленях прощения вымаливать будешь. А с вами, конструктор… — У Вальки гневно раздулись ноздри. — С вами…
— Ну, что же со мной? — насмешливо спросил Сергей.
— С тобой… — Валька промычал что-то с бессильной злобой и показал Сергею кукиш.
Сергей поднялся со стула.
— Не надо, он людей соберет, — испуганно остановила его Авдотья Емельяновна, — скажет, что избивали.
Валька выбежал во двор. Но не успел он выскочить из дверей, как с воем бросился на него пес: бдительный страж, не мог он выпустить со двора человека с чемоданом. Валька пнул собаку ногой, побежал. Пес не отставал. Остервенело лая, он кидался и кидался на Вальку, оборонявшегося чемоданом. Наконец Вальке удалось ударить его носком ботинка в морду. Пес завизжал, поджал хвост и сразу юркнул в будку.
— Тунеядцы! — закричал Валька. — Я вам покажууу!
11
Теперь Сергея и Юльку уже ничего не удерживало. Авдотья Емельяновна просила остаться еще денька на два, но Сергей решительно сказал, что завтра утром надо ехать. Юлька поддержала его: «Ехать, ехать!..» Авдотья Емельяновна заплакала. Юлька рассердилась: мать словно в могилу ее провожает, радоваться бы надо, а она ревет!..
— Никто меня не обидит, — успокаивала она мать, — я буду жить в большом и красивом городе, рядом будет Сережа, проработав год, я обязательно пойду учиться. Правда, Сережа?
Сергей не возражал ей. Да и что он мог возразить?.. Юлька была права: город, куда она поедет, — большой и красивый. Учиться она непременно будет. А с кем ей рядом жить — с матерью Сергея или с Сергеем (у него была отдельная квартира), — пока не так уж, наверное, важно. Как бы ни сложилась жизнь, что бы ни случилось, Сергей не бросит Юльку на произвол судьбы, не оставит ее в беде. Поэтому он лишь молча кивал головой.
Авдотья Емельяновна тоже кивала, но слез удержать не могла и все ревела.
— Да хватит, мама! — наконец решительно заключила Юлька. — Давайте-ка спать. Утро вечера мудренее, — и она бросила, как заговорщица, быстрый взгляд на Сергея.
Как и в первый раз, Сергей лежал затылком на ладонях и смотрел на розовый, с отблеском зари, купол монастырской церкви, от запаха свежего сена у него слегка кружилась голова. Юльки не было. Он невольно ждал, что она снова появится в светлом проеме дверей. Но Юлька не показывалась. И опять он думал, что ничто не проходит, ничто не исчезает на земле. Не исчезает плохое, вернее, исчезает, да медленно, но не исчезает и прекрасное. Оно и умирает, отсветив свой срок, и возрождается вновь и вновь и в природе и в людях, и конца этому не будет. Бесконечное светлое течение жизни! Но сказать так — это одно, а понять — совсем другое. И Сергей уже имел возможность убедиться, что раньше он просто говорил это, а сейчас понимает. Потому что он сам словно возрождался. И в нем возрождалось самое главное — любовь и жажда борьбы.
Точка была поставлена. Авдотья Емельяновна привязала пса на цепь, потому что он мог броситься на Сергея: не терпел барбос, когда чужие выносили из дома вещи, приучен был верно служить с самого собачьего младенчества! Вальке не помогла и колбаса: дружба дружбой, а табачок — врозь. Пес и на этот раз рванулся, оскалив пасть, но загремела цепь, лязгнул металл, и холопья ярость осталась неутоленной.
Авдотья Емельяновна втихомолку плакала всю дорогу. На платформе же разрыдалась, запричитала.
Электричка немного задержалась. Но вот закрылись двери вагона. Поплыли люди на платформе. Авдотья Емельяновна побежала, отчаянно рыдая, ничего не замечая перед собой. Мелькнуло ее искаженное горем лицо — и все исчезло. Прощай, Александров!
И снова — только наоборот — Струнино, Арсаки… Арсаки, вновь обретенная грибная станция непрошедшего Сергеева детства! «Разве ж я грибы ищу, это моя палка ищет!» Ах, дед, дед, Сергей так и не сходил на твою могилу! Живые часто забывают мертвых. Живые думают о живом — не напрасно так говорится в народе. А живое мелькает за окном, мир проносится, открывая все новые подробности, отражаясь в живых, любимых Юлькиных глазах. Бужаниново, Загорск, Хотьково, Абрамцево — все снова, снова, только наоборот.
В двенадцатом часу Ярославский вокзал принял александровскую электричку. Вновь вступили в права три московских правила Сергея: сдать чемодан, устроиться и стараться поскорее уехать. Сергей сдал чемодан, купил билеты на вечерний поезд (устроился и исполнил желание поскорее уехать). Сергей любил Москву, но не мог долго жить здесь. Пять лет учения в Москве показались ему вечностью. Он удивлял товарищей, уверяя, что Красноград — лучший город в мире. Ничего не изменилось с тех пор: Красноград — лучший в мире. И напрасно Сергей думал, что может уехать в дальнюю сторону. Он южанин, степняк: хотя и городской житель, а степняк. И возвращается в степь. Он возвращается, обретя в Александрове утраченную было уверенность. Он едет не один.
Своему приятелю Сергей звонить не стал, а сел с Юлькой в маршрутное такси на Пушкинской площади и доехал до комбината «Правда». Юлька подождала его внизу, в вестибюле. Сергей появился через час и, отирая пот с лица, сказал:
— Нам повезло, Юля: он не в командировке. Через два дня прилетит в Красноград. Теперь дело двинется…
В купе Сергей и Юлька приумолкли. За день (длинен и тяжел для пешехода московский день) Юлька устала и быстро уснула на нижней полке. А еще вечером грозилась всю ночь провести у окна! Сергей сидел и, слушая ровное Юлькино дыхание, улыбался и глядел в окно на редкие огни засыпающего (счастливых снов!) мира. Не так ли вот тридцать один год назад сидел возле окна, провожая огни, отец? Он сидел, а мать, тогда еще такая же, как Юлька, девчонка, спала, умаявшись на московских улицах. И, слушая ровное дыхание своей невесты, отец тоже думал… О чем он думал? Сергей не знал об этом. Он знал лишь, что через год после бегства Василия Сонкова и Маши Князевой в солнечном Краснограде родился он, Сережка Сонков, на крестины приехали дед с бабкой, окончательно помирились с зятем, и все было хорошо вплоть до сорок третьего года, когда севернее города Курска наповал уложила Героя Советского Союза капитана Сонкова фашистская пуля…
«Ходи прямо, Сергей! Главное в жизни — ходить прямо, во весь рост! Человек не так давно встал на ноги, его сгибает к земле. Иные люди до сих пор бегают на четвереньках, только не всем это бросается в глаза. Всегда ходить прямо не так легко, Сергей, вот почему надо всегда, каждый день стараться ходить прямо!»
Предсмертное письмо отца… Теперь оно перестало принадлежать одному Сергею. Оно напечатано в книге воспоминаний об отце и принадлежит и Юльке, и всем.
В первом часу ночи Сергей стал раздеваться.
— Сережа, — вдруг прошептала Юлька, — мы далеко отъехали?
— Далеко, — ответил Сергей. — Спи, Юлька, спи.
— Сплю, сплю…
Сергею казалось: это само счастье говорит человеческим языком…
Поезд шел на юг без толчков и скрипов: он привык беречь человеческие сны. Сергей засыпал, все время чувствуя, что Юлька близко, Юлька рядом, Юлька, Юлька…
Портрет
Рассказ
Мне было лет пять, не больше, когда я первый раз увидел Ленина.
В том селе, где я родился, Ленин никогда не бывал. Вероятнее всего, он даже не знал о его существовании. Да и не удивительно: таких сел в Центральной России тысячи. Годуново, Долгополье, Рюминское, Андреевское, Большие Вёски… Разве все названия перечислишь?
Я родился в Больших Вёсках. Ноябрьским днем 1925 года. Мать говорила, что я появился на свет божий в русской печке. В таких печах на Руси издавна и пекли хлеб, и парились, и рожали. По словам матери, тот праздничный день был морозным, белым от снега, с солнцем и ясным небом. К вечеру приехал из Александрова мой дед, плотник и столяр, привез целую торбу гостинцев, рассказывал, что в городе был митинг, громко говорили речи, везде развевались красные знамена, люди ходили с красными бантами на груди. Потом дед выпил водки, отнял меня у испуганной матери, развернул и стал разглядывать, приговаривая при этом, что в хорошее время я родился.
Он был счастлив и добр, дед, радовался, что народилось на свет новое живое существо, внучонок, мальчишка, будущий работник. Он сам, дед, сызмальства был рьяным крестьянским работником да к тому же и умельцем — знаменитым мастером плотницкого дела, к которому из дальних деревень, из города наезжали нуждающиеся в жилье люди, просили поставить избу, а го и целый дом с мезонином и верандой. Дед пахал землю, ставил дома и избы, и для него хорошее время прежде всего означало, что удался урожай, что не стало господ, перед которыми он раньше униженно ломал шапку, и что было много работы для его сноровистого топора…
Страна мало-помалу принималась строиться. И не с гигантских заводов, не с гидроэлектростанций начата была всенародная, всероссийская стройка, которая в тридцатых годах поразила мир своим размахом и трудовыми рекордами. Она свой отсчет начала с нуля, с какой-то простой крестьянской избы, и о первых часах ее где-то в глуши известили миру еще несмелые топоры плотников. Они засверкали по весне, плотницкие топорики, запахло в деревнях свежей стружкой, забелели свежие срубы изб — и пошла, пошла обновляться Россия! Перестук топоров и песни пил в деревнях — всегда к хорошей жизни. В плохое время избы на Руси не ставят.
Вот и дед говорил, что в хорошее время я родился.
Мать вспоминала: ранним утречком, когда медовое солнышко начинает пригревать умытые росой лужайки, она любила со мной на руках сидеть на завалинке под окнами и слушать, как поклевывают топоры — тешут еловые и сосновые бревна. Слева строились Сонковы, а спереди ладил избу сам свекор, то есть мой дед. Сладко у матери становилось на душе от этих звуков. Она укачивала меня и думала: вырастет сынишка, побежит по улице — глядь, а село-то все белое, избы высокие, окна большие, палисадники крашены. В таком селе любо-дорого жить!
— Твой-то год у нас был урожайный на детей, — рассказывала мать. — В каждой избе подряд по младенцу. И все больше мальчишки. Орут, бывало, по ночам, как петухи, один другого старается перекричать. Голосистое было времечко!
Мне уже исполнилось лет пять… Я помню нашу большую светлую горницу, длинный крашеный стол, тяжелые лавки по обе его стороны, яркую икону в углу, стеклянный шкаф, в котором видна была чайная посуда, зеркало на стене и белые изразцы печки. В три окна падало солнце. Полосы света косо разрезали горницу, и были они похожи на полотнища какой-то нежной, теплой на ощупь, ткани. Я бегал по горнице, пронзая эти полотнища головенкой, и все никак не мог понять, почему прямой, натянутый, как струна, свет не колышется и даже ни капельки не дрожит от моих отчаянных усилий. Ни пинки, ни взмахи, ни попытки дуть изо всех сил — ничего не помогало…
И, тут вошел в горницу мой дед, Василий Кузьмич. Должно быть, он вошел раньше, чем я его заметил.
— Э-э-э, — укоризненно произнес он, — ты что это, солнце побороть хочешь, внучек? Пустое дело, никакого проку, ушибешься — и все тут. Ты вот лучше погляди-ка, что я принес! — В руках у деда был белый рулончик из бумаги.
Я был разгорячен напрасной борьбой и сердит, но все-таки бумажная трубка меня заинтересовала.
Дед оглядел одну стену, потом другую, бросил взгляд на икону. Это его заставило призадуматься. Я пробовал на зуб палец и ждал, что будет дальше. Дед сел за стол и еще раз оглядел всю горницу. Слева стоял посудный шкаф. Справа, чуть ли не до самого потолка, белел изразец печки. Сзади, в простенках, висели зеркало и карточки в деревянных рамках. И только впереди была пустая стена, оклеенная газетами.
Дед решительно поднялся с лавки, сказав:
— Погоди-ка, внучек.
Как только он вышел, я подбежал к столу, влез на лавку и раскатал рулончик. С гладкого бумажного листа на меня глянул веселый человек с красным бантом на груди, с бородой и усами, как у деда, в большой кепке. Прищурившись, он махал мне рукой и словно говорил при этом: «Ну, здравствуй! Как живешь?»
— Погоди, наглядишься еще, — сказал, вернувшись, дед. В одной руке у него был молоток, в другой гвозди и газета. Он сунул гвозди в рот, а молоток под мышку, разорвал газету на узкие полоски, сделал из них четыре маленькие бумажные подушечки.
Я молча наблюдал, как он все это быстро, без лишних движений, проделывает. Мне нравилось глядеть на деда, когда он занимался какой-нибудь работой. Пилил ли он, строгал ли доски, обтесывал ли топором бревно, вырезывал ли из кленовой чурки ложку, я всегда крутился поблизости, подбирал щепу, валялся в мягких стружках.
Между тем дед не мешкал. Он разгладил портрет, примерил его на стене и, по очереди прижимая каждый угол бумажными подушечками, прибил чуть выше своей головы, напротив середины стола. Затем отступил на шаг, полюбовался и, обернувшись ко мне, сказал:
— Ленин!
Я подошел поближе, задирая голову, и мне снова показалось, что веселый человек с портрета спрашивает меня:
— Ну как дела-то? Кашу ешь?
Наверное, потому так казалось, что он смотрел прямо на меня. Только на меня одного.
— Ленин, — повторил я. — А где он?
— В Москве, — ответил дед. — Ленин всегда в Москве.
Как и почти все люди, детские свои годы я помню гораздо лучше, чем годы отрочества и юности, и мне временами чудится, что из тех дальних лет долетают даже звуки голосов моих родных и знакомых. Дед говорил басовито, но мягко. Слов у него было мало, зато каждое слово доходило до меня и оставалось в душе. Бабка, та, наоборот, любила поговорить, побраниться, и дед, слушая ее, зачастую укоризненно качал головой. Он не понимал такой бурной словесной расточительности. Бабка и дед частенько поругивались: дед скажет слово, бабка в ответ — десять. Слова у нее растягивались, и казалось, что они длиннее, чем у других. Вообще я с ранних лет стал примечать, что слова имеют разные занимательные свойства.
Помню, что бабушка вошла в горницу вскоре после того, как дед прибил на стене портрет Ленина.
— Вот я вам кого привез, — сказал ей дед.
— Вижу, вижу, — кивнула бабка. Она показала рукой в угол: — Икона-то как же?..
— Икона — твоя забота, — непреклонно ответил дед. — Ты на нее и гляди.
Главные заботы взрослых меня еще не волнуют. Но я прислушиваюсь к каждому разговору и соображаю по-своему. Вот бабушка упомянула имя знакомого мне человека — дяди Александра, дедушкиного брата. Он старше дедушки. У него густая и длинная, достающая чуть ли не до штанов борода. Возле рта она вьется серебряными колечками. Дядю Александра с его бородой я немного побаиваюсь. А дедушке он совсем не нравится. Они, братья, в ссоре. Дедушка ругает дядю Александра, дядя Александр дедушку. За что? Я уже соображаю… Мой дедушка читает газеты, ходит на деревенские собрания-сходки, выступает на них. Иногда он берет с собой и меня. На сходках шумно, весело. Все курят козьи ножки. А кто и папиросы. Стол покрыт красной материей. Люди, сидящие за этим столом, кивают дедушке, здороваются с ним. Он здесь свой. Дядю же Александра сюда, по словам дедушки, и на аркане не затащишь. Он все дома, все со своими дружками. У них свои разговоры. Какие? Я не знаю. Может быть, про бога?.. Я часто слышу, как говорит дедушка: «Жизнь его переломит!» Ломают палки, доски… А как можно переломить дядю Александра, я тоже не знаю. Но до меня уже доходят предчувствия, какая это сложная и трудная штука, жизнь.
Я видел свирепые кулачные бои, когда одно село стеной шло на другое. Это было зрелище, представление; бились, как правило, в праздники, и, хотя некоторых парней избивали до полусмерти и отливали потом водой, кулачный бой выглядел не таким уж страшным. Страшнее было, когда два парня кидались друг на друга с ножами. Тогда уж хотелось зажмуриться и закричать. Самое же страшное запомнилось мне всего отчетливее.
Однажды мой дедушка с топором в руках бросился на дядю Александра.
У нас был какой-то зимний церковный праздник, наехали родственники, во дворе запорошенные снежком стояли чужие возки и сани, под ногами у взрослых в избе ползали детишки, с утра стоял несмолкаемый шум. И только на печи, куда нас, своих, меня и моего брата, загнала бабушка, было просторно. Брат спал, а я лежал на животе и смотрел, как мечутся возле печки женщины, таская гостям блюда с мясом, пироги с рыбой, разные кисели и прочую снедь. Женщинами командовала бабушка. Она распоряжалась, где что ставить и кого чем потчевать. И вдруг мирный гул застольного разговора был прерван диким криком, грохотом, звоном, разбитой посуды и женским визгом. На кухню с воспаленными от гнева глазами выскочил дед…
Он выхватил из-под печки топор. Бабушка повисла у него на руке.
— Вася-а-а!..
Дед оттолкнул ее, отшвырнул и невестку, с топором вломился в горницу. Еще не испытывая большого страха, я кубарем скатился с печки и между чьих-то ног проскочил вслед за дедом.
Мой отец, дядя и еще какие-то люди держали дедушку, а он вырывался из их рук и что-то кричал, обращаясь к своему брату.
Бледный, с трясущимися руками, дядя Александр стоял у окна, готовый проломить его и вывалиться в сугроб. Борода у него тоже тряслась, со лба срывались капли пота…
— Тятя, не дело. Не придавай значения, тятя, — успокаивали деда. — Отдай топор, это он спьяну…
Наплывами издалека все доносятся и доносятся слова… И в памяти высвечиваются лица близких людей. Лицо деда, лицо бабушки… И лицо Ленина, который улыбается мне со стены.
Улыбка Ленина освещала мое детство.
Были дни радостные. Но были и плохие дни. И у меня и у моих родных. Увидев собственными глазами, я понял, как «переламывает» жизнь людей. Всякая несправедливость оставляет в душе горечь. Но все-таки душа полна другим — светом большого и надежного счастья и сознанием того, что в жизни сбывается самое заветное.
Я часто вижу себя мальчонкой пяти-шести лет. Стоит этот мальчонка в деревенской горнице и, задрав голову, смотрит на Ленина. А Ленин с улыбкой будто говорит ему:
«Ничего, дружок, не унывай, все будет хорошо».
Так и случилось в действительности. И если не со всеми — в малом, личном, то с очень и очень многими — в большом, громадном!
Я знаю: новая жизнь примирила в конце концов деда и дядю Александра. Их сыновья ушли на фронт и не вернулись. Грустно мне рассказывать, как умерли бабушка, дядя Александр, как в военную зиму снесли на погост деда. Грустно… Да, но чтобы без утрат и скорбей — так не бывает. Отмирают старые побеги. Вырастают новые. И много их выросло. Но уже в другие годы. Они помнят о других днях. А о тех, о моих?.. Может, одного меня волнуют сейчас воспоминания о тех днях, мелькают, как в тумане, полузабытые лица, доносятся обрывки фраз… слова бабушки… слова деда… Кружится и кружится земной шар, наматываются годы, скрываются за горизонтом и солнечные и хмурые дни… Что еще забудется через десятилетие?
«Ничего, дружок, не унывай, все будет хорошо».
И мальчонка твердо верит: все будет хорошо.
Надо бы в музеях хранить старые портреты. Сколько их, оставивших неизгладимый след в жизни людей!..
Тот ленинский портрет, портрет моего детства, остался в сельской избе.
Сколько лет он висел у нас на стене? Год, два, три? Мне кажется, целую вечность. Зима сменялась летом, наступала осень, снова выпадал снег, уезжали и приезжали близкие мне люди, надолго уехал учиться отец… а добрый старик с красным бантом на груди оставался на своем месте и неизменно поглядывал на меня.
В то время я был убежден, что Ленин глядит только на меня. Это было, совсем нетрудно проверить. В какой бы угол я ни забивался, все равно доставал меня улыбчивый взгляд: «Ну как живешь, дружок?»
У детства много открытий. Это — самое для меня чудесное. Я думал, что никто не догадывается о моей тайне, гордился ею и хранил до тех пор, пока сам не открыл причину иллюзии. Но незримые нити, тянущиеся из детства, никому не оборвать. Если ты мальчишкой в мечтах парил над крышами, как птица, — всю жизнь тебе летать в поднебесье. Если в светлые детские годы поразила, как чудо, и увлекла тебя книга, — с книгой ты навек и останешься. Если тебе казалось, что на заре своего дня ты жил рядом с Лениным, — значит, так оно и есть на самом деле.
Так оно и есть на самом деле…
Так оно и было.
Прошло лет десять или даже больше. Остались позади школьные годы. Шла всенародная священная война. Я учился в военно-авиационной школе.
Однажды перед отбоем курсанты заговорили о Ленине. В нашем взводе служил курсант, дед которого был старым большевиком и хорошо знал Ленина. Он встречал Ильича на Финляндском вокзале в Петрограде, выполнял поручения вождя. Не раз видел Ленина и отец этого курсанта, тоже член партии с дореволюционным стажем. Он рассказывал сыну, когда и как это происходило.
— Когда? Как? — закидали курсанта вопросами.
К сожалению, ничего интересного, никаких подробностей он припомнить не мог. Да и косноязычен к тому же был этот счастливый парнишка: мямлил, выталкивал по слову, заикался.
— Неужели забыл? Ну припомни что-нибудь! — умоляли незадачливого рассказчика. А он словно не понимал, что от него требовалось.
И вдруг мне стало так обидно, что я помимо своей воли и совершенно неожиданно для себя объявил во всеуслышание, что тоже видел Ленина. Правда, всего один раз и в самом раннем детстве, но видел все же, собственными глазами видел! Ленин, мол, приезжал в то село, где я родился. Конечно, мне неизвестно, зачем он приезжал. Может, по делу. А может, на охоту. Это было зимой. А Ленин, как известно, любил в свободное время поохотиться. Вот это все я и выпалил, обиженный, на курсанта, который не мог толково рассказать нам о Ленине и о своих родных, которым посчастливилось жить и работать рядом с Лениным.
Выпалил — и замер, ужаснулся. Непредумышленная ложь потрясла меня, ошеломила. Как? Это я видел Ленина? Я сказал про себя?!
Мне показалось, что меня, жалкого лгунишку, засмеют, опозорят. Но ничего подобного не случилось. Никому и в голову, должно быть, не пришло уличать меня во лжи. Все повернулись ко мне, наперебой забросали вопросами. Мне поверили!
Помнится, я лепетал, что Ленин приезжал на санях, его окружили мужики, он с ними долго разговаривал.
— Точно, я читал об этом! — сказал один из курсантов.
— И я читал! — подхватил другой.
Так оно и было в действительности: Ленин часто бывал в подмосковных селах и, конечно, не раз беседовал с крестьянами. Только я не мог быть свидетелем ни одной из этих бесед, я, как и мои товарищи, читал об этом в какой-нибудь книжке.
И все-таки… Да, все-таки мои неожиданные слова не были простым хвастовством. Обдумывая после этот случай, я понял, что в душе свято верил в сказанное. Ленин как живой стоял у меня перед глазами. Он не разговаривал с крестьянами, он говорил со мной: «Ну как дела, дружок? Как живешь? Ничего? Я рад за тебя, рад…»
Нет, это правда, я видел Ленина, все-таки я его видел! Все самое яркое в моем детстве связано с Лениным, и из детства еще доносятся ленинские слова…
Как говорится, из песни слова не выкинешь. И теперь, вернись я в мою суровую военную юность, в тот вечер перед отбоем, вновь, как клятву, повторил бы, что я видел Ленина. Из песни слова не выкинешь.
Миллионы и миллионы людей земного шара живут рядом с Лениным. Ленин у них — с детства, с первых младенческих слов, с изначальных открытий мира. Биографии миллионов невозможны без Ленина. И моя биография тоже.
Можно сказать, что началась она в тот день, когда дед повесил в нашей избе ленинский портрет. С этого события я и веду отсчет. Ленинская улыбка провожала меня в ту дальнюю дорогу, которая называется жизнью.
Дорога вьется. Давно нет избы, где прошло мое детство. Почему ее не стало? Куда она исчезла? Это неважно. Все равно висит на стене портрет Ленина, все равно светит его улыбка. Вот что главное.
К отцу
Рассказ
Теплихин задумчиво курил на веранде, голова у него была опущена, серый пепел падал мимо чайного блюдца. На веранду вышла жена. Она молча смахнула пепел с подоконника, сожалеюще посмотрела на Теплихина, потом тихо спросила:
— Поедешь?..
— Все. Решено, мать! — Теплихин бросил окурок в блюдце.
Жена ничего не сказала, только вздохнула и ушла в хату: сдалась.
До этого она долго отговаривала мужа. Куда ехать? Зачем?.. Тридцать лет прошло! Но именно поэтому Теплихин и настаивал: уже тридцать годов минуло, пора, душа требует, мысли спать не дают. И он не врал: с каждым днем все сильнее тянуло его в дорогу, звала совесть.
Собрался Теплихин быстро, в тот же день: внутренне он давно был готов к этой поездке. Посчитал с женой: два дня туда, день там, два обратно — и недели все это дело не займет, останутся еще две недели с лишком, до конца отпуска Теплихин и виноград опрыскает, и сарайчик подремонтирует, и съездит с женой к ее престарелым родителям, это тоже, конечно, надо. Теплихин вытащил из-под кровати чемодан. Жена рассоветовала. Лучше старый портфелишко. Портфель для такого путешествия удобнее: сунет туда запасную рубашку, шаровары домашние, плащ, полотенце да мыло, а для еды сетку возьмет. Теплихин согласился: верно, с одним портфелишком удобнее, — и поехал налегке.
Билет он взял за полчаса до отхода поезда. На поезда, идущие к морю, билетов не было никаких, ни плацкартных, ни мягких, а на поезд в северном направлении Теплихин легко достал боковую полку, причем нижнюю. Удачно началась поездка!
В вагоне Теплихину хотелось помолчать, он в разговоры не вмешивался. Но когда в купе едут шесть человек, молчаливый пассажир, к тому же, видимо, непьющий, у всех вызывает интерес. Кто такой? Куда едет? По какой надобности, если, конечно, не секрет? Никакого секрета у Теплихина не было, и он коротко отвечал назойливым спутникам, что едет к отцу в Курскую область.
— К отцу? — переспрашивали любопытные. Они приглядывались к Теплихину, словно удивлялись, что у такого пожилого человека еще жив отец. Некоторые даже интересовались, сколько же лет его папаше. Наверное, совсем старичок?..
— Нет, молодой, — сдержанно отвечал Теплихин. — Тридцать шесть лет, моложе меня.
Подробностей он не сообщал, и любопытные тотчас же оставляли его в покое, лишь время от времени искоса на него поглядывали. Теплихин не обращал на это внимания. Он не был по характеру молчаливым, но откровенничать, раскрывать душу перед посторонними, которым все равно, о чем рассказывает человек, — это считал делом зряшным.
В Москве Теплихин переехал с вокзала на вокзал и тоже без особого труда выправил билет на курский поезд. Ему опять досталась боковая полка, только верхняя, он сразу же лег, потому что поезд отходил поздно вечером; а на рассвете заботливая проводница дотронулась до его плеча:
— Ваша станция, гражданин…
Через пять минут Теплихин был уже на перроне. Он ехал в последнем вагоне, низенькое станционное здание виднелось сквозь туман далеко впереди. Вставало над мутными полями за станцией солнце, было холодно и бесприютно. Теплихин поежился, закурил сигаретку и вслед за уходящим поездом побрел к вокзалу. Теперь уже нужно было расспросить у людей, где находится та самая деревня Бузулук, в бою за которую погиб в июле 1943 года его отец Яков Гаврилович. Близко ли деревня, далеко ли?..
В вокзале никого не было, лишь пожилая женщина подметала пол.
— Бузулук? — не задумываясь, переспросила она. — Да рядом, соколик. Я сама тамошняя. За угол завернешь, по улице пройдешь и направо в поле — тут тебе и Бузулук. Километра нет. — Она внимательно поглядела на Теплихина и тише прибавила: — Лежит кто-нибудь?..
Теплихин кивнул, поблагодарил уборщицу и вышел на улицу.
Он не предполагал, что в конце июня, считай, в разгар лета, здесь так холодно. Зеленый импортный пиджак, надеть который велела жена, от постоянной носки вытерся и почти не грел. Теплихин вынул из портфеля измятый плащ и кепку, прихваченную на всякий случай. В плаще и кепке стало потеплее. Потом быстро зашагал по булыжной дороге, и скоро улица пристанционного поселка кончилась, и открылась степь, похожая на кубанскую, — без леса, с редкими кустиками вдоль шоссе. Справа виднелись строения. Очевидно, это и была деревня Бузулук…
Волнение охватило Теплихина. Он выплюнул сигарету и ускорил шаг, озираясь по сторонам. Теперь его обдало жаром, хотя ветер в поле был резче и холоднее. В груди у Теплихина что-то сжалось, дыхание сбилось, и закололо в сердце. Он остановился на сухой тропе, не понимая, что с ним происходит, и только тогда увидел левее деревни высокий белый столб и две белые стены по обе стороны столба. Это был, несомненно, памятник погибшим, и не в деревню, а туда, к памятнику, нужно было идти Теплихину.
Он машинально расстегнул рубашку, потер ладонью горячую грудь и, свернув с тропы, прямо по полю — по красноватому клеверу — пошел к братской могиле.
Теплихин уже не спешил. Он чувствовал, что встреча с отцом, такая запоздалая, близка, не то страшился, не то стыдился чего-то и был втайне доволен, что приехал рано утром, когда все люди еще спят. Люди сейчас помешали бы ему, он хотел прийти на могилу, один, чтобы постоять спокойно, не чувствуя на себе чужих взглядов и не отвечая на вопросы. В поезде он не думал об этом, не мог знать, как все произойдет, и не предчувствовал, как трудны будут последние минуты перед встречей…
Клевер остался позади, теперь Теплихина отделяла от братской могилы лишь лужайка с тремя невысокими березками на ней. Теплихин последний раз остановился, оглядываясь назад, словно хотел убедиться, что не только возле памятника, но и на окраине станции, откуда он пришел, не видно ни одного человека. Так оно и было: в шестом часу утра он один стоял под голубеньким небом посередке поля, на котором три десятилетия назад гремел бой. Именно здесь, может быть, был убит отец Теплихина. 17 июля 1943 года погиб смертью храбрых в бою за освобождение деревни Бузулук. Пуля ударила в бок и прошла навылет. Может быть, как раз здесь. Сейчас над полем летели, деловито перекликаясь, мирные грачи.
Медленно стаскивая кепку, Теплихин приблизился к братской могиле. Перед обелиском, слева и справа от центральной дорожки, лежали на земле мраморные плиты. Этих плит было много, десятка три, если не больше, и на каждой из них в два столбца были высечены фамилии:
Ст. лейтенант Лобачев Г. В.Сержант Шелгунов М. З.Рядовой Остапенко И. М.Рядовой Козинкевич П. Ф.
Теплихин оторвал взгляд от первой плиты, повернул голову вправо. В глазах у него жарко зарябило. На каждой плите было обозначено по двенадцать человек. Много же ребят полегло в бою за деревню Бузулук! За одну деревню…
Нужно было одолеть весь этот список, и Теплихин стал читать по порядку, шевеля губами. Он произносил звание, фамилию, буквы, обозначающие имя и отчество. Плита от плиты была расположена на расстоянии шага. Так он сделал восемнадцать шагов и возле самого обелиска перешел с левого на правый ряд. Фамилии были разные: русские, украинские, белорусские, татарские, узбекские. Были очень странные. Были хорошо знакомые, привычные фамилии. Не было только фамилии отца. Теплихин продолжал шевелить губами, поминая всех — рядовых, сержантов, офицеров, но с каждым шагом в груди у него, где раньше горячо спирало дыхание, делалось холоднее, образовывалась пустота, и страх неизвестности заполнял эту пустоту. Теплихин смахнул со лба обильный пот, Оставалось всего три плиты. Три плиты, тридцать шесть фамилий. Нет, уже не три, а две, и не тридцать шесть, а двадцать четыре человека лежали в земле, последние, не помянутые вслух. Отца, который погиб здесь, — это Теплихин знал точно, наверняка, — в длинном списке пока не было. Но как же так?.. Почему?..
Охваченный смятением, Теплихин шагнул к предпоследней плите, и вдруг мелькнула, запрыгала перед глазами и легла плашмя на мрамор родная фамилия:
СЕРЖАНТ ТЕПЛИХИН Я. Г.
Теплихин несколько секунд смотрел на серые буквы, в которых кое-где еще сохранилась позолота. У него задрожали ноги, выпал портфель и кепка.
— Батя, — чуть слышно выдавил он, — ты здесь?
В хриплом невнятном голосе прозвучали радость, горе и боль. Все-таки Теплихин разыскал отца. Он его разыскал! Бумага тридцатилетней давности не соврала: отец лежал вблизи деревни Бузулук. Но он лежал в этой могиле уже тридцать лет, а сын только на тридцать первом году удосужился навестить отца…
— Вот так, батя, — снова прошептал Теплихин. — Такая она, жизнь…
Он лукавил сейчас от стыда: знал, что на жизнь сваливать нельзя. Жизнь в эти годы была разная: и очень тяжелая, темная, и полегче, и совсем легкая, сытная. После войны Теплихин отслужил в армии. В это время в одночасье умерла мать. Вернувшись на Владимирщину, в родное село, Теплихин никого из родственников не застал: тетка тоже умерла, отчим продал дом и завеялся на Дальний Восток. Теплихин служил на Кубани. Там у него осталась девушка. Два дня он, неприкаянный, бродил по селу, напился с горя, у кого-то выбил стекла в окне и, страшась расплаты, тайком возвратился на Кубань, в станицу. Родители девушки не обрадовались его возвращению: не о таком зяте мечтали. Но тут оказалось, что дочка была беременной, и поэтому родители смирились. Как и следовало ожидать, Теплихин с ними не ужился. Он перевез жену в районную станицу. Стали потихоньку строить дом. Пять лет строили, потом столько же заводили обстановку. Ни разу никуда не съездили, даже не отдыхали. Так что до шестидесятого года и речи не могло быть о поездке в Курскую область, хотя Теплихин и заводил иногда разговор об этом. Когда же хозяйство наладилось и появились лишние деньжишки, — Теплихины развели виноград, делали вино на продажу, — времени для отдыха и посторонних поездок стало, кажется, еще меньше. Каждый день отпуска был заранее распланирован. Жена недовольно поджимала губы, когда Теплихин вспоминал об отце. Она считала поездку на могилу за тридевять земель пустой затеей, блажью. Что изменишь? Человека не воскресишь. Лежит, ну и пусть себе лежит. Зачем, ехать? Жена по-всякому отговаривала Теплихина. Она не понимала чувств мужа, потому что война ее род совсем не затронула: отец на войне не был, старший брат остался жив, даже дальние родственники и те не пострадали. Да, у жениных родичей далеких могил не было. Потому-то жена и препятствовала Теплихину.
— Вот такие дела, батя…
Теплихин понимал, что он оправдывается над могилой, ищет уважительные причины. Они, конечно, были, жизнь засасывала, ломала планы, диктовала свое, и человеку трудно было справиться с ее наклонным, как на горной реке, течением. Вырваться, повернуть в сторону?.. Не каждый это мог. Теплихин знал: ему легко оправдаться, но это успокоения не приносило. Другие-то ездили! А что, у них жизнь была легче? Они ездили все-таки, и не раз, а он, Теплихин, собрался лишь тогда, когда душе стало невмоготу. Тоска и раскаяние выжимали у него кровь из сердца.
Он стоял над плитой долго, не замечая ничего вокруг, пока солнце не поднялось и не стало припекать в голову. Тогда Теплихин пришел в себя и, спохватившись, посмотрел на часы. Шел уже восьмой час, значит, он простоял в одиночестве гораздо больше часа. Ноги у него устали, затекли. Он переступил с ноги на ногу, не решаясь ни отойти от плиты, ни присесть рядом. Баба упала бы на землю и выплакалась. А у Теплихина слез не было, лишь глаза были чуть-чуть влажные.
Он еще в самом начале заметил на некоторых плитах увядшие цветы. Лежали целые охапки и маленькие букеты. Кто-то часто приходил сюда: цветы были добрым, сердечным знаком. И Теплихину тоже захотелось оставить на своей плите цветы. Больше он не знал, нем отметить свой приезд…
Он вблизи нарвал клевера, ромашек, васильков и других цветов, получилась большая охапка, она закрыла всю плиту. Теплихину это не понравилось. Он уложил цветы вокруг плиты венком.
Время подходило к девяти утра. Теплихин снял плащ, разостлал его под березой, сел и вынул из портфеля бутылку молока, купленную в Москве. Он машинально опорожнил ее, хотел выбросить, но сообразил, что здесь бросать нельзя, и сунул пустую бутылку в портфель. Он с радостью заплакал бы сейчас, но из глаз, казалось, невозможно было выдавить ни слезинки, и это Теплихина расстраивало и обижало.
Тонкий звук, похожий на журавлиный крик, отвлек его, он увидел, что от станции по дороге движется детская колонна. Впереди шел мальчик и трубил в горн. Теплихин понял, что это пионерский отряд. Он увидел и пионервожатую, она шла сбоку и была чуть повыше своих пионеров. Отряд направлялся к братской могиле. Теплихин встал, собрал свои вещи и отошел к самой дальней березе, на край лужайки. Здесь он мог посидеть, не привлекая внимания.
Пионерский отряд приближался. Горнист трубил непрерывно. Пионеры шли в ногу, у каждого из них в руке, прижатой к груди, был букетик цветов. Теплихин уже мог разглядеть лица ребят. Они были строгие и сосредоточенные, как у взрослых, которые участвовали в большом и серьезном деле.
Пионервожатая остановила отряд у братской могилы, повернула ребят лицом к обелиску. Горнист последний раз пронзительно протрубил, вскинулись руки в пионерском приветствии. Прошла минута в полной тишине. Потом ребята по команде пионервожатой сорвались с места и кинулись возлагать цветы — каждый на свою плиту. А двое из них — мальчик и девочка — встали возле обелиска и замерли, как часовые на посту. Они глядели прямо перед собой, и, кажется, ничто не могло смутить их торжественного спокойствия.
Чуть приподнявшись, Теплихин с затаенным дыханием наблюдал за ними. Он не заметил, как к нему приблизилась девочка и, выждав немного, сказала:
— Здравствуйте, дядя!
— Здравствуй, — ответил Теплихин, вопросительно поглядев на девочку.
У нее на беленьком личике отчетливо красовались рыжие веснушки.
— Вы к кому-нибудь приехали? — спросила девочка. — К сыну?..
Теплихин, ласково улыбаясь, покачал головой.
— Нет. К бате. К отцу.
— К отцу? — тихо переспросила девочка, видимо соображая, верить ей или нет.
Теплихин вспомнил, какое впечатление производили в вагоне его ответы. Ну что ж, в свои сорок восемь лет он выглядел гораздо старше. Щеки, лоб посечены морщинами, волос на голове почти не осталось. Старик, можно сказать. Не разглядев, можно дать и шестьдесят…
— А как ваша фамилия? — спросила девочка.
— Теплихин, дочка, — он показал рукой в сторону обелиска. — Теплихин. Там есть.
Он еще не успел договорить, как рыженькая девочка вскинула руки и изо всех сил радостно закричала:
— Тепли-ихин! Виктория Михайловна, здесь Теплихин! Сержант Теплихин нашелся!
Она кричала и подпрыгивала от возбуждения. Теплихин не успел остановить ее. На крик девочки со всех сторон бежали пионеры. Теплихин вскочил, похватал плащ, портфель, кепку. Но пионеры уже окружили его. Быстро подошла и озадаченная большеглазая пионервожатая Виктория Михайловна.
— В чем дело? Что такое, Раечка?
— Он — Теплихин! — не скрывая восторга и показывая на Теплихина пальцем, ответила Раечка. — Этот дядя… Говорит, что он сын.
— Это правда, товарищ? — Виктория Михайловна вскинула на Теплихина свои большие синие глаза.
— Да, точно. — Теплихин суетливо полез во внутренний карман пиджака. — Вот у меня… это самое… и документы…
— Не надо, не надо! Что же вы так долго не отзывались, Петр Яковлевич? Вас ведь Петром Яковлевичем зовут?
— Точно, — кивнул Теплихин.
— Мы вас по всему Союзу разыскивали. Вы же у нас последний из необъявившихся родственников! Из вашей деревни пришло письмо, что у сержанта Теплихина был единственный сын, приезжал домой после войны. Вы, наверное, по нашему розыску приехали?
— Нет, девушка, — Теплихин трудно покачал головой. — Я сам… Позвало.
— Да что же я! — спохватилась Виктория Михайловна. — Здравствуйте, Петр Яковлевич! — Она протянула Теплихину руку. — Мы вас очень, очень ждали!
— Меня?..
Теплихин боязливо дотронулся до мягкой девичьей ладошки.
— Ребята! — воскликнула Виктория Михайловна. — Поприветствуем Петра Яковлевича Теплихина — сына Героя Великой Отечественной войны!
И тотчас же школьники выстроились в шеренгу и вслед за пионервожатой дружно вскинули руки в пионерском приветствии.
Теплихин невольно сгорбился и еще острее почувствовал свою вину. Не понимая, за что его приветствуют, он смущенно переводил взгляд с одного детского лица на другое.
— А теперь, — произнесла раскрасневшаяся Виктория Михайловна, — пожалуйста, скажите пионерам несколько слов.
Теплихин попятился.
— А что говорить-то?..
— Для начала немножко о себе, — шепнула Виктория Михайловна.
Теплихин откашлялся, изумленно посмотрел на пионеров, которые, отхлынув шага на три, глядели на него с прежней радостной готовностью и ожиданием чуть ли не чуда.
— Не привык я это… говорить-то, — пробормотал Теплихин. — Ну так что… про себя, значит. Я строитель — такая у меня профессия. Работаю в ПМК, ребятки, то есть, проще говоря, в передвижной механизированной колонне. По рису мы, значит… Живу на Кубани, в станице. Станица у нас большая, богатая. Да. А я вот, значит, первый раз приехал сюда… такие дела, ребятки.
Переминаясь с ноги на ногу, Теплихин умоляюще взглянул на Викторию Михайловну. Она подбадривающе закивала, шепча:
— Продолжайте, продолжайте. Напутственное что-нибудь. Для ребят.
— Напутственное? — громко переспросил Теплихин. — Вот грех-то какой. Чего же найти?.. Не предполагал я…
На лице у девушки-пионервожатой отобразился испуг.
Это перепугало и Теплихина.
— Сейчас, сейчас, — поспешно сказал он. — Найдем что-нибудь… такое дело, значит. — Теплихин набрал в легкие побольше воздуха и выдохнул. — Так вот что я хочу вам сказать, ребятки… Когда я услыхал это… вашу трубу, у меня сердце дрогнуло. Думаю: идут пионеры к могиле. Юное поколение не забывает, значит!
Он покосился на пионервожатую, она поощрила его кивком головы.
— Хорошо, ребятки. Очень, значит, хорошо. Большое вам спасибо!
Теплихин снова увидел ясные глаза ребят и вдруг понял, что эти мальчики и девочки примут все, что он скажет, и поймут как надо. Ему сделалось легко, и с этой минуты он перестал поглядывать на Викторию Михайловну.
— О себе я говорить, конечно, больше не буду. Хотя нет, вот что надо сказать. Вот поглядите на меня. Ну поглядите, — Теплихин ткнул рукой в грудь. — Старый я? Старый, старый, дед, можно сказать. Дед! У меня внуку третий год пошел. По всем законам, значит, дед. А я — не воевал! Не был, значит, на войне. Может, кто из вас подумает: избежал как-нибудь, отсиделся? Нет, ребятки, такого греха на моей совести не имеется. Не успел я на войну, мой год после войны призывался. Понимаете эту мысль? Не воевавшие никогда — уже в деды записались, а войны все нет и не предвидится! Простое ли это дело? И кого надо благодарить? — Теплихин протянул руку к обелиску. — Их! Они за всех нас отвоевались. Сколько человек за одну деревню пало. Я целый час фамилии читал. За одну деревеньку! А у каждого — семья. Понимаете эту мысль?
То, что Теплихин говорил пионерам, глубоко задело сейчас и его самого. Он и сам впитывал эти слова, как будто усваивал их впервые.
— И вы воевать не будете! — увлеченно воскликнул он. — Они и за вас отвоевались! За всех дело сделали. Вот, значит, ребятишки, какое дело. И батя мой, он тоже… — Теплихин прижал руку к груди. — Вот тут у меня это. Тут все. Разве ж я думал? Я когда домой вернусь, всем стану рассказывать. Чтобы все знали и понимали, как нам надо помнить их и беречь о них ее, память. Вот. А вам еще раз спасибо, ребятки. Большое спасибо.
Теплихин смахнул со лба пот, отступил на шаг и снова посмотрел на Викторию Михайловну.
— Спасибо вам, — сказала она, — от меня и от ребят.
Теплихин протестующе замахал руками, стараясь унять аплодирующих пионеров. Он понимал, что благодарить его не за что. Не стоило благодарить…
— Как хоть я сказал-то? — смущенно поинтересовался он, когда Виктория Михайловна скомандовала, чтобы ее питомцы разошлись. — Все правильно?
— Правильно, — заверила его пионервожатая. — Хорошо и даже эмоционально.
— Эмоционально? — повторил польщенный Теплихин. — А я это… в первый раз. Еще хотел вот сказать… Такое дело, значит: глаза сухие, слез, как на грех, нету. Хочу заплакать — и не могу, — пожаловался он. — Нету слез — и все тут. Вот про это я еще хотел сказать.
— Нет, нет, зачем же, — решительно возразила Виктория Михайловна. — Об этом не нужно было. У вас хорошо получилось, эмоционально. Зачем же говорить о слезах?
— Так я не сказал, — пробормотал Теплихин.
— Кстати, — опять спохватилась Виктория Михайловна, — вы знаете, что в деревне Бузулук живет женщина, на глазах которой погиб ваш отец?
Теплихин побледнел, и сердце у него забилось так же, как оно билось утром, когда он увидел имя отца на мраморной плите. Он словно очнулся от глубокого сна и вспомнил, зачем сюда приехал.
— В деревне? Живет?.. — переспросил он.
— Да, разумеется, вы об этом не знаете, — сказала Виктория Михайловна. — Вам надо к ней сходить. Сейчас Раечка вас проводит. А потом мы обязательно покажем вам наш школьный музей, запишем ваш адрес. Мы переписываемся со всеми родственниками погибших воинов. И вам тоже мы будем писать о наших мероприятиях. Но об этом мы договоримся после, Петр Яковлевич, а теперь… Раечка! — позвала Виктория Михайловна свою пионерку. — Раечка, ты сейчас проводишь Петра Яковлевича к Семеновне. Проводи и возвращайся.
Девочка кивнула.
— Пойдемте, дядя, — сказала она.
Девочка всю дорогу расспрашивала Теплихина о разных разностях, он курил и отвечал коротко, невпопад.
Деревня Бузулук лежала в низинке. Теплихин и Раечка шли по левой стороне улицы мимо разнокалиберных домиков. Были среди них и совсем новые, светлые, с расписными крылечками, были и старые, кособокие, поставленные, очевидно, сразу после войны. Впрочем, Теплихин почти не глядел по сторонам: в груди у него все замерло и затаилось в ожидании встречи.
Раечка остановилась возле низенькой хатки.
— Бабушка Семеновна! А бабушка Семеновна!
Погасив сигарету, Теплихин ждал: кто выйдет? И какая?..
Вышла та самая пожилая женщина, которую он видел утром в вокзале, — уборщица, показавшая ему дорогу к братской могиле. У Теплихина запершило в горле, он хотел откашляться, но не мог.
— Бабушка Семеновна, этот дядечка — Теплихин!
Не отрывая от Теплихина прямого взгляда, Семеновна кивнула и, словно давно обо всем догадавшись, без удивления спросила:
— Сынок?
— Да, — выдавил Теплихин, — сын. Петр.
— Знаю, что Петр, — отозвалась Семеновна. — Приехал. Давненько ждет твой папаша. Ну, хоть и долго ждал, да дождался. Пойдем.
И она, заметно согнувшись, с тонкими руками, повисшими вдоль тела, пошла в хату. Теплихин слепо двинулся вслед за нею.
Она вошла в тесную комнатку, села на скамейку, показала Теплихину рукой на стул.
— Откуда приехал?
— С Кубани, мамаша…
Перед глазами Теплихина то всплывали из какого-то тумана, то прятались большая белая печь, стол, узкая кровать с одной подушкой.
— С Кубани, — повторила Семеновна, изучая Теплихина и его дорожные пожитки. — Вот видишь… кто же знал. А я, соколик, тут сколько уж лет вроде бы родственницей единственной при нем состою.
— Как его… убило? — выдавил Теплихин.
— Как убило? Да как убивают… просто. На моих глазах за войну их столько полегло! Вот, гляди. — Семеновна наклонилась к оконцу: — Видишь огород, улицу?
Теплихин протер ладонью глаза, кивнул.
— Я, когда бой начался, в подвале сидела. Вон там, на огороде, хата у нас стояла. От нее одна печка осталась. Печка да подвал. — Семеновна помолчала, словно стараясь вспомнить, как все было. — Сижу в подвале, дрожу от страха. Сначала из пушек били, потом вроде бы затихло. Я выглянула, — молодая была, любопытная, — вижу: бежит он, твой отец. В руке винтовка, кричит так хрипло: «Вперед! За Родину!» Я перекрестилась: значит, свои, родненькие. А тут… во-он там на горке… Нет, отсюдова не видно. На горке слева у него пулеметы были, он и ударил из пулеметов. Отец твой как бежал, так с разбегу и рухнул. Упал на бок и покатился. Я спряталась с испугу, потом слышу — стонет. Выглянула снова — он шевелится. Ну я выскочила, перетащила его к печке… Вот и все, соколик. Через час он преставился, царство ему небесное! — Семеновна привычно перекрестилась.
— И все? — проронил Теплихин.
— И все, — подтвердила Семеновна. — Все, соколик. Жаловался перед смертью, что не пожил подольше. Молодой он был, твой отец.
В это мгновение Теплихин почувствовал, как по щекам у него покатились слезы. Он отвернулся, провел ладонью по лицу.
— Плачь, соколик, не стесняйся, — вдруг подобрев, сказала Семеновна. — Папаша твой не плакал. Слез у него не было, высохли в бою. Ни слезинки не выжал. А ты плачь, тебе можно.
Теплихин вскочил и, сдерживая рыдания, натыкаясь на печку, на дверной косяк, выбежал во двор.
Через минуту Семеновна услыхала звуки, похожие на удары топориком. Она высунулась в дверь. Увидела: Теплихин стоял на коленях, согнувшись, как от резкой боли в животе. Косарем, которым она щипала лучину, он кромсал березовую чурку и, всхлипывая, как будто икая, повторял:
— Прости, батя! Батя, прости!..
Старая женщина в щель перекрестила Теплихина и тихо прикрыла дверь.
Полюбить хочется…
Рассказ
Татьяна Мишакова прочитала письмо и побежала за водой на колодец. Скоро вся деревня знала, что к агрономше приезжает племянник, да не простой человек, а художник. Такое в деревне случалось первый раз. Председатель колхоза разрешил Татьяне взять подводу, и она, вымыв полы в избе, поехала встречать племянника на станцию. За околицей ее догнала студентка Верка Панкратова.
— Тетя Таня, можно и мне с вами?..
— Садись. Места не просидишь.
После Татьяна каялась, что взяла студентку. Племянник, Борис Алексеевич Мишаков, всю обратную дорогу проговорил с Веркой. И сели-то они рядышком, словно были знакомы сто лет. Татьяне было обидно до слез…
Но обижалась тетка не долго. Утром племянник усадил ее возле озаренного солнцем окна. На плечи накинул цветастый шерстяной полушалок. На подоконник поставил в кувшине букет маков. И сказал, чтобы она все время улыбалась, вспоминая что-нибудь хорошее. Улыбаться Татьяна разучилась еще во время войны, но тут пришлось. «Так, так, — поддержал племянник, — у вас, тетушка, прорезывается улыбка Моны Лизы». Татьяна ничего не понимала и застенчиво скалила зубы.
Племянник рисовал часа два. Татьяна взопрела вся, больше от волнения, чем от жары. А когда он предложил посмотреть, она пошла тихонько и на цыпочках, словно боясь кого-то спугнуть.
— Ну что? — небрежно спросил племянник.
— Ой, — воскликнула она, — как барыня!..
Племянник улыбнулся.
— Колхозница наших дней. Чем она не барыня?
Татьяна покачала головой, но ничего не сказала больше; она была так довольна, что не находила слов.
Целый день к Татьяне бегали соседки, любовались портретом, с завистью поглядывали на Мишакова. Вечером, как говорится, нанес визит и сам председатель.
— Привет искусству, — сказал он и, разглядывая портрет агрономши, осторожно осведомился: — Это что же… в испанском стиле, разрешите спросить?
— Стиль наш, русский, — Мишаков помолчал немного и дотронулся до пиджака председателя. — Здесь пошли бы вам ордена.
— Как же, имеются, — быстро отозвался председатель.
— Тогда в любое время. В новом костюме. При всех регалиях. С удовольствием.
Председатель смутился.
— Боюсь вам обещать… времени-то у меня…
— Министры позируют, батенька мой, — сказал Мишаков. — Государственные деятели.
— Есть.
Поздно вечером Мишаков лежал в сенях и думал о Вере Панкратовой, которая обещала завтра пойти с ним на этюды.
Мишаков любил писать валки сухого сена, копны, стога. Хорошо получались у него белые облака над полем и облака, отраженные в воде. За пейзажи Мишакова всегда хвалили в училище. Да жаль, что только за пейзажи. Мишаков мечтал стать известным портретистом. Он рисовал портреты с детства и на конкурс в училище послал двадцать один портрет. Смешно конечно, что именно двадцать один… Профессор Павловский тогда сказал: «Что-то есть». Больше он ничего не говорил о его портретах вплоть до выпуска, когда Мишаков — так, между прочим — показал ему новые работы. «Что-то есть, — повторил профессор. — Может быть, в этом ваше будущее». Этого Мишакову было достаточно. Он не утаил оценку профессора, и все посчитали, что мэтр его благословил. В одной газете появилась статья, где Мишаков был назван портретистом, хотя портретов он не выставлял. Ему еще нечего было выставлять. Автор статьи не учел эту немаловажную деталь. Опровержения, конечно, не последовало, но Мишакову все равно было неловко. Он объявил друзьям, что едет к тетке, все лето просидит в деревне и что-нибудь да привезет оттуда.
И вот теперь, через две недели после приезда, Мишаков был уже уверен, что привезет непременно. Он неторопливо писал Веру Панкратову, втайне решив выдать ее за молодую жизнерадостную колхозницу. Вера легко смеялась, нужно было только показать ей палец, и Мишаков с удовольствием выписывал на ее румяных щеках ослепительные ямочки. На этот портрет он очень рассчитывал. А потом он думал еще разок, уже по-настоящему, написать тетку, которую в деревне звали агрономшей, потому что она когда-то училась на краткосрочных агрономических курсах. В лице у нее Мишаков разглядел что-то интеллигентное, и название будущего портрета пришло само собой, как говорится, из жизни: «Колхозная агрономша…»
Друзьям перед отъездом он сказал, что станет работать от рассвета и до заката. Это было, конечно, преувеличение, он не поднимался раньше восьми, иногда и в девять еще спал, но работал все-таки каждый день и даже уставал, а усталость приносила ему удовлетворение. Все шло, так сказать, по плану, сомнения Мишакова не мучили.
В деревне закончился сенокос — время прекрасной, но изнурительной работы, когда людям приходилось вставать затемно, косить по росе, а потом сушить скошенную траву, шевеля ее на лугах; складывать сено в копешки, свозить или переносить копешки на шестах в подобранное заранее место, ставить похожие на башни стога. Но вот последний стог задрал в небо свой шест, и голубые луга опустели, ни подвод на дорогах, ни дыма от костров, только на опушках леса, в малинниках, раздавались призывные человеческие голоса.
За малиной ходили старухи да дети. Взрослым сразу же нашлась другая колхозная работа, и деревня по-прежнему с утра и до вечера была безлюдной. Лишь иногда появлялись на улицах доярки, идущие домой отдыхать: ферма была близко.
Одна из доярок, Марфуша Силуянова, чаще всего попадалась Мишакову на глаза. Она была соседкой Татьяны, и Мишаков чуть ли не каждый день видел ее сидящей на завалинке, под окнами своей избы. Ходить Марфуша, видно, стеснялась: она была хроменькой, по-деревенски — уродицей. Но, пожалуй, не хромота была главным несчастьем двадцатидвухлетней соседки. Хромых женщин зачастую выручает красивое лицо. У Марфуши, ей на горе, лицо было удивительно непривлекательным: острый нос, вытянутый книзу подбородок, тонкие, прорезанные на ровном месте губы. Взглянув на Марфушу первый раз, Мишаков сразу же отвел взгляд и подумал, что именно такой он теперь представляет сказочную кикимору.
Мишаков жалел соседку и, здороваясь с ней, старался держаться поприветливее. Как-то он высыпал ей на колени горсть конфет, она удивленно распахнула рот, и лицо ее сразу вспыхнуло, да так густо и пламенно, что у Мишакова осталось ощущение неловкости, и к нему подкралась боязнь, как бы Марфуша не подумала, что он пытается за ней ухаживать.
Дня через три Мишаков опять увидел ее на завалинке. Поздоровавшись с ней, он хотел пройти мимо, когда она робко сказала:
— Борис Лексеич… посидели бы со мной.
Мишаков остановился и неуверенно посмотрел на Марфушу.
— А в самом деле, почему и не посидеть?
— А то все рисуете, рисуете! — обрадовалась Марфуша, и руки ее, не находя места, принялись быстро поправлять косынку, кофточку и разглаживать на коленях юбку.
— Да, все рисую и рисую, — согласился Мишаков. Он сел на завалинку, поставив между собой и уродицей этюдник. — Надоело… ужас!
— Пальцы устали, Борис Лексеич? — ласково спросила Марфуша.
— Почему пальцы? Вообще.
— А у меня так болят пальцы, — пожаловалась Марфуша. — Пока своих коровушек выдою… Одиннадцать штук у меня. Каждый день три раза.
Мишаков почувствовал, что от Марфуши сладковато пахнет молоком и коровником.
— Трудная у тебя работа, — сказал он.
— У вас труднее, Борис Лексеич. Рисовать не каждый умеет, а коровенок доить… Вон вы как председателя нашего нарисовали!
— Ты видела?
— Ходила смотреть. С ордена-ами! — почтительно произнесла Марфуша. Она кинула на Мишакова робкий взгляд и спросила:
— А вы всех рисовать можете, Борис Лексеич?
— Всех, Марфуша, не нарисуешь.
— Ну, а меня… вы бы, может, согласились? — прошептала она.
— Тебя? — удивился Мишаков. — Но ведь это отнимет много времени. Тебе лучше бы сфотографироваться съездить. И быстро и хорошо.
— Нет, нет, — отказалась Марфуша, и в глазах у нее промелькнул испуг. — Карточек я не хочу. Сделайте мне картину, Борис Лексеич, чтобы я красивая была! — взмолилась она.
Не сдержав усмешки, Мишаков спросил:
— Послушай, ты часто врешь?
— Я?.. — Марфуша растерялась. Она была обижена, но не могла это ему высказать. — Борис Лексеич… Да никогда! Чтобы врать… Да я!..
— Зачем же меня врать заставляешь?
— Я заставляю?
У Мишакова мелькнуло, что уродица не поймет его. Он пожалел, что подсел к ней, и, не глядя на нее, пробормотал:
— Мне показалось, что тебе не очень-то нужна такая картина…
— Нужна, нужна, ой, как нужна! — воскликнула Марфуша. — Нарисуйте, Борис Лексеич!
— Ну что ж, если ты горишь таким желанием… — сказал Мишаков, досадуя на себя.
«Ведь все равно рисовать эту кикимору не буду! — подумал он. — Как ее рисовать-то…» — Только придется тебе подождать, пока я Веру Панкратову не закончу.
Услыхав это, Марфуша сразу как-то сгорбилась.
— Вы ее, Верку, до осени не закончите, Борис Лексеич.
— Почему?
Марфуша покусала губы и, вспыхнув от стыда, прошептала:
— А вы с ней за стога ходите…
— Кто же тебе сказал? — спросил Мишаков, чувствуя, что тоже краснеет.
— Я сама видела.
— Сама? А кто еще?..
Марфуша едва заметно пожала плечами.
— Ну и что в этом такого особенного? — спохватился Мишаков. — За стога я на этюды хожу, а Вера живописью увлекается, она заинтересована.
— Это верно, Борис Лексеич, я-то никому не скажу. Да вот кто другой если… На чужой роток не накинешь платок.
«Что это я оправдываюсь перед ней!» — мелькнуло у Мишакова.
— Мне безразлично все это… насчет ротка и платка, — холодно сказал он.
Марфуша вздохнула.
— Не обижайтесь, Борис Лексеич, что насчет Верки вырвалось… я и сама не рада. А ежели… насчет портрета… время не будет, то и не надо. Я и без него обойдусь.
Говорить стало не о чем. Отгороженный от Марфуши этюдником, Мишаков посидел немного, глядя на пустынную деревенскую улицу с колодцем посредине, и встал.
— Счастливой встречи, Борис Лексеич!..
Мишакову хотелось грубо буркнуть в ответ, но он сдержался и был вознагражден: хорошо соседка ему напророчила. Когда он вежливо, на «вы», осведомился, готова ли Вера к очередному сеансу, студентка протянула голые руки из-за ситцевой занавески и сказала:
— Не смущайся, я одна дома, иди ко мне…
Кажется, в тот же день Мишаков почувствовал, что портрет Веры Панкратовой его чем-то не устраивает. Вдруг зародилось какое-то сомнение, совсем маленькое и пока что непонятное. Вообще-то портрет ему явно удавался. На холсте уже почти жила очаровательная хохотушка. Вера Панкратова эта, написанная Мишаковым, нравилась ему больше, чем живая, наверное, по той причине, что не могла говорить, лишь все время смеялась. Сама Вера замирала и немела, глядя на себя, а это уже в какой-то мере свидетельствовало о силе искусства. Но тем не менее беспокойство вдруг возникло, и Мишаков целый вечер не мог отделаться от мысли, что в чем-то его новая работа уязвима. Но в чем, в чем?..
В конце концов Мишаков решил, что еще нельзя судить о портрете: он не завершен. У художника важен каждый мазок. Надо подождать недельки две. Что же касается сомнений, так это обычное творческое недовольство. Это даже очень хорошо. Он перестал слепо восхищаться сделанным, он начеку. И значит, успех обеспечен!
Утром Мишакову захотелось рисовать. Он уже давно не испытывал такого щедрого желания. На рассвете землю окропил дождичек, трава еще не высохла, в огороде сверкали на укропе бриллиантовые ожерелья, возле крыльца, растянувшись на боку, спал на солнцепеке кот.
«Деревенский барин», — подумал Мишаков, рисуя кота и кур, которые осторожно обходили лежебоку, чтобы ненароком не нарваться на неприятность. Рисунок получился удивительно живым. Радуясь, Мишаков с альбомом в руке вышел на улицу и увидел Марфушу Силуянову, которая сидела на своей завалинке так же, как и вчера.
«А дай-ка попробую», — решил Мишаков.
— Не шевелись, Марфуша, снимаю, — сказал он, садясь перед соседкой на корточки и как бы прицеливаясь в ее лицо взглядом.
— Рисовать будете? — догадалась Марфуша. — Так я платье другое надену!..
— Ничего не надо, сиди, это я так, предварительно. Гляди во-он туда, на колодец. Поняла? А я вот тут пристроюсь и кое-что… соображу.
Мишаков сел на траву, положил альбом на колени.
— Поверни лицо чуть-чуть ко мне. Еще немного. Вот так смотри. Думай о чем-нибудь приятном.
— А о чем, Борис Лексеич?..
— О парне например. Об ухажере.
Марфуша крепко сжала рот, и лицо ее отвердело, стало каменным.
— Ну что ты будто выцвела вся?
— Я о маме своей буду думать, Борис Лексеич, — прошептала Марфуша.
— Думай о чем хочешь. Разожми рот. Раскрой его немножечко. — Мишаков стал сердиться. — Ну посмотри на меня. Улыбнись. Ты можешь улыбаться?
— Бывает что, Борис Лексеич…
— Вот и улыбнись, — Мишаков показал Марфуше палец, но это на нее никак не подействовало. — А-а, — раздраженно сказал он, — из тебя улыбку клещами не вытянешь! Гляди туда, куда я сказал.
«Ничего не получится, — подумал он. — Овалов почти нет. Не лицо, а одни прямые линии».
— Что, Борис Лексеич… вышло? — боязливо спросила Марфуша, когда Мишаков захлопнул альбом. — Показали бы…
— Не могу, Марфуша. Наброски я никому не показываю.
— Так вы хоть скажите… как, ничего?..
— Ничего.
Мишаков ответил слишком резко и, чтобы сгладить это, добавил:
— Плохо ты меня слушалась. В другой раз учти, не прячь глаза: они у тебя хорошие!
Он не врал: только одними серыми глазами и могла бы похвастаться Марфуша.
Мишаков походил по деревне, порисовал избы, по уже без того щедрого удовольствия, с которым рисовал кота.
«Все настроение испортила!» — подумал он, вспомнив о доярке.
Дома Мишаков повесил холст с подрамником на стену, долго смотрел на смеющееся лицо Веры Панкратовой.
Вера ждала его к десяти. Он пришел вовремя.
— Нет, нет, ты вылезай оттуда. Садись-ка за стол напротив меня.
— Мне одеться?..
— Это как хочешь.
Вера вышла из-за ситцевой занавески, обмотанная от груди до коленок простыней, и села туда, куда показал Мишаков.
— Ну что тебе?.. Поцеловал бы хоть, — сказала она, беззвучно смеясь.
— Это потом. Работать надо. Не смейся-ка.
— Да я не могу.
— Как не можешь?..
— Не могу, и все.
— Ну тогда, извини, я тебе помогу. — Мишаков стукнул кулаком по столу и крикнул: — Не смейся, идиотка!
Вера захохотала и откинула голову на спинку стула. Простыня распахнулась на груди, обнажив коричневые, как орехи, соски.
— Да, — сказал Мишаков, — я все выяснил: у тебя же глаз нету.
— Как нету? — спросила Вера, перестав хохотать.
— Не понимаю, Когда ты смеешься, глаза у тебя исчезают. А они ведь должны, наоборот, сильнее светить.
— Не выдумывай. Как это исчезают? — недовольно сказала Вера. Она подошла к зеркалу. — Ничего они не исчезают. Вот смеюсь, а глаза на месте.
— Это ничего не значит. Ямочки у тебя на месте, а не глаза. Ты что, не хочешь посидеть без улыбки?
— Ну какой ты!.. Да не могу я сейчас без улыбки. Жизнь так хороша, что заставляет постоянно улыбаться! Улыбка это все равно что паспорт.
— Любопытно. Жизнь у тебя и вправду хороша. Но мне надо подумать, Вера, — сказал Мишаков, поднимаясь из-за стола.
— Ты что же… сейчас думать пойдешь? — лукаво опечалилась она.
Мишаков смерил ее взглядом.
— Ну-ка, сбрось это. Сними совсем.
Вера повела плечами, и простыня, скользнув по бедрам, опала к ее ногам.
— Видишь, я на все согласна…
— Натурщицей ты была бы недурной. Хочешь, я устрою тебе постоянный заработок?
— А это прилично?
— Вполне, — усмехнулся Мишаков.
«Черт возьми! — удрученно думал он, выходя на улицу. — Глаз у нее нету — вот что меня беспокоило. Глаз у нее нету!»
Татьяна стояла возле Веркиного портрета, как перед иконой. Она даже руки сложила на груди, точно молилась.
— Боренька! — прошептала она. — Да боже ж ты мой!.. Красота-то какая! Так от ее щечек сияние исходит!
— Сиянья много, — согласился Мишаков, снимая со стены холст. — Дрянь все это! Типичная дрянь. — Он сорвал холст с подрамника.
— Боренька, да что с тобой? — испугалась тетка. — Такую красоту дрянью называть!.. Ты не заболел случаем?.. Тебя солнцем не напекло?
— Не заболел, не заболел, тетка, здоров, как бык. Я не любитель самобичевания. Если уж говорю, что дрянь, то дрянь на самом деле. Не выходит у меня портрет, не получается, и сегодня я это понял! Одного сиянья мало.
— Уж я и не знаю, чего тебе сказать, — растерялась Татьяна. — По-моему, так картина хоть куда. Любой в горнице повесит.
— Видел я картины в горницах: голубки да ангелочки.
— Так ведь чего же тут плохого, Боренька? Трактор, что ли, на стену-то вешать? Он и так у нас с утра и до вечера мельтешит перед глазами. Люди хотят красивого, чтобы душа отдыхала. Вон к председателю на твою картину… как на выставку ходят!
— Ну да, ордена поглядеть. Я постарался.
— Да уж что и говорить, как настоящие! — восхищенно сказала тетка. — А председатель-то как рад, я это, Боренька, на себе чувствую.
— Естественно, естественно, — усмехнулся Мишаков. — Ну ладно, ужинать я не буду, не до ужина, мне подумать надо.
Он швырнул холст на лавку, ушел в огород, лег под яблоней, сжал кулаки и зубы, зажмурился.
«Ничего не выйдет! — мелькнуло в голове. — Никакой надежды на успех! Неужели я так бездарен?»
Но приступ отчаяния прошел. Отлежавшись на теплой земле, Мишаков в сумерках возвратился в избу. Татьяна уже легла, но Мишаков знал, что она не спит.
— Ты не беспокойся, — сказал он. — Такая сумасшедшая работа, ничего не сделаешь… Я пойду по деревне, прогуляюсь.
— Ступай, ступай. Верка-то раза два мимо окон проходила…
— Спи, тетка. Ничего! Мы еще проскачем на розовом коне.
— Чудно ты говоришь. На розовом?.. — насторожилась тетка.
— Вот именно, на розовом!
«Ну так что же? — думал Мишаков, затворив за собой дверь. — Разве уж так плох мой портрет? По колориту это несомненно лучшая моя работа. К рисунку тоже претензий быть не может. А о глазах я не думал, потому что они не имели никакого значения. Писалась хохотушка. Вся душа у нее выражалась на щеках».
Мишаков чувствовал, что он кого-то уговаривает. Кого? Кто с ним не соглашается? Друзья? Или, может, сам профессор Павловский?..
«Ну он-то еще никого не похвалил безоговорочно. И вообще критики всегда найдутся!»
Мишаков вышел к колодцу. Совсем стемнело. За деревней где-то над лугами горела алая заря. Ее краски невозможно было воспроизвести на холсте, и у Мишакова защемило сердце. Он почему-то вспомнил, что ему уже двадцать семь лет. Двадцать семь! А пятнадцать лет назад он уже рисовал, получал премии на выставках во Дворце пионеров. «Жизнь моя, иль ты приснилась мне?..»
Волна теплого воздуха, пахнущего сеном и жаром нагретой земляничной лужайки, задела лицо Мишакова, а затем его с ног до головы окатило холодом и сыростью. Он увидел внизу, над речкой, белый туман, который поднимался, наваливаясь на деревню. Мишаков повернул назад и догнал отступающее от реки дневное, пропахшее солнышком и ягодами тепло.
В окнах у Панкратовых света не было. Вера не ждала Мишакова на скамейке. Видно, обиделась и легла спать.
«Это и к лучшему, — без сожаления подумал он. — Смеяться станет поменьше. Может, сквозь слезы и глаза прорежутся. Какая она будет, если рассердится? Любопытно…»
Мишаков постоял возле колодца и пошел к своей избе.
На завалинке у Силуяновых чернела какая-то фигура.
— Кто там? Марфуша?..
— Я, Борис Лексеич…
— Чего же так поздно гулять выбралась?
— А я не поздно, Борис Лексеич. Я давно сижу.
— Когда я выходил, тебя не было.
— Так вы меня не заметили, когда мимо проходили. Еще сказали: «Критики завсегда найдутся». Это вы с собой разговаривали?
— Извини, Марфуша. Значит, задумался я. — Мишаков сел рядом с дояркой. — Разгорячат разные мысли, под ногами ничего не видишь…
— Вы, чай, Верку искали? — спросила Марфуша.
— Она уже спит давно.
— Она тут со мной сидела.
— Да? Ну и что же?.. О чем вы разговаривали?
— О городской жизни мне рассказывала. Я ведь с ней в одном классе училась. Счастливая она, Верка!
— Ничего, удачливая.
— Да, не всем такая удача…
— Не завидуй.
— Не завидуй, — повторила Марфуша, опуская голову. — Вам легко говорить. Верке тоже… Вот вы на меня сегодня утром обиделись, а я ведь тоже на вас… обиду имею.
— Обиду? Да что ты, Марфуша!.. Какую же?
— А что вы сказали?..
— Что я сказал?
— Думай, сказали… об ухажере, А какой у меня… ухажер может быть?
— Но почему бы и не быть?
Мишаков спрашивал, а сам уже понимал, как он ранил неосознанно Марфушу.
— Кто же на меня поглядит? Мне бы одна дорога — в монастырь…
— Ну, ну, не преувеличивай.
Мишаков похлопал Марфушу по плечу. Она вздрогнула.
— Ты, конечно, не красавица, — продолжал он, — никто этого не говорит, но для отчаяния нет никаких оснований.
Мишаков врал, зная, что Марфуша не верит ему, врал, не скрывая своего смущения, врал с тоской, не зная, как остановиться.
— Вы, конечно, понимаете мое положение, Борис Лексеич, — возражая ему, проговорила Марфуша. — Я и сама сознаю, потому что не дура же, не юродивая какая-нибудь… Человек же я, девка… Сердце и у меня в груди бьется, тоскует. Так полюбить хочется!
— Ну и полюби, Марфуша, полюби кого-нибудь.
— Кого же, Борис Лексеич?.. Я ведь далеко не хожу.
— Разве трудно найти подходящего человека? Неужели нет на примете?
— Есть, Борис Лексеич, — чуть слышно сказала Марфуша. — Я бы вас полюбила.
— Меня? — испуганно спросил Мишаков. — Да за что?
— Так как же за что. — Мишаков почувствовал, что она улыбается. — Об вас у нас на ферме только и говорят…
Мишакову стало неловко, досадно, и он спросил:
— Что, других нету?
— Полноте, Борис Лексеич, — возразила Марфуша. Мишаков понял, что она нахмурилась. — У нас девки не порченые. Не чета вашей Верке.
— А она, Марфуша, и не моя вовсе.
— Не дай бог такой жизни.
— Но позволь, ты же ведь только что ей завидовала?
— Не этому я завидовала.
— Ну хорошо, допустим. Не будем о Верке, это нас не касается. Ты сказала, что меня полюбила бы. Но ведь я скоро уеду и, может быть, больше не вернусь сюда.
— В том-то и дело, Борис Лексеич. Вы уедете и не вернетесь. А мне бы хоть в год разок на вас поглядеть…
— Ну что толку-то — в год разок?
— Все теплее стало бы.
— Марфинька! — сказал Мишаков. Он обнял ее. Плечи у нее были горячие, но Мишаков почувствовал, словно у него камень под рукой. Марфуша сжалась и готова была вскочить. — Жалко мне тебя по-братски, моя добрая! Но ты же должна понять, что я за человек и какая у меня жизнь складывается.
— Я понимаю, Борис Лексеич…
— Ну и вот. — Мишаков с силой сжал ее, поцеловал в щеку и резко встал. — А теперь пойдем-ка по домам. И попробуй думать обо мне плохо. К примеру, негодяй я, живописишко средней руки, честолюбец, эгоист, развратник…
— Не в силах я, Борис Лексеич, — прошептала Марфуша.
Мишаков никак не мог уснуть. В избе было душно. Он открыл окно, сел на подоконник, вдохнул сырость ночи. Светила поздняя луна, вися где-то на краю неба. Мишаков угадал ее по слабому блеску мокрого колодца и по размытым пятнам теней от изб. Туман не поднялся в деревню, но он где-то близко стоял на страже. Мишаков чувствовал его запах.
— Я теперь скромнее стал в желаньях. Жизнь моя, иль ты приснилась мне? — прошептал Мишаков.
— Боренька, — сказала из темного угла тетка, — да что ж ты не спишь? Что тебе приснилось-то? Не о Верке ли тужишь? Не клином свет сошелся.
— Абсолютно точно, — отозвался Мишаков. — Извини, разбудил я тебя…
— Какой сон-то? Страшное что-нибудь?..
— Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне.
— Ничего, не опасайся. Конь, говорят, к дороге. Мне бы твои сны. Ложись. Да окно-то закрой: сыростью с улицы так тянет!
Разговор с теткой вызвал у Мишакова мягкую улыбку. Он захлопнул створки окна, залез под одеяло и вдруг вспомнил, что как-то умудрился увидеть на лице Татьяны Мишаковой нечто интеллигентное и даже хотел писать с нее колхозную агрономшу.
— Опять на розовом? — тревожно вскинулась в углу тетка.
— Стихи это. Есенин, поэт… Слыхала о таком?
— Есенин?.. Знакомая будто фамилия… Он что, из твоих городских приятелей?
— Да, лучший друг. Спи, спи и ни о чем не думай. Кошмарные сны мне не снятся. Я передовой человек.
Разбудило Мишакова солнце. Оно напекло ему голову, и он вскочил с ощущением, будто его в упор осветили прожектором. Солнце сверкало в избе, как над речкой. Мишаков протер глаза и в трех шагах от себя увидел Верку. Она сидела на лавке. На коленях у нее лежали картоны с эскизами.
— Ты как сюда попала?
— В дверь вошла. Уже десятый час.
— И давно сидишь?
— С полчаса. — Верка засмеялась. — А ты похрапываешь, оказывается.
— Не нравится?
— Непривычно как-то. Впрочем, мужчины все храпят.
— Не хвались своим опытом. Ты много болтаешь. Положи эскизы на место.
— Что, и посмотреть даже нельзя? Это же все с меня нарисовано.
— Ну-ка раскидай их по полу. Не рядом, а вразброс. Не на солнце только.
— Зачем?
— Делай, как сказано, пока я оденусь.
— И те, которые углем, тоже?
— Все, все.
Мишаков надел штаны, застегнулся и, засунув руки в карманы, стал босыми ногами раздвигать картоны и листы с эскизами, разложенные Верой на полу.
— Черт возьми, ведь есть же у тебя глаза! Куда же они на холсте пропали?
— Никуда они не пропали, что ты выдумываешь, Борис! Глаза на месте, глядят.
— Смотря как глядят…
— Если это называется творческими муками, то я вам, художникам, не завидую, — поморщилась Вера. Она подошла к кровати, разгладила одеяло и легла на него, заложив руки за голову: — Ой, жестко как у тебя!
— Слезь с кровати.
— Не сердись. Мы же только вдвоем…
Мишаков сел рядом с Верой и положил руку на ее плечо.
— Как хоть твои родители к этому относятся? Они догадываются?
— Мамка, конечно, скрипит. Но я ей сказала, что писку не будет, а все остальное их не касается.
— Так ведь это равносильно признанию.
— Боря, разве они не понимают, что для меня ты был бы отличным мужем.
— Но я, кажется, не обещал на тебе жениться.
— И в Москве не захочешь со мной встретиться? — лукаво спросила Вера. — Ты же меня в натурщицы рекомендовать хотел. Уступишь меня, может?
— У тебя превратное представление о натурщицах.
— Возможно…
Мишаков поцеловал Веру и признался:
— Ты знаешь, неважное у меня настроение.
— Да в чем дело?
— Портрет твой не получается.
— Ну тогда подари мне его.
— Нет, кроме шуток. И дело не только в глазах. Весь замысел рушится. Я приехал сюда с целью написать что-то особенное и удивить мир. Чем удивить?..
— Я в этом виновата?..
— Не могу так сказать. Ты осталась прежней.
— Но кто же тогда?
— Разобраться надо… Жизнь, может быть. Понимаешь, хочется показать в деревне самое яркое, самое человечное! Очень уж о деревне у нас черно писать стали. Я с этим категорически не согласен. Мне светлого чего-то хотелось… вот такого, как твоя улыбка. И я написал улыбку. Ямочки, испускающие сияние… Но почему же они меня не удовлетворяют?
— Не знаю, — прошептала Вера. — Хотелось бы тебе помочь, милый… И улыбку бы навсегда отдала за это!
Мишаков погладил Веру по щеке.
— Не стоит, не отдавай, Верочка, улыбки. Хватит жертв, хватит того, что многие ее отдали. Моя тетка например… или соседка наша, Марфуша. Жизнь без улыбки…
Мишаков встал и зашагал по избе, переступая через разложенные на полу картоны.
— Да, Марфуша несчастный человек, — сказала Вера. — Бедняжка! Ей ребенка бы надо.
— Но кто же отцом ребенка согласится стать? Ты знаешь, что она мне вчера сказала? «Полюбить так хочется!» Полюбить, понимаешь. Вдумайся в эти слова. Меня такая жалость охватила, что я не мог с ней разговаривать. Она согласна безответно любить, только бы раз в год взглянуть на любимого.
— Это она тебя в виду имела. В тебя здесь полдеревни влюблены, — с грустью сказала Вера. — Ты знаешь, Боря, я не обижусь… если хочешь… нарисуй ей беби.
Мишаков шагнул к ней, сжав кулаки. Она испуганно вскочила с кровати.
— Я без всякого хамства… извини, если…
— Эх, глупа ты, Верка! — выговорил Мишаков. — Вот главная беда твоя… а может, черт возьми, счастье!
— Да я и не отрицаю: глупая…
На лице у нее Мишаков увидел два мокрых пятна. Незнакомая нежность пошатнула Мишакова. Он обнял Веру.
И в это время первый раз прозвучал у него в ушах умоляющий голос Марфуши: «Полюбить так хочется!»
Вечером, когда Татьяна ставила на стол шумящий самовар, Мишаков за руку втащил в горницу Марфушу. Соседка упиралась, мотала головой, и на горящем лице ее было поровну радости и испуга, Татьяна с недоумением глядела, как племянник усаживает Марфушу возле окна, поворачивая ее голову то в одну сторону, то в другую, заглядывая в лицо, сжимая ее щеки ладонями.
— Вот так сидеть будешь. Дело будет вечером. Ты смотришь на улицу и думаешь о чем-то своем. Именно вот в этом платье.
На Марфуше было новое длинное платье с пышными розовыми оборками на груди.
— Ой, отпустите меня, Борис Лексеич! — взмолилась Марфуша. — По хозяйству делов полно…
— Иди. Но если опять упираться начнешь, поссоримся. Сама же напросилась, на себя и пеняй.
— Борис, чегой-то я не пойму, — обиженно сказала Татьяна, когда Марфуша проворно выскочила на волю. — Портрет с уродицы делать хочешь, что ли? У чужого-то окна?..
— Подожди, тетка. Я еще места не выбрал.
— А чего в ней хорошего-то?
— Поискать хочу. Искать, искать надо.
— Бори-ис! Люди станут смеяться. Скажут, нашел кого рисовать!
— Вот что касается людей, тетка, так это мне совершенно безразлично. Ну давай, наливай чайку. «Выпьем с горя, где же кружка?»
— О каком горе ты говоришь-то?
— Ну о творческом, если хочешь. Непонятно? Ты видела какого я кота нарисовал? Пока что одного этого котяру отсюда и увезу. — Рот у Мишакова стал кривым. — За котом в деревню съездил! А коты и в Москве чуть ли не в каждой квартире есть. Представь такой итог работы. Смешно!
— Что, ругать будут?..
— Ругают-то за дело. За плохое, предположим. А дела-то пока нету. Удивятся, тетка. Это похуже будет.
— Бог с тобой, что ты говоришь. Разве мало ты всего нарисовал? — тетка повздыхала, не зная, как помочь племяннику. — Может, водочки выпьешь? — спросила она полушепотом.
— Только этого мне а недоставало. Нет, тетка, ты лучше и не поминай это слово! У меня и у самого большое желание напиться.
— Уходил бы ты с этой работы, Борис, — решительно заключила Татьяна. — Для здоровья вредная она, как эта… как ее… химия.
— Верно говоришь, — согласился Мишаков, повеселев от мысли, что никто не в силах отнять у него главное счастье в жизни — работу, по-настоящему любимую. — Ты точно определила — химия!
На столе шумел самовар, и в этом звуке Мишакову слышалась Марфушина мольба: «Полюбить так хочется!»
Пробуя рисовать Марфушу, Мишаков еще не думал, что откажется от завершения портрета Веры Панкратовой. Желание работать дальше, пробовать, искать, могло появиться в любой день. Но Мишаков уже твердо знал, что его поездка в деревню не имела бы смысла, если бы он вывез отсюда только ослепительную улыбку студентки. В «колхозную агрономшу» Мишаков теперь тоже не верил, потому что не было нравственного убеждения в жизненности того образа, который у него сложился не в поле, где тетка работала, как хороший мужик, за двоих, а возле самовара во время завтрака или вечернего чаепития.
И вдруг горькие слова Марфуши, не сразу дошедшие до его сознания, вернули ему надежду на лучшее и страсть к работе. Он понял, что жизнь открыла ему что-то важное, чуть ли не самое главное…
Первые эскизы Мишаков делал нетерпеливо и поспешно, словно старался наверстать упущенное. Ему еще ничего было не ясно. Пожалуй, кроме одного: платье на Марфуше должно быть нарядное, с розовыми рюшками. Марфуша, по замыслу, оделась, как на гулянье. Но гулять ей было не с кем. Сознавая это, она села одна-одинешенька на…
Пока что Мишаков рисовал ее на завалинке. Искал позу, поворот головы, положение рук. На всех эскизах вместо лица у Марфуши было пока пустое белое пятно.
Марфуша сидела молча, дожидаясь пока Мишаков поудобнее поставит этюдник. Она еще не привыкла к новой своей роли, стеснялась Мишакова, стеснялась своих деревенских, и лицо у нее все время было не свое, еще более нескладное, перекошенное неловкостью. Но эта скованность натурщицы пока что не волновала Мишакова. Он знал, что через недельку Марфуша освоится и станет сама собой, И только тогда начнется самое трудное — искать тот единственный взгляд с затаенной надеждой, который полнее всего мог бы выразить мольбу чистой души: «Полюбить так хочется!..»
— Ну вот, — сказал Мишаков. — Попробую сделать эскиз маслом. Сними с колен левую руку. Нет, нет, правая пусть лежит. А левой попробуй перебирать рюшки на платье. И гляди на колодец. — Мишаков помолчал. — Ты куда глядишь? Разве там колодец?
Марфуша опустила глаза. Мишаков обернулся и увидел невдалеке Веру, сидящую на траве. Он подошел к ней с мастихином и тряпкой в руке.
— Зачем ты пришла? Уходи, ты мешаешь.
— Значит, ее рисуешь, — тихо сказала Вера. — Она у тебя получится.
— Ты убеждена?..
— Вполне.
— Почему?
— Не знаю, — Вера пожала плечами, — но теперь не сомневаюсь. Такая вот… судьба. — Вера отвернулась.
— Судьба? — удивленно спросил Мишаков. — Да, точно, судьба! У нее судьба, у тебя нет.
Вера вскочила и сказала с каким-то злым вызовом:
— А если я тебя действительно люблю?
— Если… Это еще приблизительно. Уточни, Верочка. Не спеши с выводами. Хочешь, я тебе твой портрет подарю? Ты просила.
— Не хочу!
— Ты лучше, когда не смеешься. Авось и у тебя сквозь слезы судьба проблеснет.
— Тебе что же, желаннее я ревущая?..
— Не знаю. А портрет я тебе все-таки подарю. На память. Но в Москве попытаюсь написать тебя получше.
— Значит, у меня еще может теплиться надежда? — уязвленная, спросила Вера. — Как в романе!..
— Как в жизни, — возразил Мишаков. — Иди, я вечером приду.
— Не надо, — сказала Вера, мотнув головой, и пошла прочь.
Мишаков взглядом проводил ее до середины улицы. Он не знал, придет к ней вечером или нет, но был уверен, что она будет ждать его.
Марфуша все еще теребила розовые рюшки на груди. Сжав коленки, она не поднимала головы.
— Ну, продолжим, Марфинька, — сказал Мишаков, исподлобья глядя на доярку. — Не вижу твоего лица.
— Куда же оно делось, Борис Лексеич?..
— Ты его просто прячешь. Как это у тебя получается? Но мне спрятанное лицо не нужно. Смотри на колодец. Где-то там… ну, предположим, поют частушки. — Мишаков понимал, что нужно отвлечь Марфушу от воспоминаний о Вере. Какие здесь поют частушки?
— Не знаю…
— Ну хотя бы одну ты знаешь?
— Не умею я петь, Борис Лексеич.
— Да я и не прошу тебя петь. Просто скажи.
— А какую?
— Любую, Марфуша, любую. Какая сейчас мелькнула в голове?
— Вынес милый на крыльцо, — улыбнувшись, сказала Марфуша.
— Что вынес? Корзину? Стул?
— С выражением лицо, — ответила Марфуша, улыбнувшись пошире.
— Любопытно. Ни за что бы не угадал. Вынес милый на крыльцо с выражением лицо. А дальше?
— Ну, мол, по выражению узнай души движение.
Мишаков засмеялся.
— Просто здорово!
вполголоса пропел он. — Чудесная ироническая частушка! И к тому же к месту сказанная. Молодец, Марфинька, я готов тебя расцеловать!
Марфуша бросила на Мишакова быстрый взгляд и отвернулась, задрав голову, словно она была, оскорблена. И этот взгляд, который чем-то роднил ее с Верой, неожиданно помог Мишакову найти то, что он давно искал. Он увидел, где и как должна сидеть Марфуша и какое у нее должно быть лицо…
А вечером, вспоминая жизнь, Мишаков вдруг первый раз ощутил в душе тоску по самому простому, обыкновенному человеческому счастью. Вслед за Марфушей он мог бы повторить в тишине:
— Полюбить хочется…