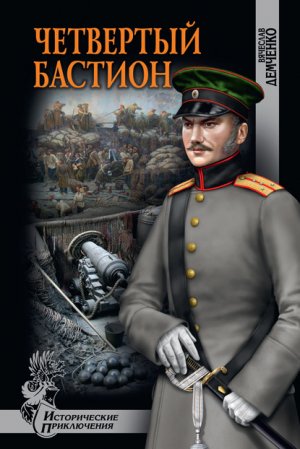
Четвертый бастион
«Это снова Троянская война, это новая Троя!» – воскликнул маршал Вайан.
«Там, где сталкиваются Север и Юг, Запад и Восток, множество войск собралось, чтоб схватиться на малом клочке земли. Десять лет под Троей – десять месяцев под Севастополем: на расстоянии трех тысячелетий, не стоят ли годы месяцев?» – Камилл Руссе, французский историк.
«Нет, ни одно из дарований, существующих ныне не только на Руси, но и в Европе, не в состоянии создать что-либо соответственное величию действа, развернувшегося перед нами! Только „Илиада“ сравнима с трагизмом нынешней войны!».
Н. А. Некрасов. 1854 г. Журнал «Современник»
Это можно было назвать боем…
Это можно было назвать подлинной бойней.
В белых облаках порохового дыма и серых тучах, создаваемых многочисленными мелкими пожарами, едва удавалось разглядеть, что происходит уже в трех шагах. В апокалипсическом грохоте казалось невозможно услышать даже собственного голоса. В горячке нервов и напряжении воли не поддавались разумению собственные действия, и отсюда рождались подвиги, немыслимые на трезвую, холодную голову…
Из жерл пушек беспрестанно вылетали рваные языки пламени.
Из плетеных тур вылетали обрывки прутьев.
Из мешков вылетали рои песчинок.
Из брустверов[1] – комья земли, и, наконец, из полотняных рубах и суконных шинелей вылетали клочья окровавленного тряпья…
В клубах стелющегося дыма за передним гласисом бастиона кипит грязно-синее море шинелей. В низких амбразурах передовых батарей густо мелькают красные шаровары, стучат сабо, надетые на гетры из овечьей шерсти, а зачастую топают и русские сапоги. Наконец-то в ружейно-пушечном грохоте можно расслышать нестройный хор: «Vive l'Empereur!» – и синий прилив с барабанным боем проваливается волна за волной в ров перед бастионом. Мгновение, и на краю рва возникают концы осадных лестниц, кепи с красными околышами и даже изодранные знамена над частоколом длинных штыков, но тут же с дьявольским визгом пролетает, сверкая, картечь и сносит массу тел обратно в ров. Фонтан алой крови брызжет на месте головы старого тамбурмажора, взмахнувшего было барабанными палочками; чей-то нечеловеческий вой примешивается к реву наступающих, перекрывая его на секунду. И окончательным аккордом атаки грохнул фугас, разбрасывая пуды камней во все стороны…
На IV бастион наступают французы.
Древний старик в столь же древнем вольтеровском кресле зябко потер руки, с трудом распрямляя подагрические пальцы, и посмотрел на медный циферблат настенных часов. Редкие седые пряди спускались на плечи тоже совсем по-вольтеровски, отчего могло показаться, что обладатель почтенных седин наблюдает за течением времени не десятилетиями, а веками.
Одет старец был по-домашнему, в засаленный халат, из-под которого, впрочем, стойко подпирая дряблую шею, белел накрахмаленный ворот рубашки.
– Танюша, голубушка, лафитничек[2] казенной, – скрипуче попросил старик.
– Стоит ли, Александр Львович? – донесся откуда-то из глубины квартиры, наверное с кухни, свежий девический голос. – Опять начнете с лафитничка, а кончите сердечными каплями.
– Не спорь, Таня, – поморщился Александр Львович.
– Есть в этом что-то от «Корабля дураков» Брейгеля, – произнес молодой человек в новеньком синем вицмундире, недавний выпускник юридических курсов, а теперь – присяжный поверенный, иными словами – адвокат. Стоя возле высокого арочного окна и рассматривая что-то на улице, он указующе постучал по стеклу.
Старик тоже повернулся в сторону окна и, не отрывая взгляда мутных глаз, проворчал:
– От «Корабля дураков»? Скорее уж от «Шествия слепцов».
За окном, словно жужжание мухи, заключенной между рамами, раздавались многоголосое пение и шум демонстрации, краснознаменные отсветы которой, казалось, пляшут даже на потолке вокруг тяжелой бронзовой люстры.
– Страшный суд, честное слово, – неодобрительно заметил молодой человек. – Вот, даже знамена цвета адского пламени и…
– Не демонизируйте, Петя, – перебил старик, махнув пергаментной ладонью. – Все куда проще и далеко не в первый раз. Не в первый раз Европа тщится извести многострадальное Отечество наше.
– Европа? – удивился адвокат и потер ладонью стриженую бородку, чтобы спрятать улыбку. – Да какая ж тут Европа, Александр Львович? Вон… – он снова постучал в стекло, золотящееся бликом весеннего солнца. – Фабричные Ваньки да Машки мечутся как угорелые. Городовые разбегаются прусаками, а социалисты с сальными патлами лезут на столбы с прокламациями. Всего европейского в этом исконно русском бунте то, что горланят они при этом Интернационал да Марсельезу…
Александр Львович помотал головой, что весьма походило на старческий тремор:
– Не стоит клеветать на простодушие народа, Петя. Это вчера с них довольно было выторговать забастовкой рублевую прибавку к жалованью, а сегодня подавай на растерзание правительство.
– Скромничаете, Александр Львович, – фыркнул новоиспеченный присяжный поверенный. – Правительство… Им «теперича» правительства маловато.
Он, подражая какому-то агитатору, простер открытую ладонь и процитировал:
– Весь мир насилья мы порушим!
– Что за дело, как вы говорите, фабричной Машке до всего мира насилья, когда ей и пьяного ее Ваньки хватает… – пожал плечами старик, – … с его насильем, а того самого в дрожь бросает от полицмейстера, а полицмейстера – от градоначальника. Вот вам и вся, как говорят зоологи, обозримая пищевая цепь, очень издалека включенная в совокупный мир насилья.
– Но позвольте…
– Не-ет, – протянул Александр Львович таким сиплым голосом, будто это скрипела дверь, и дидактически поднял палец. – Маша наша тут ни при чем. В то время как мы ведем несчастную войну в Азии, вполне согласно азам стратегии на нас наступают с другого фланга, европейского… – старик тяжело вздохнул и добавил: – Так было и в тот раз.
– В тот раз? – не сразу понял Петр, но, глянув поверх седой головы старика на целый иконостас пожелтевших фотографий в разновеликих рамках, понятливо кивнул.
Карьера Александра Львовича вся была запечатлена на снимках. Окончилась портретом седого артиллеристского генерала, а начиналась с юнца, почти мальчишки, в мундире с литерными погонами, едва видного на выцветшей картонке. Юнец напряженно вытянулся подле трехсотфунтовой пушки, старинной по нынешним дням. Фотография была сделана в Крыму, в Севастополе, пятьдесят лет назад.
– Да, – пожевал сухими губами отставной генерал. – В тот раз на нас тоже всем миром шли – три империи: Англия, Франция, Турция, итальянцы даже подвизались – все тут. Зазывали еще Швецию и подбивали восстать Польшу. Была б на тот момент Германия как государство, пожалуй, соблазнили б и ее, – подумав, добавил генерал. – Впрочем, и без того Австрия с Пруссией удержали на своих границах наших 200 тысяч войск под ружьем…
Петр слушал, а старик начал распаляться:
– М-да, и еще недоставало им тогда Японии, в то время полудикой… так пришлось самим заходить с востока – напали на Петропавловск-Камчатский и… кроме того, всерьез грозили Кронштадту… а отнюдь не только высадились в Крыму… – продолжил генерал, все больше раздражаясь, и оттого речь его стала прерывистой.
– Ну что вы, в самом деле, Александр Львович, – осторожно остановил его молодой собеседник и, стараясь не показаться вовсе уж снисходительным, развел руками. – Тогда на Россию напали извне, а то, что на улице сейчас, – он снова кивнул за окно, – дело сугубо внутреннее, социальное. Впрочем, мало ли Россия вынесла войн, вынесет и очередной бунт.
– Это не очередной бунт! – старик поднял на него глаза, блеклые, но ничуть не замыленные обычной старческой флегмой. – Никак не очередной! Поверьте старику. И то была не очередная, как вы говорите, война, каковую вынесла Россия. Никак не очередная!
Его на время отвлекла горничная Таня, явившаяся с кухни со стопкой водки на подносе. Девушка на правах домашней любимицы позволила себе состроить фамильярно-укоризненную гримасу.
Александр Львович церемонно выпил. Он ничего не говорил, но мысленно как будто произнес тост. Затем, кряхтя, то ли в продолжение немого тоста, то ли от усердия, поднялся из кресла, запахивая халат.
– Это сейчас вам, молодые люди, кажется, что тогда была хрестоматийная битва под стенами Севастополя, такая же обычная для русской жизни, как, скажем, драться за стены Измаила или Карса для укрепления собственных границ. Вы не видите разницы.
Зайдя за вольтеровское кресло и опираясь о его спинку, старик остановился перед мозаикой фотографий, где сразу нашел выгоревшее фото – то самое, с юнцом на фоне бронзовой туши трехсотфунтового орудия.
– Вы, молодые люди, не видите разницы, – повторил старик. – Это была вовсе не приграничная война, а война, если хотите, всемирная. Можно сказать, вся Европа пришла в военное возбуждение, чтобы решиться напасть на нас…
– Но не станете ж вы утверждать, Александр Львович, – не удержался-таки от скептического замечания адвокат, – что Восточная кампания была попыткой захватить Россию? Все-таки эпоха территориальных переделов в Европе закончилась задолго до того. Ныне если и случается какая драчка, то имеются в виду цели исключительно политические и подспудно экономические…
– В Европе… Европа, говорите… – задумчивым эхом повторил Александр Львович и обернулся через старчески поникшее плечо с желчной гримасой. – А с какой это, сударь, радости вы себя к Европам причисляете? Вам это, конечно, лестно – причислять себя к цивилизациям, – усмехнулся он, – но вот европейца ваша самонадеянность порядком позабавила бы. Мы для них нечто вроде Азии и Индокитая, странным образом до сих пор не колонизированные. И то потому лишь, что в отличие от пресловутых азиатских обезьян, как любят выражаться в просвещенной Европе, русский медведь – гренадер куда лучший. Хоть отчасти вы и правы, – генерал покачал седой головой. – Не думаю, что речь шла о захвате, не думаю. Да и Пальмерстон с Наполеоном Третьим не думали, что им повезет отхватить от России сколь-нибудь жирный кусок и при этом не подавиться. Напротив, тщились удержать православную империю от закономерной экспансии в Индию и на Ближний Восток. Более того – принудить ее к вассальному смирению, как уже пробовал когда-то Наполеон I. Вот в чем полагался на тот момент передел мира.
– Не слишком ли? – с иронической серьезностью нахмурился молодой присяжный поверенный. – Мыслимо ли, даже полагаясь на общеевропейскую мощь…
– А того более – на нашу исконную сиволапость, – не то продолжил за него, не то, наоборот, перебил Александр Львович. – Как тот же Бонапарт за тридцать лет до того: де, одного революционного толчка достанет, чтобы разрушить «колосса на глиняных ногах». Стоит только освободить русских рабов…
– Как они очутятся в Париже, – подхватил Петр с ноткой некоего патриотического самодовольства, впрочем, невольного, поскольку тут же и возразил сам себе. – Но ведь в 1855-м русского похода в Европу, как мы помним, не случилось.
– Еще будет, – коротко махнул сухой ладонью генерал. – Всякий, кто разрушает, должен быть готов к тому, что его погребет обломками, – пояснил он с уверенностью оракула, отвечая на озадаченный взгляд собеседника. – Не сразу, так погодя. Меня, право же, иное беспокоит…
Александр Львович запнулся и, обернувшись к окну, значительно прищурился:
– Боюсь, что и впредь так будет. Если враг идет на Россию – значит, нас воюет весь мир. Явно или тайно – другое дело, но весь. Всякое иное соотношение сил будет несоразмерно нашей собственной несоразмерности… несоразмерности русских пространств и русского духа. Но… – не давая новоиспеченному адвокату опомниться, продолжил вещать и предвещать отставной генерал, – но всякий раз все в большей степени они будут уповать вот на это! – узловатый подагрический палец указал за окно.
Хроники новой Трои
Март 1855 года был богат на события. Совсем недавно, 18 февраля старым стилем (2 марта), скончался император Николай I, не столько от пневмонии, сколько совершенно раздавленный известием о поражении под Евпаторией, которую, однако, есть смысл назвать русской победой в том саркастическом смысле, что, наконец-то с поста главнокомандующего был снят князь Меншиков. Деятеля менее подходящего на роль полководца трудно было и представить. Впрочем, и прибывший из Молдавской армии Горчаков не стал панацеей. Так что…
«Сдаю тебе команду не в полном порядке…» – сказал на смертном одре император завтрашнему своему преемнику Александру Второму, и, надо признать, сказал честно. 3 марта вступает на престол новый царь – великий, без всякого преувеличения, реформатор, но так до конца войны и не успевший сколь-нибудь существенно повлиять на «рок событий».
7 марта Севастополь потерял адмирала Истомина, фактического после смерти Корнилова руководителя и вдохновителя обороны. Случайное… впрочем, насколько оно могло быть случайным, если жить в землянке на бастионе, не в пример прочим штабным? Французское ядро буквально обезглавило оборону, но следующим из славной плеяды Лазарева флагманское ее знамя подхватил легендарный адмирал Нахимов.
28 марта началась вторая бомбардировка Севастополя – событие даже количеством потерь (6000 стоящих в резерве войск) значимее иной армейской операции – но десять дней адского огня привели союзное командование к выводу совершенно неожиданному для Пальмерстона и Наполеона Третьего: штурм, намеченный под эту бомбардировку, придется отложить. Все, разрушенное днем, волшебным образом восстанавливалось за ночь.
Осадная война продолжалась с прежним упорством.
Горчаков так и не воспользовался временным перевесом русских войск.
Союзники ждали подкреплений и замены сдержанного Канробера – французского главнокомандующего – более горячным Пелисье (английский главнокомандующий лорд Раглан разумно самоустранился от командования, к тому же фельдмаршал, по памяти Наполеоновских войн, постоянно путал русского неприятеля с памятным «французом», чем раздражал последних необыкновенно)…
Союзники с завидной настойчивостью, но бесполезно, штурмовали IV бастион, пока вновь прибывший искусный французский инженер генерал Ньель не дал новое и более верное направление осадным работам – Малахов курган, оказавшийся и впрямь ключом обороны. И тут, поговаривают, не обошлось без шпионской интриги, а то и предательства.
Геройские защитники Севастополя, которых, по выражению современников, толкли как в ступке, жаждали решительного боя.
Таков был театр действий, и если дотошный читатель найдет некоторое временнóе смещение событий тактического порядка – пусть сочтет за художественный прием, к которому прибег, например, Франц Алексеевич Рубо, создавая свое бессмертное полотно «Штурм 6 июня 1855 года», где все события этого дня, да и не только, вовсе сведены в один миг.
Бомба взрыла батарейный бруствер, подняв фонтан больших и малых комков земли, запрокинув плетеные туры[3], и словно вдогон ей по земляной осыпи скатился пехотинец Томского полка с порванной наплечной перевязью. Съехав на животе наперегонки с шипящим чугунным шаром, пехотинец как раз перед бомбой и остановился все в том же лежачем положении, разинув рот и выпучив глаза, в которых отразился искристый огонек фитиля. Раскаленная смерть крутилась и шипела перед лицом перепуганного ребенка, почему-то украшенным сажевыми усами… и с палаческой издевкой оттягивала приговор, пока не дотлеет фитиль.
Но привести его в исполнение так и не успела. Заросший грязью сапог остановил вращение бомбы, и с привычной ловкостью чьи-то пальцы вывернули пробку фитиля. Помилованный поднял глаза, так и позабыв закрыть рот.
– Что там, братец? – нисколько не трудясь перекричать грохот канонады, коротко спросил штабс-капитан у пехотинца, растянувшегося у его ног.
– Л… ложементы[4] заняты неприятелем, ваше благородие, – не сразу вернулся дар речи к спасенному. Потому, приподнявшись на локтях, он хотел было повторить громче, но его спаситель уже кивнул, озабоченно глядя куда-то в сторону, где перепрыгивали через бруствер другие отступавшие. Круто развернувшись, штабс-капитан пошел вглубь бастиона.
В гарнизоне про Пустынникова Илью Ильича, штабс-капитана 4-го гренадерского стрелкового батальона, говаривали разное, как это обычно и случается, когда никто ничего не знает наверное. Не то чтобы Пустынников отличался скрытностью. Напротив – нрава он был приязненного и вместе с тем вполне независимого, что нечасто случалось в кругу офицерства.
Так уж повелось, что в этой среде один болен карьерным тщеславием и воображает себя ротным Наполеоном, но уже раболепствует батальонному, а иной фрондерствует, не успев на этом поприще, и только строит из себя «непонятого одиночку», однако все зависят от пресловутого «мнения».
Илья Ильич же к «мнению» был искренне равнодушен, карьерного рвения не обнаруживал, но и службой демонстративно не тяготился. В общем, как-то не попадал в «категории» и считался персоной fait sensation – парадоксальной. То – божились одни – видели его на балу у предводителя, когда еще полк квартировал в N-ске, и Пустынников запросто обходился с генерал-губернатором N. N., редкостным снобом. То – уверяли иные – Пустынников-де амикошонствует с унтерами по трактирам и возит за собой цыганку… В общем, один бог знает, чему можно было и стоило верить.
Отсюда и слухи, один другого нелепее, злее иль восторженнее, из которых самый примечательный был толка романтического: мол, штабс-капитан разжалован был за «историю» – и тут, конечно, обязательно замешана некая дама высшего света – разжалован и сослан в действующую армию чуть ли не рядовым, и только в турецкую кампанию выслужился в штабс-капитаны. А до того был… чего уж – врать так врать – самое меньшее майор, а то и подполковник.
Об этом, правда, все больше наши дамы перешептывались, ибо наружность штабс-капитана говорила за «историю». Глаза – непроницаемый тинистый омут, вспыхивающий вдруг желтоватой прозеленью. Романтический шрам вверх от правой брови и пшеничные пряди, его прикрывающие. Опять-таки – ухоженные короткие усики из той же пшеничной половы…[5] А манеры и образованность Илья Ильич вдруг обнаруживал такие, что несвойственны армии вообще, не то что нашему гарнизонному «свету».
Впрочем, справедливости ради надо признать, что «света» штабс-капитан и в самом деле сторонился, поскольку предпочитал ему товарищество унтеров или обер-офицеров своего батальона.
– Пал Сергеич! – нырнув в горькое пороховое облако, штабс-капитан по хлипкому деревянному трапу взбежал на вал Язоновского редута, изрытый ядрами и наполовину осевший.
Тут на деревянном настиле, устало опершись локтями о корзины с землей, его встретил усталый взгляд капитана первого ранга Раймерса, командовавшего бастионом после ранения Завадского.
– Что вам, Илья Ильич?
В черненой флотской шинели, словно отлитый из бронзы, Павел Сергеич Раймерс явлением был для Севастополя обыкновенным. Не сгибаясь под самым ураганным огнем, он, словно знамя бастиона, всегда был на виду его защитников, внушая уверенность и спокойствие, даже когда неприятель врывался в пушечные порты нижних батарей. И только вблизи этого живого монумента можно было видеть, как ходят желваки под кожей, посеревшей от пороховой гари, какая беспредельная усталость налита кровью в глазах.
– Ваше высокоблагородие… – Пустынников ткнул двуперстием нечистой перчатки к обрезу фуражки. – Позвольте моим людям занять ложементы.
– Да они уж вроде как заняты-с, господин штабс-капитан, – ворчливо заметил Раймерс, присаживаясь на порожний пороховой бочонок и подбирая полы шинели. – Неприятелем заняты. Сами видели, далее ложементов отогнать басурман не удалось, – он невольно заглянул за спину штабс-капитана. – А что это вы сами за батальон, а, Илья Ильич? Командиры-то ваши где?
– Майор Шабрин на той стороне бухты остался, не упредил же француз, что пойдет нынче, – поморщившись на фонтанчик земли, брызнувший через плечо, штабс-капитан отряхнул красный погон с литерами «ГС». – Капитан Антонов контужен[6] в руку, так что я старший остался. Так мы отобьем ложемент, ваше высокоблагородие? Промешкаем – французы его к своей траншее присоединят, тогда уж мы их точно оттуда не выкурим.
– С ума сошли, голубчик? – сняв фуражку, капитан протер плешь, обрамленную завитками седины. – Стану я ваших молодцов изводить. Вон, третий батальон Егорова уже пробовал было, так половину своих положили, а мне надо, чтобы ваши стрелки заняли ложемент и оттуда прикрыли фланг соседей, – Павел Сергеевич кивнул в сторону пятого бастиона, где дымился атакованный англичанами фланговый редут Шварца.
– Так чем же мы Шварцу поможем, ежели топтаться тут станем? – оглянувшись туда же, спросил Пустынников.
– Не будем топтаться, Илья Ильич, – вздохнул командир бастиона. – Только что вестовой был. Идут Тобольского полка второй и третий батальоны как раз с тем, чтобы помочь выбить неприятеля. Хоть, правда, – перебил сам себя капитан, припомнив кое-что важное, – у нас там, в ложементах, фугас остался пуда на три-четыре, надо думать, не замеченный еще неприятелем. – Раймерс покачал головой. – Да жаль только, Герострат наш никак его подорвать не может. А вот ежели ахнуть, так чтоб француз присел, да навалиться после…
«Гренадерские стрелковые» батальоны подразделения были особые, поголовно вооруженные нарезными штуцерами, довольно редким на тот момент оружием в русской армии. Гренадеры подбирались из самых метких стрелков и проходили специальное обучение в Образцовом пехотном полку либо в учебных карабинерных.
Люттихский штуцер, бывший на вооружении гренадер, удачно переделанный полковником Куликовым, бил на расстояние 1200 шагов – дистанции совершенно немыслимой для гладкоствольного ружья, основного оружия русского пехотинца. Соответственны были и задачи, которые решал батальон на поле боя, – издалека поражал самые важные цели, в частности вражеских колонновожатых, вообще офицеров и все, что было недостижимо для обычного стрелка.
Вот почему батальоны гренадерских стрелков не входили в состав пехотных полков, будучи в русской армии своего рода отдельными в непосредственном распоряжении армейского командования. Обмундирование они носили егерское либо пешей артиллерии, погоны имели красные с желтыми литерами «ГС». Первый подобного рода батальон был устроен в 1834 году.
– А ну как француз уже попросту обнаружил фугас да выдернул шнур, вот фугас и молчит? – размышлял вслух мичман Коган, сидя прямо на земле и сам себе строя унылые гримасы, из которых следовало, что ни малейшего желания покидать блиндаж он не испытывал. Бревенчатый накат над самой макушкой и без того содрогался беспрерывно. И тем не менее мичман с минной барки «Уриил» решительно звякал шомполом в дуле уже второго пистолета, готовясь к предстоящей экспедиции. Хотя, признаться, и от трех отменных пистолетов пользы ему было бы немного – в полумраке блиндажа на семитском носу мичмана Когана поблескивали толстые линзы пенсне, ясно говорившие, что, как и всякий близорукий человек, стрелком Коган был неважным.
– Схватишь так пулю почем зря, – ворчал он вполголоса, чтоб не быть слышанным нижними чинами, возившимися за его спиной у гальванических батарей. – И ни на грудь креста тебе, ни на могилу – плотник, поди, заартачится иноверцу мастерить.
Его минеры, на первый взгляд совершенно бесцельно подсоединяя клеммы то к одной, то к другой паре медных стержней, вяло поругивались. Ни к какому результату это не приводило – в банках, защищенных деревянным корпусом, не проскакивало и искры.
– Горохов, попробуй-ка еще раз, братец, – обернувшись вглубь блиндажа, более похожего на земляную нору, перекрытую бревнами, крикнул Коган усатому гальванеру, возглавлявшему эти электрические опыты.
– Так что ж, – не поднимаясь с колен, пожал унтер плечами, – можно и попробовать, ваш-бродь, да резону-то!
– А ты не резонёрствуй, ты пробуй, – мичман стряхнул с кудрявой макушки глинистую пыль, сыпавшуюся сквозь бревна наката, как пожелтелая мука сквозь худое сито. – Попробуй, – ворчливо повторил он, – а то со мной пойдешь.
Через пару секунд натужного кряхтения за спиной мичмана раздался характерный щелчок тумблера, но к грохоту канонады, ставшему уже привычным, раскатов грома, как должно бы в таком случае, не прибавил.
– Ну вот, совершенный нуль, – с досадой развел Коган руками, как если бы нарочно встречая этим жестом штабс-капитана Пустынникова, показавшегося в потерне укрытия.
– И давно ты пришел к этому выводу, Герострат? – с ходу подхватил Пустынников, согнувшись едва ли не вдвое, чтобы проникнуть в низкую дверь.
По-настоящему звался Коган отнюдь не Геростратом, но охотно откликался на это прозвище:
– Да вот, как наши откатили, – кряхтя, он впихнул громоздкий пистолет за пояс, – так и щелкаем-с. Тут-то ток есть… – он кивнул через плечо на деревянные короба с клеймами «Балтийской технической лаборатории». – А там – увы!
Штабс-капитан тоже взглянул за его плечо на щит распределителя:
– Так, может, шнур где перебит?
Впрочем, во всех этих фарфоровых чашечках, зубчатых пластинах клемм и электрических шнурах в черной нитяной оплетке понимал он не много.
– Определенно перебит, – кивнул Коган. – Вот думаю пойти посмотреть, может срастить получится.
Он снял с носа пенсне и, подышав на стекла, принялся с видимым хладнокровием, но как-то слишком уж тщательно – чтоб не сказать яростно – протирать линзы полой когда-то белой матросской рубахи.
Глядя на столь воинственные его приготовления, Илья скептически поморщился.
– А что, знаешь, где порыв?
Мичман пожал плечами под куцей флотской шинелью грачиного отлива:
– Один бог знает. Полагаю только, что в ложементах – это вряд ли.
Герострат посмотрел снизу вверх на Илью взглядом обыкновенно сумасшедшим, что типично для близорукого – наверняка не видел ни черта, кроме размытой фигуры:
– Там шнур идет штробом в скале. А вот на валу, с той стороны, куда француз без передыху лупит, так могли и вырыть ядрами.
– Погоди, погоди, Аарон, – присел Илья подле флотского минера на корточки. – Ты разве не знаешь, что француз от вала в десяти шагах засел? В ложементах?
– Во-первых, не Аарон, а Антон, – назидательно напомнил мичман Коган. – А во-вторых, как не знать, если для того и иду, чтоб высадить из ложементов его прямиком на небо.
Мичман решительно, но криво закрепил дужку пенсне на горбинке носа, после чего взгляд его дочерна-карих глаз обрел наконец осмысленность.
– Ты погоди, пожалуй, – удержал его за погон Пустынников, – сотрясатель стен Иерихона. Давай-ка я на этот эшафот своих гренадеров пошлю, а? Они у меня ребята бравые и не с такой плахи возвращались с головой на плечах.
– Так а я… – стал было возражать Аарон-Антон, но уже не так решительно, как только что собирался погибнуть.
– А ты, – штабс-капитан поправил пенсне на носу минера, – если, не дай бог, очки потеряешь, так прямиком в палатку Пелисье войдешь, пройдя весь французский лагерь. Верю, что взорвешь там все к чертям иудейским, да только нам не это сейчас надобно. Показывай план минирования.
IV бастион не походил на крепостное сооружение в привычном нашем понимании. Никаких таких грозных стен с контрфорсами… Передовые ложементы, земляной вал со рвом, Язоновский редут в глубине в качестве цитадели – и все прочее батареи, батареи. Кое-где даже расположенные в два яруса. Начиная менее чем с 20 орудий в начале обороны и заканчивая более чем сотней летом 1855 года, по мере возрастания важности этого участка обороны.
Создаваемый как временное сооружение, должное прикрыть центр города, он в действительности оказался главным укреплением южной, или городской, стороны. Если быть точным, форпостом «второй оборонительной дистанции», поскольку союзники окружали его с трех сторон, что в свою очередь несомненно, внушало им надежду на прорыв – весь бастион подвергался убийственному перекрестному огню.
Так что едва ли не самым главным проявлением героизма обороняющихся было ежедневное, тем паче еженощное восстановление укреплений. И беспрестанное минирование подходов к бастиону в земле и под землей, в минных и контрминных тоннелях.
Гренадеры 4-го стрелкового батальона ожидали приказа за мерлоном[7], плетенным из толстых корабельных канатов, соединяющим две батареи второго эшелона. Находились они позади колонны стоявшего в резерве 1-го батальона Тобольского полка. Поэтому видеть своего командира они могли едва ли, да и вряд ли им было до того, чтоб его высматривать. И без того было за чем следить напряженным взглядом, смигивая только от крестного знамения непроизвольно и судорожно кладя его на лоб.
Сквозь облака едкого порохового дыма, наплывавшего клубами на нестройную колонну пехотинцев, то и дело с воем и визгом падали ядра и ракеты, пущенные навесно с той стороны вала. Лопаясь тут и там фейерверками, вздымая фонтанами жидкую бурую грязь и производя облака пара, снаряды раз от разу попадали и в скопление серых шинелей, перекрещенных белыми ремнями подсумков. И тогда кувыркались в дыму фуражные шапки, щепой из-под топора летели обломки ружей, брызгали на землю струи крови.
После этого колонна, местами валясь и шарахаясь, распадалась на минуту-другую, пока несчастного, причитающего, тихо стонущего или исходящего нечеловеческим воем не относили на санитарную повозку, которой служила обычная крестьянская телега. В случае же если же несчастный никаких признаков жизни не подавал, его сразу же, подхватив под мышки и за голенища сапог, когда таковые еще оставались – по ногам доставалось в первую очередь, – перекладывали на дощатый настил. На настиле было уже тесно от тел, скользко от крови, а Богоматерь смотрела из печального сумрака иконы, висевшей тут же, не то с мольбой, не то с укоризной: «Что же вы делаете, сыны Божьи?»
Совсем не обязательно было ходить в атаку или на вылазку, чтобы занять свое место на этом страшном поприще, чтоб и на тебя смотрели неотрывно скорбящие глаза Божьей Матери. Зачастую достаточно было и просто «держать строй» по окрику офицера в лучших традициях наполеоновской тактики.
Впрочем, нельзя не заметить, что тактика линейной пехоты вполне была разработана к этому времени русским уставом. Не нужно быть большого ума стратегом, чтобы понять, что валить колонной на пушки – дело гибельное. Так что как русская, так и западная инфантерия под плотным артиллерийским огнем в атаку шла если не стрелковой цепью, то растянутой по фронту шеренгой в несколько рядов.
Однако следует помнить, что вплоть до окончательного ввода в боевой обиход более точного и дальнобойного нарезного оружия полевая тактика определялась исключительно суворовским выражением: «Пуля – дура, штык – молодец!» Все в конечном итоге решала обыкновенная рукопашная свалка. Тем более в условиях осады, когда наступление велось плотными массами пехоты – колоннами и противодействовать ему можно было только так же, попросту навалившись в ответ всей кучей.
Так что резервы осажденных вполне вынужденно накапливались на бастионах в тех же батальонных колоннах по тысяче человек. И никакой тут тактической отсталости русского устава. Вынужденная необходимость.
Печальным примером таковой может служить случившаяся вскоре вторая бомбардировка Севастополя, когда, только оставаясь на бастионах в ожидании штурма, сухопутная армия потеряла более 6000 человек.
Илья Ильич сообразил, что его гренадеры сейчас не видят своего офицера, к которому кроме редкого уважения питали и чувства сродни сыновним. «Ну и нечего мне им лишний раз показываться и подвергать их чувства излишним испытаниям», – решил штабс-капитан, тем более что весьма серьезное испытание вскоре предстояло ему самому.
Он направился в сторону вала, по склону которого то и дело катились, остывая, раскаленные ядра, растерзанные плетеные туры, а то и тела матросов в куцых шинелях, не менее истерзанных, после чего по дощатому трапу взбежал наверх, на батарею, прозванную «Андромедой» по кораблю, с которого сняты были для нее орудия. Тут в артиллеристских двориках, сложенных из дикого камня на глине, громыхали чугунные пушки и, словно пекари на адовой кухне, в одних рубахах управлялись матросы-артиллеристы 32-го экипажа. Здесь же стояли, сидели и палили поочередно, высовываясь поверх развороченного бруствера из мешков с песком, Тобольского полка ротные штуцерники[8].
Минут через пять расспросов и глухонемых объяснений…
– Может, вам офицерика, ваше благородие? – спросил один из штуцерников, седоусый почти старик с номерными погонами, не особо отвлекаясь от заколачивания пули Минье в семилинейное «переделочное» ружье, стуча камнем по шомполу. – А то там висит один, при золотых эполетах, на втором нумере, – он махнул камнем куда-то позади себя.
– Благодарствую, – простонародным манером поблагодарил штабс-капитан и, ухватив за плечи с контрпогончиками синюю французскую шинель, прокряхтел: – Этот вполне сойдет.
Ухваченный Пустынниковым французский вольтижёр[9], распластавшийся поверх дырявых мешков, нехотя пополз туда, куда так стремился при жизни и вот наконец достиг цели. Уронив с рыжей макушки красное кепи, он свалился на дощатый настил под ноги штабс-капитана. Глухо звякнул тесак в кожаных ножнах.
Илья скептически осмотрел трофей: «Черт его знает, как вообще француз взбежал на вал, будучи продырявлен пулей? Из одного только рвения, должно быть».
Влетев в распахнутую «крымскую» шинель с капюшоном, круглая пуля русской гладкостволки, разворотив грудь пехотинца, образовала в спине кровавую язву величиной с алтын. Но, к счастью, на покойнике узлом под воротник была повязана теплая накидка. Как раз если забросить пелериной за спину, то и не видно будет…
– Вот что, дети дядьки Черномора, – спустя пару минут обратился «воскресший» французский пехотинец к прислуге, суетившейся вокруг «длинной» 36-фунтовой корабельной пушки.
«Дети дядьки Черномора» – это обращение к морякам с затопленных кораблей было самое подходящее, ведь «самотопами», как поначалу бывало, их уже мало кто осмеливался назвать. Всем стало очевидно, что оборона города во многом на плечах «самотопов» и держится.
– Запыжуйте-ка пороху поболе на холостой выстрел, – попросил «воскресший» француз.
Штабс-капитан зачерпнул пригоршней воду из кадушки, из которой временами окатывали орудийный ствол, но утерся рукавом шинели, выпачканной в земле, и даже растер грязь тут и там с привычностью театрального грима. Должно быть, чтоб более походить на траншейного сидельца-пехотинца, чем на невольного артиллериста бастиона.
– Ну-с?
Почернелый от пороха и банно-мокрый фейерверкер пожал плечами и, видимо, в силу усталости безразличный ко всему, кроме линейки бестужевского прицела, молча кивнул канониру.
Тот, бросив вкручивать в бомбу свинцовую трубку взрывателя, подал пороховой картуз.
Многопудовая пушка, возвращать которую после отката должны были дюжина человек, с оглушительным грохотом отскочила на колесном лафете как игрушечная, метнув из жерла саженый язык пламени и бурно разрастающиеся клубы порохового дыма. В дыму, огладив напоследок пшеничные усики большим и указательным пальцем, растворился новоявленный француз, приподняв обугленный пеньковый щит амбразуры и оставаясь совершенно незамеченным со стороны неприятеля.
Переделке для стрельбы пулей Минье расширительного типа подверглись в основном пехотные капсюльные ружья образца 1852 года, но, как показала боевая практика, переделку гладкоствольного ружья в нарезное никак нельзя было назвать удачной.
Командир 1-й карабинерной роты Алексопольского егерского полка В. Зарубаев писал: «У введенных у нас во время осады, переделанных в нарезные, ружей французские пули Минье после двух или трех выстрелов не входили в дуло. Солдаты загоняли пулю ударами камня по шомполу. Шомпол гнется в дугу, а пуля не поддается. Колотили, как в кузнице. Солдаты приносили сальные огарки, смазывали пулю, но все не помогало. Ружья, переделанные в нарезные, раздирались по нарезам. Немудрено, что в таком положении офицеры приходили в отчаяние, а солдаты бредили изменой».
– Что, приятель, близок локоть, да не укусишь? – мимоходом спросил французский вольтижер французского же фузилера[10], проворно лавируя в извивах ложемента.
– Ah? – не понял тот чуждого уху афоризма, пусть и прозвучавшего на чистейшем французском языке, поэтому, опустив штуцер Тувенена, проводил незнакомца недоуменно-хмурым взглядом.
В ложементах, с таким трудом отбитых у русских в порядке возмещения за неудачную попытку захватить бастион, – впрочем, привычно неудачную, – кипела работа. Летели груды земли с бруствера, переносимого на другую сторону; выкорчевывались туры со щебнем, чтобы быть противопоставлены бастиону; звенели кирки, ломая под ногами скалу; глухо шлепались друг на друга поднесенные мешки с песком. И, само собой, ради острастки, то и дело в сторону бастионного вала, ощетинившегося жерлами пушек в амбразурных гнездах, палили подвезенные с французской параллели полевые орудия. На апокалипсические свалки трупов никто особого внимания не обращал, едва удосужившись перебросить за бруствер безжизненное тело то в синей французской, то в серой русской шинели.
Особо не понравилось штабс-капитану Пустынникову, что саперы неприятеля взялись закладывать прорехи в укреплении не чем-нибудь, а ломом известняка, который достаточно легко добывался тут же – стоило только громыхнуть кайлом по желтоватой слоистой скале под ногами, чтобы получить порядочный пласт камня. Не понравилось, поскольку тут же в скале тянулся замазанный глиной, неприметный с виду штроб с проводом в вощеной оплетке, который вел к фугасу, зарытому на глубину двух саженей посреди ложементов. Не ровен час, докопаются.
На фальшивого француза никто пока не обращал внимания, если не считать капрала с двумя золотыми нашивками на предплечье, рявкнувшего вдогонку на предмет: «Шатаются тут бездельники!» Но у «мосье» Пустынникова в руках была саперная кирка с локоть длиной, прихваченная у зазевавшегося французского пионера[11], и слишком уж озабоченный вид, чтобы можно было придраться к нему толком.
«Черт, так и есть», – потер Илья раскрасневшийся шрам на лбу, завернув за угол ложемента, петлявшего зигзагом по всем правилам фортификационного искусства.
Раскрошив изъеденную временем известняковую плиту цвета порыжелой кости, французы чудом еще не заметили обрывок провода, присыпанный каменной крошкой. Впрочем, найти его – вопрос времени.
Неровной плиткой известняка двое бородачей-егерей[12], скинув шинели и ранцы из рыжеватой телячьей кожи, закладывали провал, образовавшийся в ряду погрудных корзин с землей. Плитку для сего добывали тут же по мере необходимости, и это предвещало, что вот-вот обнаружат толстый провод.
– Эй, эй! Это мое! – вскрикнул Илья, бросившись к «каменотесам» и бесцеремонно их расталкивая. – Я первый увидел! Этот русский империал мой!
– Ничего подобного, мой! – мгновенно и весьма по-французски отреагировал первый бородач, крутясь на месте как ужаленный. – Я тут копаю! Какой империал?
– Да где ты его видишь, черт тебя дери? – чуть более трезво отозвался второй, не столько выискивая пресловутое сокровище под ногами, сколько следя за поисками штабс-капитана ревнивым взглядом голодной кошки. – Покажи.
– Изволь! – распрямился Илья.
Монета в полфранка, завалявшаяся в «трофейных» красных шароварах, блеснула, подпрыгнув в ладони Пустынникова раз, другой, показавшись империалом лишь из-за мародерского ажиотажа, которым оказались охвачены егеря…
На третий раз – в то мгновенье, когда монета, кувыркаясь, подскочила в воздух – свет померк в зеленых глазах первого бородача от сокрушительного удара снизу вверх по носу. Отлетев назад, зеленоглазый завалил плод своих недавних трудов – хлипкое еще сооружение из известняка.
Второму бородачу досталось и того более. Едва обернувшись, штабс-капитан наотмашь ударил коротким кайлом, и острый конец с хрустом вонзился в висок француза.
Французская инфантерия, согласно линейной тактике, разработанной еще в конце XVI – начале XVII века в нидерландской пехоте, где квадратные колонны были заменены построениями в шеренгу, отличалась подвижностью и быстротой действий как на театре войны в общем, так и на поле сражения в частности.
В немалой степени – благодаря разделению самой пехоты по роду ее действий.
Заметное место занимали вольтижеры – лучшие стрелки в батальоне. Во время атаки они действовали как застрельщики, метким огнем расстраивая боевые порядки противника. Их основными задачами было уничтожение офицеров, знаменосцев и музыкантов. Ну, не любили отчего-то французы в середине XIX века музыку, хотя как-то не совсем понятно, кто мог расслышать грохот барабанов и рев труб под грохот артиллерийской канонады.
Основная, самая многочисленная часть полка состояла из фузилеров, чья задача была большими массами в плотных строях вести боевые действия с противником. Собственно, это они доказывали, что «штык – молодец».
Наконец, егеря являлись элитой – старые, опытные и выносливые воины, отлично знавшие свое дело. Обычно рота егерей состояла из высоких крепких людей, способных возглавить батальон при атаке и увлекавших за собой всех остальных пехотинцев. Это были самые стойкие солдаты. То, что они бросятся в панике отступать вопреки приказам командования, было практически невозможным.
Почти аналогом им были гренадеры, но со своей спецификой – по крайней мере до того времени, как метание довольно увесистых ручных бомб – гранат – оставалось делом, посильным далеко не каждому пехотинцу. Такой себе толкатель ядра, приближаясь к античности и более поздним немецким опытам…
Аналогичное разделение на тот момент существовало в пехоте всех европейских армий. В русской, например, в качестве егерей употреблялись не только собственно егеря или гренадеры, но и «черноморские пластуны».
– Что за пыточное удовольствие стоять в виду неприятеля как истуканы? – ворчал Виктор в стриженые усы негромко, но так, чтобы быть слышимым своим почитателем и хроникером – прапорщиком Федором Лионозовым, юношей, вечно толкавшимся подле, но о должности и обязанностях которого никто не мог ничего сказать определенно.
Репутация лейб-гвардии поручика В. Соколовского была почти скандальная. Почти, поскольку некоей грани, после которой ничего не оставалось, как сослать героя скандала на офицерскую гауптвахту, Виктор никогда не преступал. Да и потом, у кого рука поднимется третировать этакого хвата и любимца как Марса, так и Гименея? Еще сочтут за угрюмую зависть к известности, которой пользовался адъютант командира 2-й оборонительной дистанции.
Это была уже не просто известность, но своего рода слава. Редкостный храбрец, безразличный к почитанию своей доблести, скучающий в столовых с видом байроновского Чайльд Гарольда! Властитель дум и сердец гарнизонных девиц, словно сошедший со страниц романа! Герой, опаленный трагическим жизненным опытом, несмотря на самую привлекательную юность. Как говорил поэт:
Нововведенная двубортная шинель, распахнутая так, что виден был парадный белый мундир – полукафтан с золочеными пуговицами… Кривая драгунская сабля, придерживаемая правой рукой в лайковой перчатке… Венчающий голову башлык из верблюжьей шерсти, концы которого замотаны вокруг шеи… И, главное, пронзительный взгляд карих, но по-звериному рыжеватых глаз под космами смоляных волос, налипших на лоб… Из-за всего этого лейб-гвардии поручик Соколовский производил впечатление этакого буревестника, залетевшего на бастион по воле ветра, – неукротим, невозмутим и непредсказуем.
– Что, разве тут не довольно войск? – опять спросил он поэтическим слогом как бы сам себя, но так, чтобы его услышали и в колонне 1-го батальона Тобольского полка, изнывающего в резерве.
Разбрызгивая лужи быстрым шагом, Виктор проследовал к редуту, оставив за собой шлейф волнения и предчувствий, а по колонне и впрямь прошел ропот возбуждения: кто-то принялся усердно затягивать наплечные ремни подсумков, кто-то – подстегивать полы шинели для бега на «ура!», кто-то ограничился радостной толкотней локтями в бока соседей.
Унтера засуетились, призывая солдат к порядку, пока не выровнялись штыки над серыми суконными бескозырками.
Обер-офицеры сбились в маленький кружок, жадный до новостей, и, хоть новостей пока не было, мнений и суждений о ближайшем будущем стало хоть отбавляй. Обсудить было что.
На бастион поручик явился с поручением от командира второй дистанции генерал-майора Шварца, но можно было подумать, что по своей воле и по меньшей мере с инспекцией.
– Генерал-майор просил по возможности выбить неприятеля из ложементов, – с ходу озвучил он поручение командира дистанции и, срывая перчатки, тут же добавил от себя: – И мне кажется, такая возможность налицо. Француз еще не укрепился. В резерве без малого полк…
Чтобы убедиться в этом, он вскочил на земляную ступеньку, по пояс возвысившись над бруствером, уперся кулаками в мешки с землей и зорко осмотрелся… совершенно игнорируя вгрызающиеся в гласис редута ядра.
Отпрянул, только когда, выбросив фонтан бурой земли, граната лопнула совсем подле и пороховой дым затянул панораму.
– Пожалуй, так и доложу его превосходительству, – соскочил он со ступени. – Но…
Поручик, словно соображая, похлопал лайковой перчаткой о ладонь и, прежде чем командир бастиона нашел, что ответить, выдал свое соображение. Впрочем, это соображение не отличалось ни новизной, ни оригинальностью стратегического замысла.
– Отчего не предпринять вылазку, Павел Сергеевич? Я бы возглавил, – добавил Виктор так, будто обещал существенное подкрепление.
Впрочем, тон при этом выдерживался вполне умеренный, мол: «Ежели что, тогда возглавлю… а так-то готов и уступить лавры, кому они нужнее будут».
Раймерс заложил руку за борт шинели, как обычно, когда требовалось обдумать что-либо, и глянул на адъютанта хмуро. Как будет преподана ситуация наверх – гадать не приходилось. Соколовский, конечно, скажет: «Возможность отбить ложементы – налицо».
В дипломатии капитан первого ранга был искушен не особо, но по опыту знал, что самую благоприятную характеристику можно преподать в таком тоне, что от чувства брезгливости не отделаешься. Вроде бы молодец и сделано все по трезвому разумению и правилам военного искусства, ан все равно выходит, что трус.
– Передайте его превосходительству, – начал было командир бастиона после минутной паузы, – что, как только прибудут второй и третий батальоны Тобольского…
Он не договорил.
На бревенчатый помост, запыхавшись, взобрался по приставной лестнице порученец с передовой батареи Крамарова.
– Ваш-бродь, – обратился пожилой прапорщик по-солдатски запросто, ткнув двуперстием в мокрый висок. – Неприятель заполняет ложементы. К французам присоединились англичане, не менее батальона, идут траншеей, так что достать никакой возможности.
Капитан Раймерс перехватил взгляд Соколовского, в котором читалось нечто даже вроде торжества, мол, говорил же: «Промедление смерти подобно!»
– Распорядитесь насчет атаки, – обернулся Павел Сергеевич к своему адъютанту-мичману с невозмутимым лицом стоика, но удержал его за локоть, прежде чем тот шагнул с помоста. – По моему приказу. Я буду сейчас на батарее.
Затем Раймерс, мельком и исподлобья глянув на Виктора, добавил:
– А вы-с отправляйтесь, голубчик, назад. Скажите Константину Марковичу, что приложим все усилия, чтоб удержать неприятеля до подхода подкреплений.
– Я, пожалуй, вернусь позже, но с более обстоятельным докладом, Павел Сергеич, – учтиво, но холодно возразил лейб-гвардии поручик, берясь за эфес сабли с серебряным темляком.
– Впрочем, как хотите-с, – хмыкнул командир бастиона, уже взбираясь по земляным ступеням на бруствер редута.
Французы приняли его, должно быть, за своего дезертира, потому как, не успел штабс-капитан Пустынников пробежать по изрытой земле и полста шагов назад, в сторону бастиона, как сзади загрохотали выстрелы. Вольтижерская пуля с жужжанием пронеслась, казалось, возле самого уха.
Разглядев в серых клубах дыма синюю шинель, русские штуцерники тоже не стали особо вдаваться в соображения, что понадобилось одинокому французскому пехотинцу на наших позициях, и навстречу Пустынникову также полетели пули, но теперь русские.
– Вот черт! – штабс-капитан рухнул в ближайшую воронку. – Из огня да в полымя.
Он принялся расстегивать шинель, под которой была только белая нательная рубаха. Но, правда, оставались еще французские красные шаровары и, соответственно, повод для смущения как той, так и другой стороны. Как бы обе не вздумали его пристрелить «от греха подальше». «C’est la vie», как говорят французы, но что поделаешь?
«А это что?!» – не успев стряхнуть рукавов шинели с локтей, Илья насторожился.
Сквозь привычные грохот, вой и визг канонады, с утра безостановочно давящей на череп, ему послышался рокот барабанного боя. Рокот доносился со стороны бастиона, из-за вала, окутанного облаками порохового дыма и тучами серой гари. Атака?
Штабс-капитан вскинулся на колени.
Так и есть. Первая волна серых шинелей, пробившись сквозь клубы дыма, перехлестнула вал передовой батареи, барабанная дробь стала тонуть в многоголосом крике, перерастающем в рев «ура».
«Куда их черт несет, так не вовремя!» – обернулся Илья в сторону оставленных им ложементов. Прежде чем он метнулся на глазах изумленных фузилеров в сторону бастиона, он видел, как со стороны 1-й параллели союзников, из засыпанной наполовину траншеи потянулась вереница пехоты в красных кепи и синих, железного отлива, шинелях с бахромчатыми эполетами. С самоубийственной целеустремленностью французы шли прямо к тому месту, где под двумя саженями земли и пудами камней зловеще притих «камуфлет[14]» из нескольких бочонков пороха. Но теперь… как бы и своим не перепало.
Не раздумывая и даже забыв скинуть Crimeennes[15], так и оставшуюся в рукавах, штабс-капитан ринулся навстречу наступавшим… и снова рухнул, пропустив над головой нестройный первый залп первой шеренги своих же. Метнулся, пригнувшись, вперед, оказался перед колонной и заорал:
– Стой!
Но мыслимое ли дело остановить лавину? Уже исполненные решимости умерщвлять и умирать, солдаты даже своих-то командиров слышали не всякий раз, так что, если бы не дым, стелющийся по земле, фигуру в красных штанах, мечущуюся перед колонной, кто-нибудь непременно взял бы на мушку тяжеловесного солдатского пистоля или взмахнул бы тесаком.
Надеяться на рассудительность людей, разгоряченных предвкушением боя, как-то не приходилось. Поэтому, когда над головой Ильи, блеснув серебряным бликом, взметнулась сабля, ему только и оставалось, что выхватить из ножен свою, верней – убитого француза, пехотную шпагу.
– И вообразите себе, с добрую минуту наши герои бились на саблях так, что только искры летели, – вдохновенно взметнув кулак над головой, прапорщик Лионозов обвел присутствующих горящим взором, как если бы сам только что нанес сабельный удар. – И вдруг, вы не поверите, господа… – опустив кулак и прижав его к груди, воссиял прапорщик улыбкой узнавания. – И вдруг Виктор Сергеевич расслышал в горячке поединка, что противник его, француз, отчаянно ругается по-русски и самым солдатским образом!
Гомерический смех заставил трепетать свечные язычки пламени в канделябре и заглушил деликатные дамские смешки в веер.
– Вот где оказия! Да уж, печальный мог выйти анекдот, окажись кто-нибудь из них менее проворен в фехтовании, – грузный отставной подполковник от кавалерии, щеголявший в старомодном мундире со снятыми эполетами, и он же хозяин дома – князь Дмитрий Ефремович Мелехов – помотал лысеющей головой. Затем он, кряхтя, поднялся с черной крышки рояля, куда почти лег, навалившись грудью, от хохота, и, как будто ставя точку в своем веселье, хлопнул пухлой ладошкой по черному лаку, на котором плясали отраженные огоньки. Рояль отозвался благородным бронзовым гулом.
– Нет, нет… оба противника были достойны друг друга, – с иронической улыбкой произнес поручик Соколовский, образовавшись в высоких дверях столовой.
Даже тут – в зале княжеского дома, отличного от прочих на этой узкой улочке только пузатой, на деревенский манер, колоннадой портика, – чувствовалось тревожное дыхание войны, несмотря на салонное благодушие и размеренность быта, кажущуюся безмятежность и разбросанные на трельяже милые женские безделицы: кружевные перчатки, парфюмерные флаконы и лорнет, вполне бесполезный. К примеру, о войне говорило то, что на ломберном столике в зале поверх старого «Московского Меркурия» и «Ведомостей» лежал кремневый пистолет. Это оружие Дмитрий Ефремович чистил ежедневно, пусть и без всякой надежды употребить. Также можно было заметить, что с одной из пилястр в простенке меж высокими арочными окнами обвалилась капитель в виде амура – еще во время первой бомбардировки. И, наконец, армейские серые и черные флотские шинели, не поместившись в тесной прихожей, лежали грудами на подлокотниках кресел.
– А-а… друг мой! – захромал навстречу гостю князь Мелехов, раскинув объятия, в которые, впрочем, ловить Виктора и не собирался, зная наверняка, что тот как-нибудь, да уклонится. – А я тут наслаждаюсь вашим подвигом, как старый пес дармовой костью. Сами-то мы уже, увы, не лаем-с, не кусаем. А вот вы у нас действительный герой.
– Вы ко мне несправедливы, – отмахнулся лейб-гвардии поручик. – Какой герой? Что тут, право, героического? Сплошной конфуз, если подумать.
Виктор закатил глаза, очевидно пережидая протестующий шум в обществе, где партикулярного платья и военного мундира было примерно поровну – с дюжину тех и других, исключая кисею и дымку дамских туалетов.
– Не клевещите на себя, – погрозил ему пальцем один из гостей, не менее весомый в свете, чем хозяин. Он хоть и справлял какую-то чуть ли не квартирмейстерскую должность, но та странным образом позволяла ему вершить судьбы «квартирантов»[16].
Благообразный старичок с белыми бакенбардами бодро вскинулся с софы:
– Весь Севастополь только и говорит о том, как гвардии поручик Соколовский вышиб французов и англичан из ложементов IV бастиона. Инда осерчал добрый молодец, и благословения командирского не испросив…
– Врут, – по-прежнему с иронической улыбкой, но твердо повторил Соколовский, опустив взгляд карих глаз с рыжинкой. – Во-первых, исключительно по приказу Павла Сергеевича; а во-вторых, Бог свидетель, я был всего лишь очевидец события. Подлинный же герой был другой, а я со своим ажиотажем только путался у него под ногами. Что ж ты врешь, любезный? – обернулся он к Лионозову, тут же состроившему комическую гримасу раскаяния.
Пристыдив приятеля, лейб-гвардии поручик прошел к хозяйке и, сунув фуражку в белом чехле под мышку, поцеловал руку в пышной манжете, рябую от старческих родинок.
– Наши ребятушки ловко били врага в ложементах, – продолжил Соколовский. – И верно, вести их в бой было сущим удовольствием.
Прикладываясь к ручкам дам и девиц, он не забывал всякий раз, распрямившись, отбросить назад густые волосы вороньего отлива.
– Мое почтение… – поручик пожал крепкую ладонь моряка с эполетами капитана второго ранга, после чего, наконец, перешел к самой сути рассказа. – Но надо отметить, что неприятеля мы били уже битого… pardon за тавтологию.
– Это как? – вскинул белесые брови моряк.
– Именно. Перед этим в ложементах разорвался камнеметный фугас, приведенный в действие подлинным героем дня, – адъютант Соколовский развел руками, как если бы сожалел, что не сам был тем героем. – Но вам, сдается, его историю уже рассказывали? – Виктор обернулся на Лионозова.
– Во всех подробностях, – подтвердил Федор. – О похождениях бравого штабс-капитана уже доложили-с. О смелом его маскараде, одураченных французах и красных штанах, едва не стоивших ему жизни.
Как-то сам собой подвиг штабс-капитана Пустынникова стал в обществе приключением, вызывающим больше веселья, чем сочувствия, тогда как суровая и подлинно героическая проза в лице генеральского адъютанта заставляла сильнее биться чувствительное сердечко.
Тяжело опустившись в кресло с резной спинкой, Соколовский поморщился, скрывая ото всех не то смертельную усталость, не то рану, втайне перевязанную, чтоб не отправляться с позиций в госпиталь.
– А что, где он сам? – оглянулся Виктор из кресла. – Я пригласил нашего героя, чтобы еще раз и публично просить у него прощения.
– Но… за что ж вам извиняться? – раздался девический голос, сорвавшийся на первом слоге, должно быть, от волнения.
– Что по горячности своей едва не сорвал его замысел, – ответил Виктор, нарочито не оборачиваясь, но знал, что особа, задавшая столь взволнованно этот вопрос, нарядилась сегодня как-то особенно обдуманно. Весь наряд – нежно-розовая дымка на белом накрахмаленном чехле, с довоенным богатством расшитая арабесками.
Меж тем парафиновой прозрачности щечки девушки залило румянцем еще большим, чем если бы гвардеец посмотрел на нее в упор, а Соколовский добавил, улыбнувшись краем рта:
– Впрочем, мы уже и объяснились с ним на поле боя сразу, и весьма оригинальным образом.
– Какого черта! – прорычал штабс-капитан Пустынников, невольно раскинув руки, как будто все еще сдерживал напирающую толпу пехотинцев. – Разве уже был приказ к наступлению? Откуда вы здесь прежде сигнала?
– Ежели хотите приказ, то был приказ генерал-майора Шварца, – секунду подумав, парировал лейб-гвардии поручик, также удерживающий колонну поднятой над головой саблей. – Решение было принято и командиром бастиона. А сигнал… Что еще за сигнал? – недоуменно наморщил он лоб под лакированным козырьком фуражки.
– Да вот этот… – штабс-капитан выдернул из прорезного кармана шинели газовый шарф алого перелива и, насадив его на острие французской шпаги, отчаянно замахал в сторону бастиона, отбежав от колонны на открытое пространство.
Вокруг него тут же взвились пыльные дымки вражеских пуль…
– Есть! Есть сигнал, ваше благородие! – едва не вывалился за бруствер кондуктор минного отделения Горохов, прихваченный мичманом Коганом, чтоб рассмотреть сигнал с бастионного вала.
Сам-то Коган даже на расстоянии вытянутой руки мало что мог разглядеть и едва ли видел командира бастиона – к которому обещался бежать, как только станет известно что-либо о судьбе предприятия штабс-капитана Пустынникова, – хотя капитан 1-го ранга был всего в десяти шагах от него, в орудийном дворике 32-й батареи.
Коган все же добежал, но только направленный в нужную сторону бесцеремонным тычком своего кондуктора.
– Есть сигнал, ваше высокоблагородие! – прокричал мичман, очутившись перед Раймерсом. – Можно взрывать!
– В том-то и дело, – озабоченно глянул на него Павел Сергеевич. – … Можно ли?
Он раздраженно потеребил кончик полуседого уса и махнул ладонью куда-то вниз, в оседающие облака порохового дыма. – Извольте-с видеть, этот вздорный мальчишка, генеральский адъютант, не дожидаясь приказа, вывел батальон в ложементы. Герой, куда нам, убогим-с!
– Однако они стоят, Павел Сергеевич, – оглянулся на него собственный адъютант, отняв от глаз складную подзорную трубу. – Батальон стоит перед ложементами, сразу за валом, отстреливается.
– Вот оттого и машет штабс-капитан! – оживился Коган, изображая рукой сигнал, поданный снизу алым шарфом. – Не стал бы Илья Ильич подвергать людей опасности, значит, можно!
Он осекся, услышав походный бой барабана, казалось, разметавший клубы дыма над редутом.
Все обернулись. Командир бастиона быстро вышел из орудийного дворика к краю дощатого настила, тянувшегося вдоль батарей, перегнулся далеко за жерди перил, или, по флотскому обычаю, – лееров.
– Ну, пожалуй, и впрямь можно-с, – пробормотал он спустя пару секунд в усы и, отпрянув от жердей, повторил: – Кажется, можно. Как раз тобольцы подошли. Действуйте, Антон Михайлович!
– Аарон Моисеевич, – проворчал мичман и командир минной команды, скатываясь с батареи по трапу.
Прошло совсем малое время, и земля ударила в подошвы сапог, заставив пошатнуться колонну, упрямо стоявшую под пулями неприятеля, едва прикрывшись неровностями местности, благо, что картечь полковых пушек, доставленных французами в ложементы чуть ли не на руках, до колонны не доставала, как, впрочем, и ядра тяжелых батарей, перелетавших на бастион.
Сразу после встряски громыхнуло так, что бывалые воины принялись зевать, чтоб вернуть слух, а над ложементами вскинулась и осела земля и стали разрастаться рыжеватые клубы пыли и дыма.
– Вот теперь геройствуйте, поручик, – облегченно выдохнул Пустынников, пряча шарф за пазуху нательной рубахи, совершенно потерявшей первоначальную белизну.
– А шарфик-то, пожалуй, девический? – не к месту то ли поинтересовался, то ли констатировал Соколовский, насмешливо щурясь из-под насупленного козырька фуражки, однако не дождался другого ответа, кроме предостерегающего взгляда исподлобья.
Еще мгновение подумав, поручик кивнул:
– Виноват. Pardon за бестактность. Не составите ли компанию? – острие драгунской сабли адъютанта указало на стену из плетеных тур, быстро зарастающую дымками ружейных выстрелов.
– Отчего же… – скинул наконец вражью шинель штабс-капитан и, перехватывая половчее пехотную шпагу с широким лезвием, заметил без видимой язвительности: – Теперь, пожалуй, ваша поспешность будет более уместна.
– И вам советую, – хмыкнул лейб-гвардии поручик. – Поспевайте.
– Свалка произошла жесточайшая, – заключил Соколовский уже в самозваном офицерском собрании князя Мелехова. – Так что оглядываться мне было, право, некогда, но я все же не мог не заметить, что штабс-капитан сражался как демон. Да и как не заметить, господа, если французы и англичане попросту от него разбегались, как от родителя с розгами.
Переждав смех, рассказчик будто отмахнулся от чьих-то назойливых восторгов:
– Впрочем, вполне насладиться этим зрелищем мне не довелось. Все закончилось прежде, чем неприятель успел перезарядить штуцера. Так что…
– Да вас послушать, вы как будто на эскизах были, – покачал головой один из тех штатских, кто воленс-ноленс был обделен участием в битвах и оттого обречен на лесть. Иногда завистливо-мрачную.
Но гвардии поручик воспользовался и ею:
– Так и в самом деле! – развел он руками. – Ничего достойного пера литератора или кисти художника. От одного штыка я увернулся, кого-то махнул саблей по горлу… Прошу прощения за натурализм, – кивнул он дамам, приложив руку к сердцу и опять нарочито не замечая расширенных вечерне-синих глаз. – Вот и все. A la guerre come a la guerre…
И столько было обыденной доблести в этих его словах, что любой, кто был на бастионах, мог с полным правом прибавить свои несколько слов, а если участвовал в деле, то и встать рядом в медальонный профиль, как сейчас у Виктора, задумчиво устремившего взгляд в дымы и пламя минувшей битвы.
Завороженная этим профилем, та самая девушка с парафиновой прозрачности щечками даже не почувствовала, как глаза ее увлажнились, а когда спохватилась, то не могла найти платка в лифе и оттого, вскинувшись с софы, едва не выбежала из залы, шурша юбками розовой дымки.
Княжна Мария Мелехова, еще вчера считавшаяся ребенком, только сегодня вышла в свет, обнаружив при этом самое непринужденное воспитание и, как следствие, полную свою неготовность к роли невесты. То ли старый князь Дмитрий умиленно потрафлял ее непосредственности, не беспокоясь, как она покажется в обществе, то ли мать полагала, что должные таланты проснутся в Машеньке сами собой. Но не случилось…
Роль невесты для княжны оказалась так нова, как если бы она никогда не играла в куклы, не держала под подушкой зачитанных до дыр романов и не переписывала в альбом элегий, украшенных виньетками из роз, голубков и сердечек.
Да оно так и было, пожалуй, поскольку в друзьях отрочества у княжны были все больше дворня из числа отставных унтеров, весь остаток жизни починяющих княжеский экипаж, да старух-солдаток времен Отечественной войны, с их бесконечными сказками на кухне о прежних временах и о деревне. Одним словом…
И в течение года предвоенных выходов делалось ей в свете так неловко и неуютно, что впору было по детской памяти лезть под стол, чтоб оградиться от чуждого мира гостей бархатом и бахромой скатерти. Однако, к завистливому раздражению прочих претенденток, неловкая как в танце, так и в разговоре, Машенька была титулована мужской половиной собрания «прелестной дикаркой» и, к ее несчастью, вниманием кавалеров обделена не была.
Княжна даже страдала от этого, мечтала о покое. Как вдруг, то ли под настроение войны, когда многие мужчины вокруг кажутся возвышенными героями, окрыленными славой и возможностью героической смерти, то ли с механической неизбежностью времени – пора уж! – но с некоторых пор стала она испытывать удушье и стеснение в груди. По странному совпадению удушье и стеснение случалось все чаще и чаще, причем тогда, когда в столовой зале дома Мелеховых стал объявляться он! От одного взгляда этого героя китовый ус корсета, казалось, трещал, не вмещая и без того чуть слышного дыхания.
Герой нечитаных романов, не похожий ни на кого, ранее встречавшегося, ранее выдуманного на беспокойной девической подушке. Такой настоящий, что невозможно было сообразить, что с ним… вернее, что с этим всем, необъяснимым и волнующим, делать. И, не умея придумать, Машенька грызла костяшки кулака, давилась то беспричинными слезами, то смехом, впадала в хандру, а то счастливо тискала рыжую свою кошку так, что та начинала проситься дурным воем.
Вот почему княжна не удержалась в добровольном заточении девической – ведь он был совсем подле, за стенами, за дверями с резными филенками! – и вернулась в залу.
Меж тем гости уже разделились. Дамы остались у медного самовара сплетничать, а мужчины прошли в кабинет-библиотеку князя составить партию в вист, но лейб-гвардии поручик Соколовский остановился в дверях, будто почувствовав Машенькин взгляд, обернулся.
Девушка даже отшатнулась – так прямо спросили карие глаза его с рыжинкой, и так трудно было им что-либо ответить. Она запнулась, нервно сжав пальцами оборки юбок; мочки ушей, прикрытые прядками русых волос, поднятых на затылок, налились рубином. Она то отводила взгляд, то возвращала его, не умея справиться с магнетизмом Соколовского.
– Стоит ли, Виктор? – тем временем шептал тому на ухо прапорщик Лионозов. – Вы и без того чудовищно проигрались в собрании. Оставьте.
– Вот и верну, – раздраженно оборвал его гвардеец. – Ты дай только билет.
– Да я, конечно, – смутился прапорщик, живший отнюдь не на одно жалованье, поскольку состоял наследником здешней табачной аренды. – Мне не жаль, но… – Федор покачал головой, – тут ставки велики. А вы же помните, что писал вам ваш батюшка?
– Со старого тирана будет довольно знать, что векселей ему никто не предъявит, – досадливо поморщился Виктор…
…И приняв эту его неприязненную гримасу на свой счет, Машенька, как показалось ей, взломав паркет, провалилась под пол. Там уже, в сумрачном подполье своего сознания – а на самом деле идя из залы на кухню, к подружке своей, 40-летней Прокопьевне, поверенной во все ее тайны и печали, – она решилась объясниться во что бы то ни стало с Виктором и таким образом покончить со всем.
Пусть даже сгорев со стыда дотла.
В серой, стального отлива, воде было разбито отражение огромного пароходного колеса, время от времени совершенно размытое «гусиной кожей» от снежной крупы, налетавшей с промозглым ветром. Это было колесо парохода Lion's Heart («Львиное Сердце»). Слишком тяжелый, чтобы слушаться мелкой речной ряби, он мрачнел почти неподвижно неподалеку от нового Лондонского моста на фоне его арочных пролетов, спустив паруса и бросив трапы на дебаркадер крытой пристани Royal Victoria Port – порта Королевы Виктории. Этот порт, как и пароход, – тоже новостройка столетия. Косая насечка кровельного железа на чугунных столбах с капителями ажурного литья, под которыми все двигалось, шумело и торопилось муравьиной сутолокой докеров и экспедиторов разных ведомств, недружно занятых снабжением Крымской армии.
Мэри едва успевала подобрать не такой уж и широкий дорожный кринолин, чтобы уступать дорогу то катившейся с грохотом бочке с гербом старинной Eagle Whiskey Company, то тюкам запоздалых полушубков и шинелей с пелеринами, то подводам, груженным деревянными флягами, и вовсе уж непонятным корзинам, полным заметно подгнивших апельсинов.
Если о снабжении русской армии в литературе принято высказываться критически, то снабжение английской тем только и выигрывает, что никакой критике не подлежит вовсе. Это единственная армия, явившаяся на театр Восточной войны без обоза. Без тыла. Причем не образно, а буквально. Сколько-нибудь организованного тыла британская армия не имела, что, впрочем, не так уж и удивительно.
Если главной бедой нашей армии называют крепостническое устройство России и, как следствие, техническую отсталость, то при самом прогрессивном государственном правлении великой Британии, при высочайшем на тот момент уровне технической оснащенности ее армия зиждилась на традициях совершенно средневековых. По сути, это была ленная привилегия дворянства, укреплявшая королевскую власть в противовес парламентскому своеволию. Отсюда и нелюбовь к армии со стороны парламентских институтов, поскольку, как известно, своим историческим существованием английская демократия обязана прежде всего отсутствию в Англии сколь-нибудь регулярной армии вплоть до Нового времени.
Впрочем, и в XIX веке королевская армия рассматривалась как всего лишь полицейская сила для карательных операций в колониях. Отсюда и непрофессионализм нижних чинов, который ниже всякой критики. По сути, это был добровольческий сброд, чья дисциплина обеспечивалась больше поркой кошками, чем сознанием долга. Что же касается офицерства, то кастовая заносчивость ставила его как над солдатской массой, так и над военной наукой[18].
К примеру, командир английского полка являлся не столько полководцем, сколько подрядчиком, снабжавшим свой полк амуницией по той цене, которую сам назначит своим подчиненным, а извлекаемые отсюда барыши составляли едва ли не единственную причину пребывания на службе. Ротами и батальонами офицеры торговали, за плату участвуя в разных сомнительных предприятиях, чтобы обеспечить себя при выходе в отставку, как в эпоху Лувуа. О назначении на те или иные командные должности за таланты или отличие речи просто не шло – королевский патент на воинскую должность покупался, как доходное торговое предприятие.
Вот почему о каком-либо централизованном снабжении говорить тоже не приходилось. Тут священное кредо невмешательства в дела частного собственника и свободы частной инициативы сыграло с империей злую шутку. И даже высшая администрация не могла поправить положения ввиду того, что управление Королевской армией было разрозненным.
Являлась ли при этом королева подлинной матерью для армии, вопрос спорный, но то, что парламент являлся мачехой – определенно. Зависящее от него министерство колоний обладало правом давать армии любые оперативные приказы. Первый лорд казначейства предоставлял транспорт, а также заведовал продовольствием, но при этом статс-секретарь министерства колоний ведал денежными ассигнованиями и, таким образом, сосредоточивал у себя значительную часть военного бюджета. Печальным итогом такого разрозненного управления было то, что в связи с отсутствием какого-либо санитарного обеспечения, отвратительным продовольствием и отсутствием теплой одежды английская армия в Крыму в зиму 1854–1855 годов положительно вымерла от эпидемических болезней и истощения. Один английский батальон смог выйти на смотр в составе всего восьми человек.
Тут пенять на жесточайший шторм 14 ноября, утопивший союзные транспорты с теплой одеждой и медикаментами, особо не приходится. Сообщение между Британскими островами и Крымским полуостровом было регулярным и вполне налаженным. Вот только везли абы как и бог весть что. Везли то, что частным подрядчикам удавалось всучить военным ведомствам.
Положение в корне изменилось лишь в начале 1855 года, после скандала, разгоревшегося в прессе, и последовавших за ним не менее скандальных слушаний в парламенте.
Впрочем, юная Мэри Рауд, растерявшаяся среди самых разнообразных и порой нелепых грузов, отправляемых в Крым на борту «Львиного Сердца», мало что понимала в военном снабжении, да и откуда бы такое в восемнадцать лет, резво пробежавших по песчаным тропкам регулярного парка[19]?
В очередной раз посторонившись из-за ящика, в щели которого виднелась упаковочная солома и даже синий помпон поркпая[20], заметно утратившего в парадности по сравнению с «Альберт-шако», путешественница оказалась у самого швартового кнехта и увидела свое отражение в ртутном зеркале реки. Темза на мгновенье притихла в ожидании нового порыва ветра, и сама Мэри притихла тоже…
В классическом контуре «песочных часов» девушка даже не сразу узнала себя, и пусть водное зеркало было слишком мутным, чтобы отразить мелкие черты, воображение дорисовало их, и Мэри отпрянула. Мертвецки-бледное лицо, скрытое в меху по самый нос, вокруг которого милая россыпь веснушек наверняка казалась теперь брызгами порыжелых чернил. Серые глаза расширены, как в припадке безумства. Рука в перчатке, стискивающая ворот ротонды[21] под горлом, заметно дрожит, то ли от холода, то ли…
Девушка еще не оправилась от того, что видела не далее как полчаса назад в Гринвиче, откуда ее привез в Лондон-пулл[22] «речной кэб» – крохотный паровой катер с осадкой иного плота.
«Господи милосердный, – думала тогда Мэри, стоя на площади Инвалидного дома, на этих серых плитах между колоннадами корпусов Карла и Вильгельма. – Если это выздоравливающие, то есть те, над кем крыло смерти уже пронеслось, не покрыв с головой шинельным сукном, то каковы должны быть другие, еще остающиеся на больничной койке, – те, над кем колдуют доктора, кого еще ждет пила хирурга».
Следы работы этой пилы Мэри видела вокруг себя постоянно и повсеместно. Это не были люди в привычном для нее понимании, они казались только обрубками человеческих тел, урезанных с легкомыслием ребенка, кромсающего ножницами фигурки из шляпного картона. И странно, и дико было видеть юной леди, что эти поломанные человеческие куклы еще способны не только стонать и причитать, что было вполне естественно и понятно, но также мирно беседовать, пуская дымки странных сигар, скрученных из обрывков «The Times». Эти люди могли даже шутить и смеяться.
«И более того…» – недоумевала Мэри, ведь, проходя меж рядов носилок, которыми был уставлен весь госпитальный двор, она то и дело ловила на себе такие взгляды, в которых читалась откровенность, приличная разве что деревенскому празднику. Пусть к тому поощряло простое платье девушки как сигнал доступности, но все-таки отчего могли мыслить себя рядом с ней или с любой девушкой эти «усеченные» вариации мужчин с бурыми от засохшей крови культяпками вместо рук или ног?
Но, впрочем, вот и офицер, с алыми после перевязки тряпичными пробками ниже колен, посмотрел на нее и слабо улыбнулся, тронул ус… определенно пытаясь нравиться.
«Нет…» – увидеть на его месте того, кого она искала? Увидеть таким же?!
Это было бы свыше ее сил! Леди Мэри остановилась, так и не углубившись сколько-нибудь в мозаику носилок и человеческих тел, рассеянно тронула пальцами выпуклый лобик со светлой прядью волос, выбившихся из-под капора, повернулась в сторону ворот, сделала несколько шагов и… вдруг бросилась обратно, навстречу возможному известию, которое ее так пугало.
– Зимой их было меньше, – своеобразно обнадежил юную леди один из постоянных обитателей Инвалидного дома, куривший трубку на паперти госпитальной церкви.
– Меньше? – рассеянно переспросила Мэри, ломая пальцы, сцепленные в замок, и привалившись спиной к колонне.
– Да, сюда некого было везти, – подтвердил глубокой древности «пенсионер», заработавший госпитальный кров и пожизненную пенсию, должно быть, еще при адмирале Нельсоне. – Все остались там, в Балаклаве.
«Видите ли вы через отверстия в палатке снег, загоняемый ветром и в саму палатку? Снег понемногу покрывает находящихся в ней людей, распростертых на земле и просящих у ночи, чтобы она дала им немного успокоения от усталости и волнения дня. Скоро эти люди начнут стыть от холода, и их промокшая насквозь одежда покроет их тела смертельной влажностью. Что им делать, чтобы спастись? Извне они найдут холод, ветер и крутящийся снег; внутри палаток им будет не лучше. Конечно, выйдя из палатки, у них будет средство ходить, чтобы согреться, но будет ли у них достаточно сил, чтобы двигаться? В течение двадцати четырех часов они были заняты тяжелой работой в траншее под непрерывным огнем из крепости, копанием земли или переноской снарядов… А если в этих палатках, осыпаемых снегом, находятся не только люди здоровые, но и больные грудью, мучимые лихорадкой и дизентерией, терзаемые глубокими ранами или муками ампутации, к которой пришлось прибегнуть, чтобы остановить гангрену? Насколько более отчаянным становится тогда положение!»
Под этим частным письмом одного из полковых священников французской армии, некоего Дамаса, вполне мог поставить свою подпись и английский капеллан Уильям Бейвет, будь у него время и адресат для подобных жалоб.
Положение в английском лагере в Балаклаве казалось ничуть не лучшим, если не худшим, чем в Камышовой бухте у французов.
«Пенсионер» указал юной леди, где найти другого «пенсионера» – безногого сержанта, составлявшего почтовые списки для уведомления родни тех раненых, что были привезены из Константинополя на «Львином Сердце».
Благодаря такой указке, еще немного поплутав по Дому инвалидов, леди Мэри со смешанным чувством разочарования и облегчения узнала, что сэра Мак-Уолтера в этих списках нет. Увидеть его среди нынешних раненых было бы для нее так же страшно, как и теперь не знать ничего. Но все же? В глухом лифе ее простого мещанского платья, согретое сердцем, лежало письмо, обещавшее свидание с тем, кто превратил ее жизнь в пугливую тайну или, напротив, в сплошную демонстрацию, в беспрестанную борьбу за редкое вознаграждение мгновеньем счастья… Счастья, которое теперь ускользало.
«Как нет?! Почему?! Возможно, он обманывал, говоря, что приедет в отпуск на выздоровление, а на самом деле тяжело ранен и его везти нельзя или… убит и потому не приехал?!»
Никто не мог ей ответить на эти вопросы.
«Никто, кроме Уильяма Бейвета», – поняла Мэри, оставив последнюю попытку выяснить что-либо у безногого офицера, который любезно улыбался, искренне пытаясь помочь, и которого она так смутила, обратившись к нему, что он поспешил прикрыть свои обрубки больничной простынею.
Бейвет обещал при случае сопровождать жениха юной Мэри и даже стал посредником в их переписке, поверенным в планы влюбленных еще со времени их тайного романа в Рауд-Вилле.
Уильям Бейвет был тамошний викарий. И, как прозорливо догадывалась Мэри, питал к ней чувства далеко не отеческие, тем более что в отцы он если и годился, то только в духовные. Иногда ей даже казалось, что молодой священник потому и отправился в Крым капелланом, что оказался уже не в силах смотреть на ее муки. Возможно, Бейвет решил, что так сможет утешать ее сведениями о лейтенанте Мак-Уолтере и притом не видеть ни ее радости от счастливых известий, ни страданий от неведения.
К счастью, на след капеллана удалось напасть. Один из сотрудников госпиталя, несших порожние носилки, сказал юной леди, что слышал, как «отец Бейвет» собирался отправиться в типографию за карманными Библиями, а оттуда сразу ехать обратно к «Львиному Сердцу», оставшемуся в порту Королевы Виктории, на погрузку.
– А что столько шуму? – нахмурился штабс-капитан в дверях трактира, держа в руках шинель, будто все еще надеялся передумать и уйти.
– Это ваш новый приятель брызжет шампанским, – потянул серую шинель из его рук прапорщик Лионозов, очутившийся подле с проворностью пресловутого черта из табакерки. – Лейб-гвардии поручик Соколовский, кстати, ждал вас у Мелеховых и по-прежнему жаждет видеть!
– Да, знаю, его денщик мне передавал приглашение, – Пустынников нехотя отдал-таки шинель. – А как Соколовский тут очутился? Я полагал, это не стихия для господ гвардейских офицеров.
Здесь – за Греческой слободой с ее ажурными балкончиками, подпертыми хлипкими резными столбами, и Девичьим училищем для матросских дочерей – тянулись обмазанные глиной кривые стены казарм флотских экипажей, крытых бурой черепицей, а то и просто порыжелым дерном. Тут же, сообразно трезвому смыслу, осиными сотами лепились к их стенам различные питейные заведения – от штофных лавок и распивочных до уходящих под фундаменты «ренсковых погребков», обнаружить каковые было проще по кислому смраду, чем за вывеской. Все низкого пошиба, из расчета только на жалование нижних чинов. Единственным приличным заведением полагалась кухмистерская[23] для холостых офицеров в доме титулярной вдовы[24] Эвы Блаумайстер. Поговаривали, впрочем, что она же была «мамкой» борделя копеечной категории, расположившегося в номерах трактира подле.
Этот трактир слыл заведением «с претензией», где, по крайней мере, стенал и вздыхал медными трубами «оркестрион» и имелась возможность даже прочесть свежие «Губернские новости». В любом случае уже для обер-офицеров оказаться замеченными тут было «в сильнейшей степени mauvais ton», как говаривал классик[25].
– Иное дело – светский прием, – заметил штабс-капитан Пустынников, впрочем, без тени иронии.
– Это уже прошло, и прошло довольно скучно, – отмахнулся Лионозов. – Все разговоры о вашем с Соколовским предприятии.
Пустынников невольно повел бровью. Выходило, «предприятие» его в ложементах приобрело соавтора, но он промолчал, в то время как прапорщик, уже заметно навеселе, тарахтел без умолку, как пустое фуражное ведро на лафете:
– После был скверный кофе, как бы не раздобытый в ранцах французских зуавов, и вист, закончившийся весьма плачевно.
– А что так? – вяло поинтересовался Илья, приглаживая кончики усов большим пальцем и забрасывая шрам соломенными прядями перед зеркалом.
– Виктор проигрался в прах, – доверительным шепотом поделился прапорщик, как если бы сообщал нечто неожиданное и столь интимное, что можно поведать только близкому другу. – И теперь вот кутит, чтоб не застрелиться.
– Насколько я знаю, ему и полкового запаса пуль не хватит, чтобы стреляться по поводу каждого его долга, – проворчал штабс-капитан. – Небось, и сейчас за ваш счет… отчаивается?
– Ну, это не совсем справедливо, – горячо запротестовал Федор, впрочем, тут же и проболтался: – Да, Виктор большей частью должен мне, но я же не спрашиваю.
– Эвон… – иронически покосился на него штабс-капитан. – А разве с вас спросить некому? Родитель, поди, в обмороке? Впрочем, это не мое дело, – обрезал он сам себя, увидев замешательство в лице купеческого отпрыска. – Что там за вопли?
Пустынников обернулся через плечо в сторону лестницы, ведущей в номера, и увидел, как по рассохшимся ступеням едва не кубарем скатился, силясь попасть в рукав куцей просмоленной шинелишки, не первой свежести молодец с боцманскими усами, но с басонной тесьмой баталера[26] на стоячем воротнике. Вслед ему полетела ловко пущенная черная бескозырка с желтыми литерами какой-то береговой части. Схватив ее и мотню белых шаровар в одну руку, усач с тараканьей прытью прошмыгнул мимо штабс-капитана, едва пробормотав: «Здравия желаю, ваш-бродь…»
При этом в глазах его страху было поровну со злобой.
Глумливо отзвенел, прощаясь с невезучим клиентом, колокольчик на стеклянных входных дверях. Мелькнула надпись, призванная встречать посетителей и потому украшенная золотыми канцелярскими виньетками: «Трактиръ „Первостатейный“». Впрочем, она говорила скорее о ранге завсегдатаев – матросов I и II статьи, – а вовсе не о ранге заведения.
– Домовой?! – раздался скандально-требовательный голос сверху.
На узкой галерее, тянувшейся вдоль ряда дверей, показался лейб-гвардии поручик Соколовский. При ближайшем рассмотрении можно было заметить багровые пятна на его шее, видной под фуляровым платком за отвернутым бортом мундира. Лицо же, напротив, казалось контрастно бледным. На висках блестели капли пота, но появиться они могли еще прежде, чем поручик пришел в ярость.
– Домовой… тьфу ты… половой! – поправился Виктор и сам же, сообразив оговорку, зашелся нервным смехом.
Впрочем, ненадолго – как только на глаза ему попался пентюх в подобострастном изгибе, с полотенцем на худом локте и в белой рубахе до колен, стриженный, как водится, в кружок, хоть это и не прибавляло благообразия промасленной пеньке его волос.
– Ты что, каналья! – увидел его Соколовский. – Забыл, что я настрого запретил тебе унтеров к ней подпускать?!
– Да разве ж мы в праве-с? Как можно-с… – забормотал что-то невнятно-несуразное «человек», непрестанно кланяясь и отступая, пока не врезался рыхлым задом в механический орган, тут же соскочивший с полонеза на игривую польку. – Это уж как мадам…
– Вот я тебе задам «мадам»! – прорычал поручик по-прежнему свирепо, но все же тушуясь. Он ведь на упомянутую особу абонемент не покупал, чтоб отдавать подобные распоряжения через голову «мамки».
Речь шла о Шахрезаде – ярком бриллианте в фальшивой оправе прочих «воспитанниц» мадам Блаумайстер. Подлинное же имя этого бриллианта не имело ничего общего с восточной сказкой – Юлия Майер.
При первом взгляде на двадцатитрехлетнюю Юлию казалось трудно поверить, что она вовсе не Шахрезада. В ней и впрямь было что-то изысканно-восточное, персидское. Высокие скулы заостренного книзу лица; страстная нижняя губа, подвижность которой Юлия, казалось, усмиряла, прикусывая ее вишенную кожуру; миндалевидный разрез глаз, всегда полуприкрытых ресницами, но без той лубочной томности, что служила первым признаком известного ремесла. В глазах оттенка горько-сладкой мезги темного винограда читалась такая отрешенность от собственного тела, что только совершенно бездушный тип мог под взглядом Юлии рыться в портмоне, выискивая купюру помельче. Взгляд же этот еще более завораживал и был исполнен снисходительного участия, если Юлия вдруг оделяла им юного кантониста, как неловко прятавшего под кружевную скатерку неслыханной щедрости синюю бумажку.
Подлинная восточная принцесса, хоть и «бланковая»! Однако от своих товарок, поначалу враждебно принявших Юлию, она себя не отгораживала и скоро сошлась – может, не так коротко, как «билетные» между собой, но вполне достаточно, чтобы разница в оплате «трудов» перестала возбуждать открытую зависть. За Юлию платили до пяти рублей за ночь, и по часам она не работала. Прочие же обходились полтинником за час солдатского усердия.
Следует пояснить, что преимущества или превосходства в ранжире между теми, кто получал от Врачебно-полицейского комитета «бланк», и теми, кому выдавался «билет», почти не наблюдалось. «Билеты», выданные взамен «подлинного вида»[27], так и назывались официально «заместительными», но в обиходе отчего-то звались «желтыми», хоть и делались из белой бумаги. На «билете» помещался печатный текст правил, предписывающих обязательную регистрацию в полицейском участке и регулярный осмотр у врача, – все то же, что и на «бланке». Правда, унизительный поход к врачу «бланковая» могла совершать всего лишь один раз в неделю, вместо двух, обязательных для «билетных», – а это уже подобие почтительного обращения.
В остальном же разница была невелика и состояла лишь в том, что «билетные» обитали в домах терпимости, а «бланковые» занимались вольным промыслом, который именовался таковым лишь условно. Слишком уж часто «бланковые» жили на съемных квартирах, ничем не отличимых от домов терпимости, и под присмотром сутенеров, заменявших им «мамок».
Год тому Юлия решительно освободилась от работы на съемной квартире и от опеки одного примечательного господина, говорившего фальцетом вместо ожидаемого баритона, а по манерам суетливого, как хряк у корыта, по недоразумению выряженный в сюртук. Поговаривали, что Юлия даже не освободилась, а сбежала. Или от нее сбежали? Трудно сказать, потому как с того времени хряк перестал появляться на бульваре, где раньше всегда мог быть найден страждущими.
В «первостатейное» же заведение мадам Блаумайстер новая Шахрезада пришла сама. Пусть и могла претендовать и на нечто большее, но в темно-карих глазах пришлой виделась такая усталость от роли «дамы полусвета», что мадам Блаумайстер сочла все расспросы излишними. Сама же Юлия как-то обмолвилась, что «так честнее». В общем, заявилась и примкнула к труппе, как ярмарочный солист к бродячему цирку, тут же став Шахрезадой, а то своя «царица Тамара» уже порядком приелась публике и, вообще, давно просилась в «инвалидную роту». Прочие же все – Маньки да Соньки – никак не соответствовали бы образу восточных красавиц.
– Ведь мы ж не немцы, не европейцы какие-то, – с пьяной задушевностью пытался растолковать поручик, бесцеремонно навалившись на плечо штабс-капитана.
Уже стемнело, и прохожие, которые в светлое время суток отбрасывали тени на булыжную мостовую, теперь сами сделались подобны черным теням и снова обретали прежний облик лишь тогда, когда на них падал свет из окон, освещенных ярким золотом люстр или карселевых ламп. Однако таких окон было мало. За стеклами по большей части виделись огоньки экономных сальных огарков или же масляных плошек, хотя последние светили обычно в полуподвальных норах.
В такое время нередко можно было встретить на улице подвыпившего гуляку, и все же особенно обращала на себя внимание троица черных теней, отличавшаяся отрывистостью движений и замысловатым зигзагом траектории. Против воли, подчиняясь «боевому товариществу», штабс-капитан Пустынников не то вел, не то нес на плече лейб-гвардии поручика, который ударился в рассуждения о несчастной судьбе обитательниц «первостатейного» трактира, потому как не хотел задумываться о собственном плачевном положении – на вечере у князя продул в карты «квартирмейстерскому» чину пять тысяч под вексель!
– Мы же не попользоваться, а преклониться! – разглагольствовал Соколовский. – Ведь, что такое француз или, там, немец в борделе? Покупатель! Заплатил и вправе требовать удовлетворения самой скотской своей прихоти… Лионозов, что ты мне, каналья, эполет рвешь?
Виктор вдруг обнаружил за спиной верного своего Патрокла, упорно пытавшегося дотянуть шинель поручика с локтя на плечо, украшенное эполетом, только что отмененным для повседневного ношения[28].
Стряхнув вовсе шинель на руки Лионозова и даже распахнув борта мундира – должно быть, одолевал хмельной жар – Виктор грубо отпихнул вечного своего спутника и продолжил с вдохновенной горячностью:
– А что такое образованный русский? Он же не только природную нужду справить пришел за целковый, а поговорить! Он же сострадать пришел! К алтарю припасть! Это же… – махнул поручик в сторону трактира, уже оставшегося далеко позади, – это же алтарь, жертвенник. Там все – жертвы, – убежденно повторил он, ударяя себя в грудь белой перчаткой. – Но не жертвы порока, нет! Непорочные жертвы за все несправедливости и насилия, свершенные подлым нашим веком над человеческой личностью!
– Таки непорочные? – с сомнением обернулся туда же Пустынников и, пожав плечами, добавил довольно скучно: – Помнится, жертвенный агнец должен быть ни хром, ни хвор, а мне комитетский фельдшер говорил, что каждая вторая ваша Агнесса – сифилитичка.
– Не сметь! – вспылил Соколовский, безуспешно пытаясь выдернуть руку из-под локтя штабс-капитана, но тот удержал его крепко, не желая, видимо, снова ловить голову поручика в опасной близости от бурых булыжников мостовой. – За видимой растленностью этих женщин – святость чистой страдающей души!
Виктор, яко учитель, замахал пальцем перед самым носом Ильи, так что тот невольно отпрянул, сказав примирительно:
– Как вам угодно… У нас кто ни страдалец, тот и святой. И даже не важно, чем заслужены его страдания.
– Заслужены?! – с немым укором посмотрел на собеседника Соколовский, будто и впрямь оказался поражен этим суждением. – Да вы сами попробуйте на их месте?!
– Увольте… – хмыкнул штабс-капитан, но поручик, вдохновленный сам собой, будто его и не расслышал:
– Попробуйте изо дня в день находить себя на дне общества и понимать, что нет ни сил, ни средств подняться! А нравы беспутных товарок?! А тирания содержательницы? А эти «мненья света»? Это пренебрежение, унижение ото всех, – торопливо продолжал Виктор, спеша с изобличением «света», но язык, уже заплетавшийся, не поспевал за мыслью. – Пренебрежение всюду! Потупленные взгляды встречных дам, якобы приличных, но уж я-то знаю… – Виктор заговорщицки понизил голос, заглянув в глаза Ильи, – я-то знаю! Каждая с амурной историей и со страстишкой под кринолином!
Пустынников в который раз пожал плечами, а Соколовский не унимался:
– А вспомните-ка о сплетнях старых снобов! Притом, что у каждого такого сноба в деревне беременная пейзанка! – он пригрозил пальцем неведомо кому. – И даже от грязного унтера презрение!
Вспомнив недавнюю историю в трактире, Виктор даже ринулся было назад отмстить злополучному баталеру, но штабс-капитан удержал, хоть и не без помощи прапорщика, к тому времени уже чувствительно шмыгавшего носом.
– А ну как впотьмах не разберут чина, господин лейб-поручик? – предположил Пустынников с тревожной серьезностью, удерживая Виктора, но отводя взгляд с мефистофельским огоньком в зеленоватых глазах. – Не разберут да поколотят, а?
– Пожалуй, что могут, – трезвая мысль на мгновенье рысью забежала в голову Соколовскому, но тут же унеслась прочь галопом. – Что?! Кто?! Кто может не разобрать? Унтер, понуждавший несчастную к деревенскому образчику блуда? Это ж не англичанин даже, унтер этот ваш, это вовсе скотина, животное! А она…
– …она, – вдруг дернул его за плечо Пустынников, – даже отдав три четверти содержательнице, зарабатывает, не вставая с постели, до двухсот рублей… из тех самых двадцати, что получает наш унтер, подставляя голову ядрам. И кто тут более несчастен?
– Какие могут быть сравнения! – неожиданно подал голос Федор Лионозов, до того времени сочувственно, но молча внимавший панегирику Соколовского. – Как вы можете сравнивать, господин штабс-капитан? – ужаснулся юноша, старательно и даже с яростью чистя обшлагом рукава фуражку своего наставника, которую тот то и дело ронял с головы, всклокоченной, как воронье перо после драки.
– Как видите, вполне могу сравнивать, – улыбнулся Пустынников, но Лионозов еще не закончил:
– Одно дело – подвергаться насилию в бою, со стороны неприятеля, – пылко возражал юноша, не заметив, что стал размахивать фуражкой кумира, как прокламацией, – и совсем другое дело – подчиниться иному охотнику до сладострастной гастрономии!
Вдруг Лионозов почувствовал, что фуражка, которой он продолжал размахивать, стукнулась обо что-то, отнюдь не являвшееся углом дома или заборным столбом – слишком уж мягким получился удар, и к тому же послышалось звяканье, удивительно напоминавшее то, как звенит железо уздечки.
Приглядевшись немного, Федор увидел лошадиную морду, взиравшую на него с философичным спокойствием. Позади нее, за дугой упряжи можно было угадать по черному глянцу кожи двуколку с поднятым верхом. Но почему двуколка стояла здесь, в темном переулке, никак не освещенная? Даже огонька курительной трубки в руках возницы и то не было видно.
– Эй! Есть здесь кто?! – громко спросил Лионозов и совершенно не ожидал, что из мрака раздастся насмешливый женский голос:
– Уж не пойму, господа, вы тут приапеи[29] распеваете или это был плач по невинно загубленным душам? – женщина говорила неторопливо, будто неохотно. Наверное, окажись ее воля, она так бы и осталась немой слушательницей офицерской беседы, пока все трое не прошли бы мимо, но увы – двуколка, в которой невидимая незнакомка сейчас сидела, оказалась замечена.
Послышался шум и шелест тканей. Видимо, женщина подалась вперед. Сверкнула и зашипела серная спичка, багрово освещая узкую перчатку, и еще мгновенье спустя на козлах загорелся масляный фонарь.
Пляшущий язычок пламени за мутным стеклом еще не успел окрепнуть, а рука в перчатке уже убавила свет до минимума, так что оказалось почти невозможно разглядеть еще одну фигуру в кожаной раковине экипажа, предусмотрительно откинувшуюся на сиденье.
В желтом пятне света стало хорошо видно лишь то, что фонарь зажгла дама, всем троим офицерам знакомая, – Юлия Майер собственной персоной!
При таком освещении ее лицо и глубоко декольтированная грудь, сами по себе смугловатые, приобрели медно-красный отлив. Локоны блистали, словно скол угля. Страусовые перья на шляпке, казавшиеся черными, тоже поблескивали, но не могли соперничать по яркости с рубиновой искрой, светившейся в затененных шляпкой глазах.
– Шахрезада! – только и вымолвил Федор, близоруко всмотревшись.
Юлия улыбнулась и еще немного подалась вперед, чтобы фонарь осветил ее чуть лучше, ведь сидела она не на месте возницы, а устроилась на месте седока. С этого же места она и управляла экипажем – внушительный кнут в одной руке, петля вожжей в другой…
– Да вас не Шахрезадой надобно звать, Юлия. Вас следует звать амазонкой, – подал голос Пустынников и довольно бесцеремонно освободился от поручика, повесив его на оглоблю. Лошадь брезгливо фыркнула.
«Странная получается история, – меж тем думал штабс-капитан, с картинным ухарством оправив солому усов. – С чего бы Шахрезада тут затаилась, в переулочке? Ладно бы ехала куда, так было б понятно. Не всем же, как Соколовскому, к ней ходить. Есть, конечно, в городе и такие, кому она сама визиты наносит. А здесь что-то иное. Куда эта амазонка без возницы? Сама правит, будто такая тайна у нее, что и вознице доверить нельзя. Кто ж там с ней рядом сидит?» Однако Пустынников предпочел пока изобразить, что таинственную фигуру в двуколке не заметил, и ради продолжения беседы, в ходе которой можно было попытаться прояснить странную историю, он ляпнул первое, что пришло на ум:
– Куда вы подевались? Я так и не успел поцеловать вашу ручку в заведении мадам!
Пусть такое заявление не очень вязалось со словами, самим же Ильей недавно говоренными насчет сифилитичных Агнесс, но ничего лучше он не придумал, а Юлия, явно почувствовав фальшь, все же предпочла поддержать эту не слишком удачную игру:
– Вы долго нянчились с вашим приятелем, господин штабс-капитан, – сказала Шахрезада, – и я устала ждать. Вот, решила поехать по делам.
– Но, как я вижу, ваши дела закончены, – тут же ответил Пустынников. – Может, тогда я?.. – он уже взялся было за облучок, чтобы влезть в коляску и таким образом «нечаянно» столкнуться с персоной, там прятавшейся, но дорогу Илье решительно преградило кнутовище, которое Юлия продолжала держать в руке:
– Нет, господин Пустынников, мои дела отнюдь не закончены, поэтому, увы, вам придется ретироваться.
Кто бы ни прятался в кожаной раковине, эта персона явно желала сохранить инкогнито, и вдруг Пустынников запоздало подумал, что зря затеял все это. «Черт его знает, кто там. А ты ведь не генерал или другой чин. Кабы раскрытая тайна не сделала тебе хуже, чем тому, кого ты пытаешься вытащить на свет». Штабс-капитан деликатно подался назад и даже чуть отступил от коляски.
– Не огорчайтесь, господин Пустынников, – добавила Юлия непринужденным тоном, видя, что инкогнито сопровождавшей ее персоны не будет раскрыто. – Куда вам торопиться? Или вы боитесь, что я вдруг покину заведение мадам Блаумайстер и запишусь в кавалерию?
– Не позволю! – решительно запротестовал Виктор на ухо лошади, но, вероятнее всего, имел в виду не вступление Юлии в ряды кавалеристов.
Очевидно, до его сознания, уже начавшего затуманиваться пьяным сном, только сейчас дошло, что на Шахрезаду опять покушаются – на этот раз не баталер, а штабс-капитан!
– А впрочем, – сказала Юлия с напускной задумчивостью, даже не глянув в сторону Виктора, – в кавалерию меня бы наверняка приняли, ведь в заведении мадам Блаумайстер мне каждый день приходится иметь дело с жеребцами, и я знаю толк в хорошей скачке.
Пустынников поморщился от такой откровенности и попытался ответить на эту весьма пошлую шутку хоть сколько-нибудь поэтично:
– Одно могу сказать, Юлия. Вы правы в том, что ваше место в армии – этакой предводительницей амурного воинства верхом на единороге…
– Фу, как пошло, – с брезгливой ноткой в голосе перебила Шахрезада, а ведь сама только что сказала пошлость. – Амуры! Единороги! У компаньона своего Соколовского нахватались?
– И верно, – покаянно согласился штабс-капитан, прижав фуражку к груди. – Стыжусь. Сконфужен. Скажу тогда по-солдатски бесхитростно: ступайте-ка лучше в батальон Даши Севастопольской. Туда вас примут без всяких шуток – не кавалерия, но дело достойное, и прямой урон неприятелю. Хоть крест давай.
– И дадут, – ничуть не смутилась Шахрезада. – Поверьте моему слову. Еще и домик заместь проданного на народные полушки купят.
Во исполнение воли его величества приказ о награждении Даши Севастопольской – дочери матроса 10-го ластового экипажа, погибшего при Синопе, – золотой медалью «За усердие» на Владимирской ленте был объявлен по всему Черноморскому флоту. И домик купили, заместь того, проданного Дашей, решившей купить повозку с лошадкой и вывозить на ней наших раненых солдат и матросов с бастионов. Да не на народный сбор покупали, а государь лично ссудил пятьсот рублей серебром. И сверх того заявлено было, что «по выходу ее в замужество жалует еще тысячу на обзаведение», что, пожалуй, оказалось лишком, ибо на те деньги купила Даша трактир в Бельбеке, где муж и спился.
А что говорят, мол, помогала во время войны всем, чем могла, и, говорят, не только раненым помогала – так это святости Даши Севастопольской ничуть не преуменьшает. Даже если, опять-таки говорят, и блаженная была малость. У нас блаженные в простоте своей сплошь и рядом святее здравомыслящих. Так что среди дворянских фамилий Крестовоздвиженских сестер милосердия имя слободской дурочки упоминается совершенно по праву. И промеж адмиралами в нише панорамы Севастопольской бюст простой матросской дочери – на своем месте.
Еще задолго до прибытия в Гринвич, сидя в бирмингемском дилижансе, Мэри сомневалась в удаче своего предприятия. Казалось, соседи по кожаным сиденьям все шепчутся, косясь в ее сторону, и вот-вот шепнут кондуктору, чтобы ее немедленно ссадили и препроводили к констеблю: «Кому, дескать, охота связываться с сильными мира сего?»
Однако именно нежеланием связываться с сильными мира и объяснялась полная безучастность попутчиков леди Мэри, пусть девушка и была очень далека от «толпы», с которой надеялась слиться! Мэри искренне полагала, что «простые» люди и поступать должны просто – если написано в объявлении на стене станции: «Увидевший должен немедленно сообщить», так как же ослушаться?
А то, что «слиться» не удалось, виделось ей уже ясно. «Я – как белая ворона, – в отчаянии твердила себе Мэри и, сама того не замечая, мяла в руке главнейшую улику против себя – шелковый платок с инициалами, плод долгого труда белошвейки. – Кого обманет дешевая фабричная ткань уныло-коричневого платья и вульгарная брошь из финифти на подбитой мерлушковым мехом ротонде самого деревенского кроя? Нет, всякий узнает во мне дочь лорда Рауда, и никто не пожалеет „черного пенни“[30], чтобы сообщить обо мне за солидное вознаграждение».
Старый граф так и думал, так и предполагал – она сбежит! Предполагал с той самой минуты, когда баронет[31] Мак-Уолтер – предмет вечного раздражения и тревоги – появился в жизни дочери. Да хоть бы этот проходимец пропал, если будет на то милость сатаны! Пропал бы навсегда!
Год назад граф был уверен – сбежит его Мэри в колонию североамериканских пилигримов, к австралийским каторжанам или в один из торговых фортов Ост-Индской компании. Кто знает, куда могло занести его строптивую дочь с таким авантюристом, как эта рыжая бестия баронет!
«Чего только стоит одна его покупка через третьи руки патента на золотой прииск в Калифорнии, эта традиционно несчастная попытка разбогатеть! – раздраженно засопел лорд Рауд бугристым лиловатым носом. – И ведь вернулся из Калифорнии рвань рванью, но с таким вдохновенным враньем и с такими горящими глазами!»
Только увидев отражение этого адского пламени в глазах бедной Мэри, старый граф понял: «Теперь она точно сбежит! Провалиться мне на этом месте!»
И верным доказательством тому были твердо сжатые губы дочери, когда он грозился отлучить шотландского проходимца от дома.
Доказательством было ее упорное молчание, когда лорд устраивал допрос: как это, уйдя с молитвенником в часовню, она возвращается из конюшни в кружевах соломы?
Рауд корил себя за свою излишнюю и даже преступную мягкосердечность. Кто-либо другой бы на его месте, заметив хоть одну соломинку на дочериной юбке, тут же приказал бы спустить на этого шотландского проходимца всех собак! Или на дуэль бы вызвал! Или устроил бы так, чтобы баронет под угрозой судебного преследования отбыл обратно в Калифорнию и прозябал там до конца дней!
Увы, граф был слишком мягкосердечен и вместо всего перечисленного мог только сидеть у камина, успокаивая себя с помощью виски, а затем, как следует «успокоившись», проливать пьяные слезы, думая о юной беспутной Мэри, беззастенчиво пользовавшейся добротой отца.
Доказательством этого беззастенчивого злоупотребления являлась ледяная корка, которой подергивались глаза негодницы, стоило графу завести речь о детской помолвке с кузеном Роджером. Мэри прекрасно знала, что для отца эта ледяная корка – как нож по сердцу!
И главное – эти записки и письма, за сочинением которых лорд Рауд не раз заставал дочь, но так ни разу и не смог их прочесть. Наверняка в них обсуждался план побега.
Джон-Ксаверий Рауд, одноименный граф, полковник и член палаты лордов, бродил по паркету библиотеки в своем замке в Уэст-Мидленсе, точно маятник часов – туда-сюда, – и этот маятник постоянно маялся, рассуждая о предмете страстного увлечения своей дочери.
Старый лорд еще недавно надеялся, что, наконец, нашел средство извести этого проходимца – отправить в Крым. Малый оказался примерно тщеславен и столь высокого о себе мнения, что даже не нашел ничего оскорбительного в том, чтобы будущий тесть (да черта с два!) купил ему лейтенантскую должность в 93-м егерском шотландском полку.
«Кажется, он даже счел это уступкой с моей стороны, – покачал старый полковник седой головой, взлохмаченной, будто спросонья. – Решил, наверное, что старик смирился. Дескать, чего ни сделаешь для счастья любимой дочери. Недостает жениху звучности титула? Довольно станет воинских лавров! Чего проще заслужить их на войне для такого молодца, который уже славен своими похождениями с револьвером на гризли! Так этот проходимец и говорил. Врал, поди, как депутат нижней палаты!»
Граф сердито запахнул полу домашнего халата, опускаясь в кресло у камина с готическими химерами:
– И потом, разве воинская доблесть сделает из шотландца англичанина? – лорд Рауд продолжал говорить сам с собой, но эту последнюю фразу произнес вслух, ведь истину нужно говорить громко!
Старый граф был, как говорится, old school – старой школы[32], потому и считал шотландское дворянство второсортным, если вообще достойным называться знатью.
«Как я надеялся, что судьба избавит меня и мою дочь от этого шотландского проходимца, но нет! – лорд Рауд снова рассуждал про себя. – Возмутитель спокойствия, этот Мак-Уолтер в далеком Крыму даже участвовал в несчастном деле под Балаклавой в октябре того года, но, прах его бери, остался жив и почти невредим, когда лучшие сыны Англии погибли».
Джон-Ксаверий поскреб подбородок, поджатый с привычной надменностью, но уже отмеченный седой щетиной запустения, с отчаянием, не глядя, схватил со столика курительную трубку и так же хотел схватить табакерку, но промахнулся. Табакерка едва не упала на ковер, и табак едва не рассыпался.
Правду сказать, сражение под Балаклавой, имевшее место 13 октября 1854 года едва ли претендовало на триумф британского оружия, но все-таки побудило королеву присочинить к Крымской медали еще одну планку на атласную голубую ленту: Balaklava.
Отчего надпись на дубовой ветви была сделана с ошибкой? Сказать трудно, ведь в королевском указе ошибки быть не может. Королева не ошибается, а значит – в указе нет слова Balaclava. Совсем нет. А есть другое слово, подменяющее собой то, которое означает этот позор британского командования.
Такое положение вещей вполне естественно, ведь случившаяся под Балаклавой трагедия поначалу отнюдь не считалась поводом для празднования, награждения кого-либо за что-либо, а скорее поводом для национальной панихиды, который от народа скрывался. Но когда в Лондон доставили искалеченных кавалеристов легкой бригады генерал-майора Кардигана, то Англия содрогнулась от ужаса – скрыть было уже ничего нельзя.
В легкой бригаде традиционно служил цвет британской аристократии. Ее блистательное будущее. Несбывшееся. Потому что отныне словосочетание The Charge of the Light Brigade (атака легкой кавалерии) стало в английском языке синонимом отчаянно безнадежной, а главное бессмысленной, атаки. Многие поняли особенность употребления слова Charge поэтом Теннисоном – не столько атака, сколько груз, тяжесть, обвинение.
Какой черт пихнул лорда Раглана под единственную руку, пихнул написать ту злополучную записку – приказ графу Лукану, командующему кавалерией, приказ, пославший в атаку промеж двух русских батарей (на верную гибель!) цвет британской кавалерии, цвет нации? Загадка, не разрешенная до сих пор.
Впрочем, вся эта трагедия хоть и является позором высшего командования, зато послужила славе английского субалтерн-офицерства, всегда полагавшего, что воинская наука – удел штабных и генералов, а подчиненные «должны не выбирать, а исполнять!»[33], то есть держаться под ядрами с истинно британским достоинством.
К чести младших офицеров, единственное, что их занимало в последние мгновенья жизни (и это истинное величие британского духа!), – соревнование. Почти спортивное. Кто первым доскачет до могилы!