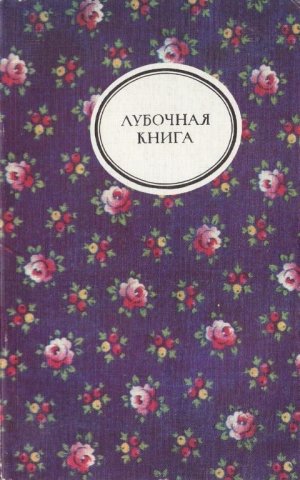
ГЛУП ЛИ «ГЛУПЫЙ МИЛОРД»?
Еще в школе мы узнаем, что Н. А. Некрасов мечтал о времени,
и прочно усваиваем, что «Повесть о приключениях английского милорда Георга» глупа. Если даже кому-нибудь приходит в голову усомниться в этом, проверить мнение Некрасова весьма и весьма сложно, так как с 1918 года роман не переиздавался и имеется только в крупнейших книгохранилищах.
Мы не знаем не только «Милорда», но и другие лубочные книги, которыми зачитывались предки. По сути дела из истории отечественной культуры почти вычеркнут целый пласт литературы, представленный несколькими тысячами названий, читавшийся почти два века и сыгравший немалую роль в формировании народного мировоззрения.
Для доказательств популярности лубочной литературы достаточно сослаться на мнение такого авторитетного и компетентного свидетеля, как Лев Толстой. Его сын, Сергей Львович, вспоминал, что в конце 1880-х годов отец «любил предлагать такую загадку: кто самый распространенный писатель в России? Мы называли разные имена, но он не удовлетворялся ни одним из наших ответов. Тогда мы его спросили: кто же самый распространенный писатель в России? Он ответил: Кассиров»[1]. Книжная статистика подтверждает мнение Толстого: многочисленные книги И. С. Ивина (печатавшегося обычно под псевдонимом И. Кассиров) расходились тиражами, на порядок превышавшими тиражи Тургенева, Щедрина, самого Толстого и других известных и популярных писателей того времени.
В конце XIX века ежегодно выходило около сотни новых лубочных книг, не говоря уже о многочисленных переизданиях, а суммарный ежегодный тираж их превышал четыре миллиона экземпляров.
Сейчас эти книги, составлявшие когда-то излюбленное чтение русских читателей из народа, совершенно забыты. Они никогда не переиздавались; названий популярных произведений и тем более изложения их содержания нельзя найти не только в курсах истории русской литературы, но даже в справочниках и энциклопедиях. Любому второстепенному отечественному литератору XIX века посвящено больше книг и статей, чем всей лубочной литературе.
Подобное пренебрежение и забвение отнюдь не случайны. Представители образованной части общества, претендовавшие на роль выразителей интересов народа, его защитников и покровителей, в то же время зачастую отрицательно относились к реально существующей народной культуре. Они стремились не столько развить ее, сколько переделать в соответствии со своими представлениями и идеалами. Лубочная книга этим представлениям не соответствовала, и с ней велась ожесточенная борьба. Подобные издания называли «пошлыми, вздорными и глупыми книжонками», находили в них «дух <...> нагого цинизма, неприличных любовных случайностей», утверждали, что они рассчитаны на спекуляцию народным «невежеством и народными предрассудками».
За всем этим стояло патерналистское отношение к народу, который невежествен, суеверен и не подымает своей пользы. Превознося фольклор, писатели и литературные критики того времени презрительно отмахивались от современной народной культуры. Упомянутый выше лубочный писатель И. С. Ивин вполне резонно адресовал критикам лубка вопрос: «Неужели можно допустить, что наш народ, при всем его глубоком разуме и мудрости <...> при всех его нравственных достоинствах и чисто христианских идеалах <...> неужели <...> возможно допустить, чтобы этот народ в продолжение целого века читал и слушал одну сущую пошлость и дрянь?»[2]
По собранным в этом сборнике наиболее популярным и примечательным образцам лубочной словесности читатель сам может удостовериться, кто и насколько прав в этом споре. Можно предполагать, что он позавидует убежденной вере авторов в осмысленность и справедливость мирового порядка, восхитится непосредственностью восприятия и ясностью нравственных идеалов. Не исключено, правда, что современник снисходительно улыбнется, столкнувшись с наивностью и упрощенностью их представлений о жизни.
В чем же специфика литературного лубка?
Лубочной литературой принято называть издательскую продукцию, обращенную к читателям из социальных низов, или, используя широко употреблявшийся в то время и весьма аморфный по содержанию термин, из «народа». От литературы «образованных» читателей ее отличали не столько тематика и поэтика, сколько характер издания и распространения, а также некоторые связанные с этим внешние характеристики книги (оформление, форма заглавия и т. д.). Еще в середине XIX века известный фольклорист и этнограф И. П. Сахаров отмечал, что «лубочные издания книг, книжек, листов и листочков есть на Руси издания народные. Серая бумага, блестящая раскраска картин, дурные оттиски, неправильный рисунок — составляют главные отличия лубочных изданий»[3].
Они издавна выходили на Руси. Уже в конце XVII — начале XVIII века получила широкое распространение так называемая лубочная картинка (гравюра на дереве, а позднее на меди), которая наряду с изображением обязательно включала словесный текст, являясь не просто картинкой, а сложным синтетическим образованием. Здесь находили свое отражение самые разные сюжеты: религиозные, фольклорные (образцы народно-смеховой культуры, былины, сказки), заимствованные из рукописной литературы (западноевропейский рыцарский роман, демократическая сатира XVII в.) и даже экзотические сообщения из газет. Расходившиеся большими тиражами лубочные картинки просуществовали до Октябрьской революции, после которой выпуск их был запрещен.
Параллельно с лубочными картинками, предназначенными для развешивания на стенах, существовал и так называемый лицевой лубок, напоминающий современные книжки для малышей, где на каждой странице изображение сопровождалось подписью. В подобного вида изданиях обычно выходили популярные сказки.
В последней четверти XVIII века получает распространение и низовое книгоиздание, рассчитанное на более искушенного читателя, нежели потребитель лубочной картинки, хотя и не столь высокообразованного (и, добавим, малочисленного), как адресат книг Г. Державина и Н. Карамзина.
Правда, термин «лубочный» самим народом к этим картинкам и книгам не применялся. Он возник в среде образованных слоев населения, причем происхождение его не совсем ясно. Лубом называется липовая кора, и, по версии И. М. Снегирева, определение «лубочный» связано с липовыми досками (называемыми в просторечье «лубом»), на которых вначале гравировались первые народные гравюры. Однако Н. А. Трахимовский считал, что слово это происходит от лубяных коробов, в которых разносили свой товар бродячие торговцы — офени, а И. Е. Забелин — от тех же коробов, с раскраски которых заимствовалась картинка, используемая в народной гравюре. Так или иначе, к середине XIX века этот термин стали применять для обозначения всего, сделанного наскоро и некачественно. Поэтому и народную литературу, расцениваемую по критериям «высокой», стали пренебрежительно называть лубочной. Обычно на обложках подобных изданий была картинка, близкая по характеру изображения и раскраски к народной гравюре, что сближало их с лубочной картинкой, не говоря уже о частичной преемственности в сюжетах и жанрах.
С конца XVIII века лубочная словесность выделилась в автономную, весьма процветающую сферу книжного дела. Издатели «народных» книг были выходцами из крестьянской, мещанской или купеческой среды (Е. А. Губанов, Ф. М. Исаев, И. А. Морозов, А. А. Холмушин и др.) и сумели, как отмечал академик А. Н. Пыпин, «известным образом удовлетворить книжные потребности народа, дать ему целую энциклопедию полезных и увеселительных книг, по его умственным и по его материальным средствам. Народный и средний (мещанский и купеческий) читатель отчасти и не мог купить серьезной книги, а отчасти не мог ее понять <...> он не мог читать настоящего Пушкина или Жуковского (не говорим о немногих исключениях в роде сказок), потому что ему недоступен был весь этот уровень литературного развития, и читал Бову Королевича, песенники и подобную беллетристику»[4].
В наибольшей степени приближала лубочную книгу к крестьянину уникальная форма ее распространения. Если другие сферы книжной торговли исходили из того, что покупатель приходит за нужным изданием, то здесь книга «приходила» к покупателю. Удачная обложка и выразительное заглавие гарантировали успешный сбыт, так как малограмотный крестьянский читатель плохо ориентировался в лубочной литературе и не мог за короткий срок просмотреть книгу. Поэтому заглавие и обложка должны были «завлечь» читателя, акцептируя наиболее выигрышные моменты сюжета, иногда они вообще были слабо связаны с содержанием. Основную часть лубочных книг распространяли офени, регулярно обходившие большие регионы Европейской части России. Они в коробе приносили брошюры в один-два печатных листа в деревню, где за три — пять копеек сбывали (нередко «променивая» на продукты) желающим.
Книги, которые составляли лубочный репертуар, разными путями и в разное время вошли в состав этой литературы. Самым давним по времени возникновения разделом лубка была религиозная литература, прежде всего — жития святых (к числу наиболее любимых народом принадлежали жития Тихона Задонского, Сергия Радонежского, Кирилла и Мефодия, Алексия человека божия, Зосимы и Савватия Соловецких).
Высокой популярностью пользовались авантюрные рыцарские повести о Бове королевиче и Еруслане Лазаревиче, «История о храбром рыцаре Францыле Венциане и о прекрасной королеве Ренцывене», повесть «Гуак, или Непреоборимая верность», проникшие на Русь еще в XVI—XVII веках.
Источником повести о Бове королевиче является старофранцузский стихотворный рыцарский роман XIII века о Бово д’Антона, который распространился в средневековье по всей Европе и не позднее середины XVI века попал на Русь. В дальнейшем одновременно бытовало несколько рукописных редакций, подвергавшихся постоянным переделкам. «Русский читатель узнал эту повесть… как рыцарский роман, и лишь в итоге бытования повести в среде, тяготевшей к фольклору, она приобрела черты богатырской сказки, а в XVIII веке соседство с галантными «гисториями» стерло рыцарские элементы и превратило Бову и Дружневну в героев любовного романа»[5]. В XVII — начале XVIII века повесть о Бове входила в крут чтения высших социальных слоев, лишь с середины XVIII века она «спустилась» к провинциальному дворянству, мелким чиновникам, разночинцам, купцам и даже крестьянам. Тогда же (с 1760-х годов) начали выходить печатные издания повести о Бове, значительно фольклоризированные и русифицированные, причем, как и в рукописной традиции, одновременно существовало несколько вариантов текста. Повесть регулярно переиздавалась (нередко в один год выходило несколько разных изданий), всего, по неполным данным, со второй половины XVIII века по 1918 год она была выпущена более двухсот раз.
Несмотря на некоторые географические «прикрепления», действие повести происходит не в каком-либо хронологически и топографически локализованном месте, а в условном сказочном мире, частично даже русифицированном. Язык ее довольно прост и приближен в ряде мест по фразеологии и лексике к языку русских сказок. Уже сам факт длительного бытования книги указывает на некоторую универсальность этого произведения, его обращенность к различным читательским вкусам. И действительно, в тексте ее можно выделить целый ряд смысловых слоев. В основе повествования — бродячий сюжет, схожий со сказочным, кроме того, за счет русификации повесть стала чрезвычайно близкой фольклору. В центре ее — бесстрашный, необычайно сильный и удачливый воин. В русском государстве, процесс исторического формирования которого был связан с защитой от набегов и постоянными военными действиями, воин-богатырь имел высокий престиж и вызывал всеобщий интерес (особенно в период проникновения повести на Русь). Кроме того, герой очень красив и является галантным любовником, что обеспечивало повести симпатии женской части аудитории. Наконец, христианин Бова, невинно гонимый и страдающий, был близок к персонажам хорошо знакомой читателям житийной литературы, что также усиливало доступность и понятность повести. Популярность, завоеванная повестью в самом начале бытования на Руси, в дальнейшем поддерживалась широкой известностью (за счет фольклорных версий и лубочных картинок) и давностью. Однако многочисленные данные свидетельствуют, что во второй половине XIX века она постепенно выходит из круга взрослого чтения и мигрирует к детскому читателю (типологически сходное явление в рамках более «высокого» слоя литературы можно наблюдать в XIX веке на судьбе «Робинзона Крузо» Д. Дефо и «Путешествий Гулливера» Д. Свифта).
Повесть о Еруслане Лазаревиче имеет своим истоком среднеазиатское сказание о Рустеме. В. К. Кюхельбекер еще в 1832 году отметил, что в ней ощутимы «отголоски из «Шах-Наме»; ослепление царя Картауса (у Фирдоуси царь называется Кавусом) и его богатырей и бой отца с сыном, очевидно, перешли в русскую сказку из персидской поэмы»[6]. В средние века эти сказания проникли на Русь и наложились здесь на отечественные легенды о герое-змееборце, борющемся со своим сыном. В начале XVII века повесть была впервые записана, в дальнейшем бытовала в рукописной традиции, а в XVIII веке попала в лубок. Схожий по содержанию с «Бовой», «Еруслан» повторил его судьбу и также стал одной из самых популярных лубочных книг.
К рыцарским повестям примыкает по характеру другая сверхпопулярная лубочная книга — «Повесть о приключении английского милорда Георга», которая стала распространяться в России с конца XVIII века. Вначале она существовала в рукописи (являясь, по-видимому, переводом или обработкой французского оригинала), позднее ее переработал и издал низовой литератор второй половины XVIII века Матвей Комаров (впервые — в 1782 г.). С тех пор она неоднократно практически без изменений переиздавалась до 1918 года.
В повести есть фантастический элемент — волшебное яблоко, заставляющее забыть запрет и выдать тайну, таинственный дух, который может принимать любой облик, но страшится магического перстня, и т. д. Однако тем не менее «Милорд Георг» гораздо психологичнее «Бовы» и «Еруслана», здесь уже анализируются чувства персонажей, значительно больше внимания уделяется мотивировкам их поведения. Написан «Милорд Георг» языком просветительских, предсентименталистских романов конца XVIII века и воспринимался читателями как повесть о верности в любви. В трактовке ее содержания были правы, по-видимому, не такие народнические критики лубка, как Е. Некрасова и С. Раппопорт, находившие в ней «гадости», «грязь» и «цинизм», а крестьяне, которые считали, что «нравственная основа рассказа — целомудрие, твердость и верность милорда»[7]. Как справедливо указывал В. Б. Шкловский, страдания милорда Георга воспринимались читателями на фоне житийной литературы, особенно сильные ассоциации возникали у них с библейским рассказом об Иосифе Прекрасном, которого пыталась соблазнить жена фараона[8].
По сути дела, в крестьянской среде «Милорд Георг» был своеобразным «учебником любви», давая образцы галантного ухаживания, «куртуазии» и в то же время проповедуя верность. Изображение искушений, как и в житийной литературе (например, в житии святого Антония), должно было продемонстрировать силу соблазна и тем самым подчеркнуть стойкость героя. Именно с названными книгами ассоциировалась прежде всего лубочная литература, их персонажи были представлены и в народной гравюре.
Еще один источник лубка — русский фольклор, особенно песни и сказки. В конце XVIII века вышли сборники русских народных сказок «Лекарство от задумчивости и бессонницы, или Настоящие русские сказки» (СПб., 1786), «Дедушкины прогулки, или Продолжение настоящих русских сказок» (СПб., 1786), «Сказки русские, собранные и изданные П. Тимофеевым» (М., 1787, позднее — под названием «Деревенская забавная старушка, по вечерам рассказывающая простонародные веселые сказочки») и другие, переиздававшиеся и в XIX веке. В начале XIX века выходят сборники «Сказки моего дедушки» (М., 1820), «Дедушка говорун, или Собрание новейших и еще доселе неизвестных сказок» (М., 1824); «Собрание старинных русских сказок» (М., 1830), послужившие основой для многочисленных лубочных изданий. Публикация выпусков «Русских народных сказок» А. Н. Афанасьева (1855—1864) дала возможность лубочным издателям обогатить свой сказочный репертуар. Нужно отметить, что обычно сказки выходили в форме обработок и пересказов, что было обусловлено потребностью модернизировать текст, привести его в соответствие со вкусами и запросами современного читателя из народа, а также стремлением не нарушать юридических норм, связанных с правом собственности на книгу, следствием чего была публикация каждым издателем своего варианта сказки.
Помимо сказок проникали в лубок и песни. Песенники, включавшие народные песни, выходили с конца XVIII века, однако тогда, да и в первой половине XIX века они адресовались дворянскому и городскому разночинному читателю. С середины XIX века начинают выходить песенники и для низового читателя, в которые, наряду с авторскими песнями и романсами, включали и немалое число русских народных песен.
Ряд произведений попал в лубок из русской исторической прозы 1830—1840-х годов, которая сама в свою очереди ориентировалась на фольклор, что подчеркивалось подзаголовками типа «составлено по московским преданиям». Многие из написанных в те годы книг после переработки и адаптации вошли в состав лубочной литературы и многократно переиздавались, однако характерно, что при этом шел очень строгий «стихийный» отбор, из книг даже популярных в свое время авторов туда обычно попадало не более одного-двух произведений (которые при этом нередко утрачивали имя автора и выходили анонимно). Для лубочных изданий были переработаны «Ледяной дом» И. И. Лажечникова, «Юрий Милославский» и «Кузьма Рощин» М. Н. Загоскина, вошли в лубочный «канон» также «Таинственный монах» Р. М. Зотова, «Сокольники, или Поколебание владычества татар над Россиею» С. М. Любецкого, «Япанча, татарский наездник, или Завоевание Казани царем Иваном Грозным» А. Москвичина и другие, а также вышедшие анонимно романы «Вечевой колокол» (М., 1839), «Могила Марии, или Притон под Москвою» (М., 1835), неоднократно переиздававшиеся во второй половине XIX века.
Самой популярной из книг подобного рода был, безусловно, роман Н. И. Зряхова «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа», вышедший впервые в Москве в 1840 году. До последнего времени об авторе ничего не было известно. В ходе работы над статьей для словаря «Русские писатели. 1800—1917» нам удалось на основе архивных данных реконструировать его биографию. Оказалось, что Зряхов родился в 1782 году (по другим сведениям — в 1786-м) в Астраханской губернии. Происходил он из бедной дворянской семьи (крепостных у отца не было), детство и юность провел в Астрахани, не получив никакого систематического образования. В 1801 году поступил унтер-офицером в Нарвский драгунский полк, в 1803—1807 годах участвовал в военных действиях на Кавказе против Персии и Турции. Это значит, что описания быта кабардинцев (то есть черкесов), содержащиеся в «Битве…», основываются на его собственных наблюдениях и имеют этнографическую ценность. В 1808 году, дослужившись до поручика, он вышел в отставку, но в 1813 году был вновь призван на военную службу, а в 1816-м отставлен за «дурное поведение». В конце 1820-х годов Зряхов стал профессиональным литератором (в прошении в цензуру он писал, что «трудится для пользы моих соотечественников и для пропитания»). В течение двадцати лет он выпустил более десятка книг разных жанров («Амалия, или Хижина среди гор», М., 1828; «Михаил Новгородский, или Нарушенная клятва», М., 1837; «Очарованная арфа, или Цыгане поневоле, но ведь это не беда!», М., 1840, и др.). В конце жизни его опекала поэтесса А. П. Глинка, жена поэта-декабриста Ф. Н. Глинки. Умер Зряхов в конце 1840-х годов, а роман вскоре стал переиздаваться без имени автора. Главное, что привлекало читателей в книге Зряхова, — патриотизм, понимаемый как преданность отечеству, православию и царю-батюшке. Актуальный по материалу (роман вышел в разгар военных действий на Кавказе и содержал описание аналогичных сражений в начале века), следующий традициям лубочной литературы (экзотическая среда и герой, близкий к персонажам лубочных рыцарских романов), роман представлял собой сюжетную схему «Кавказского пленника» А. С. Пушкина, изложенную стилем сентименталистской прозы конца XVIII — начала XIX века. Он переиздавался около сорока раз (включая переделки) вплоть до Октябрьской революции, породил подделки, попал в лубочную картинку и даже в фольклор.
Немалую часть лубочных изданий составляли и книги писателей, писавших специально для этого «раздела» литературы. Имена их сейчас совершенно забыты, хотя во второй половине XIX века они были чрезвычайно популярны в народной среде. Среди них мещанин В. Я. Шмитановский, автор многих стихотворных пересказов русских народных сказок и преданий; отставной офицер В. Суворов, специализировавшийся на исторической беллетристике; выходец из родовитой, но обедневшей дворянской семьи Н. М. Пазухин, писавший в основном «страшные» и «ужасные» рассказы; автор бытовых повестей В. А. Лунин (псевдоним — Кукель) и другие. Наибольшей известностью из лубочных литераторов во второй половине XIX века пользовались Иван Семенович Ивин, автобиография которого помещена в приложении к данному сборнику, и Михаил Евдокимович Евстигнеев (1832—1885), которого А. П. Чехов (на основе бесед с ним) характеризовал как человека, «прошедшего огонь, воду и медные трубы»[9]. Незаконный сын мещанина и отпущенной на волю крепостной, он окончил в Петербурге Технологический институт (учебное заведение типа техникума, где обучали различным ремеслам) со званием подмастерья, потом занимался на разных фабриках и заводах кожевенным и писчебумажным делом, много скитался по стране. С конца 1860-х годов Миша Евстигнеев (так он подписывал свои произведения) стал присяжным поставщиком книг для московских лубочных издателей А. И. Манухина и А. В. Морозова. Как свидетельствовал в письме А. П. Чехову лично знавший Евстигнеева М. М. Дюковский, «человек в высшей степени добрый и чрезвычайно непрактичный», он «должен был <...> сочинять без отдыху всевозможные повести и рассказы для простого народа, руководства по архитектуре, агрономии, всевозможные сборники, альманахи, календари, поварские книги, описывать выдающиеся события, чертить географические карты, рисовать различные картинки и клеить детские театры»[10], получая за это гроши. Излюбленным жанром, доставившим Евстигнееву известность, были «увеселительные» рассказы с выразительными названиями: «Говорящий покойник, или Вот так смерть!», «Дюжина сердитых свах и сударь в дамской шляпке», «Не жениться — горе, а жениться — вдвое!», «Сплетницы-трещотки, или Из мухи слон» и т. п. Беря за основу анекдотический случай и пародийно утрируя речь персонажей из купеческой, мещанской и мелкочиновной среды, Евстигнеев добивался прямолинейного и непритязательного комического эффекта. Сочувственное отношение к своим незадачливым героям не мешало ему шаржированно живописать крах их надежд и чаяний в результате столкновения с прозой быта.
В завершение обзора источников лубочной литературы следует отметить, что в нее вошло небольшое число произведений русских классиков XIX века, чаще всего — использующие фольклорные сюжеты или посвященные народной жизни (басни И. А. Крылова, сказки А. С. Пушкина, «Песня про купца Калашникова…» М. Ю. Лермонтова, ряд сказок Л. Толстого и др.). Публикации книг классических авторов чаще всего мешало то обстоятельство, что лубочные издатели не хотели тратиться на покупку прав на издание у наследников.
Таким образом, «народная» книжность формировалась на протяжении многих лет и была чрезвычайно разнообразна по своему составу. Войдет книга в набор постоянно переиздаваемых или будет сразу же забыта — решалось на основе мнения читателей, доносимого до издателей офенями. За долгие годы лубочная книга «приноровилась» к вкусам и интересам народного читателя и была признана им «своей». Важной предпосылкой этого была тесная связь лубка с устной народной словесностью. Значительная часть текстов представляла собой обработки фольклора, то есть изначально соответствовала вкусам крестьянского читателя. Другие произведения создавались авторами (обычно — разночинцами, близкими к простому народу) с ориентацией на народное мировоззрение и поэтику фольклора (обращения к читателю в прозе, стандартные формулы и «народный стих» в поэзии и т. д.). Подобно фольклору, лубок обычно не фиксировал имени автора текста, не предполагал наличия канонической его версии (одновременно сосуществовали различные варианты произведения, принадлежащие перу разных обработчиков), так же как разные сказители по-своему излагали сказку или былину. И наконец, чрезвычайно важно, что, как и фольклор, этот тип словесности многими потребителями воспринимался (в силу их неграмотности или малограмотности) на слух, в процессе коллективных читок — в кругу семьи, соседей или отходнической артели. На селе существовала традиция коллективного чтения по воскресным и праздничным дням, а зимой и в будни. Например, отвечая на анкету Н. А. Рубакина, крестьянин из Калужской губернии писал в 1889 году: «Для совместного чтения у нас удобное время весна, потому что тепло, народ выходит по улицу, кто-нибудь выносит книгу, начинает читать, и со всех концов собираются слушатели. Это всегда бывает в праздник…»[11] Услышанные произведения запоминались крестьянами и в дальнейшем пересказывались другим и нередко переходили в фольклор.
Для характеристики круга крестьянского чтения и места в нем лубочной книги приведем свидетельства того же крестьянина. Он писал, что в его деревне «книги духовного содержания охотно читаются — жития святых, священная история Ветхого и Нового завета, а псалтири у нас читают только по усопшим, мужики говорят «жития святых нам понятней» и слушают их приятней <...> Сказки у нас читают всякие, какие попадут: изданий Манухиной, Сытина, больше всего читают (следующие книги. — А. Р.): «Еруслан Лазаревич», «Бова Королевич», «Громобой», «Портупей-прапорщик», была у нас в деревне «Тысяча и одна ночь», арабские сказки, которую с любопытством слушали»[12]. Сказки, повести и романы читались главным образом молодежью. Так, например, поэт Е. Е. Нечаев, сын рабочего, вспоминал: в середине 70-х годов к ним «стал заходить молодой коробейник, с которым я подружился; коробейник приносил сказки лубочного издания, за ночлег, ужин и чай он дарил мне всякий раз книжку в 36 страниц, самого разнообразного содержания: «Солдат Яшка — красная рубашка», «Еруслан Лазаревич», «Живой мертвец» и проч., а позднее преподнес мне роман «Медвежья лапа». Поэт Г. И. Шпилев уже в начале XX века «читал все попадавшее в <...> руки, но главным образом лубочные издания, вроде «Бовы королевича», «Еруслана Лазаревича», «Битвы русских с кабардинцами…» и т. п. В лубочном же издании и изложении я прочитал про «Илью-Муромца» и «Тараса Бульбу». «Тарас Бульба» мне понравился, и это заставило меня, уже позже, прочитать его у Гоголя»[13].
Лубок был не пустым развлечением. Напротив, здесь народный читатель искал ответов на важные мировоззренческие вопросы. Лубочная книга могла быть источником сложных духовных переживаний, будила воображение и расширяла горизонты своих поклонников. Напомним об А. В. Кольцове, читательская биография которого начинается именно с лубочных изданий сказок о Бове королевиче и Еруслане Лазаревиче. Писатель Л. М. Григоров, который в начале 1890-х годов был учеником в сапожной лавке, вспоминал, что «бывали свободные минуты <...> делать совсем нечего, — ну, тогда рука лезла за пазуху и доставала оттуда тоненькую скверно отпечатанную книжечку — сказку о каком-либо необъятном образе русской фантазии… душа моя, забыв о сапогах и туфлях, уходила в непроходимые лесные чащи и трепетала там от шума грозных дерев-великанов; потом вместе с жар-птицей улетала за тридевять земель в тридесятое царство <...> Я увлекался и все на свете забывал… принимался за своих Ерусланов Лазаревичей, Бов-Королевичей и принцесс-Несмеян. Любил я их больше всего на свете и всякую попавшую в руки копейку тратил на покупку новых сказок»[14].
Сохранилось любопытное свидетельство о характере восприятия (при чтении вслух) книги «Битва русских с кабардинцами…» крестьянской молодежью в конце 1880-х годов: «Прежде всего описание битвы в высшей степени заинтересовало подростков-мальчиков; они так и впились глазами в учительницу; когда же герой повести, Андрей, попал в плен к кабардинцам и на сцену явилась красавица Селима, внимание их значительно ослабело, зато девушки так и замерли, следя за развитием драмы <...> Особенно трогала их, очевидно, борьба пленника между долгом и любовию, и когда мы дошли до того места, где Селима, сраженная отказом Андрея перейти в магометанскую веру, говорит: «С твоим решением для меня окончено все. Одно мгновение, и кинжал мой окажет мне последнюю услугу — пронзить сердце любящей тебя, но несчастной Селимы!..» — среди слушательниц послышались сдержанные всхлипывания; всхлипывания эти усиливались по мере развития драмы и, наконец, при разлуке влюбленных превратились в рыдания. «Молодец, что не сменил своей вере, — заметил горячо один из подростков. — Я бы тоже не сменил!» <...> Счастливый брак Селимы и принятие христианства видимо доставили присутствующим несколько минут самой чистой радости, но зато когда раны Андрея открылись и он умер, прострадавши 12 дней, припадок уныния снова повторился в нашей аудитории…»[15] Все это свидетельствует о том, что в лубочной книге народный читатель находил ответы на многие волновавшие его вопросы.
Жития святых в наглядной форме представляли идеал праведной жизни, давали точку отсчета для оценки человеческих поступков. Их, как и другие духовно-православные книги, читали главным образом пожилые крестьяне, женщины. Как отмечал один из наблюдателей, «в божественной книжке народный читатель ищет морального поучения, примера, нравственной поддержки, <...> решения мучающих его вопросов морального, а иногда и социального характера <...> он часто считает самое чтение религиозной книжки богоугодным и душеспасительным делом, а в книжке видит нечто вроде талисмана, предохраняющего от несчастий»[16].
Начавшаяся на селе с 1860-х годов XIX века интенсивная ломка традиционных социальных отношений и мировоззренческих представлений побуждала крестьянство, особенно молодое поколение, в наибольшей степени затронутое изменениями и овладевшее грамотой в земской школе, обращаться к книге (городское «простонародье» приобщилось к книге раньше, еще в первой половине века).
Если прежде весь мир крестьянина замыкался в пределах общины (община так и именовалась — «мир»), то теперь он осознавал себя прежде всего жителем определенной страны — России. Отсюда интерес к книгам по ее географии и особенно истории. Исторические повести и рассказы составляли один из наиболее богатых разделов лубка. Десятки их были посвящены ключевым историческим событиям: крещению Руси, татарскому нашествию, восстаниям Булавина и Разина, завоеванию Сибири Ермаком, Отечественной войне 1812 года и т. д. Чаще всего национальное самосознание осуществлялось в форме противопоставления «своих» и «чужих». В прошлом «своими» были члены общины, а теперь ими стали жители всей страны, и книги о столкновении с внешними врагами (как в прошлом, так и в современности — Крымская война и русско-турецкая война 1878—1879 гг. — породили десятки изданий) помогали обрести искомое чувство общности. В других книгах описывался плен (чаще всего у неправославных, восточных народов — схема была задана «Кавказским пленником» Пушкина), где герой испытывал искушение иной верой и иным, нередко соблазнительным образом жизни. И в этом случае герои (а вместе с ними и читатели), столкнувшись с иной, непохожей жизнью, осознавали свою специфичность, национальную самобытность.
Постоянно ощущая на себе гнет властей разного рода, народный читатель испытывал закономерное чувство протеста. Протест воплощался в фигуре разбойника, ставшего популярнейшим героем фольклора и лубочной книги. Однако отношение к нему было противоречивым. С одной стороны, он вызывал восхищение авторов и читателей своей смелостью, любовью к свободе, стремлением постоять за угнетенных. Но, с другой стороны, разбойник осуждался за то, что пошел против человеческих установлений и божеского порядка, присвоил себе право судить и казнить, хотя общество не давало ему этого права. Поэтому бунт разбойника оканчивался в лубочной книге либо гибелью, либо раскаянием.
Получив свободу, крестьянин ощутил себя личностью. Постоянное общение с представителями других, более высоко стоящих сословий расширяло мир его чувств, освобождало любовь от экономических и хозяйственных интересов. Соответственно и в лубке усилилась струя «куртуазной» литературы, дающей образцы «галантного» поведения, все большую популярность стали приобретать песенники.
Отходничество, поездки по торговым делам усиливали контакты с городом, что вело к разрушению патриархальной морали. Усиливалось пьянство, ослабевала власть главы семьи, появлялась «вольность» в правах, укоренялась тяга к обогащению. Лубок реагировал на это критикой «падения нравов» с моралистических позиций.
Народ постепенно расставался с суевериями, многие из которых имели еще дохристианский характер, и лубочная словесность пополнилась книгами, высмеивающими веру в леших, домовых, русалок. Сильна была в лубке юмористическая струя. Здесь нередко подвергались осмеянию мотовство и самодурство купцов, претензии на образованность и культурность мелких чиновников и мещан, неумение крестьян приспособиться к городской жизни.
С 60-х годов XIX века в течение нескольких десятилетий различные группы и слои «образованной» части общества (церковь, правительственные чиновники, монархисты, либеральная интеллигенция, революционные демократы) предпринимали многочисленные попытки выпускать «книгу для народа», но проникнуть в круг народного чтения и конкурировать с лубочной книгой долго не удавалось. Мешало плохое знание вкусов и потребностей народного читателя, желание не столько удовлетворять его интересы, сколько «воспитывать» и «просвещать», и, наконец, отсутствие стабильной сети распространения книг в деревне. Только толстовское издательство «Посредник», созданное в 1884 году, опираясь на поддержку крупнейшего лубочного издателя И. Д. Сытина и его сеть офеней, смогло составить конкуренцию лубочной книге, которая тем не менее продолжала выходить и позднее, даже в начале двадцатого века.
Сейчас литература вступила в период перемен. Заполняются белые пятна на «картах» современного ее состояния и прошлых этапов. Все очевиднее становится, что она гораздо более многоцветна и разнообразна, чем ее привыкли трактовать иные критики и историки литературы. Стремясь расширить представление о традициях нашей словесности, напомнить о забытых литературных явлениях, мы закономерно должны обратиться к лубку, который на протяжении двух веков читался и обсуждался миллионами читателей. Наивный, а в чем-то даже примитивный, он поможет нам понять ряд явлений в истории и современном состоянии отечественной литературы.
А. Рейтблат
СКАЗКА О СЛАВНОМ И СИЛЬНОМ БОГАТЫРЕ БОВЕ КОРОЛЕВИЧЕ И О ПРЕКРАСНОЙ СУПРУГЕ ЕГО ДРУЖНЕВНЕ
В некотором царстве, в некотором государстве, за морем синим, за пучиной океанской, на местах раздольных, среди лугов привольных, стоял город великий, называвшийся Антон, а в том городе Антоне жил и властвовал князь Гвидон. У князя этого ума была палата; обладал он несметными сокровищами и многочисленным войском и славился сколько богатством своим, столь же могуществом и храбростью необыкновенною.
Вот задумал князь Гвидон жениться, а что, бывало, задумает он, то уж непременно поставит на своем. А задумавши это благое дело, призывает к себе верного своего слугу Личарда и говорит ему:
— Видел я в знаменитом городе Димихтиане у соседа нашего, князя Кирбита Верзеуловича, дочь его прекрасную, княжну Милитрису Кирбитьевну, которая так хороша и пригожа собою, что ни в сказке сказать, ни пером написать, да и красками ни нарисовать. Я пленился этою несравненною девицею и намерен взять ее за себя в замужество. Сослужи мне, Личард, службу верой и правдой: поезжай в Димихтиан и отвези от меня Кирбиту Верзеуловичу поклон и это письмо, в котором я прошу руки его единственной дочери, ненаглядной Милитрисы Кирбитьевны. Услужишь мне — награжу тебя богатством и честию, а не услужишь — то пеняй сам на себя.
— Рад тебе служить до последней капли крови, сколько сил моих хватит, — отвечал Личард и, взяв письмо из рук своего князя, поклонился смиренно и вышел вон. Потом, нисколько не медля, оседлал коня, сел на него и полетел стрелой в Кирбитову землю.
Приехав в Димихтиан, верный Личард отправился прямо во дворец и просил придворных доложить о себе.
— Я, — говорил он, — прислан от высокомощного Гвидона к князю вашему и должен вручить ему лично это письмо.
Когда Кирбит Верзеулович узнал, что к нему от знаменитого и сильного князя Гвидона прислан нарочный гонец, то приказал тотчас же ввести Личарда с почестью к себе в палаты.
Личард вошел к Кирбиту Верзеуловичу, поклонился ему почтительно и подал письмо.
Приняв письмо, Кирбит Верзеулович распечатал его, и когда прочитал до конца, то так обрадовался предложению Гвидонову, что сейчас же пошел в терем к Милитрисе Кирбитьевне.
— Милая дочь моя! — сказал он ей. — Я пришел объявить тебе неожиданную радость, какая и во сне нам не приснится. Ты помнишь того могучего и славного князя Гвидона, который был недавно в нашем княжестве? Гвидон страшно богат, очень умен, известен своей храбростию и, сверх всего этого, собою красавец. Этот завидный жених хочет породниться со мною и предлагает тебе свою руку. Если ты примешь ее, то сама будешь счастлива и меня осчастливишь: мне очень желательно иметь родственную связь и неразрывный союз с таким сильным и непобедимым соседом. Не вздумай отказаться, Боже тебя храни! Накличешь ты на меня и мои земли большую беду: Гвидон обидится, вторгнется в пределы нашего княжества, разобьет наголову рать мою, меня полонит, а тебя нечестию замуж возьмет.
Выслушав отца своего, Милитриса Кирбитьевна вся побледнела, упала пред ним на колени и, заливаясь горькими слезами, сказала:
— Государь мой, батюшка, славный и храбрый князь Кирбит Верзеулович! Не вели меня казнить, а вели слово вымолвить. Поведаю тебе я всю правду-истину. Несколько лет тому назад, когда я была в первой поре молодости, сватался за меня князь Додон, а ты, не знаю по каким причинам, изволил отказать ему в моей руке. Мы друг другу нравились, полюбились, и до сих пор не могу я забыть моего бывшего жениха. Прошу тебя, не отдавай меня замуж за немилого мне Гвидона; если же ты хочешь осчастливить меня навек, то позволь мне вступить в супружество с Додоном, который мил моему сердцу.
Кирбиту Верзеуловичу очень не понравился такой ответ дочери, он рассердился и повелительно сказал ей:
— Ты еще почти ребенок и не можешь понять своего счастия. Не тебе располагать своею судьбою, а мне. У вас, у девиц, волос долог, да ум короток. Голова кругом пойдет, если слушать ваши девичьи бредни. Для меня большая честь иметь такого выгодного зятя, как князь Гвидон. Отказывать ему я не хочу и не должен: беду наживешь. Толковать долго нечего, приказываю тебе повиноваться мне, отцу твоему. Собирайся немедля и поедом со мною к будущему зятю.
Сказав это, Кирбит Верзеулович удалился в свои палаты, где дожидался его Личард.
— Поезжай, — говорит Личарду Кирбит Верзеулович, — поезжай, верный слуга, к князю твоему, любезному нам Гвидону, и объяви ему, что я и дочь моя с радостию принимаем его честное предложение и не замедлим вслед за тобою приехать в Антон.
Попечалилась, покручинилась прекрасная княжна Милитриса Кирбитьевна, позаплакала свои очи ясные, а делать нечего, на своем поставить нельзя: ведь выше лба уши не растут, а отцу надобно же повиноваться. Умыла свое личико нежное, утерла его полотенчиком чистеньким да и позвала своих нянюшек и мамушек, чтоб они ее снарядили как следует. Собрались нянюшки, пришли также девушки-подруженьки; Милитрису Кирбитьевну они одевают, златом, жемчугом украшают и поют песни подблюдные.
Нарядившись и убравшись совсем, Милитриса Кирбитьевна села с отцом своим в золотую карету и в сопровождении знатнейших вельмож отправилась к жениху своему, князю Гвидону.
Между тем Гвидон, уведомленный верным и преданным слугою Личардом, что невеста с отцом своим едут за ним вслед, был чрезвычайно рад и с нетерпением дожидался их прибытия. Завидя еще издали золотую карету и великолепный поезд, Гвидон вышел из дворца, и когда невеста подъехала к крыльцу, то он сам высадил ее из кареты, взял ласково под руку и повел и свои королевские палаты, где им сделана была торжественная встреча.
На другой день по приезде прекрасной Милитрисы Кирбитьевны веселым пирком и свадебку сыграли, потому что у Гвидона было ни пиво варить, ни вино курить, а всего вдоволь и все готово, что ни спроси. Брачный союз был совершен с неслыханною пышностью и сопровождался разными веселостями. Все радовалось, потешалось, гуляло и веселилось. Князь Гвидон тридцать три вари воеводам выпоил, угощал вином и пивом все свое княжество ровно три недели и три дня; кто сколько хочет пей; душа меру знает, тогда перестанет, когда принимать уже не станет.
И жил князь Гвидон с княгинею своею Милитрисою прекрасною три года, и родился у них, к общей радости и утешению, сынок, которому дали имя Бова королевич.
Могуч и славен был Гвидон и страшен врагам своим, а богат, так был богат, что золото и серебро мерил бочками, а драгоценные камни большими кучами лежали в кладовых у него. А что за стать, за красота была в нем молодецкая! Бровью поведет, так сердце девичье как птичка в клетке забьется, а взглянет, так красная девица три ночи не спит, все издыхает. Любил он горячо Милитрису Кирбитьевну, все делал по ее желанию и прихотям и не знал, чем угодить ей и как приласкаться, чтоб она только была весела. Но как ни ласкайся, как ни служи, а насильно мил не будешь никому. Для другой жены был бы Гвидон не муж, а клад, но Милитриса прекрасная не только не любила его, даже ненавидела, презирала и всячески старалась огорчить его. Она предпочитала ему Додона, который, правду сказать, не в пример был хуже мужа ее, да уж тут ничего не поделаешь, когда полюбит сову лучше ясного сокола.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Прошло годика четыре или пять после рождения Бовы королевича; коварная Милитриса Кирбитьевна задумала злой умысел: сгубить, извести своего доброго мужа. Призывает она к себе Личарда и говорит ему:
— Отвези ты от меня, Личард, письмо к князю Додону, да смотри, чтоб оно прямо было передано в его руки. Если исполнишь мою просьбу, то награжу, осыплю тебя златом и серебром; а когда ты не послушаешься меня и не поедешь, куда тебя посылаю, то обнесу я тебя, солгу перед мужем, и ты поплатишься жизнию за свое ослушание. Стоит мне только слово сказать Гвидону, и велит он тебя повесить или горохом на воротах расстрелять как собаку какую.
Личард подозревал, что в этом письме скрывается что-то недоброе, а ослушаться не посмел: трусоват был немного, смерти боялся ужасно. Приняв письмо из рук княгини своей, он немедленно отправился в столицу Додона.
А в письме том было написано вот что: «Любезный сердцу моему Додон! Вот уже с лишком семь лет, как я отдана поневоле отцом моим замуж за немилого мне князя Гвидона и имею уже от него детище, Бову королевича. До сих пор я не могу забыть тебя, моего бывшего жениха, и прошу, во имя любви нашей, окажи мне услугу: подступи с войском своим под град Антон, убей ненавистного Гвидона и будь моим супругом».
Додон, прочитавши письмо Милитрисы Кирбитьевны, покачал в раздумье головой, рассмеялся и сказал Личарду:
— Княгиня твоя жестоко издевается надо мною; она уже давно вступила в брак с Гвидоном и уже прижила от него сына, Бову королевича. Не верю тебе, слуга, что она все еще любит меня.
Личард отвечал тогда:
— Смею ли я обманывать тебя, могучего князя? Ведь у меня не две головы. Если это не верно и обман, то повели меня посадить в темницу и держать до тех пор, пока слова мои не сбудутся, и за ложное объявление казни меня потом лютою смертью.
Уверившись в справедливости слов Личарда, князь Додон приказал трубить в рог, чтобы созвать свою дружину. Мигом собралось до тридцати тысяч отборного войска. Додон выступил в поход и, подойдя под град Антон, расположился лагерем на заповедных лугах княжеских.
Милитриса Кирбитьевна сидела в это время под окном своего златоверхового терема, который так был высок, что с него было видно кругом за несколько верст. Заметив белеющиеся вдали шатры, она сейчас догадалась, что это войско князя Додона, и чрезвычайно этому обрадовалась. Надевши на себя прекрасное драгоценное платье и убравшись как нельзя лучше, пошла эта коварная женщина к своему мужу. Ласкаясь к нему всячески, целуя его нежно, притворщица сказала ему застенчиво и как бы стыдясь:
— Любезный супруг мой, я чувствую, что уже вторично ношу под сердцем плод нежной любви нашей, ты знаешь, что женщины во время беременности бывают очень прихотливы и требуют иногда странных, необыкновенных вещей. Точно так же со мною теперь делается: никакие сласти мне не по вкусу, а хочется мне ужасно поесть мяса дикого вепря. Я желаю и прошу тебя, чтобы ты сам пошел на охоту. Убей вепря своими руками и принеси ко мне, тогда кушанье из него мне будет казаться в девять раз вкуснее.
Князь Гвидон, в продолжение многих лет не слыхавший от Милитрисы Кирбитьевны ни одного ласкового слова, очень удивился таким приятным речам и такому ласковому обращению с ним. Он был так рад неожиданной перемене жены своей, что тотчас же в угождение ей отправился на охоту.
Едва успел Гвидон выйти из города, как Милитриса Кирбитьевна отдала строгий приказ запереть городские ворота, поднять мосты подъемные и никого не впускать в город до ее нового приказа, а к Додону послала известие, что муж ее находится один в поле.
Гвидон отошел довольно далеко от города и приблизился уже к лесу, как вдруг увидал, что Додон со множеством воинов гонится за ним. Видя угрожающую ему опасность, Гвидон быстро поворотил коня и поскакал назад в город, преследуемый своими врагами. Но, подъехав к воротам городским, он понял свое бедственное положение, догадался, что злая жена приготовила ему гибель. Готовясь почти на верную смерть, несчастный князь вспомнил о своем сыне и воскликнул:
— Прощай, мое чадо милое, мой Бова королевич! Если б не был ты малым детищем, не допустил бы торжествовать коварству своей матери.
В эту самую минуту враги окружили Гвидона и, несмотря на его отчаянное сопротивление, умертвили, пронзив тело его копьями.
Прекрасная Милитриса Кирбитьевна смотрела из окна на все происходившее и очень была довольна, что супруг ее погиб лютою смертью. По повелению княгини снова отворились ворота городские, опустились мосты подъемные, и въехал Додон с своим войском в Антон. Встретила прекрасная Милитриса Кирбитьевна своего милого князя с великою честью и радостию, бросилась к нему на шею, поцеловала в уста сахарные, смотрела в очи его соколиные и говорила:
— По тебе я все плакала, по тебе вздыхала и вот тебя, моего милого, опять увидала! Ты мой возлюбленный, ты мой суженый, ты мой ряженый.
После сего взяла она его за руку и повела в свои белокаменные палаты. Там уже были накрыты столы дубовые скатертями браными, а на них стояли яства сахарные, закуски заморские, напитки крепкие, вина пьяные, меды сладкие. Ели они, пили, прохлаждались, друг на друга любовались, вели речи нежные про былое, прошедшее, про свою любовь прежнюю.
За столом с ними сидел и Бова королевич, который был тогда еще детище малое и не много смыслил. И хотел Додон приласкать Бову своею ласкою притворною, но Бова, испугавшись его, выскочил из-за стола и убежал в конюшню. Там от страха забился он так далеко под яслями, что приставленный к нему дядька Симбальда не мог найти его, и не нашел бы, если бы сам Бова королевич не вышел к нему, услыхав его голос.
Бросившись к Симбальде на шею, говорил Бова королевич со слезами:
— Дядька мой милый, верный Симбальда, отведи меня к отцу моему, чтоб мне не видать того злого человека, который с матушкой за столом сидел и пировал с нею.
Симбальда, слыша слова пестуна своего, сам прослезился и сказал:
— Государь мой, храбрый витязь Бова королевич! Мать твоя, злодейка, сговорилась с князем Додоном и извели государя моего, а твоего батюшку, доброго и славного князя Гвидона. Ты еще так мал и неопытен, что не можешь защитить себя. У тебя нет теперь ни родителя, ни покровителя; да и долго ли от греха: пожалуй, Додону вздумается и тебя умертвить. Убежим мы с тобою в крепкий град Сумин, который пожаловал покойный твой родитель моему батюшке. Придет время, подрастешь ты, и на твоей улице будет праздник: заплатишь ты злодею за неповинную пролитую кровь.
Симбальда тут же принялся за исполнение своего плана. Он выбрал для себя самого лучшего коня из всей конюшни княжеской, а Бову королевича посадил на отличного иноходца. Потом, взявши с собою тридцать молодых и ловких всадников для обороны, пустились наши беглецы в путь по дороге к Сумину и поскакали во весь опор, опасаясь погони за собою.
Князь Додон и Милитриса Кирбитьевна, узнавши о побеге Симбальды с Бовою, приказали трубить в рог, чтобы собрать войско. Собралась рать великая. Додон разделил ее на отряды и послал их по разным дорогам, чтобы вернее отыскать беглецов. Отправляя воинов своих в погоню, он строго наказал им:
— Если вы не приведете ко мне Бову, то всех вас злой смерти предам, в тюрьме уморю.
Пустилось войско по разным дорогам отдельными отрядами, из которых над одним начальствовал сам Додон.
Вскоре один из отрядов нагнал Симбальду и Бову. Тут произошло кровопролитное сражение, в котором весь конвой при Симбальде был побит, и сам он, видя превосходство неприятеля, решился спастись бегством, пустил во весь опор своего отличного коня и благополучно прибыл в град Сумин, где и заперся крепко-накрепко.
Между тем маленький Бова королевич, следя за дядькою Симбальдою, не мог усидеть на своем иноходце и упал на землю. Погонщики взяли Бову и привели к Додону, а Додон тотчас же отослал пойманного к матери его Милитрисе Кирбитьевне.
Желая наказать Симбальду за его поступок, князь Додон собрал все свои отряды вместе и, подступив под град Сумин, раскинул шатры свои и стал лагерем в заповедных лугах.
Это было уже поздним вечером. Уставши от дневных трудов своих, князь Додон удалился в палатку свою и заснул крепким сном. Спит он и видит страшный сон: будто бы Бова королевич выезжает на добром, статном коне, устремляется прямо на него, на Додона, и копьем своим поражает его в живот. В страхе проснулся Додон и призвал к себе брата своего Антония.
— Брат мой любезный, — сказал ему князь, — ты читывал черные книги и знаешь много волшебных наук, растолкуй мне, что значит сон, виденный мною.
Когда Додон рассказал свой сон, Антоний отвечал ему:
— Зловещий сон твой знаменует будущую погибель твою, которую ты примешь от руки Бовы королевича.
Встревоженный таким страшным снотолкованием, посылает Додон брата своего к Милитрисе Кирбитьевне с приказанием уведомить ее о его княжеском здоровье и требовать настоятельно, чтоб она предала смерти своего Бову королевича, дабы устранить через то будущую опасность Додонову.
Приехав в Антон, посланный объявил Милитрисе Кирбитьевне приказание князя Додона.
Услыхав это, Милитриса Кирбитьевна горько заплакала и говорит так:
— И тигрица любит свое детище и бережет его; неужели я буду кровожаднее этого зверя и предам сама смерти свое милое чадо? Бова мне сын, и рука моя не подымется на него. Горячо я люблю Додона и готова исполнить все его желания, но это желание превышает мои силы. Нет, об этом страшно и подумать мне.
— Но, прекрасная княгиня, осмелюсь напомнить тебе, — возразил Антоний, — что брат мой — человек крутого нрава и не любит, когда не исполняют его приказаний. Если ты не сделаешь это и не отстранишь тем грозной будущности, то любовь его к тебе обратится в сильную ненависть, и ты страшно поплатишься за ослушание.
— Если уж непременно угодно князю Додону, — сказала Милитриса Кирбитьевна, — чтоб сына моего не было на свете, то я вот что сделаю: посажу Бову в темницу, не велю ему давать ни есть, ни пить, и он через несколько дней умрет голодною смертью, по крайней мере не от руки моей и не при глазах моих.
— Конечно, — говорил Антоний, — какою бы смертью ни умер Бова королевич, брат мой останется вполне доволен. А я между тем отпишу к нему о твоем решении, княгиня, потому что он, вероятно, не скоро возвратится: Сумин очень сильная крепость, которую нам долго не взять.
Последние слова Антония оправдались на самом деле: осада Сумина продолжалась более шести месяцев и осталась безуспешна.
В тот же самый день, в который получено было приказание Додона, несчастный Бова королевич посажен был матерью своею в темницу и обречен на мучительную голодную смерть.
Укоры совести и материнская любовь пробудились в сердце Милитрисы Кирбитьевны, мучили ее и не давали ей покою ни днем, ни ночью. Она предавалась разного рода шумным увеселениям и забавам, изыскивала разные средства, чтобы заглушить в душе своей воспоминание о смерти погубленного мужа и о бедном сыне своем, которого она осудила на самую ужасную из смертей.
Однажды Милитриса Кирбитьевна, возвращаясь с прогулки, проходила мимо той башни, в которой томился голодом Бова королевич. Увидя из окна темницы мать свою, он сказал ей:
— Государыня, моя милая матушка, Милитриса Кирбитьевна, за что ты прогневалась и хочешь предать меня жестокой смерти, умертвить без вины, без причины? Сжалься, родимая, над моим несчастным положением. Сильная жажда и страшный голод томят меня; страдания так невыносимы, что желаю смерти, но медлит смерть, не приходит, а муки становятся все более и более. Смилуйся, государыня, над своим родным детищем, пришли ему хоть кусочек черствого хлеба.
Слабый умоляющий голос несчастного, почти умирающего сына пронзил сердце матери.
Она не вытерпела и пошла к окошку. Слезы навернулись на глазах ее, когда увидала она бледное, изможденное лицо Бовы.
— Я пришлю тебе есть и пить, — сказала княгиня королевичу и поспешила удалиться от башни, чтоб не терзаться печальным зрелищем, которое было перед глазами ее.
Через несколько минут прекрасная Милитриса Кирбитьевна послала с девкою-чернявкою несколько кусков хлеба сыну своему.
Антоний, строго следя за всеми действиями княгини, увидал, как девка-чернявка несла пищу в темницу к Бове. Злой этот старик остановил посланную служанку и, взглянув на куски хлеба, сказал ей жалостливо:
— Неужели ты хочешь кормить этим королевича? Зайди ко мне, я намажу ему, голубчику, на хлеб масла, пусть покушает, бедненький, на здоровье.
Служанка не хотела, но не посмела отказаться от коварного предложения брата князева. Хлеб действительно был намазан, но не маслом, а салом змеиным с разными сильными ядами. Это сделано было Антонием с мыслию, чтобы отравить Бову королевича — исполнить желание Додона и тем угодить ему.
Девка-чернявка тотчас же смекнула, в чем тут дело, и, пришедши в темницу, не велела есть Бове принесенного хлеба, а велела бросить его собакам. Лишь только собаки съели этот хлеб, то тут и околели с страшными судорогами и корчами.
Бова королевич, видя такое расположение к нему девки-чернявки, усердно просил ее, чтоб она не запирала за собой дверей темницы.
Служанка эта, сострадая бедственному положению королевича, исполнила его просьбу, ушла, оставив двери темницы отпертыми. Потом, пришедши к княгине, говорила:
— Ах, как он обрадовался хлебу! С каким аппетитом ел его и как благодарил тебя за то, что сжалилась над ним.
Как птичка радостно вылетает из отворенной клетки, так и Бова королевич вышел из своей душной темницы на свежий воздух. Никем не замеченный, прошел он по Антону и благополучно миновал городские ворота. Очутившись в поле, пошел Бова путем-дорогою куда глаза глядят, без всякой цели, на произвол судьбы. Вот и идет он, все идет, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли. Солнышко его печет, частым дождичком сечет — да какой бок вымочит, тот и высушит. Ночь ли настанет, ляжет Бова на мураве шелковой, свернется калачиком, под голову кулак, а одеялом — темная ночь, широким покрывалом — небесный свод с частыми звездами. Шел он, шел да и пришел к морю, к океану и видит: стоит корабль в пристани, а корабельщики на том корабле собираются плыть по морю-океану к острову Буяну, там товарами торговать, денежки добывать.
С берегу закричал Бова корабельщикам громким голосом:
— Господа корабельщики, люди добрые, торгаши честные! Вы возьмите меня на корабль свой и свезите, куда сами едете. За провоз не могу ничего заплатить, а служить вам буду усердно, сколько сил во мне есть.
Приняли корабельщики на корабль свой Бову ласково, напоили его, накормили. Ходит он по кораблику, похаживает, все рассматривает да обо всем умно расспрашивает. Видят корабельщики, что ребенок этот голова умная, с ухватками молодецкими, красоты неописанной, и стали они у него выпытывать:
— Ты скажи нам, дитятко, кто ты, какого рода, звания, кто отец твой и кто мать твоя?
А Бова им в ответ:
— Господа купцы, рода я простого, звания низкого: отец был у меня портной, а мать — прачка. Родители мои померли, и я остался круглою сиротою без куска хлеба, без пристанища.
Верили ли корабельщики словам или нет, но решили, однако, взять Бову к себе в услужение. Ветер был попутный, и они, снявшись с якоря, подняли паруса и пустились в путь.
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается: скоро бабушка блины печет, да опару долго ставит. Плывет корабль, что лебедь, по океану, служит Бова корабельщикам как нельзя лучше, всем успевает угодить, а они дивом-дивуются красоте лица его, уму-разуму да силе богатырской. Плыли корабельщики, плыли да и приплыли в тридевятое царство, в тридесятое государство. Причалили к берегу и видят: стоит град великий, по имени Андрон, а в нем княжит Зензевей Андронович, по прозванию Умная Голова, с княгинею своею, а как звали ее, не знаю — знал, да забыл.
Зензевей Андронович, узнавши о прибытии чужестранного корабля, послал вельмож своих спросить у корабельщиков, из какого они царства и зачем приехали; если с товарами, то какими именно.
Когда вельможи вошли на корабль, то прежде всего попался им на глаза Бова королевич. Они сроду не видывали такой дивной красоты и осанки молодецкой, не могли вдоволь насмотреться на него, все разговаривали с ним и совсем забыли о том, зачем были посланы, — не спросили у корабельщиков, откуда они и зачем прибыли.
Возвратившись к князю Зензевею, вельможи рассказывали ему только о прекрасном мальчике, которого видели на корабле, а про товары не могли сказать ни полслова.
Зензевей Андронович посердился, пожурил своих вельмож за их невнимательность к приказаниям его и решился сам идти на корабль, чтобы узнать все в подробности и взглянуть между прочим на того дивного мальчика, которого ему так хвалили и превозносили.
Но что было с вельможами, то же самое случилось и с князем. Увидавши Бову, Зензевей Андронович в такое пришел восхищение, что невольно забыл о цели своего прихода на корабль, не спрашивая ни о чем корабельщиков, сказал им:
— Продайте мне этого мальчика; я вам заплачу за него триста литр золота.
Корабельщики почтительно отвечали князю:
— Мы продать его не можем, потому что он у нас общий.
Зензевей Андронович был очень настойчив в своих требованиях и не любил противоречий.
— Если вы мне не продадите его, — сказал он строго купцам, — то я велю посадить вас на всю жизнь в темницу, а мальчика этого возьму к себе. А когда вы отдадите мне его честью за предлагаемую сумму, то я позволю вам торговать в моем государстве безданно-беспошлинно.
Купцы, испугавшись таких угроз княжеских да и приняв в соображение, что им дадут большие льготы по торговле и что на триста литр золота можно накупить множество рабов, решились продать Бову.
Зензевей Андронович тотчас же приказал отсчитать корабельщикам триста литр золота и позволил им торговать безданно-беспошлинно, а сам, посадивши Бову на коня, поехал во дворец свой. Приехавши туда, он спросил Бову:
— Скажи мне, какого ты рода, какого звания и как звать по имени?
— Зовут меня Коровятником, — отвечал смирно Бова, — роду я простого, звания низкого: отец мой был портной, а мать — прачка. Оба они померли, и я пошел в услужение к корабельщикам.
Зензевей Андронович сказал тогда:
— Если ты рода не знатного, то служи у меня на конюшнях моих и будь там главным конюхом.
Бова низко поклонился князю, поблагодарил его за милость и пошел на конюшню. Долго ли, мало ли служил он там, про то в старых книгах нигде не написано, а достоверно известно только то, что исправлял свою должность хорошо и вел себя так прекрасно, что все, от мала до велика, любили его и не могли им нахвалиться. Хорошо ему было жить первым конюхом, но судьба готовила ему лучшую участь.
Однажды дочь Зензевея Андроновича, прекрасная княжна Дружневна, увидав из окошка Бову королевича, чрезмерно пленилась красотою лица его и стала спрашивать о нем у нянюшек и мамушек своих.
Они отвечали ей:
— Это Коровятник, которого батюшка твой купил дорогою ценою у корабельщиков и поставил главным конюхом в своих конюшнях.
Дружневна, узнавши это, пошла к своему отцу и убедительно просила его, чтоб он отдал ей в услужение прекрасного мальчика Коровятника, а на место его назначил бы кого-нибудь другого.
Зензевей Андронович любил дочь свою до безумия, и так как не отказывал ей никогда и ни в чем, то и на эту просьбу ее согласился охотно и даже рад был, что любимец его мог понравиться ей.
Послали немедленно за Бовою и объявили ему волю княжескую: оставить конюшню и жить в палатах ее.
На другой день утром княжна приказала позвать к себе нового прислужника своего, приняла его ласково и, потрепав его по щеке своею нежною беленькою ручкою, сказала:
— Сегодня у меня будут обедать все знатнейшие люди нашего города, ты должен служить мне за столом моим.
Потом, достав из гардероба своего прекрасное ливрейное платье и подавая его Бове, княжна прибавила:
— Оденься приличней, как следует дворцовому служителю, в это нарядное платье, которое я велела отделать для тебя и которое дарю тебе на первый раз.
Долго Дружневна разговаривала с Бовою, все смотрела на него, любовалась красотою и статью молодецкою.
— Нет, — говорила она, сомнительно качая головою, — нет, птицу можно видеть по полету, и по всем твоим манерам нельзя не заметить, что ты не низкого происхождения, а должен быть роду большого, знатного.
От слов этих Бова покраснел, смутился и не знал, что ему отвечать на них. Видя, что он молчит и приведен в большое смущение, княжна не стала его более расспрашивать и приказала ему удалиться, а к обеду приходить к ней и быть на указанном ему месте.
Настало время обеда. Бова занял назначенное ему место, за стулом княжны своей, и служил только ей одной, а для гостей были определены другие служители. Подали жареного лебедя. Прекрасная Дружневна велела Бове принести к ней это блюдо и держать его в руках перед ней; она начала резать жареного лебедя, а сама не спускала глаз с своего ловкого, красивого служителя, резала поданное ей кушанье очень медленно, с умыслом, чтоб ей можно было долее любоваться Бовою. В это время она уронила нарочно ножик, и когда Бова, подняв его, подавал ей, она, как бы случайно наклонившись, поцеловала потихоньку Бову в голову. Не удовольствовавшись этим, княжна уронила вилку. Бова поднял вилку и подал своей госпоже, а она опять по-прежнему употребила ту же уловку, поцеловала его во второй раз.
Стол кончился, и гости разъехались, а Бова отправился в свою комнату, которая ему была отведена близ покоев, занимаемых княжною Дружневною.
Бова, находясь в услужении у княжны, не забывал прежних своих сослуживцев, конюхов, и хаживал к ним иногда на конюшню. Однажды в свободное время он отпросился у княжны Дружневны к конюхам и отправился с ними в поле за травою. Там, набрав прекрасных душистых цветов, он сплел из них венок и надел его себе на голову. Венок очень шел к Бове и так ему понравился, что он даже и домой возвратился с этим головным убором и снял его, проходя по двору мимо окон княжны.
Когда Дружневна увидала Бову с венком на голове, то позвала его к себе в палаты и сказала ему:
— Мне хочется, чтоб ты снял с себя сей венок и надел его мне на голову.
— Прекрасная княжна, я не смею и не должен прикоснуться моими рабскими руками к голове твоей, — отвечал стыдливо Бова и, смешавшись, не знал, что делать; взял в руки венок, смял и уронил его на пол, а сам выбежал из комнаты и так неосторожно хлопнул дверью, что выпал кирпич из стены, ударил его в голову и сделал очень глубокую рану. Дружневна сильно огорчилась этим несчастием, привела опять Бову в свою комнату и перевязала ему рану своими руками. Потом каждый день старательно наблюдала за больным до тех пор, пока он совершенно выздоровел.
Служил Бова княжне своей много лет, вырос и стал уже юношей прекрасным, статным собою, мужественным. В это время приехал к Зензевею Андроновичу Маркобрун, князь Данский, и стал просить руки его дочери, прекрасной княжны Дружневны, но она не пожелала вступить в супружество с этим женихом, и отец в угодность ей отказал наотрез Маркобруну.
Оскорбленный отказом, гордый и сильный князь Данский удалился, но вскоре, собрав четыреста тысяч отборного войска, подступил под город Андрон и повелительно, требовал, чтоб Зензевей отдал за него, Маркобруна, княжну Дружневну.
«А если ты не исполнишь моего желания, — писал он Зензевею, — то я разорю твой город до основания, тебя полоню, а дочь твою неволей возьму за себя замуж».
Князь Зензевей, собрав значительное число войска, сделал вылазку и сразился с неприятелем. Маркобрун победил, и тогда Зензевей принужден был согласиться на требуемое супружество дочери его с Маркобруном. Свадьбу назначено было играть в Данске; и положено было, чтобы Дружневна отправилась туда через две недели. На другой день после сего договора сделан был великолепный пир для Маркобруна, а за городом производилось конское ристалище, борьба и потеха на копьях.
Проведал Бова про эти загородные увеселения и, пришедши к княжне своей, говорил ей:
— Государыня моя, прекрасная княжна Дружневна! Маркобруновы воины за городом на копьях потешаются, наших людей ратных поборяют и над ними насмехаются. Горько слышать это, а еще горьче видеть. Позвольте мне взять меч и коня и ехать в поле с недругами ратовать, себя показать и их посмотреть, своими силами помериться.
Княжна, услышав эту столь неприятную для нее просьбу и опасаясь за жизнь Бовы, отвечала ему:
— Нет, нет! Я не дозволю тебе ехать в поле, предаться явной опасности. Ты еще очень молод и не можешь тягаться с опытными бойцами. Рука твоя слишком слаба еще и не привыкла владеть мечом. Ну если тебя ранят? Ну если тебя убьют? О, это меня очень, очень опечалит! Нет, выкинь из головы эту глупую удаль и оставайся дома.
От отказа княжны Бова закручинился, вышел вон из палаты ее да думает: «Была не была, а я тебя, Дружневна, не послушаюсь, в поле ратное выеду и с врагами переведаюсь». И, задумав это, пошел, сел он на коня. Но где взять меч? Много мечей в кладовых княжеских, да заперты, без ключа не достанешь; глядь-поглядь, а в углу стоит большая, здоровая метла. Но в богатырских руках и метла наделает много дела, что твой меч-кладенец. Взял Бова метлу, прыг на коня — да и был таков!
Выехав за город, стал Бова вызывать воинов Маркобруновых:
— Эй, вы, воины храбрые, богатыри сильные, выходите на меня силами помериться, храбростию.
Маркобруновы воины, увидав, что против них выезжает витязь с метлою в руках, стали смеяться над ним.
— Молокосос ты такой-сякой, — кричали они Бове, — не спросясь броду, суешься в воду. Голова-то у тебя курчава, да очень дырява. Стоит только тебя на одну ладонку посадить, а другой прихлопнуть, то и праху твоего не сыщешь.
«Ну да что тут с вами долго калякать», — думает про себя Бова и давай метлой махать и направо и налево: махнет разик, так и нет десятка супостатов, а приударит посильней, так и двух десятков как не бывало. Часу не прошло времени, а уже поле было покрыто Маркобруновыми воинами.
Как узнала Дружневна, что Бова за городом потешается, то пошла к отцу своему и сказала ему:
— Государь мой, батюшка, прикажи унять Коровятника, ты пошли к нему приказ, чтобы он оставил потехи воинские и возвратился бы немедленно домой.
Желание княжны было исполнено: Бова возвратился с поля, но очень был раздосадован, что ему помешали побить всю рать Маркобрунову. Не пошел он в палаты княжны, а отправился прямо в конюшню. Там залег он спать и заснул таким крепким богатырским сном, что в продолжение девяти дней и девяти ночей никак не могли его разбудить, как ни будили.
За одной бедой идет почти всегда другая. Едва успел только князь Зензевей примириться с одним неприятелем, Маркобруном, как явился под стенами Андрона другой неприятель, князь Лукопер Салтанович, богатырь, силы необыкновенной: сто пудов одной рукой поднимал, росту был огромного, голова у него была с большой пивной котел, между глаз целая пядень укладывалась, а в спине косая сажень. Он привел с собой войска пятьсот тысяч и множество богатырей, расположился лагерем на лугах заповедных, а отец его, Салтан Салтанович, остался на берегу морском с запасным войском.
Князь Лукопер требовал, чтобы прекрасную Дружневну отдали за него замуж, а если этого не исполнят, то грозился разорить город Андрон до основания, камня на камне не оставить, побить всю рать Зензевея, а его самого в полон взять.
Князь Зензевей вместе с Маркобруном стали думать думу крепкую; подумали да и решились: собрать сто тысяч войска и сразиться с общим врагом их. Выступило из города стотысячное войско под предводительством князей своих, но что оно значило перед пятьюстами тысяч отборных Лукоперовых воинов? Смеясь над ничтожными силами своих неприятелей, Лукопер не удостоил даже сражаться с ними как следует, а обратил копье свое тупым концом и стал им поражать целые тысячи. Остальное союзное войско, устрашенное таким грозным противником, спаслось бегством и заперлось в стенах города. А Зензевей Андронович и нареченный зять его Маркобрун были сшиблены Лукоперовым копьем, как два снопа, и отосланы связанными к Салтану Салтановичу; и он приказал их бросить в пустой шатер, к которому приставил крепкую стражу, чтоб пленники не убежали.
Лукопер хотел взять приступом укрепленный Андрон, но, не могши этого исполнить, решился стоять под городом до тех пор, пока сами жители сдадутся, будучи принуждены к тому недостатком съестных припасов и воды.
Проснулся наконец Бова королевич, слышит большой шум за городом и конское ржанье. Не зная ничего случившегося, пошел он в палаты к прекрасной Дружневне, чтоб спросить у ней, что все это значит.
— Долго ты спишь, Коровятник, — сказала ему печальная княжна, — и не знаешь, какое несчастие случилось с нами. Под город подступил князь Рагильский Салтан Салтанович, с ним сын его, страшный богатырь Лукопер, который побил множество нашего войска, а отца моего, благодетеля твоего, Зензевея Андроновича, вместе с князем Маркобруном взял в плен и хочет жениться на мне.
Выслушав это, закипел Бона гневом и начал говорить Дружневне:
— Государыня моя, прекрасная княжна Дружневна! Дозволь мне выехать в поле ратное, побиться и помериться силами с Лукопером, чтоб он не смеялся над твоим батюшкою, а моим благодетелем, добрым князем Зензевеем Андроновичем. Отобью я у этого Лукопера охоту приходить к нам в другой раз гостем незваным, непрошеным и за тебя, княжна, свататься.
— Ах, мой верный, любезный слуга! — сказала княжна Дружневна. — Ты говоришь, из усердия, вещи несбыточные. Знаешь ли ты, каков Лукопер: голова у него с большой пивной котел, сила непомерная, собою он такой великан, что пядень между глаз укладывается, а в плечах косая сажень вся поместится. Где тебе одолеть такого богатыря! Видно, уж нельзя ничем помочь бедному родителю моему, а должно покориться горькой судьбе нашей.
— Нет, — отвечал Бова, — надобно спасти моего благодетеля, поплатиться с ним хоть немного за все добро, которое он делал для меня. Я решился или выручить из беды твоего батюшку, или положить за него голову мою. Прикажи, княжна, дать мне доспехи богатырские, острый меч да коня доброго.
— В кладовых отца моего, — отвечала Дружневна, — много лежит доспехов богатырских и мечей острых; а в конюшне есть дивный конь; стоит он по колена в земле; заперт он дверьми железными, с запорами чугунными; стойло у него мраморное, ясли золоченые, с травой луговою, а корыто серебряное, с водою ключевою. Никто до сих пор не осмеливался объездить этого коня, да и он никого к себе не допускает, кроме одного старого конюха, который ходит за ним. А из всех мечей на белом свете нет лучше нашего меча-кладенца, о котором рассказывают вот что. За высокими горами, за глубокими морями было поле мертвое, усыпанное человечьими и лошадиными костями, а на поле том за двести веков тому назад совершилось страшное побоище. На костях лежала живая богатырская голова, величиною со стог сена, а под этой головою хранится наш страшный меч-кладенец, положенный туда злым волшебником Черномором, которого борода была в три аршина, голова поменьше бочонка, а сам он был не больше котенка.
После сего по приказанию Дружневны двенадцать человек принесли из кладовой богатырские латы, шлем пернатый, копье булатное и меч-кладенец заколдованный.
Вооружившись с ног до головы, пошел Бова королевич в ту конюшню, где заперт был Черный Вихорь, тот неукротимый конь, про которого рассказывала княжна.
Черный Вихорь взглянул на вошедшего в конюшню Бову королевича, тотчас почувствовал, что этот богатырь будет седок по нем, заржал весело, засверкал глазами, затряс своею волнистой гривой и стал рваться с цепей, которыми был привязан. Видя это, все конюхи разбежались от страха, что этот сильный, неукротимый конь сорвется, бросится на них, перекусает их всех и затопчет ногами. Действительно, Черный Вихрь мигом сорвался с крепких цепей, выскочил из стойла и стал перед Бовой как вкопанный, смирный и покойный. Бова королевич стал охорашивать коня, погладил его по спине, по крутой шее; потом оседлал его и, надев на него уздечку, вышел с ним из конюшни на двор, к общему удивлению конюхов и всех бывших тут.
Бова хотел уже садиться на Черного Вихря и ехать за город, как Дружневна начала говорить ему с упреком:
— Едешь ты на дело ратное, на побоище смертное, и неизвестно, будешь жив или нет, вернешься назад или сложишь там свою голову, а со мной не прощаешься, про себя правды не сказываешь.
— Не могу я, княжна, — отвечал ей Бова, — при свидетелях тебе правды высказать, а пойдем в твои палаты, там тебе все поведаю, про себя скажу правду-истину.
Прекрасная княжна Дружневна взяла Бову за руку и, приведя его в свои палаты, сказала ему:
— Я не верю тебе, чтобы ты был сын портного и прачки. Прошу тебя, не оставляй меня в сомнении и признайся откровенно, какого ты роду-племени и как зовут тебя.
Бова отвечал княжне:
— Теперь, когда я собрался на дело ратное, на побоище смертное, может быть, и жив не буду, должен я рассказать тебе, прекрасная княжна, всю правду-истину и прошу тебя не объявлять этой тайны никому до поры до времени. Не портного и не прачкин я сын, а роду знатного, княжеского — зовут меня Бова королевич: отец у меня славный князь Гвидон, а мать — прекрасная княгиня Милитриса Кирбитьевна, дочь Кирбита Верзеуловича.
— Ах, — сказала обрадованная княжна, — мои догадки и предчувствия не обманули меня, — потом, краснея, она стыдливо прибавила: — Милый Бова королевич, за твое признание я заплачу тоже признанием. Выслушай меня, но не посмейся над моим девичьим сердцем: я люблю тебя, юный витязь, давно люблю тебя. Скажи мне, любишь ли ты меня и желаешь ли принять мою руку и сердце, возвратившись с поля битвы победителем.
— Прекрасная княжна Дружневна, — отвечал почтительно Бова королевич, — красота твоя неописанная, нельзя не любить тебя, а назвать тебя супругою своею было бы для меня величайшим счастием; но я раб твой, я не смею даже мечтать о таком благополучии, да и батюшка твой не согласится на наше супружество. Но что будет, то будет, а теперь я должен поспешить на помощь к моему благодетелю, который томится в оковах. Прощай, прекрасная княжна, может быть, нам суждено более не видеться.
Сказав это, Бова королевич почтительно поцеловал руку княжны, которая, будучи не в силах преодолеть себя, горько заплакала, бросилась на шею к нему, обняла и поцеловала его.
Княжна проводила Бову из палат своих, держа его за руки: лицо у ной было заплакано и выражало сильную горесть сердечную. Когда они показались на крыльце, то дворецкий Зензевея Андроновича довольно громко сказал:
— Неприлично княжне ходить рука об руку с холопом Коровятником, провожать его и плакать о нем.
Бова королевич, услышав эти дерзкие слова, ударил дворецкого тупым концом своего копья, и упал дворецкий замертво и лежал битых три часа ни жив ни мертв.
После сего Бова королевич приказал подвести к себе Черного Вихря, сел на него, и ретивый бурный конь полетел с седоком своим, как из лука стрела, и, перескочив городскую ограду, понесся по полю к шатрам неприятельским.
Лукопер, увидав, что против него выезжает такой молоденький витязь, посмеялся его смелости, почитая за стыд сразиться, как он выражался, с этим мальчишкой, у которого еще молоко на губах не обсохло. Призвав к себе одного из богатырей своих, Лукопер приказал ему выехать против Бовы. Богатырь, исполняя повеление своего князя, устремился на Бову, а Бова, обратив свое копье, ударил тупым концом так сильно своего противника, что вышиб его из седла и отбросил на несколько сажен. Первый этот богатырь Лукоперов пал мертв, за ним последовали еще пятеро, и всех постигла одинаковая участь: все они один за другим погибли от могучей руки Бовы королевича.
Досадно и обидно было Лукоперу, что шесть его отличных богатырей побиты; он заскрежетал зубами, сел на своего коня и понесся во весь опор на Бову, устремив свое копье острием. Съехались богатыри и разом в одно время нанесли друг другу страшные удары, от которых искры посыпались из лат и вся окрестность дрогнула. Лукопер так сильно поразил Бову, что копье разлетелось вдребезги, но не могло, однако ж, пробить крепкого панциря. У Лукопера же от полученного им удара в грудь потемнело в глазах и руки опустились. Пользуясь этой счастливой минутой, наш юный витязь выхватил из ножен свой меч-кладенец, взмахнул им над головою своего противника и рассек ее вместе с туловищем до самой седельной подушки — и свалился Лукопер, мертвый, разрубленный пополам. Тогда Бова королевич начал побивать войско вражеское; бил он его всего пять дней и пять ночей без отдыха; не столько сам он бил, сколько его Черный Вихрь топтал копытами.
Остальные воины Лукоперовы обратились в бегство, ушли на берег морской к князю своему, Салтану Салтановичу, и говорили ему:
— Государь ты наш, Салтан Салтанович, из города Андрона выехал один могучий храбрый витязь, имени и роду его не знаем, убил он непобедимого твоего сына, множество богатырей, а бессильную рать твою почти всю уничтожил и, того гляди, прискачет сюда за нами в погоню и предаст нас всех смерти.
Салтан Салтанович был так поражен, испуган этою рокового вестью, что сейчас же поспешил убраться восвояси; оставил второпях на берегу все шатры свои с провиантом и разными оружиями, поскорее сел на корабль с немногими людьми и уехал в Рагильское княжество.
Бова королевич, приехав на берег морской, вошел в тот шатер, где лежали связанные Зензевей Андронович и Маркобрун. Он тотчас развязал их, и все трое, сев на коней, отправились в Андрон, где были встречены жителями с громкими восклицаниями и великими почестями.
Когда Бова королевич был только прислужником княжны Дружневны, стало быть, человеком не очень значительным, то не было у него ни врагов, ни завистников, но после двух знаменитых, блистательных подвигов, совершенных им, все взоры устремились на него, и с тем вместе явились и зависть, и недоброжелательство к нему. Первым из тех недоброжелателей был Маркобрун, который, заметив расположение невесты своей к Бове королевичу, изыскивал предлог удалить этого опасного соперника своего не только от нее, но и от двора княжеского.
Желая достичь своей цели, Маркобрун сказал однажды Зензевею Андроновичу:
— Слыхал я от старых людей, что если какой холоп выслужится чем-нибудь перед господином своим, то должно его, холопа, наградить, смотря по заслугам, и отпустить на волю. Так и тебе, князь, надобно поступить с рабом твоим, Коровятником.
Зензевей Андронович, призвав к себе Бову, сказал ему ласково:
— Юноша мой верный, сослужил ты мне службы трудные, не холопские службы, а геройские, за которые не могу и придумать, чем наградить тебя. Хочешь ли ты богатства, волю или желаешь послужить еще мне?
— Государь мой, князь Зензевей Андронович, — отвечал Бова, — не нужно мне ни злата, ни серебра, ни воли драгоценной. Желаю остаться рабом твоим по век мой и постараюсь отплатить тебе за все добро, сделанное тобою мне, сироте безродному, которого ты призрел и обласкал своею ласкою княжескою.
— Нет, — сказал Зензевей Андронович, — с сего времени более ты не раб уже мой, а верный и надежный помощник мне.
Не удалась попытка одного врага — нашелся другой, более искусный враг; то был дворецкий княжеский, человек льстивый, лицемерный, злой, тот самый, которого Бова королевич наказал за дерзкие слова, когда сбирался на бой с Лукопером. Дворецкий помнил это крепко и думал про себя: никогда не забуду, как этот мальчишка, Коровятник, ударил меня копьем и чуть дух не вышиб из меня. Погоди, любезный, и на нашей улице будет праздник!
Бова королевич по привычке своей хаживал иногда на конюшню и спал там. Дворецкий задумал воспользоваться этим обстоятельством и подкупить дорогою ценою конюхов, чтоб они убили ненавистного ему Коровятника. Но конюхи не соглашались на это и говорили: «Убить Коровятника мы не убьем, а себе худа наделаем. Не справиться нам с ним: он один побил страшного богатыря Лукопера и сто тысяч войска».
Дворецкий прибегнул тогда к другой хитрости, более надежной, и она удалась ему. Выбравши свободное время, когда Зензевей Андронович отлучился куда-то, он зашел в спальню княжескую, сел за стол, написал письмо и запечатал. Потом, легши на постель, послал одного из своих приближенных к Бове, приказал ему сказать, что, мол, тебя, Коровятника, требует сам князь к себе в спальню.
Бова, не подозревая ничего, явился немедленно, а дворецкий, подражая голосу Зензевея Андроновича и кутаясь в одеяло, стал говорить:
— Мой верный слуга, Коровятник, нужно мне было ехать по делам к Салтану Салтановичу, но по болезни своей не могу этого сделать. Возьми на столе письмо и отправляйся к нему сейчас, к князю, в Рагиль.
Бова королевич, приняв обманщика за самого князя, поклонился ему почтительно, взял со стола письмо и вышел вон, потом оседлал доброго коня своего и, взяв меч-кладенец, отправился в путь-дороженьку. Ехал пять дней и пять ночей и приехал в пустыню песчаную, необозримую, бесплодную, где не видно было ни кусточка, ни деревца, ни жилья человеческого, даже и трава на ней не росла. День был жаркий; на небе ни облачка, солнце раскалило пески сыпучие, по которым ехал богатырь наш; тени и убежища от лучей солнечных не было. Жажда мучила Бову, а утолить ее нечем — на дороге ни ручейка, ни колодезя, ни лужи дождевой. Но вдруг глядь, а в стороне стоит какой-то старец и пьет воду из кружки.
Бова, подъехав к старцу, спросил, как его зовут.
Старец отвечал:
— Имени нет у меня, я пилигрим, человек, странствующий по свету.
— Что ты сам пьешь, дай и мне, — говорил ему Бова.
— Я пью воду из кружки, — отвечал пилигрим, — и я тебе дам напиться, храбрый витязь.
Сказав это, старец достал из своей дорожной котомки кувшин, налил из него в кружку воды и, всыпав туда потихоньку сонного зелья, подал Бове пить. Томимый жаждою, Бова выпил всю кружку до дна, отдал ее старцу и поблагодарил его за одолжение.
Оставив старца, поехал наш путник своей дорогою, но чрез две или три минуты одолела его сильная, непреодолимая дремота до того, что упал он с коня своего на землю и заснул крепким сном, который продолжался непрерывно девять дней и девять ночей.
Проснувшись, Бова увидал, что при нем нет ни коня, ни меча, и догадался, что хитрый старик напоил его водою с сонным зельем, унес меч-кладенец и увел коня богатырского.
Горько было бедному королевичу, прослезился он и подумал: на смерть ты меня послал, Зензевей Андронович. Что мне теперь делать, пешему и безоруженному? Пойду куда глаза глядят: двух смертей не бывает, одной не миновать. С этой мыслью пошел он далее, и шел он долго путем неведомым, дорогою неизвестною, сам не зная куда, и пришел наконец к городу великому.
Войдя в город, Бова спросил у первого встретившегося ему человека, как прозывается этот город и кому принадлежит.
— Это — Рагиль, принадлежит он славному и знаменитому князю Салтану Салтановичу, — отвечал прохожий.
Узнавши это, Бова был очень рад, что достиг цели своего путешествия, и пошел прямо в палаты княжеские, где и вручил письмо лично самому Салтану Салтановичу.
Салтан Салтанович распечатал поданное письмо и стал читать его, а в нем было написано следующее:
«Податель сего письма есть тот самый богатырь, который убил твоего сына Лукопера и истребил твое многочисленное войско».
— А! — вскричал с злобною радостию Салтан Салтанович, — это ты, злодей, лишивший меня сына! Ты сам пришел ко мне; но не уйдешь отсюда жив!
Потом, обращаясь к воинам своим, он приказал:
— Возьмите этого негодяя и ведите на виселицу!
Когда воины, взяв Бову королевича, вели на место казни на площадь, где поставлена была высокая виселица, он прослезился и подумал про себя: «Вот чем Зензевей Андронович наградил меня за мою верную службу! Послал меня на погибель неизбежную. Не сделал я никакого преступления, никакой вины за собою не ведаю. Неужели я, славный и храбрый богатырь, умру смертью позорною? Нет, я должен защищать себя во что бы то ни стало. Побивал я тысячи, авось справлюсь с десятками». С этой мыслию он, улучив удобное время, выхватил меч из рук одного воина, пошел работать мечом направо и налево, и чрез несколько минут пало более пятидесяти воинов, а остальные убежали к Салтану Салтановичу, чтоб уведомить его о случившемся.
Освободившись таким образом от стражи, Бова выбежал из города, но не долго наслаждался свободою. Салтан Салтанович, узнав о побеге своего пленника, велел трубить в рога для сбора войска и, собрав стотысячную рать, погнался за Бовою, скоро настигнул его и взял в плен, но с большою, однако, потерею своей армии и после долгого кровопролитного боя.
— Ты хотел, злодей, уйти от виселицы, — говорил Салтан королевичу, — я теперь поступлю с тобою еще хуже: поморю тебя подольше голодом, а потом все-таки повешу.
Приведен был обратно Бова в Рагиль и посажен в темницу, но чрез два дня освободился оттуда по следующей причине.
У Салтана Салтановича была дочь — прекрасная Мельчигрия. Она много наслышалась о необыкновенной храбрости и силе Бовы королевича, а увидав случайно этого прекрасного юношу, полюбила его сильно и хотела освободить от смерти. Пришедши к отцу своему, она говорила:
— Государь мой, батюшка! Брата моего, а вашего сына Лукопера нам не воскресить и ста тысяч войска не воротить. Не вели казнить пленника нашего, такого славного и могучего богатыря, а лучше позволь мне взять его к себе. Он примет нашу веру, возьмет меня замуж и будет сильным оборонителем нашего княжества. Да и чем он виноват? Неужели тем, что исполнил долг свой, защищал своего князя, сражался с неприятелем его?
Салтан Салтанович согласился на желание своей дочери, а она тотчас же приказала освободить Бову и, призвав его к себе в палаты, говорила:
— Мне стало тебя жаль, прекрасный витязь; выпросила я у отца моего тебе свободу на время и могу совершенно избавить тебя от смертной казни, если только согласишься принять нашу веру и вступить со мною в супружество. Если же не будешь согласен на мое милостивое и лестное для тебя предложение, то не избежишь виселицы.
Бова отвечал Мельчигрии:
— Веры своей я не переменю, а тебя, прекрасная княжна, замуж не возьму.
Получив такой оскорбительный для ее самолюбия ответ, Мельчигрия приказала посадить опять Бову в темницу и не давать ему ни есть, ни пить, а самую темницу засыпать песком и завалить каменьями, оставить только в ней небольшое окошко для прохода воздуха. И сидел Бова в темнице пять дней и пять ночей, без пищи и без питья, а в шестой день пришла в темницу Мельчигрия и стала пред окошком. Долго княжна глядела на милого ей пленника, не могла досыта налюбоваться им и стала уговаривать его:
— Неужели для тебя, храбрый витязь, приятнее сидеть в темнице, томиться голодом и мучиться жаждою, нежели переменить веру и быть моим мужем?
Бова решительно отвечал ей:
— Лучше соглашусь умереть голодною смертью, нежели переменить веру и жениться на тебе, княжна.
— Так умри же, — сказала оскорбленная Мельчигрия и, пришедши к отцу своему, просила, чтобы Бова немедленно был повешен.
Салтан Салтанович тотчас же послал шестьдесят воинов, чтоб они взяли Бову из темницы и предали его назначенной ему казни, а сам сел у окошка, желая видеть, как будут несчастного вешать на виселицу.
Воины, пришедши к темнице, стали отгребать песок и камни, которыми она была завалена, но, видя, что эта трудная работа продолжится долго, решились лучше разломать крышу темницы, спустить туда лестницу и по ней вывести заключенного.
Услышав стук над собою, Бова догадался, что минута смерти его настала. Сильно закручинился он о том, что не было с ним меча-кладенца, что ему нечем даже оборониться и придется отдать жизнь свою дешево. Стал он осматривать и шарить везде, не найдет ли какого запора железного, или камня тяжелого, или дубинки увесистой. Искал, искал, и — о счастье! — валялся в углу меч, хотя и заржавленный, но очень острый. Взял богатырь наш дорогую для него находку и повеселел, что ость чем встретить врагов своих.
Вот отверстие в крыше пробито, спустилась чрез него в темницу лестница, и начали сходить по ней воины, но глаза их, не привыкшие к темноте, не могут рассмотреть, что Бова стоит у лестницы и ждет их с мечом в руке. Лишь спустился один из них, богатырь взмахнул мечом, и покатилась голова с плеч и не икнет. Спустился другой, третий — участь та же. Таким образом перебил их всех Бова королевич, вылез из душной темницы и ушел из Рагиля.
Салтан Салтанович сидит между тем у окна да ждет, когда приведут пленника на виселицу. Долго ждал он, рассердился даже и, потеряв терпение, послал других шестьдесят человек за Бовою. Они скоро возвратились к князю и объявили ему, что товарищи их, прежде посланные, все перебиты, а пленника следов нет.
Пока все это происходило, пока собирались в погоню за беглецом, Бова королевич был уже далеко от города, на берегу морском, близ которого стоял корабль, готовый отплыть в путь. Бова попросил корабельщиков принять его на корабль, и они согласились на его просьбу.
Едва корабль отплыл немного, как показался на берегу Салтан Салтанович с многочисленным войском и закричал корабельщикам:
— Отдайте мне моего пленника, которого вы сейчас посадили на корабль. Он сделал большое преступление и бежал из тюрьмы. Если же вы не выдадите его мне, то не ездить вам мимо владений моих и не торговать в них.
Испуганные такими угрозами, корабельщики хотели выдать Бову, но он, вынувши меч свой, грозно сказал им:
— Если вы послушаетесь Салтана и не поедете далее, то я всех вас порублю мечом.
Потом, когда его не послушались, он перешел от слов к делу: стал бить мечом корабельщиков, побил их множество и побросал в море. Остальные корабельщики, видя, что с ними будет поступлено так же, как и с товарищами их, просили у Бовы пощады и обещались плыть, куда ему будет угодно. Бова согласился помиловать их, и они, распустив все паруса, поплыли в открытое море и скоро скрылись от глаз Салтана Салтановича. Плавание их продолжалось довольно долгое время, и, наконец, вдали показался небольшой город со множеством теремов златоверхих. Корабль стал на якорь против берега, на котором стояли рыбаки и разбирали наловленную ими рыбу. Бова закричал рыбакам, чтоб они привезли им на корабль рыбы, за которую обещал заплатить хорошую цену. Один из рыбаков подъехал в лодке к кораблю и привез с собою десять отличных осетров, отдал их корабельщикам, а деньги не хотел брать за свой товар, но Бова не согласился на это и взял большую штуку бархату, горсть золота да горсть серебра, отдал все доброму рыболову, который чрезмерно обрадовался такому богатому подарку и говорил:
— Много дал ты мне, щедрый гость-корабельщик, не пропить, не проесть этого золота и серебра ни мне, ни детям моим, ни внучатам, ни правнукам. Осчастливил ты меня навек со всем семейством моим.
Бова стал разговаривать с рыбаком:
— Скажи мне, голубчик, как называется этот город, вон что стоит там на горе, верст за семь отсюда?
— Это город Данск.
— А кто в нем княжит?
— Княжит в нем князь Маркобрун.
— Не он ли сватался за дочь Зензевея Андроновича?
— Он самый, и женится завтра на прекрасной Дружневне, которая вчера прибыла сюда по воле своего батюшки, чтоб сочетаться браком с князем нашим.
— Отвези меня, добрый человек, на берег, — сказал Бова рыбаку.
— Изволь, благодетель мой, — отвечал рыбак, — я отвезу тебя, куда только ни пожелаешь.
Бова, севши в лодку, стал прощаться с корабельщиками.
— Прощайте, — говорил он им, — братья-товарищи, да не поминайте меня лихом, благодарю вас, что довезли меня. Разделите весь корабль между собою поровну. Отправляйтесь теперь с Богом, да дорогою не ссорьтесь.
Вышедши на берег, Бова отправился по дороге к Данску; пройдя версты три, встретил он того самого странника, который увел у него богатырского коня и унес меч-кладенец.
Схватив похитителя, Бова хотел умертвить его, но старец сказал ему умоляющим голосом:
— Не отнимай у меня жизни, великодушный князь, а выслушай меня милостиво. Возвращу я тебе все украденное у тебя мною, научу кое-чему такому, что тебе пригодится. Возьми свой меч-кладенец, он зарыт вон там, под тем дубом зеленым, конь же твой стоит на конюшне Маркобруновой, привязан на двенадцати цепях, за двенадцатью дверями железными. Стоит тебе подойти к конюшне да закричать Черному Вихрю, так он сам выйдет к тебе, услыхав голос твой. А за вину мою пред тобою подарю тебе три зелья чудные, которые принесут тебе много пользы.
После сего старик выкопал из земли меч-кладенец, достал из котомки свертки с зельями и, отдав все это Бове, сказал:
— Вот если этого белого зелья всыпет человек в воду и умоется ею, то станет молод и красив собою. Другое зелье — черное; оно имеет свойство делать людей старыми. Третье зелье — зеленое; если растворить его в чем-нибудь да выпить, то уснешь так крепко, что никто не сможет разбудить тебя, и будешь спать без просыпу девять дней и девять ночей.
Взяв три зелья и меч-кладенец, пошел Бова далее и увидел нищего, который собирал щепки и клал их в корзину.
— Старче, — сказал королевич бедняку, — отдай мне свое худое платье, а себе возьми мое хорошее, цветное.
Нищий, обрадовавшись такой выгодной мене, снял тотчас с себя ветхую одежонку, отдал ее витязю, а сам взял его платье.
Бова, надев на себя черное рубище нищего, пошел в таком одеянии в Данск. Здесь, умывшись у первого колодца водою с черным зельем, вдруг сделался этот прекрасный юноша стариком дряхлым, с длинною седою бородою, с глубокими морщинами на лице. После такого чудного преобразования своего пошел он на двор княжеский и, войдя на поварню, стал просить у поваров милостыни.
— Господа повара, — говорил им наш мнимый нищий, — будьте милостивы, накормите меня, старика: целых два дня не ел я ничего, насилу хожу от голода. Сделайте это доброе дело не ради меня, а ради славного, могучего богатыря Бовы королевича, который освободил вашего князя из плену.
— Ах ты, старый хрен, такой-сякой, — закричал тут старший повар, — да как ты смеешь, негодяй, просить именем Бовы королевича. Разве не знаешь приказа княжеского, чтоб казнить всякого, который только осмелится произнести его имя?
— Прости меня, господин честный, — продолжал Бова, — теперь никогда не произнесу этого имени, не вели только казнить меня, человека странного, не знавшего приказа княжеского.
— Хорошо, дед, я прощаю тебя, — говорил главный повар. — Но здесь у нас милостыни не подают, а ступай на задний двор, там княжна Дружневна оделяет вашу нищую братью деньгами по случаю своего радостного вступления в супружество с нашим князем Маркобруном.
Поблагодарив повара, пошел Бова на задний двор, а там народу тьма-тьмущая. Нищие теснились, толкали друг друга, бранились, и некоторые даже дрались, желая скорее добраться до княжны и получить богатое подаяние. Толпа нищих, заметив приход нового собрата, встретила его бранью и не давала проходу ему. Он, видя, что тут честью и ласкою не возьмешь ничего, прибегнул к своей силе богатырской и стал расталкивать нищих и туда и сюда, так и швыряет их в стороны. Увидали они тогда, что плохо, присмирели, перестали браниться и дали ему дорогу. Таким образом чрез несколько минут он стоял уже пред княжной Дружневной и говорил ей:
— Государыня моя, прекрасная и добродетельная княжна Дружневна Зензевеевна! Подай старику дряхлому свою милостыню щедрую, подай ради Бовы королевича, храброго и могучего богатыря, твоего прежнего прислужника.
Услышав внезапно столь любезное для нее имя, Дружневна затрепетала, вся вспыхнула, переменилась в лице и уронила свой ящик с деньгами. Потом, оправившись от своего смущения, велела она служанке поднять ящик и вместо нее раздавать подаяние, а сама, взяв старика за руку, пошла с ним на заднее крыльцо, где никто не мог подслушать разговора их.
— Скажи мне, старичок, не слыхал ли ты чего про королевича или, может быть, видел его и знаешь, где он находится?
— Государыня моя, княжна Дружневна, сидел я с Бовою вместе в одной тюрьме, в Рагиле, где княжит Салтан Салтанович, отец Лукопера, который сватался за тебя.
— Где же теперь, где Бова королевич?
— Где он теперь, не знаю. Когда мы убежали из темницы, то долго шли вместе с ним одною дорогою, а потом расстались: он пошел налево, а я направо.
— Когда вы шли вместе, не говорил ли он чего про меня?
— Говорил он про тебя, княжна, много хорошего, восхвалял доброту твою, ум, разум твой, красоту твою неописанную.
— Не собирался ли он зайти в Данск?
— Собирался, да хорошо сделает, если не придет сюда, — не миновать ему тогда смерти. Маркобрун да, пожалуй, и ты, княжна, прикажете отрубить ему голову иль повесите; в тюрьме заморите голодом.
— О, как ты ошибаешься, старичок! Если бы пришел сюда Бова королевич, то я убежала бы с ним к родителю моему, Зензевею Андроновичу. Если б я узнала только, где он находится, то побежала бы к нему хоть на край света.
Разговаривала княжна со стариком, а сама горько плакала. В это время вышел на крыльцо князь Маркобрун и, увидав заплаканные глаза невесты своей и стоящего перед нею старика, спросил:
— Что это за старик и о чем ты, прекрасная Дружневна, проливаешь слезы?
— Этот старик, — отвечала Дружневна, — пришел из нашего города Андрона и принес вести нерадостные, что батюшка мой болен, при смерти, вряд ли жив будет.
— Не плачь, прекрасная невеста моя, — говорил нежно Маркобрун, — не губи слезами красоты своей, не поможешь этим горю, только надорвешь свое сердце девичье. Пойдем, я провожу тебя в палаты твои.
— Повинуюсь воле твоей княжевой, будущий супруг мой: позволь мне взять с собою старика этого и поговорить еще об отце моем.
Когда Маркобрун дозволил это, то Дружневна, войдя с стариком в комнату свою, заперла ее, начала продолжать прерванный разговор:
— Послушай, добрый старинушка, ты ходишь по разным странам, прошу тебя, если узнаешь, где находится Бова королевич, то дай ему знать обо мне. Тогда он придет сюда и освободит меня от ненавистного мне Маркобруна, которому я должна принадлежать поневоле.
— Милостивая княжна, вижу я, что Бова королевич мил твоему сердцу. Услыша от тебя радостную весть, он уже в городе Данске, близ тебя: перед тобою стоит.
Княжна сомнительно посмотрела на стоящего перед ней старика и сказала:
— Могу ли я тому поверить? Посмотри на себя, ты стар, черен и дурен собою, а он так молод, такой красавец, какого еще свет не видывал.
Старик достал из-под полы своего рубища меч-кладенец и, подавая его Дружневне, говорил:
— Ну смотри, вот меч мой кладенец, по которому можешь признать меня.
Княжна взяла поданный ей меч, поцеловала его и продолжала говорить все еще недоверчиво:
— Это точно меч Бовы королевича, но все-таки, старик, не верю тебе: ты стар, а не юноша, дурен и не хорош, дряхл и не силен. У Бовы на голове волосы черные, густые, курчавые, усы с бородой только что пробиваются, а у тебя на голове почти нет волос, и борода твоя длинная, седая.
Тогда старик взял воды, положил в нее белого зелья и стал умываться. В то время, как он умывался, совершилось пред глазами княжны чудное и непонятное дело: морщины стали сглаживаться и пропадать с желтого лица старца, румянец заиграл на щеках его, борода исчезла, голова покрылась черными кудрявыми волосами и сгорбленный стан выпрямился, и пред Дружневною стоял уже не хилый нищий, а сам Бова королевич.
— Ах, мой милый Бова королевич, наконец ты со мною! — вскричала обрадованная княжна, бросилась к нему на шею, покрывала его щеки своими поцелуями, а сама плакала от неожиданного счастья и радости.
Прошли первые обоюдные порывы радости и признания в любви, и княжна стала рассказывать:
— Когда ты вдруг пропал без вести, то отец мой, — я уже не говорю про себя, — печалился и сокрушался сердечно, что лишился такого храброго и могучего богатыря, верного помощника и защитника своего. Я призналась ему, что люблю тебя, и высказала тайну вверенную. Узнав твое знатное происхождение, он не обвинял меня, но согласился с радостью на брак наш и намекал об этом Маркобруну. Ждали мы тебя долго, но не возвращался ты, а Маркобрун настаивал на своем и делал страшные угрозы, которые помогли ему и привели к желанной цели. Но, — прибавила княжна, — что медлим мы? Освободи меня скорее от ненавистного Маркобруна. Я вся твоя и никому не буду принадлежать, кроме тебя!
Бова королевич отвечал ей:
— Я и пришел сюда за тем, чтобы вырвать тебя из рук нашего общего врага, но не надобно спешить, чтоб не испортить начатого дела. Попытаемся прежде освободиться от Маркобруна без пролития крови, может, нам это удастся. Возьми этого зеленого зелья, всыпь его в кубок с вином или медом и склони как-нибудь нареченного жениха твоего выпить это снадобье. Если он выпьет, то заснет и будет спать без просыпу девять дней и девять ночей, а в это время мы легко успеем убежать несколько раз.
— О, я сейчас же сделаю опыт! — вскричала, обрадовавшись, княжна и, взяв зелье, вышла вон, а Бову оставила в комнате своей запертым.
Пришедши к Маркобруну и ласкаясь к нему, говорила она:
— Государь мой и милый жених, завтра день нашего брака, день желанный для нас обоих, то, прошу тебя, для такой радости выпьем с тобою по кубку сладкого меда.
Маркобруну очень понравилось такое предложение прекрасной невесты его, тем более что он до сих пор не слыхивал еще от нее ни одного ласкового, приветливого слова. Тотчас же подан был сладкий мед и принесены золотые кубки.
Налив кубки медом, княжна потихоньку всыпала зеленого зелья в один из них и подала его князю.
Лишь только Маркобрун выпил мед, как почувствовал над собою усыпительную силу зелья: глаза у него невольно слипались, начал он зевать и чрез минуту спал уже крепким сном и храпел во всю ивановскую.
Оставив уснувшего князя, Дружневна возвратилась к Бове королевичу и сказала ему:
— Я сделала все так, как ты научил меня: подала Маркобруну меду с зельем, и он заснул. Теперь оставим скорее эти неприятные мне места и удалимся к родителю.
— Нет, — отвечал Бова, — надобно дождаться ночи и снарядиться в путь как следует. А ты, княжна, между том вели приготовить для меня латы и шлем, а для себя смирную лошадку.
— Это все легко сделать. Шлем и латы я принесу тебе Маркобруновы, а для себя прикажу моей верной служанке приготовить доброго иноходца; для тебя же коня быстрого из конюшни Маркобруновой.
— О коне для меня не беспокойся, я добуду его сам. Хотя Черный Вихрь стоит привязанный на двенадцати цепях, за двенадцатью дверями, но я кликну его, и ко мне выйдет он.
Как было сказано, так и сделано. Дружневна все приготовила, что нужно было к побегу: взяла свое золото, серебро, вещи драгоценные и с нетерпением дожидалась ночи. Наконец наступила ночь, все покоилось во дворце княжеском глубоким сном, и наши беглецы вышли по черной лестнице на задний двор.
Бова крикнул тогда своим голосом богатырским: «Эй, ты, конь мой ретивый, Вихорь Черный! Стань передо мной как лист перед травой».
Вслед за этими словами послышался на конюшне сильный топот копытами и ржание конское. Слышно было, как рвались крепкие цепи одна за другою, разбивались толстые двери и падали запоры. Наконец, упала с шумом последняя, двенадцатая дверь, и выскочил бурный конь. Черный Вихорь понесся прямо к богатырю своему и стал перед ним как вкопанный. Бова, сев на своего коня Вихоря, а Дружневна на приготовленного ей иноходца, поскакали во весь опор вон из города. К утру приехали они благополучно в одно селение, совершили там брачный обряд и таким образом еще сильнее скрепили союз любви, который уже давно соединял их пламенные юные сердца. Из селения поехали новобрачные далее. Путь им лежал чрез места необитаемые, по пескам сыпучим, чрез леса темные, дебри непроходимые, чрез горы высокие. Ехали они целый день и утомились. Наконец, заметив на пути ручей, извивавшийся по полю, пожелал Бова остановиться тут и отдохнуть. Раскинул он шатер белый полотняный и ввел туда прекрасную супругу свою, а коней пустил на зеленые луга погулять. Пробыли здесь путники девять дней и девять ночей, проводя время весело, мирно и спокойно. Оставим их пока и возвратимся к Маркобруну.
Спал Маркобрун ровнешенько девять суток, а на десятые проснулся. Первый вопрос его был: «Здорова ли невеста моя и что она делает?»
Ему донесли, что невесты его и с ней старика нищего давно и след простыл, что везде их искали, но не могли сыскать. Услышав такие вести, изумленный князь рот разинул, нашел на него столбняк, точно гриб он горький съел, корешком подавился.
— Зачем, негодяи, не разбудили вы меня? Всех вас на виселицу! — закричал Маркобрун таким страшным, громким голосом, что все слуги пустились от него бежать, но у двери столкнулись лбами, раздумали, что князь изволит на них сердиться напрасно, воротились и, почесывая лбы свои, почтительно говорили ему:
— Князь ты наш милосердный, не вели казнить, а позволь слово вымолвить. Будили мы твою милость, будили всячески: с боку на бок поворачивали, щекотали, водой даже обливали, а ты и глаз не открываешь, храпишь себе только.
— А! Теперь я догадался, — продолжал Маркобрун с досадою. — Этот старый хрен, приходивший сюда в виде нищего, был не кто иной, как Бова. Он увез мою Дружневну. Я шутить над собою не позволю ни ему, ни этой девочке, которая провела меня так ловко. Созвать ко мне воевод моих, всех позвать сюда!
Когда воеводы пришли, князь обратился к ним с речью:
— Храбрые военачальники! Приказываю вам сейчас же собрать многочисленное войско, догнать беглецов и привести их ко мне живыми. Если вы исполните это, — в чем я и не сомневаюсь, — то получите от меня такие большие награды, каких отродясь вы не видывали.
Затрубили в рога бранные, собралось войска триста тысяч в погоню, а сам Маркобрун остался дома, горевал и печалился и не знал, что будет.
А что делает богатырь наш? Восходит солнце красное и приводит с собою утро ясное; тихий вечер приходит с ноченькой темной и уводит с собою день светлый. Вот опять выходит солнышко, прогоняет ноченьку, вот опять оно приводит зореньку румяную; и проходят так девять дней, а Бова королевич все на том же лугу, в шатре своем ведет речи сладкие с своей супругою прекрасною. Счастливы они и не воображают, что сбирается над ними туча грозная.
Вот выходит он однажды из шатра своего и слышит, что далеко в поле идет гул от топота конского, слышится ржание, и ветер доносит до слуха голоса человеческие. Возвратившись в шатер, он сказал Дружневне:
— Ах, милая моя супруга, за нами, должно быть, идет погоня.
— Это очень естественно. Вероятно, Маркобрун проснулся, хватился меня и послал за нами войско, а может быть, и сам идет с ним.
— Я то же думаю; но не видать ему тебя как ушей своих!
Сказав это, Бова взял меч свой кладенец, оседлал коня богатырского, Вихря Черного, сел на него и помчался против силы вражеской, которая так была велика, что и глазом не окинешь. Но не страшился герой многочисленности и напал на врагов стремительно, как сокол на добычу свою. Дрогнули ряды Маркобруновой рати от руки богатырской, от меча-кладенца, от Вихря Черного. Сколько меч порубил воинов, столько конь потоптал их ногами. Целый день продолжалась битва, — от полчищ неприятельских осталось только десять человек. Стали они пред победителем на колени и просили помилования.
— Не хочу отнимать у вас жизни, — сказал он им. — Ступайте к князю вашему и возвестите ему, как справляюсь я с недругами моими. Посоветуйте ему, чтоб он в другой раз не посылал за мною погони, а то будет хуже теперешнего.
И пошли те десять человек и пересказали князю своему, что случилось с войском его и что наказывал им Бова королевич.
Потеря многочисленной рати, насмешки и угрозы Бовы еще более раздражили Маркобруна. Опять собрал он воевод своих и приказывал им:
— Соберите четыреста тысяч войска, догоните беглецов и приведите ко мне. Исполните это непременно, иначе поступлю с вами строго, велю казнить вас на воротах, расстрелять горохом, как трусов каких.
Военачальники были уверены, что идти против Бовы — то же, что идти на верную смерть. Повесили они головы, сильно закручинились, но вдруг одному из них пришла на ум счастливая мысль, которая вывела товарищей его из затруднительного положения.
— Храбрый и могучий князь наш! — говорил он Маркобруну. — Бова теперь очень далеко убежал, и вряд ли мы догоним его. Сидит у тебя в темнице давным-давно Полкан-богатырь, от головы до пояса человек, а от пояса до ног конь. Он скачет в один прыжок по семи верст, а захочет, так и десять махнет; силы это чудовище необыкновенной, пожалуй, не уступит Бове. Пошли Полкана, он скорее нашего догонит беглецов и приведет их сюда.
Совет этот был одобрен всеми, и велено было привести из темницы того богатыря Полкана, который был роста огромного, с человеческим передом, лошадиным задом.
— Полканушка, голубчик! — говорил ему ласково Маркобрун. — Сослужи ты мне службу, я награжу тебя, отпущу на все четыре стороны. Беги в погоню за Бовой и невестой моей Дружневной и приведи их обоих ко мне.
Полкан обещал исполнить желание князя, поклонился ему, побежал из дворца как стрела летучая, как буря могучая; поскакал посланный по горам, по долам, перемахивал чрез леса стоячие, задевал за облака ходячие, перепрыгивал воды глубокие. Недолго было Полкану Бову догнать.
Слышит королевич отдаленный конский топот, прилег к земле ухом да слушает; а земля так и дрожит, так и ноет.
— Ну, — говорит он, — Дружневна, скачет кто-то, но только не рать, а, должно быть, пребольшой и пресильный конь, потому что слышу только четыре копыта, а земля сильно трясется.
— Ах, милый мой супруг, это скачет за нами Полкан-богатырь, по пояс человек — по пояс конь; он в один прыжок перепрыгивает по семи верст и скоро догонит нас.
— А мы встретим его как следует, угостим мечом-кладенцом да и навеки спать уложим доброго молодца.
В это время показался из лесу Полкан, вырвал с корнем огромный дуб и стремится прямо на Бову, который сидел уже на Черном Вихре и хладнокровно ждал своего противника.
— А, беглец, не убежишь ты теперь от руки моей, — закричал конь-человек и, размахнувшись своим дубом, хотел поразить королевича в голову, но тот ловко увернулся. Удар миновал его, но так был силен, что вырвавшийся из рук дуб до половины ушел в землю.
Бова, обратив свой меч тупою стороною, так крепко ударил им Полкана, что тот зашатался, потом упал на землю и запросил пощады:
— Могучий непобедимый витязь, прости меня за мою дерзость и не отнимай жизни, буду я служить тебе, как господину.
Великодушный герой наш не только помиловал побежденного, но даже побратался с ним, назвал его меньшим своим братом, а себя большим.
После сего они втроем продолжали путь и чрез день приехали к городу Костелю; но войти в него не могли, потому что ворота были заперты. Тогда Полкан, разбежавшись, перепрыгнул через городскую стену, отворил ворота и впустил в город Бову с Дружневною, а сам поскакал вперед, чтоб уведомить князя Костельского, Урила, о приезде к нему знаменитых гостей.
Урил вышел навстречу к приезжим, принял их ласково и пригласил в палаты свои, где все сели за стол, пили, ели и веселились.
Несколько месяцев гости жили у своего радушного хозяина, все было весело, тихо и спокойно; но вдруг получается весть нерадостная, что Маркобрун с тремястами тысяч войска, с пушками и пищалями подступил под город Костель, осадил его и требует, чтоб непременно были выданы ему Бова, Дружневна и Полкан.
Урил, высоко ценивший гостеприимство, не хотел нарушить священных прав его, а потому не согласился выдать тех, кто были приняты под кров его. Собрав довольно значительную рать, выступил он против неприятеля, но, к несчастию, проиграл сражение и был взят в плен, вместе с двумя сыновьями своими. Тогда Маркобрун сказал ему:
— Если ты не согласишься добровольно исполнить мое требование, то предам смерти тебя, детей твоих и жену, город Костель разорю, а на своем все-таки поставлю, возьму, кого мне надобно.
Находясь в таком несчастном положении, побежденный Урил обещался исполнить волю своего непреклонного победителя и отдал ему заложниками своих сыновей. Маркобрун после сего отпустил из плена Урила, послал с ним часть своего войска, чтоб взять Бову, Дружневну и Полкана и доставить их к нему.
Князь Урил, возвратившись домой, пошел прямо в спальню княгини своей, а Полкан, заметивши это, подкрался потихоньку к дверям, приложил ухо к замочной скважине, затаил дыхание и внимательно слушал, о чем разговаривал князь с женою своею.
— Какое несчастие! — говорил Урил княгине. — Маркобрун оставил у себя заложниками обоих сыновей наших и принудил меня угрозами согласиться на выдачу ему гостей моих, хотя мне и больно исполнить данное мною обещание, но оставить детей в плену еще больнее.
— Друг мой, — отвечала княгиня, — выдавать гостей своих нам запрещает долг гостеприимства, и нарушать его стыдно и бесчестно. Помедли выдачею, может быть обстоятельства и переменятся.
«Дело-то плохо, — подумал про себя Полкан и отошел от двери. — Бову королевича я будить не стану; он спит теперь, и спит уже четвертые сутки — долго спать у него обыкновенно; видно, того требует его натура богатырская. И что Маркобрун не унимается? Должно быть, Бова насолил ему много, или Дружневна сильно зазнобила ретивое. Пойду-ка и да сослужу службу моему названому старшему брату».
После сего сошел Полкан на двор княжеский, а там Маркобруновых воинов видимо-невидимо, тьма-тьмущая! Схватил богатырь огромный железный запор да и давай им потчевать незваных гостей; всех перебил их до одного, а город Костель затворил.
Покончив свое дело, пришел он к Бове, разбудил его и сказал:
— Государь ты мой, Бова королевич, долгонько изволишь почивать и ничего не ведаешь, что здесь делается. Ведь нас троих — тебя, меня и супругу твою — хотели выдать врагу нашему Маркобруну, войско уже было прислано за нами, да я его все уничтожил и город Костель затворил, чтобы неприятели не могли взойти в него.
— Очень благодарен тебе, Полканушка, — отвечал королевич, — за твою верную службу. Подай мне мой меч-кладенец, оседлай коня моего богатырского, да и отправимся в чистое поле ратовать с силою вражеской.
Выехали два богатыря из Костеля на дело ратное, на побоище смертное. Бова ехал по правую руку, а Полкан скакал с дубом по левую. Быстрее молнии напали они с двух сторон на Маркобруново войско, которое, никак не ожидая нападения, покоилось в шатрах своих. Рубил Бова мечом, и вскоре от великого множества войска осталась самая незначительная часть. Сам Маркобрун едва спасся от смерти и побежал, только пятки мелькают, да подумал про себя: «Заклятие даю, закажу другу-недругу, детям, внучатам и правнучатам своим за Бовою гоняться и с ним сражаться. С этим силачом ничего не поделаешь, все равно что на ладони блины печь, в шапке щи варить, решетом воду черпать, из песку канаты вить».
Пришедши к Уриловой супруге и приведя с собою освобожденных из плену сыновей ее, Бова сказал:
— Вот, княгини, дети твои, возьми их, а нас, гостей своих, прости за хлеб-соль, за привет, за ласку вашу, причинили вам много горя и беспокойства.
Князь и княгиня в свою очередь поблагодарили богатырей за их услугу, и на радости сели все за столы дубовые, стали пир пировать, велели музыке играть. Пили, ели и веселились ровно три дня и три ночи, а на четвертый день гости отправились к дальнейший путь.
Ехал Бова на своем Вихре Черном, рядом с ним Дружневна на иноходце, а Полкан скакал за ними. Дорогой Дружневна начала говорить своему супругу:
— Друг мой милый! В моем теперешнем положении не могу я продолжать путь более. Чувствую, что скоро сделаюсь матерью.
Бова, выбравши прекрасный зеленый лужок на опушке леса, раскинул свой шатер белый полотняный и ввел в него супругу свою, а Полкану сказал:
— Брат мой меньший, удались от нас на время и не входи в шатер, потому что моя прекрасная Дружневна больна.
Полкан ушел тогда в лес и не входил в шатер, в чем он и не имел надобности, привыкши быть под открытым небом и покоиться на мураве шелковой.
Чрез несколько времени Дружневна родила двух мальчиков, которые были похожи на Бову и так хороши собою, что ими нельзя было вдоволь налюбоваться. Одного из них назвали Личардою, а другого Симбальдою; у молодых супругов сердца таяли от счастия, как воск от огня. Полюбили они друг друга еще более, как пташки весенние, смотрели друг другу в очи ясные — насмотреться не могли; вели меж собой речи сладкие — наговориться не могли.
Когда здоровье Дружневны поправилось совершенно, то Бова, призвавши к себе Полкана, сказал ему:
— Брат Полкан, поедем мы теперь на мою родимую сторонушку, к дядьке моему Симбальде, в город Сумин.
— Готов я с тобою, королевич, ехать куда пожелаешь, хотя на край света. Но… что это значит? Слышится мне отдаленный топот конский, долетает до слуха крик человеческий.
— Приляг, Полканушка, к земле ухом да послушай: далеко ли всадники эти и какое держат направление.
Исполнивши приказание это, Полкан встал с земли и отвечал:
— Идет рать великая прямо на нас, но она еще довольно далеко отсюда: кто из нас будет встречать ее — ты или я?
— Ступай ты, Полкан, а я останусь здесь с женою и буду тебя дожидаться.
И поскакал конь-человек шибче ветра буйного, вихря степного, скорее стрелы пернатой, пущенной из тугого лука, и скоро вернулся назад, ведя с собой множество связанных воинов. Бова стал их расспрашивать:
— Из какого царства, из какого государства вы, воины?
— Не из царства мы и не из государства, а из княжества Антонского.
— Кто предводительствует вами?
— Предводитель наш — славный могучий князь Додон.
— А куда вы с вашим князем путь держите и зачем?
— Идем мы в Андрон-город к князю Зензевею. Там служит Бова королевич, которого хочет взять Додон и предать смерти.
— Ну, так вашему князю ходить туда незачем, потому что я Бова королевич и сейчас поеду навстречу Додону, чтобы избавить его от лишних хлопот. А взять ему меня не придется: руки еще не доросли; а кому кого побить, бабушка ворожила, да надвое сказала. Мы еще с ним поканаемся.
Говорил это Бова, а сердце его переполнялось злобою к злодею, убийце отца его и похитителю чужой собственности. Опоясался богатырь мечом-кладенцом, простился с супругою, сел на Черного Вихря и понесся на дело ратное, на побоище смертное, а Полкану сказал:
— Брат мой меньший, не покидай Дружневну с детьми, береги их и защищай в случае опасности.
Проходит день, проходит два, вот и три прошло, а Бова не возвращается. Плачет, горюет Дружневна, но слезами горю не помочь; охать да вздыхать — то же, что мехи мехами надувать. Дай, говорит она, пойду прогуляюсь, тоску-печаль поразмыкаю. И, взявши на руки своих деточек, выходит из шатра на зеленый луг. Вдруг, откуда ни возьмись, два льва бросились на иноходца, гулявшего по полю, и мигом растерзали его.
Вскричала от ужаса Дружневна и стала звать на помощь к себе Полкана, который был в то время в лесу и спал. Полкан, услыхавши крик, проснулся, выскочил из лесу, подбежал к одному льву и так сильно ударил его дубиною, что сразу убил его до смерти. Потом, устремившись на другого льва, замахнулся на него, но, к несчастию, дал промах и уронил свое страшное оружие. Тогда разъяренный зверь бросился на Полкана, вонзил ему в грудь свои острые когти и терзал ее ужасно, а богатырь, ухватив обеими руками льва за челюсти, принялся раздирать их. Глубже и глубже вонзались когти в грудь богатырскую, более и более раздиралась пасть звериная, наконец, оба противника пали бездыханными.
Лишившись Полкана, своего верного защитника, несчастная мать осталась одна-одинешенька с детьми своими в месте пустом, ежеминутно грозили им новые бедствия и опасности. Долго ждала она Бову королевича, но о нем не было ни слуху ни духу. Видно, подумала она, мой милый супруг пал в битве, сколько ни ждать его, а не дождаться. Возьму с собой детей и пойду куда глаза глядят, может быть, найду где-нибудь пристанище.
Как задумала Дружневна, так и сделала и после нескольких дней трудного пути пешком, с двумя детьми на руках, прибыла к городу Данску, где княжил Салтан Салтанович. Подойдя к одному ручейку, Дружневна умылась водою с черным зельем и стала из молодой, прелестной женщины старухою черною, дурною. Потом пошла в город и нанялась там в кухарки, кушанья стряпать, на людей белье мыть, чтоб кормить себя и детей своих.
Но возвратимся к Бове королевичу и посмотрим, что сделалось с ним. Встретив несчетные силы Додона, он управился с ними живой рукой и скоро обратил их в постыдное бегство. Решившись не оставить ни одного неприятельского воина в живых, богатырь увлекся слишком за бегущими и на обратном пути сбился с дороги. Проплутав очень долгое время, он отыскал наконец шатер свой, но в нем де было уже ни супруги его, ни детей. Валявшиеся в поле трупы Полкана и двух львов навели Бову на печальную мысль, от которой затрепетало сердце его и полились слезы из глаз.
— Ах, — вскричал он, — несчастная супруга, бедные дети. Постигла вас та же горькая участь, как и верного моего Полкана, — растерзали звери лютые.
Зарывши в землю труп Полкана, поехал Бова королевич в княжество отца своего. Едет он путем-дорогою и видит: на поле стоит шатер, а вдали на горе большой город. Из шатра выходит старик, седой как лунь, и спрашивает у нашего путника:
— Откуда ты и куда едешь, храбрый витязь?
Бова, всмотревшись пристально в старика, узнал в нем Личарду, слугу отца своего Гвидона, но сам был не узнан Личардом, и отвечал ему:
— Теперь я странствую и ищу приключений, а прежде служил я оруженосцем у одного рыцаря. Плыли мы по морю, и разбило наш корабль бурею; рыцарь тот и все бывшие на корабле потонули, остался только я один и хочу найти себе другого господина. Не знаешь ли ты, почтенный старичок, где бы мне сыскать местечко?
— Знаю, витязь, и доставлю тебе хорошее место у господина моего Симбальды в городе Сумине, вон, что там на горе.
— Так отведи меня к господину твоему Симбальде, а я готов ему служить верою и правдою.
После сего Личард и Бова отправились в город. Когда вошли они в палаты Симбальды, то он тотчас же как взглянул, так и узнал своего милого пестуна.
— Ах, Бова королевич! — вскричал обрадованный дядька. — Тебя ли я вижу? Да какой же ты бравый, прекрасный витязь, точь-в-точь как покойный твой батюшка, мой господин милостивый, князь Гвидон, которого умертвил злодей Додон и по сию пору владеет незаконно градом Антоном, отчиною твоею.
— Мое от меня не уйдет, — отвечал Бова. — Рано ли, поздно ли, но мы свое возьмем и отомстим злодею нашему.
— Я уже очень стар, — говорил Симбальда, — и служить тебе не могу, государь мой, королевич. Но есть у меня сын Тервез, который будет твоим верным слугою, как я был у твоего родителя.
— Так призови сюда Тервеза, и мы с ним сейчас же отправимся к Додону и накажем этого коварного человека по делам его, — говорил Бова, кипевший гневом, но Симбальда удержал его и убедил отложить это намерение до завтрашнего утра.
На другой день, едва только занялась заря, Бова и Тервез, взявши с собою двадцать тысяч войска, пушки и пищали, отправились к городу Антону. Приехавши туда, они увидали, что городские ворота крепко заперты. Тогда королевич написал письмо и, привязав его к стрелке, пустил ее на городскую стену, где стояли караульные. В письме же том было написано:
«Злодей Додон, убийца моего отца, доброго князя Гвидона, и похититель чужой собственности, беги из княжества, принадлежащего мне, Бове королевичу; если же ты не уйдешь, то не укроешься от руки моей, погибнешь лютою смертию».
Додон, получивши письмо это, не думал бежать и оставить добровольно княжество свое, приобретенное им изменнически, и решился защищаться, запершись в городе.
Бова, узнавши, что Додон не соглашается на его миролюбивое предложение, приказал стрелять из пушек и пищалей по городским стенам и разбивать их. Целый день производилась сильная беспрерывная пальба, и, наконец, стены были во многих местах пробиты. Осаждающие быстро вторгнулись в город, но встретили там сильное сопротивление от осажденных. Завязалось жаркое дело. Никогда Бова не бился так отчаянно, как теперь, и решился не только истребить нее войско Додоново, но и добраться до него самого. Богатырь без устали работал мечом своим кладенцом; рубил им сплеча, и вражьи трупы сотнями ложились кругом его. Черный Вихрь тоже не был без дела: напирал на толпы неприятельские своею широкою, мощною грудью и давил копытами валившихся под него воинов. Видя совершенное поражение своего поиска, Додон обратился в бегство, но Бова, догнав беглеца, поразил его в живот копьем, и злодей пал мертв и был растоптан ногами коня богатырского. Таким образом сбылся сон, виденный Додоном прежде, когда Бова был еще ребенком.
Торжествующий победитель вошел после сего во дворец княжеский, к матери своей, Милитрисе Кирбитьевне, и сказал ей:
— Здравствуй, любезная матушка моя, Милитриса Кирбитьевна! Узнала ли ты сына своего? Для чего ты велела убить отца моего, а твоего супруга? Для чего посадила меня в темницу, где хотели окормить меня змеиным салом?
Милитриса Кирбитьевна, видя пред собой Бову, как грозного судью своего, не могла от страха и угрызений совести промолвить ни одного слова, заливалась слезами и хотела пасть на колени, но добрый сын не допустил ее до такого унизительного положения, бросился в объятия к ней и сказал:
— Прощаю тебе все, милая родительница моя, не хочу помнить горестного прошедшего и благодарю судьбу, что она позволила мне еще увидать тебя и застать в живых.
— Сын мой любезный! — говорила Милитриса Кирбитьевна. — Давно уже каюсь я, что поступила так несправедливо. Как сожалела я о тебе, как горько плакала! Сколько провела страшных, бессонных ночей! Будь по-прежнему моим милым, ласковым сыном, а я буду твоею доброю нежною матерью.
Примирившись совершенно с своею матерью, Бона принял управление Антонским княжеством. Но среди забот, сопряженных со званием княжеским, часто вспоминал он о несчастной супруге своей и говорил: «Много цветов душистых в саду моем зеленом, много звезд ясных на небе лазуревом, но всех прекраснее роза душистая, и всех звезд яснее солнце красное, но всех жен милее Дружневна прекрасная». Но горе забывается, мысли переменяются, и Бове скучно стало без жены, и решился он наконец жениться. Призвавши к себе бывшего своего дядьку, он сказал ему:
— Верный мой Симбальда, возьми с собою шестьдесят тысяч войска и поезжай к князю Салтану Салтановичу, скажи ему, что я требую руку его дочери Мельчигрии. Если он не согласится на мое требование, чего, впрочем, не может быть, то разори город его, а Мельчигрию волею или неволею доставь сюда.
Симбальда исполнил это приказание: приехал к Салтану Салтановичу и объявил ему желание своего королевича. Салтан Салтанович, выслушав посланного, задумался было, отдавать ли свою дочь за Бову или нет, но прекрасная Мельчигрия, находившаяся в это время тут, подошла к отцу своему и, упав пред ним на колени, говорила:
— Государь мой, батюшка! Давно мое сердце ноет-изнывает по королевиче, давно мои вздохи несутся к нему. Прошу тебя слезно, отдай меня за него, за такого прекрасного и храброго витязя.
Салтан Салтанович не противился просьбе своей дочери, сделал ей множество дорогого приданого и чрез три дня отправил ее с Симбальдою в город Антон. Приехавшая невеста была встречена и принята женихом с радостию и великим торжеством.
Весть о предстоящей свадьбе княжеской быстро распространилась по всему Данску и достигла наконец до прекрасной Дружневны, которая все еще проживала в этом городе, снискивая себе пропитание трудами рук своих. Узнав, что супруг ее жив и правит своим княжеством, она взяла с собою детей своих, пошла в город Антон. Прибывши на корабле, она остановилась на берегу морском, а во дворец княжеский не пошла, думая, что Бова позабыл уже ее и не признает своею женою, послала туда сыновей своих, наказав им:
— Милые дети мои, Личард и Симбальда! Ступайте в город, во дворец княжеский, и попроситесь, чтоб вас допустили до Бовы королевича; скажите, что вы пришли к нему с важными известиями. Если он спросит: «Кто вы?», то отвечайте: «Отец у нас Бова королевич, а мать — прекрасная Дружневна». Отправляйтесь же скорее, а я вас подожду здесь.
Когда дети ушли, Дружневна взяла воды, всыпала туда белого зелья и умылась, отчего сделалась из старухи опять дивною красавицею. Легко можно понять, с каким нетерпением дожидалась она возвращения сыновей своих, чтоб узнать от них, любит ли ее по-прежнему супруг ее или забыл совсем, пленившись красотою Мельчигрии.
Сидел Бова королевич за столом и обедал со своею нареченною невестою и множеством гостей. Вдруг докладывают ему, что какие-то два мальчика, красоты неописанной, требуют видеть его и говорить с ним. Велено было ввести в столовую. Когда их ввели, Бова начал разговаривать с ними:
— Как вас зовут, юноши?
— Одного из нас зовут Личардою, а другого — Симбальдою.
— Ах, — сказал со вздохом Бова королевич, — эти имена напоминают мне детей моих. А как зовут вашего отца, мать вашу? — продолжал он.
— Отец у нас, — отвечали мальчики, — Бова королевич, а мать — прекрасная Дружневна.
— Дети мои любезные, — вскричал обрадованный отец, — вас ли я вижу? — И, встав из-за стола, начал обнимать и целовать их.
— Но где же мать ваша, супруга моя Дружневна?
— Мать наша стоит на берегу морском и дожидается нас.
— Так поедемте к ней и привезем ее сюда.
Бова королевич так был рад, нашедши детей, и так пламенно желал увидать ту, которую любил всем сердцем, что в ту же минуту, оставив гостей своих и Мельчигрию в величайшем изумлении, отправился с сыновьями в великолепном экипаже на берег морской.
Трогательна была первая встреча после долгой разлуки, после того, как они считали друг друга погибшими и не воображали опять свидеться когда-либо. Наговорившись вдоволь и рассказав все случившееся с ними после разлуки, Бова и Дружневна возвратились с детьми снова во дворец.
Подводя к Мельчигрии супругу свою и сыновей, Бова королевич почтительно сказал:
— Прекрасная Мельчигрия, рекомендую тебе законную жену мою и детей, которых я считал растерзанными от зверей лютых. Теперь я не могу сочетаться с тобою браком, по причинам весьма уважительным в глазах всякого честного человека. Надеюсь, что и ты сама, как девица разумная, не почтешь этого за обиду себе и не прервешь дружеских связей твоих со мною и семейством моим.
— Так, королевич, — отвечала смущенная Мельчигрия, — слова твои справедливы. Я не виню тебя за твой прекрасный поступок и не ропщу на злую судьбу мою, разлучающую меня с тобой. Я возвращусь на родину мою… но что там ожидает меня! — насмешки, пересуды, стыд и срам. И после этого какой жених будет так великодушен или, лучше сказать, так глуп, что согласится взять меня замуж!
— О! — сказал Бова. — Если тебя, княжна, только это беспокоит, то мы уладим дело как нельзя быть лучше. У меня на примете есть превосходный жених. Он мне друг, человек умный, храбрый витязь, юноша, прекрасный собою; ты его видела здесь, сколько раз разговаривала с ним и часто мне в глаза хвалила ум-разум его, красоту его необыкновенную. И он с своей стороны платит тебе, княжна, тою же монетою: восхваляет тебя до небес, не может налюбоваться тобою и, как я замечаю, очень неравнодушен к тебе.
Потом, обратясь к Тервезу, Бова сказал:
— Милый друг мой, хочешь ли ты принять руку княжны Мельчигрии?
— О! — отвечал, смутившись и покраснев, Тервез. — Это было бы венцом моего блаженства! Но не смею надеяться, чтоб несравненная княжна удостоила назвать меня своим мужем.
— Вот тебе рука моя, благородный витязь! — сказала стыдливо Мельчигрия Тервезу, и облако печали сбежало с лица ее и заменилось светлою радостию.
— А я, — прибавил Бова, — дам жениху и невесте приданое, если только согласится на это моя супруга, потому что то, чем хочу наградить их, принадлежит ей.
— Делай что хочешь, — говорила Дружневна мужу своему, — распоряжайся как знаешь всем моим добром.
— Когда так, — продолжал Бова, — то отдаю вам княжество покойного родителя Дружневны, доброго князя Зензевея Андроновича. Княжеством этим завладел Орлон, тот самый дворецкий, который сыграл со мною славную штуку, заставил меня натерпеться много бед и горя. Но Тервез возьмет у меня войско и постарается непременно выгнать этого негодяя из Андрона и проучить его по-свойски.
Свадьбу Тервеза с Мельчигрией сыграл Бова королевич великолепно, задал пир на весь мир. Гости ели, пили, пировали; музыканты играли; молодежь танцевала; всех пряниками оделяли; и я там был, мед пил, только по усам текло, а в рот не попало.
СКАЗКА О СИЛЬНОМ И СЛАВНОМ ВИТЯЗЕ ЕРУСЛАНЕ ЛАЗАРЕВИЧЕ, О ЕГО ХРАБРОСТИ И О НЕВООБРАЗИМОЙ КРАСОТЕ СУПРУГИ ЕГО АНАСТАСИИ ВАХРАМЕЕВНЫ
(В обработке И. Кассирова)
I
Давно тому назад, в незапамятные времена, в некотором царстве, в некотором государстве жил царь на царстве, король на королевстве — на ровном месте, как челнок на берегу. Это будет не сказка, только присказка, а сказка будет впереди, после обеда, поевши мягкого хлеба.
В некотором царстве, далеко отсюда, за океаном-морем, жил-был царь Картаус. Знаменит и славен был царь Картаус между соседними королями, страшен был врагам своим и богатство имел несметное. Золота и серебра да каменьев самоцветных столько у него было, что можно купить индийское царство и персидское государство; а парчи золотой да шелков и бархатов были целые груды, так что кладовые ломились от них. Было у царя Картауса много войска храброго да было еще двенадцать сильных, могучих богатырей, а над теми богатырями самый главный и старший был богатырь князь Лазарь Лазаревич, который доводился царю Картаусу дядей по жене своей Епистимии, прекрасной и добродетельной женщине. Этот дядюшка царя Картауса, Лазарь Лазаревич, славился теперь богатством и мудростью, а в молодости — силой богатырской и храбростью; бывало, выедет в раздольице — чистое поле да как махнет мечом булатным, так сразу десятка три басурман без голов лежат. В то же время он достал себе и супругу, Епистимию прекрасную, чудесным образом. Их было два брата: старший был он — Лазарь Лазаревич, а младший — Иван Лазаревич. Когда стал Лазарь Лазаревич в возраст входить, вздумал его отец женить, и очень долго не могли невесту ему найти: отцу с матерью хороша — ему не нравится; если он сам найдет себе невесту — отцу с матерью не кажется.
Однажды поехал Лазарь Лазаревич в чистое поле да и не возвращался домой. А младшему брату, Ивану Лазаревичу, в это время было всего три года. Погоревали отец с матерью, что пропал Лазарь Лазаревич неведомо куда, и не знают, где искать его.
Годы идут за годами, а Лазаря Лазаревича все нет и нет. Вот уже Иван Лазаревич подрос и говорит отцу:
— Благословите меня, батюшка с матушкой, я поеду искать брата.
— Бог тебя благословит, — сказали родители, — мы тебе не помеха, ступай с Богом!
Оседлал Иван Лазаревич коня богатырского и поехал в чистое поле, в дикую степь — искать своего брата Лазаря Лазаревича. Долго ли, коротко ли он ехал, только видит: в степи раскинут белый шатер. Подъехал Иван Лазаревич к тому шатру, вошел в него и видит: лежит там человек, спит крепким богатырским сном. Хотел Иван Лазаревич убить его сонного, да подумал себе: «Чего ж я его убью сонного, как мертвого. Не честь и не хвала мне, доброму молодцу, а дай-ка лучше я его от сна разбужу да расспрошу его все подробно: чей он такой, откуда и куда путь держит».
Разбудил сонного богатыря Иван Лазаревич, а тот и спрашивает его:
— Чего тебе нужно?
— Мне нужно найти брата своего Лазаря Лазаревича. Не знаешь ли, где он?
— Это я самый и есть Лазарь Лазаревич, — отвечал богатырь, — а ты кто таков?
— А я Иван Лазаревич, брат твой.
И говорит ему брат его, Лазарь Лазаревич:
— Неправда! Иван Лазаревич у нас еще трех лет, в люльке качается.
Отвечает Иван Лазаревич:
— Он сейчас не в люльке качается, а по дикой степи на богатырском коне помыкается, разыскивает брата своего Лазаря Лазаревича.
Тогда Лазарь Лазаревич узнал своего меньшого брата. Сели братья на коней и поехали дальше. Отъехали они далеко; сами на конях приустали, и кони их притупели, шелковые плети приразбили.
— Давай-ка, брат, отдохнем и коней покормим, — говорит Лазарь Лазаревич.
Слезли братья с коней и пустили их на зеленый луг. Старший брат и говорит меньшому:
— Ты, брат, Иван Лазаревич, ляг отдохни, а я пойду по зеленым лугам, не найду ли зайчика или дичи какой; убью — принесу к тебе, мы тут зажарим и поедим.
— Ступай, братец, с Богом, — сказал Иван Лазаревич.
Пошел Лазарь Лазаревич по полю. Подходит к синему морю, там стоит на берегу хижина. Вошел он в хижину, видит: сидит там красная девица, горькими слезами плачет, и перед ней гроб стоит.
— Что ты, красная девица, плачешь? — спрашивает Лазарь Лазаревич.
— Как же мне, добрый молодец, не плакать? Последний час я на белом свете живу! Сейчас вылезет из моря огромный змей и съест меня. Он много народу поел в нашем царстве, и вот очередь дошла до меня. Я — царская дочь Епистимия; мой отец, царь Велемудр, обещал полцарством наградить того, кто победит змея, и меня выдать за него замуж, и вот до сих пор никто не выискался.
— Не плачь, красная девица, — сказал Лазарь Лазаревич, — был бы я жив, будешь и ты жива!
Сказав это, Лазарь Лазаревич лег и уснул крепким сном.
Вот в синем море разбушевались волны, поднялся лютый змей со дна моря; голова у него с огромный пивной котел; вылезает он из моря и идет есть красную девицу. А Лазарь Лазаревич спит крепким сном. В испуге будит его царевна:
— О, Лазарь Лазаревич, проснись! Съест нас с тобою лютый змей!
Спит Лазарь Лазаревич, ничего не чувствует. Горько плачет красная девица над ним, и пала горячая слеза ее Лазарю Лазаревичу на белое лицо и как огнем обожгла его. Проснулся Лазарь Лазаревич и смотрит: лезет лютый, страшный змей в хижину; выхватил он свой острый меч-кладенец, махнул им по шее чудовища и, отрубив ему голову, под камень положил ее. Потом и говорит Лазарь Лазаревич красной девице:
— Вот видишь: я жив, и ты жива!
— Благодарю тебя, Лазарь Лазаревич, буду я твоею женой, и батюшка мой, царь Велемудр, с радостью согласится на это. Поедем мы теперь к нему.
Лазарь Лазаревич согласился на это. Вышел он из хижины, отыскал своего брата и позвал его с собой. И вот они все втроем отправились в столичный город царя Велемудра. Прибыли туда. Лазарь Лазаревич рассказал царю, как он избавил дочь его от страшного змея. Царь Велемудр очень обрадовался, видя дочь свою здорового и невредимою, и благодарил Лазаря Лазаревича. Он тут же, по своему обещанию, наградил его несметными богатствами и справил великолепную свадьбу. Пир продолжался целую неделю; весь народ радовался и веселился.
После свадьбы Лазарь Лазаревич со своею молодою женой, прекрасною Епистимией, и братом, Иваном Лазаревичем, отправился на свою родину, в царство царя Картауса, в котором он уже давно не был. По приезде его туда престарелые родители его и сам царь Картаус были очень рады его возвращению. Царь Картаус тут же упросил его остаться у него на службе и сделал его самым главным над всеми богатырями. И зажил Лазарь Лазаревич с супругою своею Епистимией счастливо и благополучно. По прошествии многих лет родители его и младший брат, Иван Лазаревич, умерли, и остался Лазарь Лазаревич один с своею супругой, в любви которой он находил полное счастие.
Так прожил Лазарь Лазаревич со своей супругой двадцать лет вполне счастливо и благополучно; только одно было у него горе, что не дал им Бог ни единого детища. Вот и стали Лазарь Лазаревич со своею супругой раздавать великие дары по церквам и монастырям, чтобы Господь смиловался над ними и даровал бы им детище, смолоду на утешение, под старость на прокормление, а по смерти на помин души.
Через год родился у них сын, которого они назвали Ерусланом. Родители весьма обрадовались, да и было чему: Еруслан Лазаревич родился таким красавцем, что всем на удивление. Был он такой беленький, полненький, нежный; глазки светло-голубые, волосики на голове русые, кудрявые, — словом, был ребенок на загляденье. Радовался, утешался и пировал с гостями Лазарь Лазаревич. Меду крепкого двести бочек выпили, вина заморского сто бочонков, а пивом и зеленым вином весь простой народ угощался целых три недели: сколько хочешь пей, — душа мера.
Когда кончились все потехи и пированья, Лазарь Лазаревич стал заботиться о том, как бы сынка вспоить, вскормить да уму-разуму научить. Отец ничего не жалел для ребенка: сперва приставил к нему дядек и пестунов, а потом, когда он подрос, приставил мудрых учителей и наставников. А рос Еруслан Лазаревич на удивленье — не по дням, а по часам, и притом отличался замечательною богатырскою силой. Так, еще ребенком шутя разломал он свою колыбель золоченую и перервал все полога над ней крепкие и шелковые.
Когда исполнилось Еруслану Лазаревичу пятнадцать лет, то он на вид казался совсем взрослым мужчиной и был таким красавцем, что, бывало, только бровью поведет или глазком мигнет, то сердце девичье как птичка в клетке забьется; а если взглянет он с улыбкою на любую красавицу девицу, то она, бедная, три ночи глаз сомкнуть не может, все думает, гадает о нем и во сне им бредит. А про удаль его молодецкую да про силу богатырскую и говорить нечего — не было на свете равного ему богатыря. Хаживал он иной раз на широкий двор царя Картауса играть с княжескими и боярскими детьми, из которых одни были ему ровесники, а другие много старше его. Там он, играючи с ними, стал шутить шутки не детские, которые не понравились его товарищам: кого ухватит за руку — у того рука прочь, схватит за голову — голова долой с плеч, а кого ударит слегка ладонью — тот упадет и не дышит.
Вот собрались все князья и бояре, отцы этих детей, и отправились к царю Картаусу с жалобой на Еруслана Лазаревича. Пришедши к царю, они поклонились ему в ноги и говорили такие слова:
— Государь ты наш, царь Картаус! Учини свою милость царскую: есть у тебя дядюшка, князь Лазарь Лазаревич, а у него есть сын — Еруслан Лазаревич: ходит он к тебе на царский двор и шутит шутки с нашими детьми боярскими. Нехороши те шутки: кого ухватит за голову — у того голова прочь, кого ухватит за руку — у того рука прочь, а кого ударит слегка ладонью — тот упадет и не дышит. И мы, государь, много от того кручинимся. Учини, государь, свою милость великую: вышли Еруслана из царства вон или нам позволь удалиться, иначе нам жить невозможно от Еруслана!
Царь Картаус, выслушавши князей и бояр, тотчас же послал гонца за дядею, князем Лазарем Лазаревичем. Получив приказ, князь Лазарь Лазаревич немедленно приехал ко двору царскому, вошел во дворец, низко поклонился царю и сказал:
— Многолетнее тебе здравие, царь Картаус! Как тебя Господь Бог милует и зачем ты изволил послать за мной?
— Любезный дядюшка, князь Лазарь Лазаревич! — отвечал царь Картаус. — Бояре мои и богатыри жалуются на твоего сына, что шутит он с их детьми шутки нехорошие: кого ухватит за руку — рука прочь, кого ухватит за голову — голова долой. Такие поступки мне не нравятся, и сын твой мне не слуга; я своих бояр и богатырей на него не променяю. Удали его из моего царства, чтобы он и на глаза мне не попадался.
Такой приказ сильно огорчил старика Лазаря Лазаревича. Все хорошо знали, что гордый и упрямый царь Картаус не любит повторять два раза одно и то же и не терпит никаких возражений, а потому князь Лазарь Лазаревич не осмелился оправдывать сына и просить за него царя.
— Слушаю, государь, приказа твоего и исполню его, — отвечал он покорно царю Картаусу; потом, поклонившись царю, он вышел и отправился домой.
Когда Лазарь Лазаревич, печально повесив голову, прибыл домой, то был встречен Ерусланом Лазаревичем, который, поклонившись ему, сказал:
— Многолетнее тебе, государь-батюшка, здравие! Что ты так невесел? Или от царя было слово кручинное?
— Дитя мое милое! — отвечал Еруслану отец. — Как же мне не печалиться? У других дети с малолетства на утеху отцу с матерью, под старость на прокормление, а по смерти на помин души; а ты с ранних лет приносишь нам только скорбь великую. Царь Картаус велел тебя, за твои вредные шутки с боярскими детьми, выслать вон из своего царства. Пойдем в палаты к матери и там обдумаем втроем, как с этим делом быть и как поступить.
Пришедши с сыном в комнаты княгини Епистимии, Лазарь Лазаревич рассказал ей подробно все случившееся.
Несчастная мать, услышав нерадостные вести насчет высылки Еруслана, сильно опечалилась и горько заплакала. Князь Лазарь Лазаревич утешал ее и говорил:
— Слезами горю не поможешь. Но времена переходчивы: все перемелется, мука будет. Сына нашего мы непременно должны удалить отсюда, чтобы исполнить царскую волю, а там что будет, то и будет; быть может, со временем царь Картаус и пожелает возвратить его. Но чтобы была возможность нам знать, где находится наш милый Еруслан, и иногда видеться с ним, то я вот что обдумал: есть у меня друг в городе Ордынске, который по дружбе все для меня сделает, а стало быть, и сыну моему не откажет в приюте. Я дам Еруслану много золота, серебра, драгоценных камней и служителей и отошлю его в Ордынск, где мои мастера выстроят ему каменные палаты, в которых он может жить себе спокойно.
Кроткая Епистимия, никогда не противоречившая своему мужу, согласилась на это; но когда спросили Еруслана, нравится ли ему такое желание отца, то он отвечал:
— Любезные родители! Не печальтесь о том, что меня высылают из города; все делается к лучшему. Только прошу вас об одном: не отсылайте меня в Ордынск, а благословите идти на все четыре стороны, куда мне вздумается. Мне давно хотелось в чистом поле погулять, людей посмотреть и себя показать!
Сколько Лазарь Лазаревич и княгиня Епистимия ни уговаривали Еруслана поселиться в Ордынске, но он неотступно просил у них позволения постранствовать по белу свету и, наконец, достиг того, что они согласились исполнить его желание.
— Милый мои сын, — говорил Лазарь Лазаревич Еруслану, — поезжай с Богом в путь-дорогу, только возьми с собою половину моей казны, отроков и любого коня с конюшни.
Еруслан Лазаревич отвечал ему:
— Не нужно мне, батюшка, ни казны твоей, ни отроков. А что касается любого коня, то хоть и много коней на нашей конюшне, да только те кони хороши для других, для меня же ни один не годится, потому что каждый из них, как только я наложу ему руку на хребет, не выдержит моей руки, шлепнется на пол и лежит, словно убитый. Уж я пробовал, и это меня очень огорчает; но, видно, делать нечего, — пойду пешком.
Простившись с отцом и с матерью, Еруслан надел на себя доспехи богатырские, а на голову шлем пернатый и отправился пешком в путь-дорогу. Не взял он с собой ничего: ни золота, ни серебра, ни каменьев самоцветных, ни отроков, а взял только отцовское копье долгомерное, да лук тугой с колчаном каленых стрел, да седельце турецкое, да уздечку тесьмяную с плеткой ременной, да войлочек косящатый.
II
Идет наш богатырь день, идет другой, а на третий к вечеру приходит к морю синему. Уставши от трехдневного пути, лег он отдохнуть на берегу морском; подостлал под себя войлочек косящатый, а под голову положил седельце турецкое и заснул крепким богатырским сном.
Проснувшись рано утром, встал он и начал бродить по песчаному морскому берегу, на котором было множество разной дичи. Еруслан Лазаревич, почувствовав голод, настрелял себе из тугого лука гусей, лебедей и серых утиц. Но как их изжарить? Где взять огня? Но силачу не трудно было достать огня: он вошел к небольшой лесок, набрал там сухого хвороста, потом взял два чурбака и стал тереть их один о другой так крепко, что вскоре они задымились и вспыхнули. Приготовив себе жаркое, Еруслан Лазаревич позавтракал с аппетитом.
Утоляя таким образом каждый день свой голод, Еруслан Лазаревич шел все дальше и дальше по дикому пустынному морскому берегу и вдруг набрел на большую дорогу, которая была пробита в ширину на такое пространство, как хорошему стрельцу перестрелить из тугого лука каленой стрелой, а в длину она шла все прямой линией так далеко, что глазом не окинешь; в глубину же была выбита настолько, что хватало доброму коню по щетку.
Еруслан Лазаревич с изумлением глядел на эту чудную дорогу и думал про себя: «Вряд ли есть на белом свете еще другая такая же просторная дорога. Вся она покрыта следами конских копыт и крепко убита. Кто ездит по ней? Рать ли, сила великая или богатырь какой могучий?»
Вскоре показался на дороге всадник-старик, широкоплечий, плотный собой и коренастый. Он ехал на красивом статном сивом коне и, приблизившись к Еруслану, слез с коня, поклонился ему низко и почтительно сказал:
— Многолетнее тебе здравие, государь Еруслан Лазаревич! Как тебя Бог милует? По своей ли доброй воле зашел ты в эти непроходимые места, или силой волшебной, или ветры буйные занесли тебя сюда?
— Почему ты меня знаешь, старина, и кто ты таков? — спросил Еруслан Лазаревич.
— Как же мне не знать тебя, Еруслан Лазаревич? Ведь я — верный слуга твоего батюшки; зовут меня Ивашкой, а коня моего — Алотягилей. Я — искусный стрелец, сильный боец, а в войске князя считаюсь могучим богатырем.
— Что же ты тут делаешь и чем занимаешься?
— А вот уже тридцать три года, государь мой, Еруслан Лазаревич, я стерегу в заповедных лугах табуны коней твоего родителя. К господину же моему Лазарю Лазаревичу езжу я только один раз в год, на короткое время, чтобы отдать отчет в моей службе и получить жалованье. В приезды мои я видывал тебя в палатах твоего батюшки, а потому-то и знаю тебя. Но расскажи мне, — продолжал Ивашка, — зачем ты сюда пожаловал и почему так печален?
— Пришел я сюда, — отвечал Еруслан, — не столько поневоле, сколько по своей охоте. Хаживал я на царский двор играть с боярскими детьми, да не сумел играть по-ихнему: схвачу кого за руку, а рука либо переломится, либо совсем вырвется вон; схвачу за голову, а товарищ уже без головы лежит и не дышит. Невзлюбил царь Картаус таких шуток и велел выслать меня из царства вон. Винить тут некого: сам заварил кашу, сам буду и расхлебывать. И вот пошел я скитаться по белу свету, — хочу в чужом поле погулять, горького испытать и сладкого повидать. Печалюсь же я не о том, что изгнан из отечества моего, — это горе мне не в горе, — а кручина моя о том, что до сих пор не мог я сыскать по себе коня такого богатырского, который бы мог служить мне.
— Ну, об этом не кручинься, Еруслан Лазаревич, — сказал ему Ивашка, — не тужи: я горю твоему помогу и коня тебе доставлю, только сам не плошай. Есть у меня в табуне лихой вороной жеребец, по прозванью Вихорь; он всем коням конь и будет для тебя хорош. Завтра утром, на восходе красного солнышка, погоню я табуны по этой дороге на водопой ко взморью, вот на ту речку, и ты можешь увидеть Вихря. Не стану тебе описывать его, — это не нужно; стоит тебе лишь взглянуть на него, и ты сразу отличишь его от других. Только смотри не зевай; если ты этого коня не поймаешь завтра, то тебе уж вовек не поймать его и никогда не видать больше.
Еруслан Лазаревич обрадовался, поблагодарил Ивашку за его преданность и добрый совет и, простившись с ним, пошел к берегу, подостлал там себе войлочек косящатый, положил под голову седельце турецкое и лег спать. Но ему что-то плохо спалось, как он ни старался заснуть. До самой утренней зари не смыкал он глаз, все думал да мечтал о коне богатырском, который представлялся в его воображении в самом прекрасном, очаровательном виде.
Стало всходить красное солнышко, и вдали послышался конский топот. «Знать, Ивашка гонит табун коней», — подумал Еруслан Лазаревич и, вставши, взял с собой седельце турецкое, уздечку тесьмяную и плетку ременную да и спрятался под густым развесистым дубом, который находился близ той речки, куда приходили кони на водопой. Действительно, вскоре показался большой табун лошадей, а за ними ехал на своем сивом Алотягилее знакомый уже нам Ивашка.
«Славные кони! — подумал Еруслан Лазаревич, смотря на бегущий к речке табун, — конь коня краше! А где же Вихрь? А, вот и он… Вишь, бежит, что земля дрожит, из ноздрей точно полымя пышет, а глаза будто звезды сверкают, грудь широкая, хоть косую сажень клади, шея крутая — дугой, а волнистый хвост трубой. Что за рост богатырский! Что за стать прекрасная! Что за ход легкий да сильный! А сквозь нежную кожу все жилки так и просвечивают!»
Подбежал Вихрь к устью реки и стал пить воду. Пьет конь водицу студеную, а на скалах орлы скрыжут, встрепенулись и в поднебесье скрылись, а лютые тигры и львы зарычали и в горы попрятались, листья с деревьев наземь посыпались, рыбы на дно морское ушли. Пьет конь водицу студеную и ударил копытом о сыру землю — из земли искры посыпались и синее пламя показалось, в темном бору страшный ветер завыл и повырвал деревья с кореньями.
Напился конь воды досыта и хотел было удалиться, как вдруг выскочил Еруслан Лазаревич из засады, мигом подбежал к коню и ударил его по крутой шее наотмашь кулаком. Силен был этот удар могучий, но Вихрь вынес его и пал только на одно колено. Не теряя времени богатырь схватил коня за гриву косматую и сказал:
— Ну, теперь не вырвешься, летун крылатый, добрый конь! Только мне, молодцу, усидеть и ездить на тебе! Отныне будешь принадлежать мне и служить верно и неизменно!
Вихрь, как бы чувствуя, что нашел по себе хозяина и наездника, стоял смирно, как вкопанный, и без сопротивления допустил надеть на себя уздечку тесьмяную и положить седло.
Оседлавши коня, Еруслан Лазаревич сел на него, а у самого сердце от радости так и прыгает и тает словно воск: рад он радешенек, что добыл наконец коня себе по мысли. Идет Вихрь рысцою неспешною, стопою бредучею, а сив Алотягилей скачет во всю прыть и все-таки поспеть за ним не может.
— Верный и добрый слуга моего батюшки, — сказал Еруслан Лазаревич Ивашке, едучи с ним дорогою, — какое бы мне другое имя дать коню моему, а то название Вихрь мне не нравится?
— Господин мой, Еруслан Лазаревич, — отвечал Ивашка, — может ли холоп прежде господина такому коню имя дать? Как сам изволишь, так и назови его.
— Я назову его, — сказал Еруслан, — Орощ Вещий. А ты, Ивашка, поезжай к моему батюшке, князю Лазарю Лазаревичу, и к матушке моей, княгине Епистимии Велемудровне, отвези им поклон мой, пожелай от меня доброго здравия и скажи им: сын, мол, ваш Еруслан жив и здоров, нашел себе чудного коня богатырского и поехал по белу свету гулять, тоску лютую разгонять, горе тяжкое размыкать, себе ратную славушку храбростью доставать, удальством да смелостью добывать. Ну, прощай, Ивашка, благодарю тебя за услугу!
Сказав это, Еруслан быстро повернул своего Ороща Вещего и полетел быстрее ветра буйного, скорее каленой стрелы, пущенной из лука тугого, и скрылся из глаз Ивашки так скоро, что тот не успел даже шапки снять, чтоб поклониться своему молодому господину.
Чтобы исполнить просьбу Еруслана, Ивашка приехал к Лазарю Лазаревичу и супруге его, Епистимии Велемудровне, и рассказал им подробно, как встретился он с их сыном, как был добыт конь богатырский и что потом Еруслан наказывал сказать им.
Лазарь Лазаревич и княгиня Епистимия были чрезвычайно рады, получив известие о сыне, и Ивашку за эту услугу наградили дорогими подарками и с честью отпустили в поле на обычную службу его.
Между тем Еруслан Лазаревич долго ехал путем неведомым, дорогою неизвестною; ехал, должно полагать, месяца два либо три и наехал наконец на рать-силу великую, которая лежала вся побитая на обширном поле. Везде валялись трупы человеческие и конские, всюду были разбросаны колчаны, латы, стрелы, копья, мечи и щиты. Глубокое безмолвие и тишина царствовали на всем пространстве поля. Еруслан, при виде этой долины смерти, остановился в изумлении и потом громко воскликнул:
— Есть ли в этой рати кто-нибудь жив человек?
И вот из груды мертвых тел поднялся один воин, подошел к богатырю и сказал:
— Кто ты, витязь, и что тебе надобно?
Еруслан Лазаревич сказал свое имя воину и просил его рассказать ему, чья это рать-сила побитая и кто ее побил.
— Господин Еруслан Лазаревич, — отвечал воин, — эта рать-сила великая князя Феодула, по прозванию Змиевида, а побил ее Иван, русский богатырь. А за что побил — выслушай. У князя Феодула Змиевида есть прекрасная дочь, княжна Кандоула. Она крепко любит богатыря Ивана, и он тоже любит ее; но отец ее ни за что не хочет согласиться на их брак. Оскорбленный витязь и мстит теперь князю Феодулу и хочет все его войско побить, самого в плен забрать, а дочь взять себе в супруги.
— А где можно мне отыскать этого Ивана, русского богатыря? — спросил Еруслан Лазаревич.
— Ох, далеко он отсюда, господин мой, — отвечал воин, — и вряд ли тебе догнать его, потому что конь у него — диво дивное, так быстро летает, что перескакивает с горы на гору, копытами холмы выметает, по земле делает страшные рытвины, поднимается выше леса стоячего, задевает за облака ходячие. В какую сторону он поехал, я не знаю; но объезжай поле, — увидишь по конскому следу, куда надобно ехать.
Еруслан Лазаревич тотчас же поехал по бранному полю и скоро напал на желанный след, по которому и пустил во всю прыть своего Ороща Вещего.
Много верст проскакал наш витязь и наехал наконец на другую рать-силу великую, которая также лежала вся побитая на обширном поле.
— Кто есть тут жив человек? — закричал Еруслан Лазаревич громким голосом, огласивши всю необъятную безмолвную окрестность.
И вот из груды мертвецов встал один раненый воин и спросил:
— Что тебе, храбрый витязь, надобно?
— Чья эта рать-сила побитая и кто ее побил? — спросил Еруслан Лазаревич.
— Рать эта, храбрый витязь, принадлежит князю Феодулу Змиевиду; а побил ее Иван, русский богатырь, и за то побил, что князь Феодул не отдает за него свою дочь Кандоулу.
— Скажи мне, воин, далеко ли теперь этот Иван-богатырь?
— Ох, далеко он отсюда, храбрый витязь, верст за тысячу будет; но ты скоро догонишь его и, пожалуй, победишь: я вижу, что конь коня лучше, молодец молодца удалее.
И поехал Еруслан Лазаревич дальше; и ехал он долго ли, коротко ли, близко ли, далеко ли, — скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, скоро бабушка блины печет, да опару долго ставит, — подъехал он наконец к белому шатру полотняному с золотою маковкой, у которого стоял статный конь буланый и ел пшеницу белоярую, насыпанную на белое как снег полотно. Еруслан слез со своего коня и припустил его к тому корму. Буланый конь, должно быть, испугался Ороща Вещего и отошел прочь.
Входит Еруслан Лазаревич в шатер белополотняный и видит: спит там крепким сном добрый молодец, Иван, русский богатырь. Не желая тревожить глубокого сна его, наш усталый витязь тоже лег в шатре и заснул спокойно богатырским сном, как будто у себя дома. Вскоре Иван, русский богатырь, пробудился и, не заметив незваного гостя, вышел вон из шатра. Он очень удивился, увидев, что чужой конь ест белоярую пшеницу, а его конь далеко отогнан в поле и щиплет траву-мураву.
Вошел опять Иван, русский богатырь, в полотняный шатер свой, увидал молодого незнакомца, спящего мертвецким сном, и в гневе хотел тут же предать его смерти, но потом одумался и сказал сам себе: «Не велика мне честь и не хвала доброму молодцу сонного человека изрубить: сонного убить — все равно что мертвого заколоть».
— Вставай, дерзкий! — крикнул Иван-богатырь, подошедши к Еруслану и будя его, — вставай! Да знай, что твое пробуждение не будет тебе во спасенье. Зачем коня моего от пшеницы отогнал, своего же к чужому корму припустил, а сам пришел сюда незваным-непрошеным и развалился здесь, как дома на печи? Не по себе, брат, товарища задеваешь! Иль ты не знаешь, с кем шутишь? Со мной шутки плохие: я, брат, за дерзость такову живо голову сорву!
Проснулся Еруслан Лазаревич и с недоумением посмотрел на Ивана, русского богатыря. Ему показалось очень удивительным, за что Иван, русский богатырь, на него сердится, и он сказал ему:
— Не следует добрым людям встречать гостей бранными словами, а, напротив, должно бы принимать ласково: прежде всего напоить, накормить да и спать уложить, а потом и спросить: кто ты таков и куда едешь, куда путь-дорогу держишь? А после того, если хочешь, можно и в чистом поле потешиться. Теперь я отдохнул у тебя, но мне хочется пить, и я, как гость, прошу тебя сходить за водой и дать мне напиться.
— Как! — вскричал, рассердившись, Иван-богатырь, — так я тебе, молокососу, стану подавать пить! Ты должен служить мне и подавать пить! Я князь во князьях, богатырь в богатырях и не намерен служить какому-нибудь худородному бобылю или казаку безродному!
— Я твой гость, и поэтому тебе следует воду черпать и мне подавать, — сказал Еруслан Лазаревич. — Ты, еще не поймавши птицу, хочешь щипать ее, не узнавши добра молодца, хулишь его; я не бобыль и не казак простой, а роду хорошего, происхождения высокого; я из царства Картаусова, сын славного князя и могучего богатыря Лазаря Лазаревича, а зовут меня Ерусланом. А кто из нас князь во князьях и богатырь в богатырях — об этом еще бабушка ворожила да надвое положила. Стыдно тебе будет, когда я, молокосос, да твой старый меч иззубрю! Ты князь во князьях и богатырь в богатырях, когда в шатре своем сидишь, а когда в чистом поле, то ты зверь кровожадный, а не богатырь, потому что много проливаешь крови неповинной… Впрочем, что же нам праздно речи разводить? Это все равно что горох к стене лепить; а лучше на деле доказать — в чистом поле потешиться да силами померяться. Только прежде подай мне напиться, как твоему гостю; а если ты этого не сделаешь, то я во всех царствах разнесу молву, что ты забыл святое правило гостеприимства: голодного накормить, жаждущего напоить и странствующего в дом принять… У нас так не водится…
Тогда Иван, русский богатырь, берет свой золотой кубок, черпает в него ключевой воды и подает пить своему гостю.
Напившись воды, Еруслан Лазаревич проговорил:
— Ну, теперь, если хочешь, отправимся в чистое поле свои силы попытать и на деле доказать, кто из нас князь во князьях и богатырь в богатырях!
Тут Иван, русский богатырь, и Еруслан вышли из шатра, сели на своих добрых коней и поехали в чистое поле потешиться да силами померяться. Иван, русский богатырь, скакал во всю лошадиную прыть, а Еруслан Лазаревич ехал тихо, стопой бредучею, и слегка ударил своего коня по крутым бедрам, и конь его Орощ Вещий мигом догнал и опередил Ивана, русского богатыря. И вот они стали съезжаться.
Не туча с тучей в небе сходится, не два сокола слетаются, не два могучие орла дерутся, и не лев со львом грызутся, — то два могучие богатыря в чистом поле съезжаются, друг на друга нападают, на копьях потешаются. От сильных могучих ударов сыплются яркие искры из лат, вся окрестность оглашается громом, вихрь поднимается, с деревьев листья посыпались, птицы за облака полетели, на небе луна дрогнула.
«Не дай мне Бог всякого человека убить моим копьем — острым концом», — думает Еруслан Лазаревич, и повертывает копье тупым концом, и ударяет своего доброго коня по крутым бедрам.
И вот разъехались снова два противника и понеслись друг на друга, как стрелы летучие, как бури могучие, и нанесли удары копьями один другому в грудь, прямо против ретивого сердца. Еруслан Лазаревич даже и не покачнулся в седле; но Иван, русский богатырь, вылетел из седла, как овсяный сноп, и выронил из руки копье, сильно погнувшееся от удара в панцирь богатырский; а Орощ Вещий наступил копытом на доспешное ожерелье Ивана-богатыря и притиснул его к сырой земле.
Тогда Еруслан Лазаревич оборачивает свое копье острым концом и говорит такое слово:
— Князь Иван, русский богатырь, смерти или живота хочешь?
— Прежде этого у нас с тобой брани не было, — сказал Иван, русский богатырь, — и вперед никогда не будет. Будь великодушен, храбрый витязь, не предавай меня смерти, а оставь в живых! Прежде я думал, что на белом свете нет мне равного по силе и храбрости богатыря, а теперь вижу, что нашла коса на камень: я побежден и чистосердечно признаю твое первенство над собою.
Тут Еруслан Лазаревич слезает со своего доброго коня, поднимает Ивана, русского богатыря, за могучие руки, дружески целуется с ним, прижимает его к сердцу ретивому и называет его своим достойным братом. Потом сели они на добрых коней своих, и поехали вместе в бел шатер, и припустили добрых коней к одному корму, к пшенице белоярой, а сами пошли в бел полотняный шатер и начали пить, есть и веселиться.
Во время этой пирушки, когда Еруслан Лазаревич стал навеселе, он сказал своему названому брату:
— Государь мой, братец, князь Иван, русский богатырь! Ездил я по чистому полю и наехал на две рати побитые; скажи, пожалуйста: не ты ли побил эти рати несметные и за что побил?
— Любезный брат мой, Еруслан Лазаревич, — отвечал Иван, русский богатырь, — эти две рати великие точно побиты мною и принадлежат князю Феодулу Змиевиду. А побил я их за то, что этот гордый князь не хочет выдать за меня свою дочь, прекрасную Кандоулу, которая — будь между нами сказано — очень рада быть моею женою, если бы только изъявил на это согласие родитель ее. Но так как он не хочет сделать этого по доброй воле, то я заставлю его сделать это поневоле. Завтра у меня с ним будет окончательное побоище: или я паду в битве, или же все войско Феодула уничтожу, а его самого возьму в плен и заставлю дать согласие на брак. Прошу тебя, милый братец, поедем со мной завтра, и ты посмотришь, как я сумею переведаться с моим противником. Мне очень приятно, что ты будешь свидетелем моей храбрости и силы богатырской.
Еруслан Лазаревич отвечал ему на это:
— Милый братец! Мне очень было бы приятно погулять у тебя на свадьбе, но смотреть, как ты будешь убивать людей, мне очень неприятно. Зачем это проливать кровь неповинную?.. Довольно, кажется, и того, что ты уж побил две огромные рати; к чему же еще?.. Не лучше ли жить в ладу и согласии? Ведь тебе было бы неприятно, если бы кто-нибудь вздумал тебя убить; так какое же имеешь ты право убивать других? Иль ты не знаешь, что нельзя делать другим того, чего себе не желаешь?
— А как же мне быть, если он не соглашается? — спросил Иван, русский богатырь.
— А по-моему, вот как, — сказал Еруслан Лазаревич. — Тебе следует поехать к Феодулу, да не побивать его войска, а прямо приехать к нему лично и ладком с ним потолковать и убедить его хорошенько; ведь он уж видел, что дракой ничего хорошего не сделаешь, и он, наверно, понимает, что ты у него можешь все войско побить, а толку опять не выйдет, только праздно народ сгубишь; да за что же? Чем народ виноват? Когда ты ему все порядком растолкуешь, он непременно поймет и согласится на ваш брак.
Иван, русский богатырь, послушал Еруслана Лазаревича и решился последовать его сонету. Долго еще после того, почти за полночь, продолжалась беседа двух названых братьев; наконец, наговорившись вдоволь, они легли спать. А на другое утро они встали до восхода солнечного, оседлали своих добрых коней и отправились вместе к княжеству Феодула.
Подъехав к столице князя Феодула, Иван, русский богатырь, остановился в лугах заповедных и крикнул громким голосом, как бы вызывая на битву своего противника; а Еруслан Лазаревич между тем спрятался невдалеке под дубом, который своими развесистыми ветвями совершенно закрыл его, не мешая, впрочем, видеть все происходившее на поле.
Услышав вызов, Феодул велел трубить в бранные рога и собрал огромное число войска, которое и вышло из города под предводительством самого князя Феодула.
Увидев идущего на него неприятеля, Иван, русский богатырь, взял в одну руку щит, а в другую копье долгомерное и, выкинув над головою коня белый флаг, что означает мирные переговоры, быстро понесся навстречу самому князю Феодулу. Подъехав к князю, Иван, русский богатырь, сказал ему:
— Послушай, князь, зачем нам враждовать между собой, зачем праздно губить народ? Не лучше ли покончить нам миром, по-хорошему? Ведь ты знаешь, что я уже побил у тебя две рати, а толку никакого не вышло; и дальше все то же будет: будем драться, и я опять побью у тебя все войско, самого тебя в плен заберу, а княжну Кандоулу все-таки возьму за себя замуж. А что я непременно побью у тебя все войско, — это ты и сам хорошо знаешь, — я уже доказал тебе это прежними битвами, да, кроме того, у меня есть еще названый братец Еруслан Лазаревич, который сильнее меня в десять раз; если, в случае чего, он поможет мне, и тогда уже тебе ни за что не устоять: княжна Кандоула все-таки будет моею женою. Но я говорю, какой же из этого будет толк? За что мы будем праздно губить народ? Чем он виноват? Не лучше ли покончить нам любовью да миром? Разве враждой весь свет стоит? Ты подумай-ка об этом, князь!
Выслушав эти слова, князь Феодул крепко призадумался. В это время подъехал к ним и Еруслан Лазаревич.
А Иван, русский богатырь, продолжал:
— Послушай, князь Феодул, не упорствуй, не губи понапрасну ни в чем не повинный народ, согласись отдать за меня дочь свою, прекрасную Кандоулу Феодуловну, которую я люблю больше жизни, больше всего на свете! А иначе твое упорство ни к чему хорошему не поведет.
Видя мужественную фигуру и смелый, орлиный взгляд Еруслана Лазаревича и сознавая всю справедливость слов Ивана-богатыря, князь Феодул, снисходя к его просьбе, на все соглашается и, после небольшого раздумья, решается назвать своим зятем Ивана, русского богатыря. После этого они все втроем приезжают во дворец князя Феодула. Здесь князь Феодул прежде всего отправляется к дочери своей Кандоуле, чтобы обрадовать ее своим согласием на брак ее с Иваном-богатырем. Потом он берет ее за руку, выходит к гостям в богатую палату и тут же соединяет руку Кандоулы с рукою ее жениха. Княжна Кандоула очень этому обрадовалась. Потом они все вчетвером сели за трапезу, стали веселиться, пир пировать, велели музыке играть. Во время пира Иван, русский богатырь, будучи в восторге от прелестной Кандоулы, сказал своей невесте:
— Прекрасная и любезная моя княжна Кандоула Феодуловна, скажи нам, пожалуйста: есть ли на белом свете какая красавица краше тебя?
— Что я за красавица! — отвечала скромно Кандоула. — Разумеется, есть на белом свете много девиц и краше меня. А только слыхала я вот что. Далеко отсюда, все надо ехать прямо на восток, стоит в поле бел шатер, а в том шатре три красавицы, которым будто нет подобных во всем белом свете. Они — дочери князя Бугригора; старшую из них зовут Продорой, вторую — Табубригой, а младшую — Легией. Меньшая, говорят, так хороша, что ни в сказке сказать, ни пером описать, ни красками нарисовать. Где мне сравняться с Легией! У нее и служанки-то лучше меня!
Иван, русский богатырь, всей душой любя свою Кандоулу, не мог допустить, чтобы была где-нибудь красавица лучше его невесты, а потому, не говоря ни слова более о красоте, он продолжал:
— А еще спрошу я тебя, моя несравненная невеста, Кандоула Феодуловна, скажи нам: есть ли на белом свете какой богатырь сильнее, могучее и храбрее любезного моего брата Еруслана Лазаревича?
— Слыхала я, — отвечала княжна Кандоула, — что близ индийского царства стоит на дороге могучий богатырь, по имени Ивашка, а по прозванию Белая Епанча — сорочинская шапка. Этот Ивашка служит у индийского царя Далмата и стережет его царство тридцать три года; рассказывают, что мимо этого могучего сторожа-богатыря никакой человек жив не прохаживал, ни один силач-богатырь не проезживал, даже ни один зверь не прорыскивал и ни одна птица не пролетывала. Но кто храбрее и сильнее — Ивашка или Еруслан Лазаревич, — об этом я сказать не могу, потому что они силами не мерялись.
Выслушав этот рассказ княжны Кандоулы, Еруслан Лазаревич возымел сильное желание увидать тех дивных красавиц, трех дочерей князя Бугригора, о которых она говорила, и затем свидеться и попытать своей силы с богатырем Ивашкой — Белой Епанчой, сорочинской шапкой.
III
По окончании пира Еруслан Лазаревич, простившись с Иваном, русским богатырем, с княжною Кандоулою и отцом ее и пожелав им всем счастливо оставаться — жить да поживать да добра наживать, — отправился в путь-дорогу. И поехал он прямо на восток, чтобы посмотреть сперва дивных дочерей Бугригора, а оттуда думал проехать и к Ивашке-богатырю.
Вот идет Еруслан Лазаревич путем-дорогою, поспешает, а сердце у него что-то неспокойно — щемит и ноет, точно какую невзгоду чует. «Еду я, — думал он, — в дальние страны, на дело ратное, на побоище смертное с Ивашкой; буду жив или нет — не знаю; а с родителями своими не простился, благословения не получил. Еду я в далекие страны посмотреть трех девиц, красоты неописанной, и, — как знать? — может быть, какая-нибудь из них мне и понравится, и я пожелаю вступить с ней в законный брак, а у родителей своих опять-таки благословенья и совета не попросил. Дай-ка отправлюсь я прежде в Картаусово царство, — повидаюсь там с батюшкой и с матушкой».
Как задумал Еруслан Лазаревич, так и сделал. Он повернул коня и прямо отправился на родину в царство Картауса. Ехал он быстро несколько дней, а однажды рано утром, пред восходом солнечным, Еруслан Лазаревич увидал издали свою родину, и сердце его забилось сильнее при мысли о скором свидании с родителями. Но что это впереди? Уж не обманывают ли его глаза?.. Перед столицей царя Картауса белеются в поле шатры, а на лугах пасутся стреноженные кони. Не догадался бы он сам никоим образом об этом, если бы не попался ему навстречу старик, нищий-калека, которого и стал он спрашивать:
— Скажи мне, старичок почтенный, чьи это шатры белеются в поле?
— Шатры эти, храбрый витязь, принадлежат князю Даниилу Белому. Он подступил под город с тремястами тысяч войска и хочет все владения царя Картауса себе присвоить, войско его все побить, а его самого с двенадцатью богатырями и Лазарем Лазаревичем в полон взять и отвести в свою землю.
— А была ли битва между ними? — спросил Еруслан Лазаревич у старика.
— Была, храбрый витязь! Тому две недели было страшнее побоище, — отвечал нищий, — и царь Картаус потерпел поражение и заперся с остальным войском в городе. Хотел было князь Даниил Белый взять город приступом, да стены очень крепки, а потому и решился ждать, пока сами осажденные принуждены будут сдаться голодом.
При таком печальном известии Еруслан Лазаревич запылал справедливым негодованием, закипела в нем кровь молодецкая, раззуделась рука богатырская. Желая защитить невинно пострадавших, не хотел он напасть врасплох на спящих неприятелей и порубить их; затрубил громко в бранный рог, вызывая с собой на битву. Услышав звук бранного рога, весь вражеский стан встрепенулся и поднялся. Все в тревоге уселись на коней своих и были готовы встретить нападение.
Не ясен сокол из поднебесья налетает на робкую птицу, на диких гусей, белых лебедей и серых утиц, а налетает то Еруслан Лазаревич, могучий богатырь, на сильное воинство татарское князя Даниила Белого, басурмана. Волнуясь, хлынули татары на смелого и храброго витязя, загикали, заорали, старались своими дикими криками напугать и устрашить его; но не на того, видно, напали. Перед мощной рукой Еруслана скоро дрогнула татарва и побежала нестройными толпами. Но вот, опомнившись немного, она опять бросилась на него с новой силой, и пошел работать меч богатырский без устали; махнет он направо — целая улица врагов лежит мертвая; махнет налево — пролегает другая, и с переулками. Но не только мечу богатырскому, а и копью долгомерному, и коню Орощу Вещему было тут вдоволь работы. Остро и крепко было это копье в искусной и сильной руке Еруслана, и не любило шутить оно с врагом: что ни раз — то нанижет десятка два басурманов. А дивный конь Орощ Вещий, как верный слуга своему хозяину, помогал ему всеми силами: напирал своей широкой грудью на злых татар, грыз их зубами, топтал сильными ногами, и уничтожили они таким образом много тысяч вражеского воинства. Не прошло и двух часов времени, как вся почти рать-сила великая была побита и рассеяна и сам князь Даниил Белый был ранен и взят в плен.
— Ну, князь Даниил Белый, чего желаешь: смерти или живота? — спрашивал Еруслан Лазаревич у хана татарского, подняв над головой его грозный меч.
— Не предавай лютой смерти, храбрый витязь, а оставь меня в живых, — взмолился князь Даниил Белый.
— А будешь ли ходить незваный, непрошеный в чужое царство?
— Никогда этого не будет!
— Запретишь ли ты своим детям, внукам и правнукам нападать на царство Картауса?
— Зарок дам и детям, и внукам, и правнукам.
— Поклянись в этом!
И поклялся князь Даниил Белый, призывая своего пророка Магомета в свидетели, что ни он сам, ни дети его, ни внуки, ни правнуки не будут ссориться с царями родины Еруслановой и ходить на них войной.
— Ну, смотри, князь, держи свое клятвенное слово крепко и нерушимо, а не то в другой раз я так дешево с тобой не разделаюсь, — сказал Еруслан Лазаревич князю Даниилу Белому и отпустил его с оставшимся войском в свои земли татарские, а сам поехал в родной город.
Когда Еруслан Лазаревич приблизился к городу, то отворились городские ворота, и сам царь Картаус с двенадцатью богатырями и дядей своим, князем Лазарем Лазаревичем, в сопровождении войска и множества народа, при торжественных звуках военной музыки, встретил победителя и оказал ему великие почести. Еруслан Лазаревич слез со своего коня богатырского, низко поклонился царю и сказал:
— Прости великодушно, государь Картаус, что я не исполнил в точности твоего приказа и осмелился предстать пред твои очи ясные. Не гневайся, государь, на мое прежнее детское поведение и перемени гнев на милость: позволь повидаться мне с родителями своими и провести несколько дней в столице твоего царства.
Тогда царь Картаус сказал Еруслану:
— Прекрасный и храбрый витязь, достойный сын достойного отца! Ты, наш избавитель, — и просишь прощения? Не только прощения достоин ты за свой подвиг, а и наград великих. Но чем я награжу тебя? Все награды, какие только могу я дать тебе, будут ниже заслуг твоих. Прошу забыть ту обиду, какую я причинил тебе, изгнавши из моего государства. Отныне живи здесь с родителями своими, бери во владение любой город с пригородами и красными селами; казна моя открыта тебе всегда; если пожелаешь, я отдам за тебя дочь мою; первое место твое против меня, другое подле меня, а третье — где сам пожелаешь.
Еруслан Лазаревич на это скромно отвечал:
— От души благодарю тебя, государь, за твои великие милости. Остаться навсегда здесь я пока не имею желания, потому что душа моя рвется на простор, постранствовать по белу свету. А к почестям и богатству я не привык и не ищу их; а жениться мне еще рано, хотя я и считаю за великую честь и счастие назваться мужем твоей прекрасной дочери.
Царю Картаусу было очень неприятно, что Еруслан Лазаревич, такой славный и могучий богатырь, отказывается служить ему и быть надежной опорой и сильным защитником его владений. Но делать было нечего: насильно мил не будешь и силой да неволей ничего хорошего не сделаешь.
После этого Еруслан Лазаревич вместе с отцом своим отправился прямо в палаты к матери своей, княгине Епистимии. Там произошла трогательная встреча матери с любимым сыном, которого она уже не чаяла больше и в живых видеть. Затем начались великолепные радостные пиры в палатах Лазаря Лазаревича по случаю возвращения храброго и любимого сына. А потом начались также веселые и шумные пиры во дворце царя Картауса по случаю избавления от угрожавшей им опасности от неприятеля, которого так смело и неожиданно отразил Еруслан Лазаревич. Все эти пиры и празднества продолжались с лишком два месяца, и на всех пирах и празднествах самым первым и дорогим гостем был храбрый Еруслан Лазаревич с отцом своим и с матерью Епистимией.
По окончании всех этих торжественных пиршеств и ликований Еруслан Лазаревич привел наконец в исполнение то, зачем он приехал к родителям: он испросил благословение у отца и матери, повеселился вдоволь, поел хлеба и соли отцовской и княжеской, погостил довольно в дому своем родительском и стал собираться опять в путь-дорогу.
— Сын мой возлюбленный, — говорил ему Лазарь Лазаревич, — хорош ты и пригож, могуч и славен, и я тобой весьма доволен, что ты не посрамил нашего знатного богатырского рода; только сокрушает меня разлука с тобой. Вот я уже становлюсь стар, силы начинают изменять мне, царь Картаус тоже плох здоровьем, а двенадцать наших богатырей и дряхлы и хилы, совсем почти выбились из силы. Найдутся опять лихие враги, придут они к нам, государство наше завоюют, воевод и бояр смерти предадут, меня же с государем и богатырями в полон возьмут, а ты нас и защищать не будешь. Не оставляй нас сиротами беззащитными, ведь не сыщешь краше той земли, в которой твоя родина, где живут близкие и милые сердцу. Просиял ты нам как красное солнышко, обогрел и утешил нас на старости — и опять скрываешься от нас, как солнышко за тучи черные, громовые!
— Государь мой, батюшка, — сказал в ответ Еруслан Лазаревич, — лютых врагов пока нет еще, так что же мне дома делать? Не пристало сильному витязю сложа руки сидеть, дома на покое проживать, а пристало храброму с мечом воевать. Не могу я оставаться дома, душа так и рвется на простор из груди молодой и зовет молодца в поле чистое, на раздольице широкое. Постранствую по белу свету, насмотрюсь диковинок, поучусь уму-разуму и скоро опять вернусь к вам и останусь тогда навсегда с вами доживать свой век спокойно.
Сколько ни уговаривал отец Еруслана, сколько ни упрашивала мать, чтобы он не уезжал от них, — Еруслан все настаивал на своем и просил их убедительно не удерживать его; наконец, старики, скрепя сердце, согласились благословить сына, потом со слезами простились с ним, и он отправился в путь-дорогу.
Вот едет Еруслан месяц, едет другой и третий, все прямо на восток, и вдруг наезжает на белый полотняный шатер, раскинутый в чистом поле среди зеленого луга. В этом самом шатре жили те три красавицы, дочери Бугригора, о которых рассказывала дочь князя Феодула, прекрасная Кандоула. Они в это время сидели за ручной работой: одна плела золотые кружева, другая вышивала серебром и золотом по бархату, а третья низала крупный жемчуг. Все они были девицы прекрасные, но Легия несравненно краше своих старших сестер. Красоты ее невозможно ни в сказке сказать, ни пером описать: все в ней было верх совершенства. Еруслан Лазаревич слезает с коня богатырского и входит в бел шатер; помолился он Богу, взглянул на красавиц — и остолбенел от великого дива и изумления: такой дивной красоты он не только наяву, но даже и во сне никогда не видывал и вообразить не мог. Девушки, увидав вошедшего к ним витязя, встрепенулись, как птички, испугались и, по девичью обычаю, разахались, засуетились, думали бежать, да остановились, хотели не глядеть, да невольно загляделись.
Оправившись от первого впечатления, Еруслан Лазаревич весело и даже шутливо сказал им:
— Любезные сестрицы, красные девицы, работать мастерицы, сердечные пагубницы, чего вы меня испугались? Небось я не медведь и вас не съем, сердца неволей не возьму, а если есть из вас моя суженая, так я ей буду ряженый.
Тогда Легия, услышав ласковые, миролюбивые речи юного прекрасного витязя, внушавшего невольно к себе доверчивость, встала из-за работы, подошла к нему, и, закрасневшись, взяла его за руку, и сказала:
— Добро пожаловать, добрый молодец! Царь ли ты царевич, король ли королевич или князь княжевич — я не знаю, а вижу, что ты добрый человек, пришел к нам ласковым гостем, то и прием тебе будет приветливый, — угостим, чем Бог послал.
Еруслан Лазаревич сказал им свое имя и объяснил, кто он таков. После этого сели они все вчетвером за стол, стали пить, есть, прохлаждаться, разговоры задушевные вести. А красные девушки-служанки служили им и перешептывались между собою: «Что за молодец! Как он хорош, как ласков да приветлив, не то что охреян какой-нибудь, который думает сердце девичье силой взять, чего от начала света и не слыхивано!»
После обеда Еруслан Лазаревич предложил дочерям князя Бугригора, не желают ли они прогуляться с ним по зеленому лугу. Две старшие сестры, Продора и Табубрига, отказались от этого предложения, желая отдохнуть, а меньшая охотно согласилась и пошла гулять со своим гостем. Во время прогулки Еруслан разговорился с Легией о том и о сем и, между прочим, спросил ее:
— Любезная и прекрасная княжна, Легия Бугригоровна, неужели есть на свете красавица лучше тебя? Мне думается, что нет и быть не может!
— Государь мой, Еруслан Лазаревич, — отвечала Легия, — что я за красавица? Мало ли на белом свете есть девиц и лучше, и краше меня! Вот в городе Дебрии у князя Вахрамея есть дочь, прекрасная княжна Анастасия, такая дивная красавица, что я перед ней как темная ночь перед днем. Много душистых цветов в зеленом саду, много ясных звезд на лазурном небе, но прекраснее всех цветов — роза душистая, а всех звезд яснее — солнце красное, так и всех дев милее — Анастасия прекрасная. Очи у нее — что звезды ясные, а ланиты — розы огневые; идет княжна — точно лебедь плывет: где ни станет — травка зеленеет, цветы расцветают; говорить ли начнет — точно реченька журчит; посмотрит — рублем подарит. Днем она свет Божий затмевает, а ночью землю освещает; у нее на косе будто месяц блестит, а во лбу как бы звезда горит.
Еруслан Лазаревич выслушал это со вниманием; потом рассказал ей о себе, о своих славных богатырских подвигах и опять спросил ее:
— Скажи мне, княжна Легия, есть ли кто на белом свете сильнее и храбрее меня?
Легия поглядела на него пристально и, закрасневшись, отвечала ему:
— Слыхала я, есть у царя Далмата один могучий богатырь, зовут его Ивашка, а по прозванью Белая Епанча — сорочинская шапка. Стоит он под индийским царством, которое стережет уже тридцать три года, и так могуч и силен, что мимо его не смеет ни один богатырь проехать, ни зверь пробежать, ни птица пролететь. Не видала я сама храбрости твоей, хотя и слыхала о ней, но мне почему-то кажется, что Ивашка не устоит против тебя.
Еруслану Лазаревичу весьма понравился этот ответ. Возвратившись с Легией в шатер, Еруслан Лазаревич простился с ней и с сестрами ее. Он уже сел на коня и хотел ехать, но остановился, увидав Легию, вышедшую к нему из шатра.
— Вот ты уезжаешь, а того не скажешь, когда опять навестишь меня! — сказала она ему; сама вздохнула, и две алмазные слезинки выкатились из глаз ее, — видимо, ей жаль было расстаться с юным прекрасным витязем.
Тогда Еруслан Лазаревич наклонился к ней так низко, что уста его почти коснулись алой щеки ее, и сказал ей на ухо шепотом, как будто боялся, чтоб птицы небесные не подслушали и буйные ветры не разнесли слов его:
— Не тужи, красная девица, не печалься, быть может, я скоро-скоро вернусь к тебе.
Сказавши это, Еруслан Лазаревич быстро повернул своего коня и помчался во весь опор по дороге к индийскому царству. Легия долго еще стояла у шатра и смотрела в туманную даль за уезжающим от нее витязем. Наконец, он скрылся из глаз ее; она глубоко вздохнула и подумала: «Долго придется мне ожидать тебя, прекрасный юноша, долго и напрасно мои вздохи будут лететь к тебе. Если бы я полюбилась тебе, то наверно бы ты остался здесь и назвал бы меня своей супругой; но, видно, я, бедная, не пришлась тебе по сердцу; видно, я тебе не суженая, а ты мне не ряженый».
Вот едет Еруслан Лазаревич, близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, — скоро сказка говорится, да дело мешкотно творится. На пути его солнышко печет, частым дождичком сечет, да которое небо его вымочит, то же и высушит. Настанет темная ночь, зажгутся в небе звезды ясные, он ляжет на шелковой мураве, под теплым одеялом — темной глубокой ночью, под широким пологом — небесным сводом с частыми звездами. Настанет утро — он встанет, вскочит на борзого коня да и пошел скакать все дальше и дальше, все ближе и ближе к цели своего путешествия. Таким образом он ехал с лишком два месяца, а сколько верст проехал — неизвестно, потому что как Орощ Вещий начнет походчее шагать, то ни одному счетчику верст не успеть сосчитать, хоть лоб расшиби! Вот, наконец, и столица индийского царства показалась вдали на отлогом скате высокой горы. Она раскинута была так широко и далеко, что глазом не окинешь. «Что за притча такая? — думал Еруслан Лазаревич. — Кажись, индийское царство началось, а Ивашки видом не видать и слухом не слыхать. Куда же он девался? Сам ли умер, или кто-нибудь зашиб его до смерти? А вот, должно быть, и он, что стоит у белого шатра, опершись на длинное копье, и, кажется, дремлет. Так и есть, это Ивашка! Я узнаю его по шапке сорочинской и белой епанче. Славный молодец! Какой дюжий, плечистый да рослый! На вид вполне хорош, каков-то на деле?»
Неслышным шагом, по мягкой зеленой мураве, подъехал Еруслан Лазаревич к дремавшему богатырю, ударил его плетью по шапке и сказал:
— Я думаю, можно тебе и лежа выспаться: добрые сторожа стоя не спят!
Проснувшись от удара плетью и увидав пред собой незнакомца, Ивашка сердито спросил:
— Кто ты таков и как тебя по имени зовут? Откуда ты едешь и какого отца и матери сын?
— Я еду из царства Картаусова, — отвечал ему Еруслан Лазаревич, — а сын я славного богатыря князя Лазаря Лазаревича и матери, княгини Епистимии, а зовут меня Ерусланом; и еду я к индийскому царству, царю Далмату поклониться.
Богатырь Ивашка, Белая Епанча, сурово сказал Еруслану Лазаревичу:
— Прежде твоего мимо меня в индийское царство никакой человек не прохаживал, ни один богатырь не проезживал, ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала; а ты что за выскочка, коли хочешь мимо меня проехать к царю Далмату? Поедем прежде в чистое поле, испытаем силу могучих плеч богатырских да потягаемся храбростью и удалью!
Сказав это, Ивашка сел на своего богатырского коня, и поехали они в чистое поле гулять, удалью тешиться да богатырскими силами меряться.
Не две тучи грозные в небе сходятся, не два буйные вихря слетаются, — то два могучие богатыря в поле сражаются. Началась битва с полуден и продолжалась до заката солнечного; ретивые кони измучились и покрылись белою пеною, но не намахались плечи могучие, не устали руки богатырей. Но вот настала роковая минута для одного из бойцов. Еруслан Лазаревич так сильно и мощно ударил Ивашку копьем против сердца ретивого, что разом вышиб его из седла вон. Упал Ивашка на землю, как овсяной сноп, а конь Орощ Вещий наступил ему на доспешное ожерелье копытом и притиснул его к сырой земле. Тогда Еруслан Лазаревич обратил копье острым концом и сказал побежденному:
— Брат Ивашка, смерти или живота хочешь?
Тут Ивашка взмолился ему:
— Государь Еруслан Лазаревич, не предай смерти, а дай живота! Прежде этого у нас с тобой брани не было, да и впредь не будет: я охотно признаю твое первенство над собой.
Тогда Еруслан Лазаревич слез с коня, поднял Ивашку за могучие руки, обнял его и поцеловал; и тут они помирились и назвались братьями.
IV
После этого Еруслан Лазаревич отправился к царю Далмату; вошел в его палаты белокаменные, поклонился ему почтительно и сказал:
— Многолетнее тебе, государь, здравие со всеми твоими боярами и людьми ратными и со всей твоей богатой Индией!
— Кто ты таков, витязь, и зачем прибыл сюда?
— Я сын славного богатыря Картаусова, Лазаря Лазаревича, и матери, княгини Епистимии, зовут меня Ерусланом, а пришел сюда тебе поклониться и попросить тебя, государь, чтобы ты принял меня на службу к себе. Буду служить тебе верою и правдою, сколько сил во мне хватит.
— Да каким же путем ты прибыл сюда, сухопутным или морским? Иль буйные ветры принесли тебя на крылах своих?
— Я прибыл к тебе, государь, сухим путем.
— А как же пропустил тебя Ивашка, Белая Епанча — сорочинская шапка? Мимо него ни один богатырь жив не проезживал, ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала!
— Ивашка точно не пропускал и меня, да мы с ним в чистом поле потешились, силами померялись, — он оказался послабее и пропустил меня.
Услышавши это, царь Далмат так и ахнул, а вельможи его от удивления глаза вытаращили и рты разинули. Сильно закручинился царь и стал думать крепкую думушку: «Посылает же мне судьба слугу непрошеного! Не служить он сюда прибыл, а моим царством завладеть; пожалуй, и завладеет, чего доброго, долго ли до греха? Уж если он победил Ивашку, которому в мире не было равных богатырей, то прочих моих вельмож-силачей и все войско как кур передушит. Постараюсь отделаться от этого гостя».
— Прекрасный, славный витязь, — сказал ласково Далмат Еруслану Лазаревичу, — большую честь делает мне твое предложение, но в настоящее время я не имею большой нужды в твоих славных услугах: мы люди мирные, войны не любим, а постоянно живем в ладу и любви с соседями.
Еруслан догадался, что царь Далмат боится его, а потому, поклонившись ему, вышел из палат белокаменных, сел на коня своего и поехал к княжеству Вахрамея. Царь же Далмат очень обрадовался его отъезду, тотчас же велел затворить городские ворота, опасаясь, как бы незваный гость не воротился опять.
А Еруслан Лазаревич между тем ехал своим путем-дорогой. Был он уже на половине дороги к княжеству Вахрамея, как попался ему навстречу прохожий старец. Увидавши Еруслана Лазаревича, он поклонился ему и сказал:
— Государь мой, храбрый витязь, Еруслан Лазаревич, многолетнее тебе здравие! Как тебя, государь, Господь Бог милует?
— Почему ты меня знаешь, почтенный старец? — спросил Еруслан Лазаревич.
— Как же мне не знать тебя, батюшка, ведь я из царства Картаусова, один из верных слуг твоего батюшки.
— Здоровы ли мои родители?
— Ох, государь мой, Еруслан Лазаревич, — сказал старик, — видно, ты ничего не знаешь и не слыхал, какое несчастье постигло нас! Через месяц после твоего отъезда из дома родительского напал опять на наше царство тот злой татарин, князь Даниил Белый. Пришел он к нам с пятьюстами тысячами своего войска и со множеством нечестивых мурз, все государство предал огню и мечу, разорил многие города и села, камня на камне не оставил, всю царскую рать перебил, многих жителей умертвил, невзирая ни на пол, ни на возраст, жен и дочерей осквернил и многих увел в плен. Самого же царя Картауса с двенадцатью богатырями и отца твоего Лазаря Лазаревича живых в полон взял, выколол им глаза и посадил в темницу; а супругу княжескую и дочь и мать твою, княгиню Епистимию, злой смерти предал. Как я-то жив остался, считаю чудом: две недели пролежал я от страху не евши, не пивши в лошадином трупе и потом немедля пошел отыскивать тебя, и вот только теперь Бог привел встретить тебя на дороге.
Выслушав это ужасное известие, Еруслан Лазаревич простился со стариком и, повернув коня, быстро помчался по дороге к княжеству Даниила Белого. Путь туда ему лежал через его родину. Какое печальное зрелище представилось глазам витязя, когда он подъезжал к царству Картаусову: ни домов, ни дворцов не было видно, только грудами лежат камни, закоптелые и поросшие мхом, да повсюду под кучами пепла валялись обгорелые бревна и доски! На широких полях валялись кучами конские и человеческие трупы, оставшиеся без погребения на съедение хищным зверям и птицам. Над ними стаями носились коршуны и вороны, и целыми стадами рыскали волки и шакалы, пожирая мертвые тела.
Вот едет Еруслан Лазаревич день, едет другой и третий, а на четвертый в полдень приезжает в княжество Даниила Белого. Он въехал прямо в столицу. На улице никого почти не было, кроме игравших ребят; видно, вся татарва, пообедавши, завалилась спать. Подозвав к себе одного из мальчуганов, Еруслан спросил его:
— А где здесь темница, в которой содержится царь Картаус со своими богатырями? Я хочу подать милостыню заключенным.
Мальчик указал темницу, и Еруслан подъехал к ней, слез с коня и хотел войти в нее, но стража не пускала его; тогда он вынул из кармана несколько золотых монет, дал сторожам и сказал им, что ему нужно пройти в темницу и подать милостыню узникам; тогда сторожа, видя его доброе намерение, пропустили его в темницу. Еруслан Лазаревич вступил в мрачную сырую тюрьму под крепкими сводами, где увидал своего родителя и царя Картауса и двенадцать богатырей. Все они, ослепленные, покрытые рубищем, изнеможенные от голода, сидели печально на каменных скамьях. Еруслан Лазаревич поклонился царю, отцу своему, и сказал:
— Государю моему, царю Картаусу, и тебе, дражайший родитель, Лазарь Лазаревич, и вам всем, могучие богатыри, желаю долголетнего здравия!
Царь Картаус, услышав знакомый голос, сказал:
— Я голос твой слышу, он мне кажется знакомым; но тебя самого не вижу и не знаю, кто ты и кого тебе надобно?
— Я — верный слуга твой, Еруслан Лазаревич, — отвечал ему витязь, — пришел повидаться с вами…
Тогда царь Картаус, не веря Еруслану, сказал ему:
— Поди от нас прочь, не смейся над нами; откуда пришел, туда и ступай.
Еруслан Лазаревич сказал ему:
— Государь мой, царь Картаус, я подлинно Еруслан, пришел посетить вас в печали и, если можно, утешить вас…
Говорит ему царь Картаус:
— Не лги ты, незнакомый человек; если бы был вживе Еруслан Лазаревич, то мы бы в такой темнице не сидели, эти горькие беды не терпели; а нынче, по грехам нашим, я не царь, когда у нас, у живых, глаза вынули, и мы сидим в сырой темнице и рук своих не видим пред собой!
Но в это время князь Лазарь Лазаревич по голосу узнал своего сына и сказал царю Картаусу, что это подлинно Еруслан.
Тогда все заключенные заплакали от радости и стали обнимать и целовать дорогого гостя.
— Сын мои возлюбленный! — говорил Лазарь Лазаревич. — Если бы ты был с нами, то мы не сидели бы в этой темнице и не терпели бы горьких бед. А теперь в нашем несчастии мы рады будем, если судьба пошлет нам смерть и избавит нас от мучений.
— Любезный родитель! — отвечал Еруслан Лазаревич. — Есть на свете правда, есть святыня, которая не может быть поругана и затоптана в грязь!.. Есть всевидящий и правосудный Бог, который всем управляет, и без Его воли ни один волос с головы человека не упадет, а кровь человеческая никогда даром не пропадет; будет праведное отомщение… грозное, справедливое, и Даниил Белый поплатится за безвинно пролитую кровь. Быть может, и моей рукой Бог совершит ему отомщение. Я вызову его на битву, побью всех его нечестивых мурз и богатырей, а его самого возьму в полон и накажу достойно по его злодеяниям, а всем его княжеством пусть владеет царь Картаус.
— Все это хорошо, — прервал Картаус, — но и княжество, и все удовольствия не милы, когда мы не можем видеть света Божьего. А ты если хочешь подлинно услужить нам, то вот что сделай: далеко отсюда, близ тихих вод, при теплых морях есть Щетин город, в Кипчакской орде, а недалеко от этого города есть источник живой воды. Княжит в том городе вольный князь — Огненный щит, Пламенное копье, и стережет этот источник крепко-накрепко, никого туда не подпускает, и князь этот очень храбр и даже непобедим. Поезжай туда, мой верный слуга, и постарайся победить этого князя и достать живой воды: она имеет дивное свойство: заживлять раны, может сращивать отрубленные члены тела и давать зрение очам. Только трудно достать этой воды: князь Огненный щит, Пламенное копье, никого не пропускает…
— О, я постараюсь исполнить это! — вскричал обрадованный Еруслан. — Отыщу этого князя, будь хотя он на краю света! Бог поможет — дело правое; я одолею его, достану живой воды и возвращу вам зрение.
Слова эти обрадовали пленников и пролили в сердца их надежду; они повеселели, ожили духом и от души благодарили доброго витязя за его желание помочь несчастным.
Простившись с отцом, царем Картаусом и богатырями, Еруслан Лазаревич вышел из темницы, сел на своего борзого коня и выехал в чистое поле.
Мальчики, игравшие на улице, видели ехавшего Еруслана от темницы за город, рассказали об этом отцам своим, а те немедленно пошли к Даниилу Белому и сказали ему:
— Государь ты наш милостивый, не вели казнить, а вели слово молвить. Видели наши ребята какого-то воина, вооруженного с ног до головы, собой красавца, стройного и молодого; а конь у него чудный вороной, точно зверь дикий. Ехал он от темницы, в которой сидит полоненный царь Картаус со своими богатырями, и теперь уже далеко в поле. Прикажи разведать, что это за человек был в нашем городе.
Князь Даниил Белый тотчас же послал мурзу в темницу расспросить пленных, кто у них был. Вскоре посланный воротился и донес своему князю следующее:
— Государь-князь! Стража темничная не знает этого витязя; а слепцы говорят, что приезжал к ним какой-то человек и назвал себя Ерусланом, но подлинно ли это он, пленники, по причине слепоты, не могут наверное сказать.
— Собрать сейчас же двести тысяч войска! — закричал рассерженный князь, — а вы, мурзы и богатыри, примите над ним начальство и отправляйтесь за Ерусланом в погоню. Приведите его ко мне, и я награжу вас почестями и богатством, а если не приведете, то пеняйте на себя!
Живо затрубили в рога бранные, и мигом собралось войско и пустилось в погоню. Дня чрез два мурзы завидели спящего Еруслана под дубом и очень обрадовались, что с сонным легко справиться и они без кровопролития возьмут его в полон. И действительно, ток бы и случилось, если бы не выручил нашего героя-витязя из беды верный и смышленый Орощ Вещий. Он подошел к спящему хозяину и так громко заржал над его ухом, что тот проснулся и увидал скакавших за ним татар. Еруслан сел на коня и поехал тихо, стопою бредучею, чтобы войско Даниила Белого могло догнать его. Едет Еруслан тихо, а сам, обернувшись назад, спрашивает у мурз:
— За кем, молодцы, гонитесь?
— За Ерусланом, — отвечали они.
— Я самый и есть Еруслан, — сказал он. — И я бы с вами переведался, проклятая татарва, да только теперь не до вас; нельзя мне время терять: есть дела поважнее; а вы не трудитесь из-за меня, лучше воротитесь домой; как вольного ветра в чистом поле вам не поймать, так меня, доброго молодца, не видать.
Сказав это, Еруслан Лазаревич гикнул, опустив поводья, и Орощ Вещий полетел во всю прыть, быстрее вихря буйного и шибче каленой стрелы, пущенной из лука тугого, и в одно мгновение скрылся из глаз татар.
Мурзы, потеряв из виду Еруслана Лазаревича, повесили головы, точно гриб съели; делать было нечего, пришлось с пустыми руками вернуться им к князю Даниилу Белому и получить от него порядочный нагоняй.
Восходит красное солнце и приводит с собой ясный день; наступает тихий вечер и приводит с собой ночь темную, с частыми звездами. И вот проходит так день за днем; уж красное лето приходит к концу, желтеют нивы спелые, и с деревьев спадает желтый лист, в темном лесу свищет осенний ветер, и близка уже зима со снежными вьюгами, с заунывными метелями и морозами трескучими. А Еруслан Лазаревич все едет дальше и дальше и с каждым днем встречает все новые и новые преграды: то должен он биться с могучим богатырем, то с огромным великаном, то с ведьмой, бабой-ягой, разъезжающей в огромной ступе с пестом и заметающей след помелом. Но это все ничего, страшней всего русалки: собой прекрасные, с глазами томными и полными любви, они нередко манили витязя к себе на лоно вод хрустальных. Но он красавицам и взгляда не дарит, а быстро мимо проезжает. Вот на пути и лес дремучий. Стоят такие высокие развесистые дубы да сосны курчавые, что сквозь них и света Божьего не видно, и в чаще их даже и птичка летать и распевать не смеет, а воют только волки серые да ревут медведи мохнатые. Вот сильно трещит лес дремучий, будто кто его ломает; грохот и стукотня идет такая, что упаси Господи! То два громадные лешие поссорились между собою и дерутся изо всей бесовской силы. Глянул на них Еруслан Лазаревич и подумал: «Рознял бы я вас, дурачье, да некогда мне возиться с вами». Выехавши из леса, он увидал обширное поле прежней, давнишней битвы. Вдали все было пусто; здесь и там желтели кости, валялись полусгнившие трупы человеческие и конские; по холмам были разбросаны колчаны, латы, шлемы, копья, стрелы и заржавленные мечи.
Едет Еруслан Лазаревич дальше по полю, а солнце уже склоняется все ближе и ближе к западу. Вот оно и совсем закатилось, и настала глубокая темная ночь; а витязь наш все продолжает путь и вдруг видит: вдали чернеет огромный холм, и что-то страшное храпит. Он подъезжает к этому холму ближе и слышит, что этот холм как будто дышит. Наш Еруслан внимает и глядит бестрепетно, с покойным духом; но конь пугается, упирается и дрожит. Вдруг луна выплыла из-за облаков и осветила чудный холм. Еруслан Лазаревич смотрит и изумляется: перед ним лежит огромная богатырская голова и храпит во сне. Еруслан Лазаревич остановился перед ней в недоумении, и, желая пробудить богатырскую голову ото сна, он громко крикнул на все поле:
— Есть ли в этой рати жив человек?
От этого крика проснулась богатырская голова, зевнула, глаза открыла и чихнула; потом она посмотрела на Еруслана Лазаревича и спросила:
— Кого ты спрашиваешь, витязь, и кто тебе надобен?
Еруслан Лазаревич удивился еще больше на говорящую голову, но богатырская голова опять говорит ему:
— Не удивляйся, храбрый витязь, а скажи мне, далече ли ты едешь, куда твой путь лежит и какая тебе нужда здесь?
И говорит Еруслан Лазаревич богатырской голове:
— А ты кто таков? Как тебя по имени зовут? Из какого ты царства житель и которого отца и матери сын?
Отвечает ему богатырская голова:
— Я — богатырь из Задонского царства, сын царя Прохора, а зовут меня Росланеем.
Тогда Еруслан Лазаревич спросил его:
— Скажи мне, чья эта рать-сила побитая лежит и кто ее побил?
Отвечает ему Росланей-богатырь:
— Эта рать-сила побита мною; она — вольного царя — Огненного щита, Пламенного копья; приходил я под его царство, еще году нет; а брань у меня с царем была за то, что он завладел дорогами и селами отца моего, царя Прохора. А ты, храбрый витязь, далеко ли едешь и как тебя по имени зовут?
Еруслан Лазаревич сказал ему:
— Зовут меня Ерусланом; а еду я в город Щетин, к вольному царю Огненному щиту, Пламенному копью, и хочу достать живой воды для отца своего Лазаря Лазаревича.
Тогда богатырская голова говорит ему:
— Опасное дело ты затеваешь, Еруслан Лазаревич! Не достать тебе воды живой ни во веки веков, до тех пор пока ты не увидишь перед собой мертвым вольного царя: он никого не пропускает в свое царство, пока жив; и ты поедешь туда разве только за тем, чтобы умереть там. Я был богатырь весьма силен, да и то был побежден им.
Тогда Еруслан Лазаревич сказал богатырской голове:
— Прошу тебя, богатырь Росланей, расскажи мне про твою жизнь и про брань с вольным царем, как это он победил тебя.
И Росланей-богатырь начал говорить Еруслану Лазаревичу:
— У отца моего, царя Прохора, нас было двое сыновей: я старший, а другой, Черномор, — младший. Когда я родился, то был ростом почти в два аршина, а достигши десяти лет, я стал ребенком огромным и такую имел громадную силу, что со мной ни один богатырь не мог сладить. А когда минуло мне двадцать лет, то все росту моему дивились. Посмотри, вон там валяется мое туловище, и посуди сам о величине его: в нем десять сажен длины, в плечах две сажени, а рука в три сажени длины; между глаз моих калена стрела укладывается, а голова с большой стог сена. Был я весьма силен и храбр, все богатыри боялись меня; все князья и витязи, восточные и западные, северные и южные, страшились моего имени; через Задонское царство ни один могучий богатырь не проезживал, никакой человек не прохаживал, ни дикий зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала. Но меньшой брат мой, Черномор, оправдал на себе пословицу, что и у одной матки бывают не равны детки: он родился уродливым, горбатым карликом, с бородой, толст был — как бочонок, а ростом — как ребенок. Борода у него длинная, аршина в три, и имеет в себе чудное свойство: никакая бритва, ни ножницы, ни один меч богатырский не берет ее, и когда она цела, то Черномору не может приключиться смерти, никакого зла и беды. Вздумалось мне постранствовать по белу свету, и я отправился в путь; побывал в разных царствах и государствах, насмотрелся там дива дивного и вернулся назад восвояси. Но что же узнаю от брата? «Когда ты был в отсутствии, — говорит он, — то подошел под наше царство вольный царь Огненный щит, Пламенное копье, побил все наше войско, а отца предал алой смерти». Я вскипел негодованием и сейчас же хотел идти к вольному царю, чтобы наказать его за смерть отца; но Черномор сказал мне: «Не ходи к нему, ибо хотя ты и сильный богатырь, а с ним ничего не поделаешь: вольного царя, Огненного щита, никакой булат не сечет, никакая дубина не берет; он на огне не горит, в воде не тонет, так что и в полыме ему не жарко, и во льду не холодно, и скорее гора с места на место передвинется, чем с него хотя один волос упадет. В черных книгах я отыскал, что за восточными горами есть тихий океан, а на том океане — остров Буян. На этом острове есть глухой подвал за двенадцатью дверями, запертый запорами и крепкими железными замками; а в подвале этом хранится заколдованный меч-кладенец, который так остер, что может даже и мне бороду отрубить и вольного царя умертвить». — «Ну так что же? — сказал я карле-брату. — Где ж тут затрудненье? Пойдем туда и достанем этот меч!» И вот мы с братом отправились на остров Буян, отыскали этот подвал; я живо разметал его руками по бревнышку и чудный меч достал; потом с этим мечом я смело пошел к вольному царю. Когда он услыхал, что я иду на него, то выслал против меня несметное войско и сам выехал. Недолго вихрю степному ураган перелететь, недолго и мне всю рать-силу вражью побить. Вот я был уже почти близ самого царя, а он, увидавши чудный меч и чуя свою беду неминучую, стал не допускать меня до себя: жег и палил меня издали огнем-полымем, жаркими искрами осыпал. Как ни горячо и ни трудно мне было, но, однако, я добрался до врага своего, взмахнул мечом и ударил — и вольный царь повалился мертв. Дай, думаю, рассеку я злодея надвое, взмахнул и ударил и… — о, чудо! — мертвец мигом ожил и бросился на меня. Не успел я опомниться от изумления, как голова моя была уже отрублена вольным царем. Одержав победу, он хотел уж взять меч, но, откуда ни возьмись, карла Черномор выхватил из руки моей чудный меч, положил его мне под голову, в которой осталась жизнь, и силой своих заклинаний сделал так, что ни вольный царь, ни многие другие богатыри, приезжавшие с ним сюда, не могли сдвинуть с места мою голову и достать меч-кладенец без моего желания. Но тебе, храбрый витязь, я охотно уступаю этот меч. Владей им до конца дней своих: он достоин руки твоей.
Сказав это, богатырская голова сдвинулась с места, и Еруслан Лазаревич увидел под нею чудный меч, который и взял в руки.
— О, благодарю тебя, добрый Росланей! — вскричал обрадованный Еруслан. — Этот чудный меч много поможет мне в исполнении моего дела, и, быть может, я чрез него буду в состоянии оказать тебе услугу — срастить твое туловище с головой.
— А скажи мне, Еруслан Лазаревич, про то дело, за которым ты едешь к вольному царю, и на что тебе живая вода?
Еруслан Лазаревич сказал ему:
— Я из царства Картаусова; отец у меня славный богатырь князь Лазарь Лазаревич; и вот злой татарин Даниил Белый во время моего отсутствия пошел с войском на наше царство, разорил его все начисто, царя Картауса и моего отца полонил, выколол им глаза и посадил в темницу. И вот я еду теперь к вольному царю затем, чтобы достать живой воды, которая имеет дивное свойство — сращивать отрубленные члены и возвращать глазам зрение.
— Желаю тебе счастливого успеха, — сказал Росланей. — Когда добудешь этого лекарства, то вспомни и про меня и окажи мне, несчастному, помощь. Только смотри не забудь, — прибавила голова, — что удара мечом повторять не надо, а то вольный царь опять оживет — и ты пропал: ничто тогда не поможет тебе, и нигде ты никак не спасешься.
— Прощай, Росланей, до свиданья! — сказал Еруслан Лазаревич и, повернув коня, понесся во весь опор к столичному городу вольного царя, который находился оттуда не далее тридцати верст.
V
Только что Еруслан Лазаревич начал приближаться к городу Щетину, как видит, что против него выезжает сам вольный царь с огненным щитом, с пламенным копьем. Посыпались жгучие искры на Еруслана Лазаревича, обдало его жарким пламенем и огнем так сильно, что стало ему невмоготу. Еруслану Лазаревичу совсем не хотелось воевать с вольным царем; ему было желательно только получить живую воду, и он думал сначала, что дело обойдется без ссоры и драки. Он думал, что вольного царя можно уговорить и выпросить у него немного живой воды для отца и царя Картауса, но вольный царь имел уже такую дурную привычку, что без битвы никого не подпускал даже близко к своему царству. Но Еруслан Лазаревич все-таки не терял надежды и желал уладить дело миром. Он слез со своего коня, снял с головы пернатый шлем, начал махать им и кричать вольному царю:
— Царь Огненный щит, Пламенное копье! Не враг я тебе, а доброжелатель, не жги и не пали меня огнем, а выслушай!
Царь Огненный щит перестал палить огнем и спросил Еруслана Лазаревича:
— Кто ты таков? Откуда и зачем сюда прибыл?
— Я — странствующий витязь, — отвечал Еруслан Лазаревич. — Езжу уж давно по важному делу: у меня отец ослеплен злодейскою рукою, и я наслышал, что в твоем царстве, на теплом море, есть источник живой воды, которая исцеляет слепых; вот я и приехал к тебе, царь, попросить этой воды.
Тогда вольный царь сказал ему:
— Я вижу, ты очень храбрый витязь, когда осмелился приехать ко мне, а у меня уже со всеми храбрецами порядок такой, чтобы в чистом поле тешиться да силами меряться; а без этого я никого и близко не подпускаю к своему царству! Вот если ты меня победишь, то можешь взять у меня в царстве что тебе угодно, а если нет — тогда, брат, на себя пеняй: у меня расправа короткая — голову долой и концы в воду.
Еруслан Лазаревич, вынужденный такими крайними обстоятельствами, должен был вступить в битву с вольным царем Огненным щитом. И вот, когда они в первый раз разъехались на конях и как стрелы понеслись друг на друга, Еруслан Лазаревич держал копье тупым концом. Вот съехались два могучих богатыря и ударили друг друга копьями прямо против ретива сердца с такой силой, что копья у обоих погнулись, но ни тот, ни другой богатырь даже и не покачнулись в седлах. Вот разъехались они снова и опять ударили друг друга копьями еще сильнее прежнего; у Еруслана Лазаревича только погнулось копье, а у вольного царя разлетелось на три части; но бойцы усидели на конях и не качнулись в седлах.
— Однако, ты здорово бьешься, — сказал вольный царь, — мне еще не приходилось встречать такого! У меня копье служило тридцать лет и не гнулось даже ни разу, а теперь совсем сломалось; но делать нечего, давай теперь попробуем на мечах!
И, сказав это, вольный царь выхватил огромный меч из ножен и снова понесся на Еруслана. Тогда и Еруслан Лазаревич взял свой меч-кладенец и полетел на вольного царя. Как только они съехались, то Еруслан Лазаревич ударил вольного царя мечом по голове и рассек ему голову с левого плеча наискось. Свалился вольный царь с коня, лежит и не дышит; глаза померкли и закрылись навеки непробудным сном.
— Ай да молодец! — вскричали бояре и богатыри вольного царя. — Поделом его! Приударь-ка еще разок, чтоб знал наших да поминал своих!
Глянул на бояр и богатырей Еруслан Лазаревич: видит, что у них на языке совсем не то, что на сердце, и сказал им:
— Хорошие богатыри метко бьют: и раз, да горазд! И я люблю сразу бить, так что и добивать нечего.
Бросились тогда воеводы и богатыри на витязя и хотели изрубить его на мелкие кусочки, да не хватило у них силы и ловкости против Еруслана, и легли они все на землю обезглавленными.
После этого Еруслан Лазаревич отправился на берег теплого моря, зачерпнул там в пузырек живой воды, положил его в сумочку и поехал назад к огромной богатырской голове.
— Здравствуй, Росланей, и радуйся успехам, — сказал Еруслан Лазаревич голове. — Теперь примемся и за лекарское дело!
Сказав это, он вынул пузырек с живою водою, помазал ею приложенное к голове туловище, и они мигом срослись. Встал тогда Росланей-богатырь на ноги, поклонился до земли Еруслану и сказал:
— Еруслан Лазаревич, могучий и сильный богатырь! Будь моим старшим братом, не по росту и не по летам, а по силе и храбрости; я же буду твоим меньшим братом и слугой до гробовой доски.
После этого Еруслан Лазаревич простился со своим названым меньшим братом и поехал в княжество Даниила Белого. А Росланей-богатырь отправился прежде в свое Задонское княжество повидаться с матерью, а потом в город Щетин, где, вступив в супружество с дочерью вольного царя Наварией, стал княжить на славу, жить да поживать припеваючи да о прежних бедах вспоминаючи.
Приехавши в татарскую землю Даниила Белого, Еруслан Лазаревич прямо отправился к знакомой ему темнице и вошел в нее; сторожа по-прежнему пропустили его.
— Здравствуй, царь Картаус, и вы, могучие богатыри, со старшим вашим князем, Лазарем Лазаревичем! — сказал Еруслан заключенным слепцам.
— Кто ты таков, добрый молодец? — спросил Картаус.
— Верный слуга твой, Еруслан. Я исполнил приказание твое, съездил к вольному царю Огненному щиту, победил его, достал живой воды и привез к вам это драгоценное лекарство!
— Если это правда, то помажь нам этой водой глаза, — сказал Картаус, — и мы увидим свет Божий и тебя, благодетеля нашего.
Еруслан Лазаревич достал из сумки пузырек живой воды, помазал ею глаза слепцам, и зрение мгновенно возвратилось к ним. Тогда прозревшие бросились с великою радостью к доброму врачу своему, стали обнимать его и со слезами благодарили за столь великую услугу, оказанную им.
— Я возвратил вам зрение, — сказал Еруслан Лазаревич, — но не избавил еще совсем из рук этого татарина Даниила Белого; посидите здесь немного, а я пойду и переведаюсь с ним за все.
Сказавши это, он вышел из темницы, сел на своего Ороща Вещего и, выехавши за городские ворота, остановился в заповедных лугах Даниила Белого и затрубил в бранный рог. Вскоре явился к нему посланный от Даниила Белого и сказал ему:
— Князь Даниил Белый послал меня спросить у тебя, кто ты таков и как осмелился остановиться здесь.
— Скажи своему князю Даниилу Белому, что я — Еруслан Лазаревич, хорошо знакомый и памятный ему, да попроси его сюда повидаться со мной. Я хочу тоже спросить у него, как он смел, давши клятву, нарушить ее и поступить так жестоко и бесчеловечно с царем Картаусом и отцом моим.
Посланный поскакал назад, и чрез полчаса выехал из города сам Даниил Белый с многочисленным войском, мурзами и всеми богатырями. Загикала, закричала, завопила татарва и стремительно понеслась прямо на своего противника Еруслана. А он, взявши в одну руку щит, а в другую меч-кладенец, копье же под мышку, как орел полетел на врагов, а сам говорил таково слово:
— Не ясен сокол налетает из поднебесья на бойкую птицу, на диких гусей, белых лебедей и серых утиц, а наезжает то добрый молодец Еруслан Лазаревич на силу великую, на рать-орду татарскую, басурманскую.
И пошел работать чудный меч-кладенец без устали, так варом и варит: где раз махнет, там три десятка татар без голов лежат; где два махнет, там целая улица, и с переулками. Было тут много работы и копью долгомерному, и коню Орощу Вещему, — он сильно напирал своей грудью широкой на толпы басурманские и потоптал их несметные тысячи. Отлились овечьи слезки волку жадному: потерял Даниил Белый в этой битве все войско, богатырей и мурз-начальников, наконец, и сам погиб смертью лютою.
Как победитель, с великим торжеством въехал Еруслан Лазаревич в город. Тут весь народ пал на колени и просил его, чтобы он был у них князем на место Даниила Белого, которого многие очень не любили за его неправосудие и великие жестокости; но Еруслан Лазаревич сказал им:
— Не я буду вашим князем, а добрый царь Картаус, у которого Даниил Белый разорил почти все княжество.
Как сказано, так и сделано: царь Картаус заступил место князя Даниила Белого и мудро управлял новыми своими подданными, которые под кротким его управлением наслаждались мирной и счастливой жизнью.
Прогостив несколько недель у отца своего и царя Картауса, Еруслан Лазаревич простился с ними и отправился опять в дорогу, к городу Дебрии, в княжество Вахрамеево, чтобы там увидать прекрасную Анастасию Вахрамеевну, о красоте которой так много он слышал похвал.
Вот едет Еруслан Лазаревич дорогой неизвестной, путем неведомым, и если чего не знает — спросит, не скажет старый или малый, так скажет бывалый. Вот ехал он близко ли, далеко ли, долго ли, коротко ли, — скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, — и приехал он наконец рано утром в город Дебрию. А в это время в городе по улицам разъезжали бояре и глашатаи княжеские и кликали клич:
— Люди ратные и вы, граждане ратные! Не выищется ли кто из вас сразиться с чудовищем озерным, со страшным змеем трехглавым? Государь наш, князь Вахрамей, наградит того щедро, кто убьет это страшное чудовище. Если победитель будет старец, то братом княжьим назовется и возьмет казны, золота, серебра, жемчуга скатного и каменья самоцветного, сколько душе его угодно. Если же победит змея молодой отрок, то князь воспитает его, уму-разуму научит и отдаст ему по смерти все княжество. Если же молодец удалый, то князь выдаст за него дочь свою, прекрасную Анастасию, и будет тот молодец по ней ему сыном милым и наследником!
Еруслан Лазаревич спросил у стоявшего рядом с ним человека:
— Что это за чудовище такое и где оно живет?
И получил в ответ таково слово:
— Близ города нашего есть большое озеро, и живет в нем страшный трехглавый змей, который выходит из воды каждое утро и поедает по нескольку человек народа. Сколько уж раз был такой клич, какой ты слышал сейчас, но никто до сих пор не осмелился еще вступить в бой с таким ужасным чудовищем.
Выслушав его, Еруслан Лазаревич подумал и сказал:
— А дай-ка я попробую!
И тотчас же выехал из города.
Миновал он небольшой лесок, увидал озеро, и, подъехав к берегу, стал трубить в рог, чтобы этим звуком вызвать грозного обитателя водного.
Скоро показалось чудовище озерное, вышло на берег и устремилось прямо на витязя; конь Орощ Вещий испугался страшилища, весь затрясся, упал на колени и свалил с себя хозяина. Трехглавый змей, пользуясь этой минутой, стремглав бросился на Еруслана, ухватил его зубами за ногу и потащил в озеро. Велика была сила змея-чудовища, а Ерусланова больше; схватил богатырь руками за челюсти чудовища, разжал их и мигом освободил ногу; потом проворно вскочил на хребет врага своего, выхватил меч-кладенец, взмахнул им — и одна голова свалилась с туловища змеиного; еще раз взмахнул мечом — и другой головы как не бывало. Застонало чудовище, завопило голосом человечьим:
— Государь Еруслан Лазаревич! Смилуйся надо мной, не руби последней головы, не предай смерти! Я своей змеиной клятвой утверждаю, что не стану больше обедать людьми, шагу не выйду из воды и буду питаться только рыбой да раками. Сверх того, подарю тебе драгоценный подарок, большой самоцветный камень, которому и цены нет. Он у меня хранится на дне этого озера.
— Ну, ладно, — сказал Еруслан Лазаревич, — давай прежде этот подарок, а о жизни твоей потолкуем после; что Бог на душу положит, то и будет.
И нырнуло чудовище в озеро, а витязь все сидит на нем; вот вынырнул змей из воды, Еруслан Лазаревич взял у него камень самоцветный и велел вынести себя на берег.
Змей стал смирен и покорен, как легавая собака, и беспрекословно повиновался воле своего победителя.
Вышедши на берег, Еруслан Лазаревич сказал чудищу озерному:
— Хотя ты и говоришь, что будешь поститься, только я тому мало верю; надоедят тебе рыбы и раки, захочешь ты опять полакомиться человечьим мясом.
Сказав это, Еруслан Лазаревич размахнулся мечом и отсек змею последнюю голову; потом сел на своего коня и поехал в город Дебрию. Там уже знали о победе его над змеем, ибо множество народа из города пришло к озеру, и потому он был встречен с великими почестями самим князем Вахрамеем, с вельможами и боярами и со всем двором княжеским.
— Позволь узнать, кто ты таков, прекрасный витязь? — спросил Вахрамей Еруслана.
А тот отвечал ему:
— Я родом из царства Картаусова, сын знаменитого богатыря, князя Лазаря Лазаревича, а зовут меня Ерусланом.
— Милости просим, гость дорогой и избавитель наш, просим пожаловать в наши золотые чертоги хлеба-соли покушать! — сказал Вахрамей и, взяв Еруслана за руку, повел его в свой дворец.
Там если они за столы дубовые, покрытые скатертями бранными, уставленные кушаньями сладкими, напитками пьяными, стали пир пировать, велели музыке играть. Во время стола князь Вахрамей разговаривал все больше с гостем и, диву давался, что в таком молодом витязе ума-разума целая палата.
— Славный и могучий богатырь, — сказал князь Вахрамей Еруслану, — не обессудь за мои немудрые слова и позволь тебя спросить: не желаешь ли ты познакомиться с моей дочерью, прекрасной Анастасией? И если она тебе придется по сердцу, то не откажись назвать ее супругой. У меня уж издавна так положено: кто победит змея, тот пусть берет дочь в замужество!
— Почтенный князь Вахрамей, — отвечал Еруслан Лазаревич, — побывал я в разных царствах и княжествах и везде слышал похвалы твоей дочери, и, признаюсь, главной целью моего приезда сюда была именно она, прекрасная Анастасия Вахрамеевна. Позволь мне ее видеть; быть может, она придется мне по сердцу, и я с радостью буду твоим зятем!
Тогда князь Вахрамей велел позвать к себе дочь, и вскоре, окруженная нянюшками, мамушками и придворными боярынями, вошла она в столовую, поклонилась гостям и села в кресло, точно нарочно поставленное против Еруслана Лазаревича. Как глянул витязь на прекрасную девицу, так у него сердце и забилось в груди, точно пташка в клетке, так и замерло и затрепетало в истоме сладкой. Взглянула и она на витязя, опустила в землю глазки голубые и думает про себя: «Что за диковинный красавец писаный, что за взгляд соколиный, что за молодец ненаглядный! Ах, если бы он был мне суженый, как я благодарила бы судьбу свою!» И вот, с первого взгляда, они полюбили друг друга; как пташки весенние смотрят и не насмотрятся друг другу в очи ясные и ведут между собою речи сладкие.
Кончился обед; гости разъехались по домам, и Вахрамей, оставшись наедине с Ерусланом, спросил у него, нравится ли ему Анастасия.
Еруслан Лазаревич отвечал:
— Увидавши дочь твою, нельзя не полюбить ее. Много видел я на свете дивных красавиц, но все они, как ночь перед днем, как звезды перед ясным месяцем, далеко не могут сравниться с ней. Почту себя самым счастливым человеком, если она согласится быть моею женою.
Князь Вахрамей не любил долго думать: он тут же пошел к дочери и объявил ей, что гость их, тот прекрасный юноша, который сидел за столом против нее, предлагает ей свою руку. Получив охотное согласие на это Анастасии, обрадованный отец на другой же день веселым пирком и свадебку сыграл, потому что у него было не пиво варить, не вино курить, а приданое давным-давно было готово. Были пиры не по три дня, а было веселье целых три недели. Весь народ, старый и малый, пил, ел и веселился нараспашку. Из пушек палили, в бубны и литавры били, на дудках играли, паяцы комедь представляли. Там вино рекой лилось, даже выпить и мне пришлось: пива, меда много пил, огурцами закусил.
И зажил Еруслан Лазаревич с молодою женою душа в душу; не налюбуются друг на друга, не наговорятся вдоволь. Вот однажды он и спрашивает у нее:
— Дорогая и милейшая моя супруга, Анастасия Вахрамеевна! Скажи мне всю правду-истину: есть ли на свете, в каком царстве или в каком государстве, витязь храбрее меня, а девица краше тебя?
Анастасия прекрасная отвечала ему:
— Нет на свете богатыря могучее и храбрее тебя, а насчет красоты я уж и не знаю: есть одна девица, которая княжит в Девичьем царстве, в Солнечном городе, зовут ее Пульхерией; говорят, она очень красива, но только она не столько берет красотой, сколько обольщает волшебной прелестью да чарами…
Еруслан Лазаревич удивился и задумался над словами жены. Он крепко любил Анастасию прекрасную, и никакая сила не могла бы вырвать и истребить этой любви из его сердца, а насчет красоты он даже и вообразить не мог такую девицу, которая была бы лучше его несравненной Анастасии; но он как-то против воли думал о том: «Неужели есть такая волшебная сила, которая могла бы прельстить пуще всякой настоящей красоты?» Подумал так-то Еруслан Лазаревич немного, да и забыл про этот разговор совершенно.
VI
Прошло несколько месяцев спокойной и счастливой супружеской жизни, и Еруслан Лазаревич вздумал съездить на родину, повидаться с отцом своим и рассказать ему, что он женился и как счастлив он в супружеской жизни. Однажды он сказал своей супруге:
— Дорогая подруга моей жизни! Я должен на малое время разлучиться с тобою, потому что хочу отправиться в княжество Картауса повидаться с отцом моим.
— Любезный супруг мой! — сказала со слезами Анастасия. — Ты оставляешь меня в то время, когда я чувствую под сердцем залог нашей любви и готовлюсь быть матерью. Уедешь ты далеко от меня и от нашего детища, а я все время буду плакать и тосковать по тебе.
— Не печалься, моя дорогая, — отвечал Еруслан Лазаревич, — долго я не пробуду там и скоро вернусь назад. Но все мы ходим под Богом, и я не знаю, что случится со мною в дороге; а есть у меня дорогой камень самоцветный, который взял я у чудовища озерного; возьми ты этот камень и береги его, потому что цены ему нет. Если родится у тебя сын, то ты подари ему этот камень; если дочь — то береги для нее в приданое.
После этого он, обняв супругу, горячо поцеловал ее и, сев на коня, полетел в путь-дороженьку, в княжество Картаусово. Дорога его лежала как раз мимо Девичьего царства, где в Солнечном городе княжила прелестная чаровница Пульхерия.
Ровно девять месяцев провел Еруслан Лазаревич в дороге и был уже недалеко от княжества Картаусова. Тихо и пустынно кругом; вдали блеснула речка под горой, за ней, направо, синеет темный бор. Дело уже к вечеру: последний луч зари догорал над дремучим лесом. Еруслан Лазаревич ехал и думал, где бы получше выбрать в лесу местечко для ночлега; но вдруг он выезжает на долину и видит прекрасный замок; по углам чернеют башни, и прелестная девица по стене идет высокой, как в море лебедь одинокий, вся зарей освещена. И чуть слышен томящий, страстный напев этой девушки, несущийся как звуки нежной арфы в глубокой тишине долины. Она пела:
Так пела прекрасная Пульхерия и манила к себе Еруслана Лазаревича. Усталый витязь не мог противиться искушению и подъехал к замку. Ему страшно захотелось отдохнуть. Он слез с коня и вошел в замок; а Пульхерия уже встречает его прелестною улыбкою, берет за руки и ведет в богато убранные покои; здесь она усадила его за великолепно убранный стол и радушно угощала всякими кушаньями и напитками. Разговаривая с ней, Еруслан Лазаревич всматривался в ее прелестное миловидное личико и должен был сознаться, что она хотя несколько ниже была красотою супруги его, но зато много превосходила ее какой-то обольстительной, чарующей прелестью в манерах, обращении и уме. Еруслан Лазаревич ночевал в этом тереме, а утром очаровательная Пульхерия упросила его остаться и погостить еще денька два или три. Он остался, а через три дня остался еще на недельку. И так идет день за днем, удовольствие за удовольствием, веселье за весельем, пир за пиром, беседа за беседой; и проходит, таким образом, время невидно и незаметно для Еруслана. Ему, точно очарованному умом и обаятельными прелестями княжны, кажутся целые дни за минуту, а годы — за короткие дни. И таким образом ровно девять лет протекло с тех пор, как он живет в Девичьем княжестве, а ему думается, будто он недавно еще приехал туда. К чести нашего героя должно сказать, что он был всегда добрый сын отцу и верный муж жене, хранивший свято закон супружества и ни на минуту не забывавший того, куда он ехал.
Почти каждый день собирался Еруслан Лазаревич домой к отцу своему, а оттуда к милой и прекрасной Анастасии; но Пульхерия каждый раз сумела выдумывать какой-нибудь предлог и отдалить отъезд.
И вот однажды сидит княжна в своем златоверхом тереме, у косящатого окошечка, и видит, что по ее заповедным лугам разъезжает на красивом борзом коне какой-то юный статный витязь. Она послала к нему одного из своих богатырей с приказанием наказать за такую дерзость этого мальчишку, который осмелился без позволения стать на заповедном лугу. Выехал посланный богатырь и грозно понесся прямо на юного витязя; но тот был не трус и встретил долгомерным копьем своего противника так ловко, что сразу высадил его вон из седла и чуть не зашиб до смерти. Посланы были еще два могучих богатыря, но и тех постигла та же участь. Тогда Пульхерия пошла к Еруслану Лазаревичу и рассказала ему о случившемся. И он, сев на своего Ороща Вещего, выехал на заповедный луг к незнакомому молодому витязю. Съехались они и поразили друг друга копьями так сильно, что даже Еруслан Лазаревич пошатнулся на коне, а юный витязь чуть совсем не вылетел из седла.
— Молоденек еще ты, а дерешься славно! — сказал Еруслан Лазаревич своему противнику и ударил его тупым концом прямо против ретива сердца изо всей силы.
Свалился юноша на землю, а Орощ Вещий наступил ему копытом на доспешное ожерелье. Еруслан Лазаревич обратил копье острым концом и приложил его к груди противника, а тот ухватился за копье правой рукой. В это время блеснул на руке его перстень с камнем самоцветным, подарок чудовища озерного, и Еруслан Лазаревич, изумленный, отнимает копье от груди юноши и спрашивает его:
— Кто ты таков? Чей ты сын? Откуда едешь и где добыл этот камень самоцветный?
— Я из города Дебрии, — отвечал юноша, — из княжества Вахрамеева, а зовут меня Ерусланом Еруслановичем; мать у меня Анастасия Вахрамеевна, отца звали Ерусланом Лазаревичем, но я его не видывал и…
Еруслан Лазаревич не дал докончить ответа, соскочил с Ороща Вещего, подбежал к юноше, поднял его с земли, прижал к своему сердцу и, обнимая и целуя его, говорил:
— О, милый сын! Приди в объятия отца твоего, который — о ужас! — чуть не сделался убийцей твоим! Здорова ли мать твоя, а моя супруга Анастасия?
— Здоровье свое она расстроила печалью и тоскою по тебе, любезный родитель мой! — отвечал Еруслан Ерусланович. — Никогда я не видывал ее веселою, всегда она грустит и плачет да про тебя вспоминает и думает, что ты уже сложил где-нибудь свою голову.
— Сейчас же отправимся к матери твоей, а к моей супруге, — сказал Еруслан Лазаревич сыну. — Сядем на коней и с Богом поскорее в путь!
И поскакал Еруслан с сыном из Девичьего княжества, а с Пульхерией даже и не простился: боялся он, чтобы эта очаровательница снова не удержала его у себя как-нибудь. Дорогой Еруслан Ерусланович рассказал отцу своему следующее о себе:
— Родился я вскоре после твоего отъезда, любезный родитель мой, так сказывала мне матушка. Дней моего младенчества я не помню, а слыхал я от других: рос я не по дням, а по часам. Когда исполнилось мне девять лет, то ростом я был точно взрослый мужчина и силу имел непомерную, совсем не по летам моим. Хаживали к нам на княжеский двор дети боярские ко мне играть и однажды сказали мне с насмешкой: «У нас у всех есть отцы, а у тебя нет; скажи-ка, кто твой отец? Вот и не скажешь, а еще числишься внучком княжеским!»
Такие дерзкие слова привели меня в сильную досаду, я и давай справляться с моими обидчиками по-своему: дерну кого за руку — рука прочь, схвачу за голову — голова с плеч долой, ударю кого слегка ладонью, а он уж повалился на землю, лежит, не дышит. Пришел я домой в таком расстройстве, что матушка заметила и спросила:
«Отчего ты, любезный сын Еруслан, так невесел?» — «Родимая матушка, — отвечал я ей, — смеются надо мной дети боярские, упрекают меня, будто нет у меня отца. Позволь, государыня-матушка, ехать мне отыскивать родителя моего по белу свету!» — «Но где же ты отыщешь его?» — спросила у меня матушка, и я сказал ей в ответ: «Слыхал я от тебя самой, что мой батюшка поехал в Картаусово княжество, а если не туда, то, наверное, в Девичье, к прекрасной Пульхерии. Итак, я прежде отправлюсь к ней, в Солнечный город, по пути; а если нет там отца, поеду к Картаусу, если же и там его нет, объезжу все царства и государства, а отыщу его непременно, хоть будь он на краю света».
Долго не отпускала меня от себя матушка, но наконец по усиленным просьбам моим согласилась и позволила мне ехать отыскивать тебя. Простившись с дедушкой и с матушкой, надел я на себя доспехи богатырские и шлем пернатый, опоясался мечом острым, взял копье долгомерное, сел на коня и выехал из нашего княжества. Дорогой со мной не случилось ничего примечательного, и я прибыл в Девичье княжество, где и нашел тебя, моего любезного родителя, а, по незнанию, дерзнул состязаться с тобою и ударил тебя копьем.
Так закончил свой рассказ Еруслан Ерусланович. Более полугода наши путешественники были в дороге и приехали наконец в Вахрамеевы владения. Лишь только увидала прекрасная Анастасия своего сына и мужа, то выбежала на крыльцо встречать их. Бросилась она на шею Еруслану Лазаревичу, обнимала его и целовала, а сама говорила:
— Но тебе я выплакала все оченьки, все сердце в груди у меня выболело, сокол мой ясный! Без тебя мне был и свет постыл, а с тобою опять стал дорог и мил; воротилось ко мне мое счастие, возвратились мои ясные дни!
На ласки жены Еруслан Лазаревич отвечал такими же ласками. Он тут же заметил, что на Анастасии было черное траурное платье, и спросил у нее:
— Прекрасная супруга моя, по ком же это траур?
— Ах, милый мой Еруслан Лазаревич! — отвечала она. — Мы лишились нежного и доброго отца нашего. Он умер, но на смертном одре, в присутствии всех бояр и сановников своих, завещал, чтобы ты, по смерти его, управлял нашим княжеством.
После этого Еруслан Лазаревич с супругою своего и сыном пошли в княжеские палаты, куда вскоре явились все знатнейшие люди княжества Вахрамеева и говорили:
— Государь Еруслан Лазаревич, по воле покойного князя Вахрамея и по желанию нашему и всего народа, избран ты властелином над Дебрией. Бьем тебе челом и просим принять бразды правления.
Еруслан Лазаревич согласился на это предложение и стал княжить в Дебрии. Зажил он с супругою своею в великом ладу и согласии и почитал себя счастливейшим человеком в мире, обладая такою прелестною и любящею женою, которая умела все радости умножить и все печали уменьшить. А сынок их Еруслан Ерусланович все подрастал, укреплялся силами все больше и больше, набирался ума-разума и был на утешение родителям. Минуло ему пятнадцать лет, и он сделался славным богатырем, нисколько не хуже отца своего, если только не сильнее его.
— Милое мое детище! — сказал однажды Еруслан Лазаревич сыну. — Возьми мои доспехи богатырские, меч-кладенец заколдованный, мое копье долгомерное и коня Ороща Вещего и поезжай в чистое поле погулять и ратными делами заслужи себе славное имя могучего, непобедимого богатыря, как и я в молодые годы старался заслужить добрую славушку. Отправляйся прежде в Картаусово княжество и повидайся со своим дедушкой Лазарем Лазаревичем, а оттуда проедешь ты в бывшее Феодулово княжество, которым правит теперь названый брат мой Иван, русский богатырь. После того поезжай в Щетин город, где прежде княжил вольный царь, а теперь княжит там другой названый брат мой, сильный и славный богатырь Росланей. Узнай о здоровье всех этих богатырей, поклонись им от меня и скажи: родитель-де мой вас любит и уважает и часто вспоминает о вас. Во время пути будь смирен, честен и добр, сам никого не обижай и себя в обиду не давай, да помни пословицу: «Нам добро, никому зло — то законное житье».
Еруслан Ерусланович, простившись с родителями своими, надел на себя отцовские доспехи богатырские и пернатый шлем, опоясался мечом-кладенцом, взял копье долгомерное, сел на Ороща Вещего и отправился, куда посылали его. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается, скоро сказать: поехал и приехал, да не скоро на самом деле это исполнить, особливо если путь-дорожка и дальняя и трудная. Побывал Еруслан Ерусланович у всех, с кем отец велел повидаться ему, и через два года вернулся домой. Родители с великою радостью встретили приехавшего сына из дальнего путешествия.
— Ну, что, сын мой любезный, — спрашивал Еруслан Лазаревич, — видел ли ты тех, к кому посылал я тебя?
— Видел всех и исполнил все, что ты наказывал мне, — отвечал Еруслан Ерусланович. — Был у Картауса, у дедушки, у Ивана-богатыря и у Росланея, передал им поклон и привез тебе от них четыре письма; вот они.
Еруслан Лазаревич взял письма, распечатал их и стал читать. А в письмах тех было написано вот что:
«Любезному моему сыну Еруслану Лазаревичу и снохе моей, прекрасной Анастасии Вахрамеевне, посылаю свое родительское благословение, вовеки нерушимое, и желаю вам здравия и долголетия, и всякого благополучия, и наипаче любви и согласия между собой. Очень рад, что ты, любезный сын, своими трудами и знаменитыми подвигами достиг княжеского достоинства и наслаждаешься теперь счастливою жизнью. Благодарю за присылку ко мне внука: он доставил мне большое удовольствие и всем был тут на удивление по красоте своей, добронравию, силе и храбрости. О себе скажу, что я, слава Богу, жив и здоров и собираюсь как-нибудь съездить к вам, милым моим, и провести в вашем кругу несколько счастливых дней. Остаюсь отец ваш, любящий вас, Лазарь Лазаревич».
«Знаменитому князю и славному богатырю, а моему избавителю, Еруслану Лазаревичу, и супруге твоей Анастасии Вахрамеевне от князя Картауса великое челобитье и пожелание вам здравия и благополучия на многие лета, а княжеству вашему мира, тишины и спокойствия. О себе уведомляю, что я после всех несчастий, постигших меня, княжу благополучно, но только несколько сокрушаюсь душевно, что нет у меня под старость помощника и защитника, такого богатыря, как ты или прекрасный сынок твой, который пошел по дедушке и по батюшке своему и со временем, думаю, наполнит славой о себе весь свет».
«Великому в князьях и богатырю в богатырях, большему брату Еруслану Лазаревичу великое челобитье и здравие на многие лета и с супругой твоей Анастасией Вахрамеевной от Ивана, русского богатыря: будь здрав вовеки! А о сыне твоем скажу, не укоряя, а восхваляя его, что он наделал мне хлопот: когда он ехал ко мне в княжество, я думал, что он ворог мой, и кинулся к нему с булатным мечом, а он так ударил меня копьем долгомерным, тупым концом, что я вылетел из седла вон; но это дело не имело ничего худого, потому что я сам виноват, коли не спросил сначала, кто он таков и откуда едет. Потом он сам объявил мне причину своего прибытия в мое княжество. Жена моя Кандоула посылает тебе и супруге твоей поклон и желает всего хорошего; она все собирается повидаться с вами и подружиться с Анастасией прекрасной. Твой меньшой брат Иван-богатырь».
«Старшему моему брату не по летам и по росту, а по силе и храбрости, врачу моему и благодетелю, Еруслану Лазаревичу, с дражайшей супругой Анастасией Вахрамеевной, бьет челом до сырой земли богатырь Росланей Прохорович и желает вам мирного жития, здравия и во всем счастливого успеха. О своем житье-бытье уведомляю, что оно идет хорошо; с соседями у меня мир и согласие, а здоровье мое в самом цветущем состоянии. Только твой сынок чуть-чуть меня не зашиб. Увидал я, что на моем заповедном лугу остановился юноша, весь вооруженный с головы до ног; считая его за своего врага, я вышел против него и хотел садануть его копьем, а он, ловко увернувшись, ударил меня плашмя мечом прямо по ногам, подкосил мои ноги, и я упал на землю как сноп. Тут он мне объяснил, что он не враг мой, а посланец от тебя. За удар, полученный мною, не только не сержусь на него, а еще радуюсь, что Еруслан Ерусланович во всем похож на тебя; видно, что яблочко недалеко откатилось от яблоньки».
Читая эти письма и видя в них похвалы сыну, Еруслан Лазаревич очень радовался и благодарил судьбу, что она послала ему детище на утешение и защиту под старость.
— А не было ли с тобой еще чего-нибудь замечательного? — спросил Еруслан Лазаревич сына.
— Было одно происшествие, — отвечал Еруслан Ерусланович. — Когда я ехал домой, на обратном пути попался мне навстречу старый старичок, маленький ростом, худенький, и стал загораживать мне дорогу. Хотел я ударить его копьем, чтобы он сошел с дороги, а он только дунул на меня — и я, как сноп, свалился с коня и ослабел, как малый ребенок; подхватил старичок меня на руки и сказал: «Сейчас бы я предал тебя смерти за то, что ты на старца дряхлого и слабого хотел поднять руки; но прощаю тебя, потому что ты млад еще и неопытен, да притом же сын славного богатыря Еруслана Лазаревича, которого я знаю и уважаю». Выпустив меня из рук своих, старичок прибавил: «Ну, теперь поезжай домой да не похваляйся много силою богатырскою и удалью молодецкою, а веди себя как прилично доброму витязю: на слабого и беззащитного не нападай и помни, что иной раз сильно мстят и бессильные враги».
— Очень благодарен я этому почтенному старику, что он дал тебе назидательный урок, — сказал Еруслан Лазаревич.
Таким образом, Еруслан Лазаревич с супругою и сыном своим жил мирно и благополучно много лет и был вполне счастлив; княжеством он управлял мудро и милостиво, и все подданные любили его. Еруслан Лазаревич княжил в своем княжестве ровно тридцать лет, и всех от роду пятьдесят лет и три месяца. Наконец, Еруслан Лазаревич умер спокойно, и супруга его Анастасия Вахрамеевна очень много плакала о супруге своем и от той кручины умерла, а сын их Еруслан по отце своем, сильном и славном богатыре Еруслане Лазаревиче, а также и по матери своей горько плакал. А после смерти родителей, по немногом времени, сел на княжество отца своего и царствовал в городе Дебрии честно и славно много лет.
ПОВЕСТЬ О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ АНГЛИЙСКОГО МИЛОРДА ГЕОРГА И БРАНДЕНБУРГСКОЙ МАРКГРАФИНИ ФРИДЕРИКИ-ЛУИЗЫ,
с присовокуплением к оной истории бывшего турецкого визиря Марцимириса и сардинской королевы Терезии
(В обработке М. Комарова)
ЧАСТЬ I
В прошедшие времена, когда еще европейские народы не все приняли христианский закон, но некоторые находились в баснословном языческом идолослужении, случилось в Англии с одним милордом следующее странное приключение.
Среди самого прекраснейшего дня, в один час, темная туча покрыла чистое небо; облака, как горы, ходили и волновались, подобно Черному морю, от жестокого ветра; гром, молния, град, дождь и сильная буря, соединясь вместе, приводили в ужас всех живущих на земле. Все бегали, искали своего спасения; старые, воздевая руки к небу, просили богов об отпущении грехов; младые вопияли и укрывались под кровы; жены и девицы с плачем и воплем входили в храмы и затворялись; земледельцы в полях не обретали своего спасения.
Младший английский милорд Георг, будучи в сие время с псовою охотою в поле, принужден был от страшной сей грозы искать своего спасения в лесу; но и сей был от него в отдаленности; однако ж, увидевши в стороне одно кедровое дерево, он, прискакав к оному, остановился, но от дождя, града, от сильных громов и от жестокой молнии укрыться под оным не мог; становится на колени, простирает руки свои к небу, просит Юпитера об утолении его гнева.
Наконец, спустя несколько часов, ужасная сия гроза утихла, а день стал уже приближаться к вечеру; милорд, севши на лошадь, хотел ехать домой и, обратясь в одну сторону, увидел недалеко от того дерева лежащего под кустом зайца, который, тотчас вскоча, побежал в поле. Бывшие же с милордом собаки, бросившись за ним, так близко к нему прилезли, что из спины шерсть с кровью вырвали, а заяц, оторопев, вертелся между собаками, и милорду казалось, что они, верно, его поймают; но заяц, приблизясь к одному острову, вдруг от собак удалился, за которым вслед милорд, как горячий охотник, хотя и скакал во весь опор, однако из глаз своих потерял, а въехавши в остров, увидел своих собак всех в крови, которые с превеликою злобою лают, рвут траву и дерут землю, от чего и отбить он их не может.
Но вдруг, отдалясь от того места, опять поскакали, бросаясь то в одну сторону, то в другую, подобно как бешеные, а за ними умножился кровавый след, только отчего и на что они лают, за чем скачут — ничего приметить было не можно, и так из виду глаз его ускакали.
Милорд, по обыкновенной охотнической страсти, скакавши без всякого рассудка, забыл, что за ним ни одного человека не было, ибо все охотники во время грозы, собирая рассеянных по полю собак, разъехались по разным местам. И так он, ездя по острову, искал своих собак и подавал охотникам в рог голос; но тщетно было его старание, потому что они, искав не малое время своего господина, подумали, что он от бывшей грозы прежде их уехал, чего ради они все возвратились домой.
Между тем временем солнце светлые свои лучи уже скрывать стало, а приятная луна начинала показываться на горизонте, и звезды по чистому небу блеск свой испускали. Милорд, хотя и не робеет, однако ж, заехавши очень далеко, и находясь один в пустом месте, и не нашед своих собак, не знал, что делать. Но, наконец, вздумал еще их искать и, отъехавши немного, увидел одну английскую свою суку мертвою: обе передние у нее ноги переломаны, и вокруг нее множество крови; тогда подумал он: как-нибудь она убилась. Потом немного что подалее наехал на палевого кобеля, пополам перерванного, отчего пришел в сомнение, потому что, кроме одного зайца, никакого зверя не видал, а собаки его умерщвлены чудным образом. Отъехав несколько еще, усмотрел любимую свою суку без головы, подбитую под корень одного дерева, от которого и прошел в лес немалый кровавый след. И так по сему следу нечувствительно заехал в превеликий густой лес, по которому ездивши почти всю ночь, он приходит в отчаяние, потому что заехал в незнакомый, великий и почти непроходимый лес, в котором от лютости зверей мог быть подвержен великой опасности, а в обороне своей ничего при себе, кроме одного охотничьего ножа, не имел, за утомлением лошади никак далее ехать не было можно. В сих печальных размышлениях до тех пор он находился, как уже солнце опять стало показываться на горизонте, и небо, как яхонт, голубого цвета представлялось глазам его, по которому текущие и тонкие прозрачные облака обещали ясную и приятную следующего дня погоду. Чрез сие сияние лес впереди его стал казаться реже, сквозь который видно было чистое место. Направя туда свою лошадь, он выехал на большой, с редкими лавровыми деревьями, луг, на котором произрастали различные прекраснейшие цветы, от которых происходило великое благоухание и кои показывали приятнейший вид.
Веселяся он сим прекрасным местом и смотря на растущую на том лугу ровную и густую траву, наслаждался благоуханием, происходящим от различных цветов, с великим удовольствием. Но, как он всю ночь проводил без сна, то сон его так стал одолевать, что он едва мог сидеть на лошади, слез и, привязав ее к одному дереву, сам лег спать. Когда он довольно выспался, то, вставши, ходил по сему прекрасному лугу, рвал цветы и плел из них венок, который хотел отвезти в презент своей невесте за превеликую диковинку, ибо он думал, что в Лондоне и в королевском саду таких цветов не было; только не знал, в какую сторону ему из лесу выехать, и для того принужден был влезть на одно дерево (нужда всему научит) и, смотря с оного, увидел недалеко от того места небольшую и подчищенную рощу, от которой по перспективной дороге, усаженной разными деревьями, виден был преогромный каменный, удивительной архитектуры, дом. Увидевши сие, пришел он в удивление, рассуждая, какому бы в таком пустом месте быть дому; чего ради и принял намерение для любопытства туда ехать и, севши на свою лошадь, приехал прямо к воротам того дома, у которых прикованы были на железных цепях два превеликие свирепые льва, испускающие ужасный рев, и бросались один на другого, но за короткостью цепей сразиться между собою не могли. Любопытство милорда столь было велико, что он, презирая видимую от сих лютейших и дышащих злобою зверей опасность, вознамерился поскакать на двор. Так, ударивши свою лошадь шпорами, пустил во весь опор, но от лютости сих зверей ускакать не мог, ибо как скоро против них поравнялся, то они, в мгновение ока, ухватя его лошадь, растерзали, а он, свалясь с лошади, так скоро и легко на двор откатился, как бы сильным ветром его от лютости сих зверей отбросило. Тут познал он безрассудное свое от любопытства происходящее дерзновение и, вставши с земли, не знал, которым богам приносить благодарность за спасение своей жизни. Но притом немало удивлялся, что как на дворе, так и в открытых палат окнах не видно было ни одного человека, чего ради пошел он прямо к палатам и вошел в сени, в которых пол был устлан коврами, стены обиты разноцветными темными обоями, а лестница устлана самым лучшим алым сукном, по которому он идти не осмелился, а пошел вверх по стороне лестницы и вошел в пребогато меблированный различными драгоценными уборами зал, посреди которого накрыт был на осьмнадцать приборов стол; в прочие покои все двери были отворены, и чрез несколько комнат в одной горнице стояла бархатная малиновая, с золотым галуном кровать. Но только вышел он в сени и взглянул к воротам, то увидел подъезжавшую к оным одну карету цугом, и прикованные у ворот злобные львы тотчас пошли на места, назначенные для их покоя. Карета, въехав на двор и не доезжая немного до крыльца, остановилась, из которой вышла преизрядная собою дама. Милорд, видя сие, рассуждал за лучшее сойти вниз и ее встретить. Дама, увидевши его и поклонясь ему, не остановилась, потом въехала на двор другая карета, пребогато убранная как шорами на лошадях, так и ливреею на лакеях, и, подъехав к самому крыльцу, остановилась, и вышла из нее одна дама же в белом платье такой неописанной красоты, что милорд от робости не смел на нее пристально смотреть и стоял как изумленный. Дама сия, взглянув на него свирепым видом и не сказав ни слова, пошла прямо по сукну вверх. Потом еще въехали пять карет цугом; в каждой сидело по три дамы и, подъехав к крыльцу и вышед из карет, равным же образом поклонясь ему, следовали за первою; а последняя из них сказала ему, чтоб изволил идти в покои маркграфини. Милорд, не ответствуя ничего, но поклонясь с учтивостью и страхом, пошел за ними.
Вошел он в прежде виденную им залу, в которой уже находилось человек до двадцати лакеев и официантов в пребогатом платье, из которых один пошел к нему, с учтивостью сказав, чтоб он изволил идти в аудиенц-камеру. Милорд последовал за ним в пребогато убранную горницу, которая была обита золотым глазетом с вырезанными из парчи разных цветов букетами: посреди оной стоял сделанный из самого чистого мрамора трон, над которым балдахин из зеленого бархата, пребогато вышитый золотом, на оном тропе сидела маркграфиня, а по правую сторону тропа стояло шестнадцать прекраснейших девиц в одинаковых пурпурового цвета платьях. Как скоро он вошел в сию комнату, то маркграфини встретила его следующими словами:
— А, господни милорд! Вас я очень давно желала видеть, но никаким способом до сего времени случая не имела, а теперь вы и сами, незваные, ко мне приехали, только не знаю, с какими глазами и совестью могли вы предо мною показаться, — и, оборотясь к своим фрейлинам, сказала: — Вот тот английский милорд, спесивый жених, который из двенадцати во всем свете славных портретов, которых я могу назвать моими приятельницами, ни одной себе в невесты не только не удостоил, но ни одна из них без ругательства не осталась. — И, обратись опять к милорду, говорила: — Вы, сударь, не думайте, чтоб я за их обиду вам не отомстила, а притом поздравляю вас по выбору вашему с невестой, уверяя, что вы своим выбором ошиблись, что она против обруганных вами ни одной их ноги не стоит, а только в том перед ними имеет преимущество, что через три месяца по женитьбе вашей можно будет вас поздравить с сыном или дочерью.
Слышавши сие, милорд пришел в великое сомнение, не мог понять, почему бы маркграфиня обо всем том могла ведать, ибо рассуждение о портретах было только при трех персонах, и на тех столько он был надежен, как сам на себя; при этом же, видя его в первый раз и не спрося, кто он такой, знает, как его зовут и обо всех его делах известно!
Все сие приводило его в чрезмерное удивление, почему и не осмелился уже он никакого в том пред нею приносить оправдания, а вознамерился открыть самую истину, чего ради и отвечал ей:
— Милостивая государыня, я осмелюсь о помянутых двенадцати портретах донести, что я говорил о них не в поношение их чести, но по принуждению моей сестры и тетки, которые, выбирая мне невесту, показывали те портреты, а я, не имея, еще такого намерения жениться, говорил о них для того, чтобы они меня больше к женитьбе не принуждали, а что теперь, по несчастью моему, имею невесту, то она не по выбору моего желания, но по провидению богов дана мне от короля, моего государя! А ежели она действительно такого состояния, как вы объявлять изволите, то я желаю лучше лишиться жизни, нежели по трех месяцах моей свадьбы сносить ругательное поздравление.
Выговоря сие, стал пред маркграфинею на колени. Она, видевши сие, сошла тотчас с трона и, подняв его за руку, сказала:
— Милорд, вы ничем другим, как только истинным признанием спасли жизнь свою от справедливого моего гнева, ибо я никак не думала, чтобы такой честный и разумный английский милорд мог поносить честь дамскую. Разве вы не знаете, что богиня Диана, как хранительница честности, за сие без отмщения не оставляет. Однако ж я вам теперь все прощаю и желаю ведать, знаете ли вы, где теперь находитесь и с кем говорите?
— Ваше высочество, — отвечал милорд, — я слышал от ваших фрейлин, что они именовали вас маркграфинею, а больше ничего, по нечаянному моему сюда прибытию, не ведаю и где нахожусь — ничего того не знаю.
Маркграфиня, усмехнувшись, сказала:
— Я Фридерика-Луиза Бранденбургская, вдовствующая маркграфиня.
— Ваше высочество, — говорил милорд, — я, еще будучи в школе, о красоте и премудрых ваших делах довольно читал в одной итальянской книге.
Маркграфиня, пожаловав его к руке и оборотясь к своим фрейлинам, сказала:
— Я думаю, время уже кушать, — и пошла в зал; милорду приказала идти за собою и посадила его за стол подле себя; прочие вокруг них сели.
Во время стола маркграфиня разговаривала с милордом о разных материях с великою приятностью, а по окончании стола, взяв его за руку, повела его в свою спальню и, посадя подле себя на кровать, говорила:
— Вы очень меня одолжите, ежели расскажете мне, каким образом вы из Лондона отлучились и сюда заехали.
— Выше высочество, — отвечал милорд, — я, видевши высочайшую вашу к себе милость, за великое буду почитать счастие, что удостоюсь объявить вам не только странное вчерашнее со мною приключение, но всю историю с начала моей жизни.
И стал сказывать следующими словами:
— Когда судьба лишила меня любезнейшего моего родителя Ирома, то я остался после него в самых младенческих летах, под охранением моего дяди Христофора, родного брата моего родителя, матери же моей я нимало не помню. Сей мой дядя, приняв меня под свое покровительство, такое обо мне имел попечение, как бы о родном своем сыне; но, к несчастью моему, и он, по соизволению королевскому, назначен был для некоторого секретного дела полномочным министром в Константинополь, почему и рассуждал он, что со мною делать; оставить меня одного в доме моего родителя в таких младенческих летах почитал за невозможное, опасаясь, чтоб я в таком ребячестве не сделал привычки к худым делам; также и к себе взять в дом не имел способа, потому что он жены у себя не имел, а только были у него две дочери: большая, именем Люция, семнадцати лет, а другая, Филистина, пятнадцати лет, о которых он также немало беспокоился, что они и таких молодых летах остаются без всякого покровительства, рассуждая, что как бы ни были добродетельны его дочери, но, живучи одни в доме, никак не могут остаться от бездельников без поношения чести. Наконец, по многих печальных, колеблющих его мысли рассуждениях решился он оставить меня в доме моего родителя, но под присмотром одного из наших служителей, добродетельного человека, именем Франца, который прежде того, по некоторому неправильному от его неприятелей доносу, сослан был в наши местности (ибо обыкновенно бездельники всегда добрых людей ненавидят), и притом, призвав одного из славных в Лондоне учителей, именем Ягана, договорился с ним, чтоб он принял меня к себе в школу, для обучения по склонности моей к разным наукам, и просил его, чтоб он прилежно обо мне имел попечение, обещая ему, по возвращении своем из Константинополя, учинить сверх договорного числа довольное награждение. Дочерей же своих оставил в своем доме под присмотром родной их тетки Маргариты, и, хотя он к правлению своего дома имел верного и надежного человека, однако ж приказал ему, чтоб он обо всем докладывал большой его дочери Люции и и ничего бы без позволения ее не делал.
Таким образом он, учредя в своем доме все порядки и дав дочерям своим надлежащие наставления и простясь с нами с пролитием немалых слез, предприял путь свой в Константинополь.
И так я, лишаясь покровительства любезного моего дяди, остался в самых еще младенческих летах под смотрением упомянутого моего дядьки Франца. А как обыкновенно все дети больше имеют охоты и склонности к резвостям и шалостям, нежели к наукам, то сей разумный и добродетельный человек умными своими разговорами и прилежностью так меня нечувствительно от резвостей детских отвратил и приучил упражняться в науках, что я ходил в школу с такою охотою, как бы в какую веселую компанию, и книги мне казались вместо приятной музыки; а когда я возвращался из школы домой, то сей дядька рассказывал мне разные нравоучительные истории и толковал, как мне должно обращаться в свете. Я смело могу сказать, что как ни славен был учитель мой Яган, но он не мог столько вселить в меня добродетели и хорошего поведения, как сей мудрый дядька. Он с такою прилежностью и рачением наблюдал все мои поступки, что ни на один час от меня не отлучался и без себя ни одного человека из моих людей ко мне не допускал, опасаясь, чтоб они не могли иногда при мне произносить каких пустых и непристойных слов, как то обыкновенно при молодых господах бывает; почему и учитель мой поведением моим и прилежностию к наукам был доволен, и не только чтоб на меня за леность и худые поступки кричать, но всегда меня пред всеми моими товарищами хвалил и часто говорил, что у него никогда еще такого прилежного и понятливого ученика не бывало. Но сия его похвала была мне не очень приятна, потому что он же обучал нашу принцессу Иринию, чего ради нередко прихаживал к нам в школу сам король и с королевою, и когда случался у них разговор о науках, то учитель мой и при их величествах часто упоминал обо мне с такой похвалой, какой еще во мне и недоставало, и говорил, что он такой острой к понятию наук головы еще не видывал, и через то такое обо мне вложил королю хорошее мнение, что он приказал одному из своих придворных, когда я буду во дворце, всегда обо мне ему докладывать. И хотя я тогда был еще очень молод, но, по позволению королевскому, во дворец в торжественные дни в маскарады и на куртаги хаживал, и в один день, будучи я во дворце, король, увидевши меня, изволил сам ко мне подойти и пожаловать меня к руке, несколько со мною разговаривал, и я ему так понравился, что он приказал своей принцессе Иринии взять меня танцевать. Я, протанцовавши с нею один менуэт, поднял еще одну девицу, которая близко подле меня прилучилась и о которой после я сведал, что она дочь королевского гофмаршала, именем Елизавета, нынешняя моя невеста; только мне в то время примечать ее нимало нужды не было, для того что я, по молодости лет, нимало намерения к женитьбе не имел.
Король, смотря наши танцы, очень меня хвалил и приказал мне, чтоб я в праздничные дни, когда не учатся в школе, всегда ездил во дворец и старался бы с прилежностию продолжать мои науки, обнадеживая меня своею милостию. Я, по приказу королевскому, во дворец хотя и езжал, но очень редко, ибо любезный мой дядька как бы нечто предчувствовал, что часто меня не отпускал. Но, к несчастью моему, по прошествии трех лот после отъезда моего дяди в Константинополь, и Франц, сей добродетельный мужик, будучи семидесяти лет, скончался, которого лишившись, я не меньше об нем сожалел, как о моем родителе, и столько плакал, грустил и рвался, что доходил до беспамятства, отчего пришла ко мне жестокая горячка, от которой принужден был лежать четыре недели в постели. Сестры мои, Люция и Филистина, во время моей болезни очень часто меня навещали, а притом уже и служители мои во всякое время имели ко мне в спальню свободный вход, и все, что им рассудилось, вольно со мною для моего увеселения разговаривали, что прежде при любезном моем Франце никак сделать не смели.
Между тем в одно время прибыл ко мне один из моих приятелей, именем Мелалий. Он был одного дюка сын, и мать его, по горячей к нему любви, держала при себе до девятнадцати лет и избаловала, что он от праздности такую ко всем худым делам сделал сильную привычку, что иногда и сам видел некоторые в себе пороки, но никак уже от оных отстать не мог, и признался, что оные в него вселились по большей части от чрезмерной матерней любви; и хотя отец его, смотря в нем худое воспитание, отдал его для исправления к учителю, но сие было уже поздно.
Сей Мелалий пришел ко мне и, разговаривая со много, спрашивал меня, чем я забавляюсь. Я ему отвечал, что, лишась любезного моего дядьки, я всех забав лишился и ничего теперь, кроме печали, не имею; ежели уже и есть утешение, так только мои книги. «Это для молодого человека очень скучно», — говорил Мелалий. Я ему отвечал: «А для меня всего веселее». — «Нет, — продолжал Мелалий, — молодого человека ничто так веселить не может, как амур, и сия наука так легка и понятна, что без учителя в самое короткое время обучиться можно». — «А для меня, — отвечал я ему, — кажется, всего труднее и бесполезнее, потому: 1) чрез сие можно лишиться тех наук, которые молодого человека могут привести к славе и чести; 2) надобно оное содержать в великой тайности, чтоб никто не мог о том ведать, чтобы через то не лишиться честного имени; 3) в таковых делах человек подвержен великой опасности в потерянии своей жизни; 4) благородную любовницу без всякого страха иметь никак не можно; подлую, которая любить будет из одного интереса, то от того получишь бесчестную славу».
«О милорд, — говорил мне Мелалий, — я вижу, что вы очень деликатны и разборчивы. А для меня так все равно, какая бы ни была любовница, благородная или подлая, я этого не разбираю».
Маркграфиня при сих словах, прервав милордову речь, сказала:
— Возможно ли статься, чтоб у благородного человека была такая безрассудная имажинация?
— Извольте выслушать, ваше высочество, — говорил милорд. — Я ему отвечал, что я и по выбору никакую еще по моим летам любить не хочу, а он мне на сие сказал: «Видно, братец, что вы еще любовных дел не знаете или не имеете в том счастия, потому так и рассуждаете». — «Пожалуй, — говорю я ему, — прекратим сей разговор, а лучше будем говорить о чем-нибудь другом, чтобы мне не так было скучно». — «Да о чем же, — сказал Мелалий, — ежели говорить о науках, они мне и в школе довольно наскучили». — «А для меня, — сказал я ему, — всего приятнее».
«Дайте же мне посмотреть свою руку», — говорил Мелалий. Я тотчас подал ему руку, и он, смотря мне на руку, сказал: «Вы мне теперь запрещаете говорить о любви, а я, по моей хиромантической науке, объявляю, что хотя вы теперь у себя никакой любовницы и не имеете, но через четыре года много от любви будете странствовать и будете иметь себе одну девицу невестою; но, не женясь на ней, другую весьма знатную и прекрасную особу с великою честию своего благополучия в невесты себе получите, чрез которую боги обещают вам быть великим человеком, только притом с великою осторожностию и рассуждением вам поступать надобно, потому что ежели вы хотя малое какое ни есть сделаете в то время преступление, то будете чрезмерно несчастливы, и сие вам сказываю в память моего имени. Однако я думаю, — сказал Мелалий, — что я вас моими разговорами несколько обеспокоил: прошу прощенья».
Я, благодаря за его посещение, просил, чтобы он и вперед меня не оставлял.
По нескольких днях, как я совсем от болезни моей освободился и стал ходить в школу, то в одно время, идучи я с Мелалием домой, зашли ко мне и только стали пить чай, вошел ко мне камердинер и сказывает, что сестры мои прислали лакея звать меня к себе. Я приказал им сказать, что тотчас буду, и, обретясь к Мелалию, говорил: «Ежели вам не противно, то прошу сделать компанию вместе со мною», на что он с охотою согласился.
Приехав к своим сестрам, спрашивал я у Люции, зачем она за мной присылала. Она мне показывала полученные из Константинополя от отца своего, а моего дяди, письма, в которых было нечто и для меня нужное. Между тем приехала к ней одного нашего генерала дочь, именем Анна-София, с тремя девицами, своими приятельницами, и, по нескольких разговорах, сестра моя приказала подать карты, и, разбившись партиями, сели играть: я, Люция и Анна-София в ломберт, а сестра Филистина, Мелалий, Христина, дочь португальского доктора, и Доротея-Луиза в кадриль.
Анна-София, играючи в карты, очень пристально на меня смотрела и, наклонясь к Люции на ухо, спрашивала обо мне: «Как, матушка, мне кажется, я сего кавалера видала, только не знаю где». Люция, усмехнувшись, отвечала: «Это Георг, мой двоюродный брат». — «Ах, матушка, — говорила Анна-София, — я его не узнала: как он перед прежним стал хорош!»
Я, видя, что они шепчут, привстав немного с кресел и усмехнувшись, сказал: «Не подозрителен ли я, сударыни, вашим разговорам?» — «Нет, братец, — отвечала Люция, — Анна-София вас не узнала и опрашивает, кто вы таковы? и что она вас видела, да только не помнит где…» Я на сие отвечал: «Я, сударыня, с покойным моим родителем бывал у вашего батюшки». — «Простите, сударь, мне, — говорила она, — я, ей-ей, вас не узнала, и ежели смею просить вас, чтобы с сестрицею вашей меня своим посещением удостоить», и, говоря сие, закраснелась. А я отвечал ей: «Я, сударыня, за великое почту счастье, ежели вам нижайшее мое почтение будет не противно».
Потом, играя в карты, случилось мне у ней одну игру перебить, и сделался у нас в том маленький спор, при чем она с великою стыдливостью, будто бы в шутку, сказала: «Я, сударь, во многих компаниях о чести и остроте вашего ума слыхала, а теперь вижу, что вы ни малой учтивости даме сделать не хотите!»
Я отвечал ей: «Ежели вам, сударыня, сие надобно, то в угодность вашу, а не по правилу ломберта, могу сказать, что вы в том правы, только опасаюсь, чтобы после вы не могли назвать меня лжецом». Она, взглянув на меня, сказала: «Ах, какие это глаза, я еще отроду таких глаз ни у кого не видывала!» — «Сударыня, — отвечал я ей, — я еще по сие время и сам про свои глаза не знал, что они у меня не такие, какие у прочих; да что ж вы изволили в моих глазах приметить? Я бы за великое почел одолжение, если б вы худобу моих глаз объявить мне изволили, ибо я всегда почитаю себе за одолжение, когда кто мне в мою осторожность открывает мои недостатки; а вы, как я думаю, по вашему разуму, конечно, ни в чем ошибиться не можете и меня в том из сомнения выведете». — «Я, сударь, — отвечала она, — другим временем о том объявлю». И, обратись к Люции, шепчет: «Ей-ей, свет мой, у него самые воровские глаза!»
Люция, засмеявшись и оборотясь ко мне, сказала вслух: «Ах, какой вздор шепчет: будто вы, братец, имеете воровские глаза».
Я усмехнулся и отвечал ей: «Благодарствую, сударыня, за рекомендацию глаз моих, которые, верно, ни на кого, кроме честных людей, глядеть не хотят». — «Ах, сестрица, — сказала Анна-София, — когда я вам так говорила? Какая это лживица, как тебе это на ум пришло? Это, сударь, ей-ей, неправда». — «Я, сударыня, даю вам обеим на волю, — сказал я ей, — как изволите, так и выправитесь».
Но сестра моя, приметивши ее ко мне любовную страсть, разговор сей пресекла, а показывала ей товары, которые она того дня купила, и так наш разговор кончился.
Между тем Мелалий, играя в карты с Доротеею-Луизою, и как он к волокитству имел великую склонность, то сколько можно старался сего случая не упустить, чего ради и вступил с ними в разные разговоры, Доротея, по природной своей смелости, говорила ему: «Я бы, сударь, вам никогда не советовала играть в карты». — «А для чего, сударыня?» — спросил Мелалий. «Для того, сударь, — сказала она ему, — что, видно, вы еще только начинаете учиться, потому что очень много делаете фогоф и несчастливо играете». — «Нет, сударыня, — говорил Мелалий, — и очень счастлив, только с вами играть не гожусь». — «Так не прогневайтесь, сударь, — сказала она ему, — что я в том ошиблась, — и, обратись во всю компанию, сказала: — А об этих глазах как вы рассудить изволите?»
На сие Мария-Христина отвечала по-итальянски (ибо Мелалий по-итальянски говорить не умел): «Это беспутный волокита».
Я, слыша сие, захохотал что есть мочи, а Мелалий спрашивал меня, почему я смеюсь. Я ему сказал, что смеюсь своей игре, а на Доротеины слова Мелалий отвечал: «Мои глаза, сударыня, очень похожи на ваши».
Мария-Христина, услышавши сие, захохотала и говорила опять по-итальянски: «Поздравляю вас». Мелалий продолжал свой разговор следующими словами: «Я осмелюсь, сударыня, сказать, не в пример здешней компании, что дамские глаза всякую минуту ловят мужские: а ежели бы не препятствовал им женский стыд, то бы они всегда прежде нашего любовь свою нам объявляли, а как скоро мужчина сделает пропозицию, то в одну минуту стыдливость их пропадает, потому что всякая против мужчины имеет пылкости более двух частей, а мы уже остаемся в третьей».
Хотел было Мелалий еще говорить больше, но Люция сказала: «Ах, мои матушки, какой это наглец!» А я, не вытерпя, принужден был ему сказать: «Благодарствую, братец, что ты своими разговорами удивил нашу компанию; ежели бы я знал, что от тебя последует такое вранье, то бы ни для чего тебя с собою сюда не взял. Опомнись, ты видишь, что здесь сидят девицы, а ты говоришь такой вздор, которого и замужним слушать непристойно».
Доротея, обратясь к Анне-Софии, сказала: «Я думаю, уже время и домой ехать», и, встав, поехали.
После сего, спустя несколько времени, случилось мне в именины Люции быть опять у нее; и как гости все разъехались и остались мы одни, то тетка наша Маргарита говорила со мною, что время жениться, и выхваляла много девиц; притом же сестра Люция о том же мне советовала и представляла в невесты некоторых знакомых ей девушек. Но как я не хотел еще жениться, то, смеясь, отвечал им, что у нас в Лондоне нет такой невесты, на которой бы я согласился жениться; притом же я еще многих коротко и не знаю, а на выбор других в сем случае, кроме самого себя, ни на кого положиться не могу, потому что от женитьбы зависит вечное человеческое счастие или несчастие.
Люция на сие говорила мне: «Братец, теперь вы все науки окончили, дом имеете богатый, имения довольно, итак, вам остается только искать, чтобы невеста ваша была честная и добродетельная. Хотите ль вы, братец, я вам покажу двенадцать славных портретов; вы только выбирайте, которая вам понравится, а за достоинство их я вам ручаюсь». Я на сие, смеясь, говорил ей: «Пожалуй, покажите, я готов вас слушать». Люция, взяв меня за руку, повела в свою спальню, а за нами вошли Маргарита и Филистина, и показывали мне те портреты, которые были самой лучшей работы.
1. Вильгемины, дармштадтского генерала дочери. Я, смотря на оный, говорил: «Она бы очень хороша, да только немного криворота». Люция отвечала мне, что, может быть, ошибся живописец, а у нее этого нет.
2. Ульрики-Элеоноры, шведского генерал-лейтенанта дочери. «Правда, — говорил я, — эту можно бы назвать красавицей, ежели бы была не кривоглаза».
3. Софии, родной племянницы маркграфа бранденбургского…
Маркграфиня, прервав милордову речь, сказала:
— Она и мне племянница; однако, пожалуй, не опасайся, говори, как было.
— Извольте быть уверены, наше высочество, — отвечал милорд, — я ничего от вас утаить не могу. Я, смотря на оный портрет, сказал: «Она немного кривоноса». — «Ах! как дурно, братец, так ругать», — говорила мне сестра. «Что ты сердишься? Ведь здесь никого чужих нет, и никто об оном ведать не может».
4. Марии-Аполлонии, сардинского курфирста сестры. «Это, — говорил я, — кажется, из персон недалекого ума».
5. Анны-Христины, дочери польского сенатора. «Ее и позитура, — сказал я, — показывает нескромность». — «Какое это ругательство!» — говорит Люция.
6. Елизаветы-Терезии, сардинского вице-канцлера дочери. «Ежели ее кто возьмет, — говорил я, — то ничем другим утешится, как только одною красотою, а ума в ней не бывало».
7. Флистины-Шарлоты, испанского адмирала племянницы. «Она и на портрете, — сказал я, — написанная, смеется, а сама уже, я думаю, великая пустосмешка». — «Никак, — говорила Люция, — она только веселого нрава».
8. Марии-Филистины, прусского генерал-адъютанта дочери. «Ежели она подлинно так убирается глупо, как написано, то надобно ее взять такому, который бы сам знал во всех женских уборах надлежащую пропорцию». — «Батюшка-братец, — говорила мне Люция, — ведь этак можешь прослыть великим насмешником, что будто для вас из таких знатных невест ни одна не годится»; и, кликнув девку, приказала принести из другой горницы еще четыре портрета, которые показывая мне, сказала: «Вот то-то, братец, красавицы!»
9. Марии, цесарского адъютанта дочери. «Правда, — отвечал я, — она хороша, да только очень еще молода, да еще щеголиха, в золотом платье и написана».
10. Марии-Анны, бразильского генерал-майора сестры. «Мне кажется, — сказал я, — она уже не меньше тридцати лет имеет от роду». — «Это правда, — отвечала мне сестра, — что она вас старее».
11. Вильгельмины-Амалии, брауншвейгского камергера дочери. «Она очень несчастлива, — сказал я, — что ее портрет пишут, она не хороша».
12. Ингиренты-Елизаветы, английского обер-гофмаршала дочери, нынешней моей невесты.
Я, смотря на сей портрет, сказал: «Вот эту нужно назвать красавицею, ежели она подлинно так хороша, как написана, а портрет ее показывает в ней великий разум. Я прошлого года во дворце с нею танцевал, только она мне не так хороша показалась, я и не думаю, чтобы через год так много в ней красоты прибавилось». — «Совершенно она хороша и умна, — говорила Люди я, — ежели тебе угодно, то, когда она ко мне приедет, я пришлю за тобой». — «Хорошо, — отвечал я, — очень хочу ее видеть». Люция мне сказала, что она на нынешней же неделе неотменно повезет ее к себе обедать. И я признаюсь, что желал ее видеть не для того, чтобы получить себе в невесты, но для одного только любопытства. Итак, простясь с сестрами и теткой, поехал домой.
Через шесть дней прислала ко мне сестра сказать, что Елизавета будет к ней обедать. Я, одевшись, к двенадцатому часу к сестре приехал. Увидевши Елизавету, я ее принял за совершенную красавицу и, сидя за столом, смотрел на нее очень прилежно, высматривая, как из персоны, так и из разговоров, не имеет ли она какого недостатка, но ничего приметить не мог, и она так мне полюбилась, что хотя жениться был еще не намерен, но думал в себе, что когда будет мое намерение, то она мне нимало не противна.
После обеда я несколько с нею разговаривал с великою учтивостью и сколько мог приметить, то и я ей показался не противен. Итак, просидевши у сестры до самого вечера, она поехала домой. По отъезде ее тетка моя Маргарита и сестра Люция спрашивали меня, какова мне показалась Елизавета. Я им отвечал, что она мне не противна, только я не имею еще никакого чина, жениться еще не намерен, и с тем от них поехал.
После сего, как я был во дворце, то ни с кем больше не танцевал, как с нею, не для того, чтоб я ее очень любил, но потому, что она лучше других танцевала, а отец ее с того времени стал ко мне ласкаться и всегда со мною разговаривать.
В один день тетка моя, будучи у Елизаветиной матери в гостях и увидевши Елизавету, говорила ее матери: «Ах, как вам должно благодарить богов за такое дарованное вам сокровище». — «Это правда, — отвечала Елизаветина мать, — да уже и невеста; пожалуй, не знаешь ли где для нее хорошего жениха». — «Ах, мать моя! — говорила мои тетка. — Ежели вам угодно, я тотчас вам объявлю суженого для ней — племянника Георга». — «Ах, какой предорогой молодец, — говорила Елизаветина мать, — дочь бы моя была счастлива, если бы могла быть его женою; только я думаю, что он ее не возьмет». — «А для чего, сударыня, — отвечала ей Маргарита, — мы с Люцией несколько раз говорили ему о женитьбе; и он только тем отговаривался, что не имеет еще никакого чина, а дочь вашу он почитает за первую красавицу во всем Лондоне».
К сим разговорам пристал и отец Елизаветин и говорил им, что он меня довольно знает, да и король из всех милордов признает меня за первого, и вчера вечером его величество изволил говорить, что он намерен взять меня ко двору, только еще неизвестен, окончил ли я свои науки, чтобы чрез то не сделать в оных помешательства.
После сих разговоров Елизаветин отец принял совершенное намерение — дочь свою за меня сватать, и на другой день, будучи он во дворце, избрав свободное время, докладывал королю следующими словами: «Ваше величество, вчерашнего вечера была у меня гостья и сватала мою дочь за милорда Георга, Иромова сына, только он отговаривается тем, что не имеет еще никакого чина и затем жениться не намерен, а дочь моя ему понравилась». — «Что же ты думаешь?» — говорил король. «Ваше величество, — отвечал Елизаветин отец» — я бы никакого больше счастья к благополучию моей дочери не желал, ежели бы только могло сие исполниться». — «Я тебе советую, — сказал король, — не упускать сего случая, ибо сей человек очень достойный, и я со временем надеюсь от него ожидать пользы государству; будь уверен и ни о чем не думай; в том буду вспомоществовать».
Через несколько после сего дней, в празднество королевской коронации, будучи я во дворце на балу и ничего о сем не ведая, танцевал по-прежнему с Елизаветою. Король подошел к нам очень близко, смотрел на наши танцы, а как менуэт кончился, то я пошел было прочь, но король взял меня за руку и, выведя в другую комнату, говорил: «Знаешь ли ты, милорд, с кем танцевал?» — «Очень знаю, ваше величество, — отвечал я королю, — это вашего величества обер-гофмаршала дочь Елизавета». — «Как же ты о ней думаешь?» — говорил король.
Я отвечал королю, что ничего другого о ней думать не могу, как только что она девица честная и одаренная всеми достоинствами.
«Я желаю, — продолжал король, — чтобы она была твоя невеста». — «Это состоит во власти вашего величества, — отвечал я королю, — хотя я не иначе сие должен почитать, как за высочайшую вашу ко мне милость; только приемлю смелость вашему величеству доложить, что мне еще в таких ребяческих летах, не показав вашему величеству никаких услуг, жениться рано».
Король на сие мне сказал: «Я тотчас сделаю тебя совершенным, ибо я знаю, хотя ты и молодые имеешь лета, но разум совершенный, чего ради и жалую тебя чином моего генерал-адъютанта».
Я пал пред королем на колени, благодарил его с таким чувствительным изъяснением моей благодарности, сколько мне от сего радостного происшествия могло в мою тогда прийти голову.
Король, подняв меня, говорил: «Теперь уже не можешь ты называться ребенком, потому что сей чин принадлежит совершенному и заслуженному человеку, а ты хотя и молод, но по твоему разуму и добродетелям я тебя к сему признаю достойным; а когда ты намерен жениться, то я советую не упускать достойно сей невесты».
Я, видя неожиданную себе королевскую милость, никак уже более отговариваться не смел и предался во всем на волю его величества.
Потом король взял меня за руку, а королева невесту, и, призвав придворного жреца, тот же час надлежащим порядком нас сговорили, и на сговоре король, взяв обоих нас за руки, привел к нареченному мне тестю с сими словами: «Я тебя уверяю, что зять твой по своему разуму и честным сантиментам будет твоей любви достоин».
Тесть мой, припадая к стопам королевским, благодарил его с достодолжнейшим высокопочитанием; невеста же моя столько была сим сговором довольна, что удовольствие и радость ясно на лице ее тогда изображались; а я, не знаю для чего, был ни рад, ни печален, а если радовался, так больше полученному от короля чину, нежели невесте. Итак, мы, отужинав во дворце, разъехались по своим местам.
На другой день должен я был, по моему чину, ехать во дворец и принять дежурство. Король отправлением моей должности очень был доволен, а рота гвардии, которая хаживала во дворец на караул, так меня любила и почитала, что везде говорили, что у них ни одного еще такого порядочного командира не было; словом сказать, я так был счастлив, что ни один заслуженный генерал при дворе так любим и почитаем не был, как я.
По исправлении моей должности всякий день ездил к моей невесте; а в один день, к несчастью моему, невеста занемогла и говорила мне, что она от болезни вовсе ни к чему не имеет аппетита. Я сколько можно учтиво советовал ей что-нибудь покушать, дабы не привести себя в большую слабость. Она в угодность мне приказала, чтобы ей подали заячьих почек или что-нибудь из дичи, но на кухне в то время никакой дичи не случилось. Итак, я, по учтивости, как надлежит жениху всегда невесту утешать, говорил ей: «Ежели бы я знал, что вы до дичи охотница, то бы давно оною от собственной моей охоты услужил и для того завтра же нарочно поеду в поле и, что могу поймать или убить, с радостию вам служить тем буду». Елизавета, благодаря меня за сие, говорила, что ежели я себе не сочту за тягость, то она от моей охоты с великим аппетитом будет кушать.
Приехав домой, я приказал своему ловчему, чтобы к завтрашнему дню все было в готовности, а поутру, встав очень рано, поехал со всею охотою в поле. День с утра до девятого часа так был хорош, что во все лето такого хорошего дня не видали, но в двенадцатом часу сделалась преужасная гроза и продолжалась до четвертого часа пополудни, от которой все мои охотники, собирая рассеянных по полю собак, разъехались по разным местам; а я, оставшись один, стоял от сей грозы под одним кедровым деревом. И, как гроза миновалась, хотел ехать домой, но, садясь на лошадь, увидел под кустом зайца, за которым бывшие со мною собаки, гоняясь по острову, были умерщвлены чудным образом, а я, искавши их, заехал в превеликий густой лес и, ездивши по оному всю ночь, на утренней заре выехал на прекрасный, украшенным цветами луг, а оттуда — к сему вашего высочества дому; и где я теперь нахожусь, далеко ль от Лондона и как могу отсюда выехать — ничего не знаю и понять не могу.
Маркграфиня, выслушав сие и усмехнувшись, сказала:
— Милорд, я думаю, ты можешь видеть, что я ничем твоей невесты и показываемых тебе Люциею портретов не хуже; однако ж я бы желала иметь вас своим мужем. Только не знаю, не противна ли я вам буду, можете ли оставить свою невесту; а я вас, действительно, уверяю, что невеста ваша честь свою принесла на жертву одному своему пажу; она же у себя имеет такую ехидную маму, которая чрез волшебство так ее обворожила, что она во всем ее слушает, и для того тебе надобно ее очень остерегаться, ибо я верно знаю, что ежели вы на Елизавете женитесь, то через год лишитесь жизни.
— Милостивая государыня, — говорил милорд, — возможно ли статься, чтоб милосердные боги могли положить такой предел, чтоб мне из милордов сделаться вашим супругом и обладать такою божественною красотою?
— Я, с своей стороны, — говорила маркграфиня, — очень сего и желаю, да и для вас, я думаю, гораздо лучше короля своего оставить и сделаться ему равным, нежели быть подданным. Только прошу вас, чтобы никому сего нашего приключения не объявлять, а содержать как можно тайно.
— О боги, — вскричал милорд, — что я слышу! Несомненное ли мечтание представляется глазам моим, или тихим ветром с высоты Олимпа[17] от благости богов сие предвещание приносится! Но ты ли, чистейшая Диана, желаешь меня избавить от бесчестной невесты, или ты, премудрая Минерва, хочешь препроводить меня, как Телемака, сына Улиссова!
Маркграфиня, видевши чрезмерное милордово восхищение, говорила ему, чтоб он ни о чем не сомневался, только был бы терпелив и постоянен, а она уже ни для чего намерения своего переменить не может.
— Только я, — говорила она еще милорду, — прежде трех лет никак тебя мужем иметь не могу, а по прошествии трех лет, где бы ты ни был, я сама тебя сыщу.
В сих разговорах препроводили они весь день до самого ужина, а по окончании вечернего стола маркграфиня, взяв милорда за руку, повела в свою спальню с сими словами:
— Теперь уже я осмеливаюсь вас просить вашего беспокойства препроводить сию ночь со мною в одной спальне, ибо я вас, как непременного своего жениха, стыдиться не намерена. Только прошу вас, чтобы вы ни малых, противных чести благопристойности мыслей обо мне не имели, а быть воздержну, твердому и терпеливому, ибо от того зависит общее наше благополучие.
Милорд клянется ей страшнейшими клятвами, что все ее повеления свято и ненарушимо исполнять будет.
Потом, кликнувши маркграфиня свою камер-юнгферу, стала раздеваться и, раздевшись, легла в постель, а милорду приказала ложиться на другой, нарочно для него изготовленной, богатой кровати, при чем еще ему напоминала, чтоб он был воздержан, а не малодушен. А как он прошедшую ночь очень был беспокоен, то тотчас заснул, а поутру прежде маркграфини проснулся и, будучи о красоте ее в различных размышлениях, встал, подошел к ее кровати и открыл занавес; смотря на прелестную ее красу, в такую пришел нетерпеливость, что, забыв, свое обещание и клятвы, отважился с великою тихостию ее поцеловать.
Услышавши сие, маркграфиня открывает свои очи, подобные сияющим звездам, и, взглянув на него с свирепым видом, сказала:
— Так ли ты исполняешь свое обещание и клятву? О, какое малодушие, какое рассуждение, что против женских ты прелестей не можешь преодолеть своей страсти! — Выговоря сие, кликнула свою камер-юнгферу и стала одеваться. Камер-юнгфера, одевши маркграфиню, вышла вон, а милорд, став перед нею на колени, просил в преступлении своем милостивого прощения, извиняясь, что он учинил сие дерзновение от чрезвычайной любви.
— Я вам сие преступление прощаю, — сказала маркграфиня, — только вперед надобно быть терпеливым и рассудительным. Однако ж, я думаю, вам уже время ехать домой, ибо вас давно по всему городу ищут, а завтра прошу вас к себе отобедать.
— Как, ваше величество, — отвечал милорд, — возможно ль, чтоб я так скоро мог сюда возвратиться?
Маркграфиня, усмехнувшись, сказала:
— Без всякого сомнения, можете; только я прошу, чтобы о сем моем доме никому не объявлять, а когда ко мне поедете, то ни одного человека с собою не берите. Вы от Лондона так далеко, что отсюда его можете увидеть. — И отворила окно, в которое он действительно, сквозь редкую рощу, город увидел и не мог надивиться, что оный дом так близко от Лондона и никто про него не знает.
Маркграфиня приказала заложить карету цугом, в которой милорд и поехал, и, выехав из рощи на большую дорогу, видит, что Лондон от оной отстоит не более одной мили. Приехав домой, карету отпустил к маркграфине, а в доме у себя сказал, что ехал с поля к Мелалию и у него две ночи ночевал; а сам, переодевшись в другое платье, поехал к невесте своей Елизавете.
Мама же Елизаветина, через волшебные хитрости, все, что с ним происходило, видела, только никому не сказывала, а просила Елизавету, чтоб она, когда он к ней приедет, спросила, где он был. Как скоро милорд вошел к Елизавете в спальню, то она с насмешкой благодарила его за присланную дичь. Но милорд с учтивостью извинился, что за несчастием от приключившейся сильной грозы услужить ей тем не мог. И так просидевши до самого вечера, простясь, поехал и выехал из ее дома; бывших с собою лакеев одного послал домой за табакеркою, а другого — к Мелалию — спросить, дома ли он, и приказал себя искать во дворце, а сам поехал к маркграфине. И как скоро приехал к ее дому, прикованные у ворот львы тотчас вошли в свои места и его пропустили. Въехав на двор, он вошел прямо в маркграфинину спальню. Увидевши, она его встретила с великою радостию, и весь вечер препроводили в разных разговорах, а по окончании вечернего стола говорила она ему:
— Любезный милорд, я очень радуюсь, что вы еще одну ночь у меня ночуете; только теперь уж в одной спальне ночевать не буду, потому что вы невоздержны и малодушны, что хуже малого ребенка. Знаете ли вы, я и прошедшую ночь для того с вами ночевала, чтоб испытать ваше мужество и твердость ваших мыслей; но теперь, узнав, сколько вы малодушны и нетерпеливы, опасаюсь, чтоб вы сего случившегося с вами приключения по невоздержности своей кому ни есть не открыли, что ежели сделается, то уже прежде шести лет никак меня не увидите, потому что я, по смерти моего супруга, клялась богом четыре года вдовствовать и, принося богине Диане жертву, просила, чтоб мне, по прошествии четырех лет, дали боги достойного мужа, на что и получила от сей богини ответ: «Дадут тебе боги по желанию твоему жениха, от честной природы англичанина, и по четырех летах будешь его женою, и жизнь вам определят благополучную; только научи его хранить тайну и быть терпеливу и тверду; а ежели вы не будете воздержны и прежде вашего брака кто о любви вашей сведает, то уж не прежде как по шести летах брак ваш совершится, и то по претерпении великих несчастных приключений».
Итак, я, пробуя твою слабость, не надеюсь, чтоб ты мог меня сохранить от ехидной хитрости Елизаветиной мамы, и для того я вас предостерегаю, что ежели невеста твоя сведает, то вы уже меня никаким способом прежде шести лет видеть не будете. А вам осталось завтра приехать ко мне проститься, ибо я более здесь жить не могу, но для некоторого важного дела отъезжаю в Дурлах, и сего дома вы здесь не увидите.
В таких разговорам препроводили они всю ночь без сна; как настал следующий день, то, напившись чаю и кофе, маркграфиня приказала заложить карету и, отпуская его в Лондон, прощалась с ним с льющимися из ее прелестных глаз слезами и еще напоминала, чтоб он, сколько возможно, был терпелив и никому сей тайны не открыл.
Милорд клялся ей наистрашнейшими клятвами и уверил, что он скорее согласится для нее лишиться жизни, нежели кому открыть сию тайну.
Между тем временем мама Елизаветина, через волшебство ведаючи все, что у них происходило, сделала по своей хитрости с некоторыми волшебными составами варенное в сахаре яблоко и, принесши оное к Елизавете, просит ее, чтоб она им, когда приедет к ней милорд, его потчевала.
Милорд, не знавши сей хитрости, встав поутру, оделся и поехал к своей невесте с тем намерением, чтоб, посидевши у нее немного, ехать к маркграфине проститься, и, поцеловавшись, как должно жениху с невестою, сел подле ее кровати. Елизавета разговаривала с ним и сказала:
— Я, сударь, отложила уже дожидаться от вашей охоты заячьих почек; хочу попотчевать своим вареньем, — кликнув девку, приказала подать из своего кабинета яблоко. Девка тотчас оное принесла на фарфоровой тарелке и поставила перед ним, которое он отведал и очень хвалил в варенье ее искусство, а мама злая говорила:
— Подлинно, сударь, невеста ваша варить великая мастерица, только извольте кушать, но не обожгитесь, ибо оно еще не очень остыло.
Милорд, не зная, для чего сии слова были выговорены, ел яблоко в угодность своей невесте, без всякой опасности, а как скоро его съел, то в ту минуту пришла ему о Елизавете великая жалость, что он ее обманывал, а жениться на ней не хочет; и, ставши перед нею на колени, извиняя себя, рассказал ей все, что у него происходило с маркграфинею. Елизавета, выслушав сие, залилась слезами, упрекала его в неверности и называла его неблагодарным; однако ж, наконец, сказала, что она его в сем прощает, только б он, оставя маркграфиню, женился на ней, что он с клятвою и обещал. Но как скоро он сие рассказал, то подобно как бы пробудившись от крепкого сна, опамятовался и, вспомня маркграфинино завещание, не знал и сам, что ему делать. Глаза его наполнились горчайшими слезами, и не мог более сидеть, но, встав, поехал домой и, разославши лакеев своих в разные места, сам поспешил к маркграфине. Но в какое пришел удивление, когда, приехав к той роще, в которой был преогромный дом, не только того дома, но и места, на котором оный был построен, нимало не видно, отчего пришел в горесть и отчаяние, что едва мог на лошади сидеть; источники слез лились из глаз его, сердце его трепетало, боясь за преступление клятв и за несохранение тайности от правосудия богов справедливого гнева. В таких печальных размышлениях ходил несколько времени по роще и нашел в одном месте превеликий камень, на котором написаны следующие слова: «Коль тайны маркграфининой не мог ты сохранить, то прежде шести лет и в супружество ее не можешь получить», а внизу: «Прощай и делай что хочешь».
Прочитавши сию надпись, он неутешно плакал, вспоминая все слова премудрой маркграфини и размышляя в себе, с какими глазами может он к ней показаться; но опять рассуждал: «Нет, я не оставлю, ибо она, как мудрая и великодушная, совершенно в преступлении моем может меня извинить, потому что сие сделалось не от моего слабого невоздержании, но от ехидной хитрости Елизаветиной мамы; ежели бы захотела меня уморить, то бы я по неведению моему никак от того избавиться не мог. Итак, пока милостивые боги не отнимут моей жизни, искать ее не перестану». С такими мыслями возвратился он домой и, собрав сколько тогда было в его доме червонных брильянтов и прочих дорогих вещей, призвал к себе своего камердинера (сына бывшего своего любимого дядьки) и говорил ему:
— Я в верности твоей нимало не сомневаюсь, и для того получаемые мои доходы передавай на сохранение сестре моей Люции, потому что я для некоторого секретного дела принужден ехать в Италию; итак, теперь ты должен сходить нанять для меня самых лучших почтовых лошадей, и чтоб оные в первом часу пополудни были в готовности, только с тем, чтоб ни один человек о том не ведал.
Верный сей слуга, сожалея о нечаянном отъезде своего господина, с наполненными слез глазами пошел за лошадьми, а милорд между тем написал к Люции следующее письмо:
Любезная сестра!
Я по необходимому некоторому случаю отъезжаю в Италию и не имею времени с вами проститься; но прошу покорно получаемые деньги мои из доходов от Францева сына принимать в свое хранение и, в случае надобности, по присылаемым от меня векселям, на кого оные будут адресованы, платить без замедления. Сестре Филистине объявить мое почтение, а у невесты моей Елизаветы исходатайствовать прощение, что я, не сказавшись ей, уехал.
Запечатав сие письмо, положил на стол; а камердинер его, пришед, сказывал, что лошади в первом часу будут дожидаться у ворот. Милорд, отдав ему письмо, приказал, чтоб он поутру отнес его Люции, а сам, испуская из глаз своих слезы и простясь с верным своим слугою, сел на почтовую лошадь верхом и отправился со всевозможною скоростию, с одним только почтарем, в Бранденбург, надеясь, по словам маркграфининым, найти ее в Дурлахе. Итак, до восхождения еще солнца, проехал он миль с двадцать и, остановившись в одной деревне, рассудил более на почтовых лошадях не ехать, будучи в том мнении, что когда в Лондоне об отъезде его сведают, то, конечно, пошлют его искать и по почтам могут дознаться, куда он едет. И для того, купя в той деревне самую лучшую лошадь, поехал один с большой дороги в сторону, с таким намерением, чтоб стороною мимо большой дороги доехать до морского берега и, наняв корабль, отправиться и Бранденбургию. И, ехавши целый день, он не остановился ни на час и так лошадь свою утомил, что далее уже ехать на ней не мог, и для того, своротя с дороги в лес, вознамерился в оном ночевать. И, пустя свою лошадь на аркане на траву, сам, положа седло в головы, лег под деревом спать, и хотя имел он беспокойные мысли, но от понесенного труда заснул очень скоро.
Оставим мы теперь милорда, спящего в лесу, и посмотрим, что происходило после его отъезда в Лондоне.
Камердинер его, вставши поутру и взяв оставленное им письмо, пришел к Люции и, подавая оное со слезами, не мог выговорить ни одного слова. Люция, увидевши его в слезах, немало удивилась, говоря ему:
— Все ли у вас здорово? Здоров ли брат?
Камердинер сквозь слезы отвечал ей:
— Ежели бы братец ваш был нездоров, то бы и вам и не писал, а о слезах моих из сего письма уведомиться изволите.
Люция, прочитавши письмо, пришла в чрезвычайное удивление, не зная, что подумать.
— Ежели бы ему ехать, — говорила она камердинеру, — в Италию для принятия службы или вояжирования, то бы надобно оное сделать с дозволения королевского, с хорошею о себе рекомендациею, да и сие лучше предпринять прежде, когда еще не имел невесты, а теперь, сговорясь на такой знатной и всеми достоинствами украшенной девице и получа от короля великий чин, все оставил в пренебрежении; не знаю, с какими глазами и совестию может возвратиться в свое отечество. Ах, любезный братец, что ты сделал! Куда девался твой разум! — И, выговоря сие, упала в обморок.
Потом приказала заложить карету, поехала к тетке своей Маргарите и вместе с нею к милордовой невесте Елизавете и показывала ей его письмо, которое она, читавши, очень плакала, а после рассказывала им, что он сам ей сказывал о маркграфине. Почему они уже без сомнения и заключили, что он поехал к ней, и для того тот же час, севши в карету, поскакали в ту рощу, в которой, по объявлению милорда, был маркграфинин дом. Но, приехав туда, ничего не нашли, а только увидели объявленный с надписью камень, чего ради и думать уже им другого было нечего, что он поехал искать маркграфиню, с чем они возвратились в Лондон. Елизавета, приехав домой с великими слезами, рассказывала обо всем своему отцу, который пришел от сего в великое огорчение, поехал во дворец и доложил об оном королю, с великим поношением милордовой чести. Король, разгневавшись, тотчас приказал послать для искания по всем дорогам великие партии; но все было тщетно.
Теперь обратимся мы опять к милорду, который, довольно выспавшись, встал еще до восхождения солнца, оседлал лошадь и продолжал путь свой незнакомою дорогою, однако ж скоро выехал опять на большую дорогу и, едучи оною весь день, приехал к вечеру в превеликий густой лес, в котором необходимо должен был препроводить следующую ночь, потому что лошадь его от скорой езды далее уже идти не могла. Съехавши в сторону и расседлав свою лошадь, он ее пустил на аркане, а сам по-прежнему, положа седло, хотел ложиться спать; но вдруг, услышав конский топот, как бы сворачивают с дороги к тому же месту, где он находился, чего он испугавшись, рассудил для безопасности взлезть на одно густое дерево и смотреть оттуда, какие это люди и не его ли ищут. Через несколько минут увидел он, что две кареты, подъехав к самому тому дереву, на котором он укрылся, остановились, и вышли из кареты четыре девицы, из которых одна как платьем, так и осанкою от прочих отличалась, почему и прозвал ее милорд госпожою, в чем и не обманулся, ибо она тотчас приказала у другой кареты отворить дверцы, из которой вышли еще три девицы и вывели с собою одного изрядного кавалера, у которого рот и руки были связаны.
Сие привело милорда в великое удивление; и он был принужден больше таиться, чтоб его не видали. Потом приезжая госпожа приказала для лучшего от ночной темноты света развести огонь, что непродолжительно было исполнено, от чего и сделался такой свет, что милорду всех присутствующих тут можно было видеть, и он узнал, что сия госпожа невесты его Елизаветы двоюродная сестра, именем Любилла, которая тогда жила со своею бабкою в одной местности. Она, севши у огня, приказала кавалера развязать с сими словами:
— Ну, теперь, бесчеловечный и немилосердный любви моей тиран, наполняй своим воплем густой лес, я здесь ничего не опасаюсь; и когда ты из доброй воли любить меня не хочешь, то я принужу тебя к тому с ругательством твоей чести.
Как развязали сему кавалеру рот, то милорд его узнал, что он одного знатного лондонского купца сын Маремир, в которого Любилла влюбясь, никак не могла склонить его к своему намерению, потому что он имел у себя другую любовницу, чего ради он на слова Любиллины и отвечал, что он ни за что любить ее не будет и чрез то неверности своей любовнице не сделает.
— Негодный! — говорила ему Любилла. — Я уже не прошу тебя, чтобы ты вечно меня любил, но хотя на один только час окажи ко мне свою склонность; ты видишь, что теперь находишься в моей власти; что хочу, то с тобою сделаю: я могу тебя сей же час лишить жизни и оставить негодный твой труп в сем темном лесу на растерзание лютейшим зверям, о чем и любовница твоя не будет иметь ни малейшего известия.
— Я с радостию, — отвечал ей Маремир, — лучше соглашусь лишиться жизни, нежели исполнить вашу волю.
Любилла, видя Маремирову твердость, пришла в такое неистовство, что с великим жаром своего сердца говорила:
— Как ты, негодный, из доброй воли не хочешь на мое предложение согласиться, так я поступлю с тобою так, как сестра моя Елизавета сделала со своим пажом, будучи в загородном своем доме, который также не хотел согласиться на ее предложение, но она его принудила любить себя неволей.
Здесь, любезный читатель, благопристойность не позволяет перу моему изъяснить всех непристойностей, какие Любилла употребляла на прельщение Маремира; довольно, что она, во исполнение своей злости, приказала его обнажить и заставила своих девок по голому телу сечь прутьями до тех пор, пока увидела текущую ручьями из спины кровь, а потом надели на голое тело один только камзол, и тот по пояс обрезали для того, чтобы текущая кровь на поругание ему всеми была видима, и, посадя его в карету, приказала отвезть к ближнему какому ни есть селению и, высадя, пустить на волю, а самим возвратиться в свою деревню. С таким триумфом бедного Маремира она и отправила, а сама, севши в другую карету, поехала домой.
Милорд, смотря с дерева на странное сие позорище, не мог надивиться бесчинству сей женщины и сожалел, что при сем случае за собственным своим обстоятельством не мог освободить Маремира от сего ругательства; но притом радовался, что чрез сей случай мог спознать о бесчестности своей невесты и увериться, что маркграфиня сказывала ему о ней действительную правду.
По отъезде бесстыдной сей женщины слез он с дерева и препроводил остаток ночи в том лесу, а поутру, оседлав свою лошадь, поехал большою дорогою и через несколько часов, выехавши из леса на чистое поле, увидел по правой стороне море и идущий по оному корабль, чего ради и поспешил он как можно скорее по морскому берегу, и, приехав к оному, пустил свою лошадь в поле, а сам, остановясь на берегу, дожидался плывущего корабля, который, по счастию его, держал свой курс прямо к тому месту и, доплыв до берега, стал на якорь. Милорд кричал изо всей силы, чтобы взяли его на корабль. Благодаря их, он спрашивал, куда они намерены продолжать путь свой.
— Мы голландцы, — отвечали ему корабельщики, — ездили с товаром в разные государства и, окончивши наш вояж, возвращаемся в свое отечество.
Милорд просил их, чтоб они отвезли его к берегам германским, за что обещал заплатить такую цену, какую пожелают. Голландцы на сие согласились, ибо им не более как только на один день было лишнего хода.
Между тем временем начал дуть способный ветер, и они, вынув якорь, подняв паруса, пустились по морю, держа курс прямо к Германии; сей день для их плавания был очень благополучен. А как только солнце стало лучи свои скрывать в морскую бездну и небо обещало приятную и светлую ночь, тогда увидели они плывущий против себя небольшой корабль, который подошел к ним так близко, что с оного люди, ухватясь за их корабль крючьями, притянули к себе. Тут голландцы узнали, что это были турецкие корсары, которые, ездя по морю, разбивали попадающиеся им корабли, и для того принялись было за ружья, хотели обороняться, но корсары, с великою проворностию вскоча на корабль и не дав им справиться, многих перерубили и побросали в море, а прочих взяли в плен, в том числе и милорда; и, разграбя все бывшие на корабле товары и деньги, корабль затопили, а пленников взяв на свой корабль, пустились опять по морю. Милорда же между пленными, по красоте и нежности его лица, почитали за какого ни есть принца или знатного человека, чего ради и содержали от прочих отменно, надеясь за него получить великий выкуп. И так, ездивши они по морю, где им допустил случай, многих пленников распродали разным народам, милорда же, за означенную от них великую цену, никто не мог купить, а в один день, приставши они к Аравии, к одному немалому острову, и поставя корабль свой на якорь, сами вышли на берег и милорда взяли с собою. На берегу сего острова представлялась превеликая ровная долина с редкими деревьями, а позади оной густой лес и очень приятное местоположение. Корсары, ходя по сему острову, стреляли разных птиц и, увидевши оленя, побежали за ним, желая всякий оного застрелить, а милорда оставили одного. Видевши он сие, вздумал сей случай употребить в свою пользу и в ту же минуту со всевозможною скоростию удалился он в густоту леса и, бежавши с полумили, услышал многие голоса гончих собак, которые прибежавши к нему, начали лаять, а за ними прискакали четыре человека черных арабов и, увидевши милорда, отбили собак прочь, а его, подхватя под руки, повели с собою. Тут милорд мог дознаться, что сей остров принадлежит арабам, и потому, не надеясь от сих варваров получить себе свободы, пришел в великую печаль и, простря взор свой к небесам, говорил:
— О немилосердные боги! За что вы меня ввергаете в такое несчастие? Вы сами мне даровали премудрую маркграфиню в невесты, а теперь с нею разлучаете и предаете меня такому варварскому народу, от которого я освободиться никакой надежды не имею.
Сие говорил он английским языком, а оборотясь к арабам, говорил по-арабски:
— Я вас ни о чем больше не прошу, как только, пожалуйста, скажите мне, куда вы меня ведете и что намерены со мною делать?
— Мы ведем тебя, — отвечали они, — к своей королеве Мусульмине; она теперь в своем зверинце изволит забавляться охотою.
Услыша сие, милорд несколько обрадовался, надеясь упросить королеву о своем освобождении; будучи в той надежде, что она хотя и варварка, но, сведав, что он не подлой природы, в неволе у себя держать не будет.
Арабы вывели его из леса на прекрасный луг, на котором стоял драгоценный королевин шатер, в котором она от солнечного жара сидела на парчовой софе, а около нее премножество девиц. Как скоро охотники ввели его в шатер, то королева, вставши с своего места и подошед к нему, спрашивала с веселым видом, какой он человек и каким образом мог войти в ее зверинец.
— Ваше величество, — отвечал милорд, — я, несчастливейший английский милорд Георг, злою фортуною отлучен от моего отечества и был в плену у турецких корсаров, которые привезли меня на сей остров, и я спасся от их неволи, ушел и попался в руки ваших охотников. Я всенижайше приемлю смелость просить ваше величество сделать со мною для прославления вашего имени всевозможную милость.
Королева, усмехнувшись, сказала:
— Не опасайтесь! Вы, конечно, всем своим несчастиям здесь получите окончание, — и, обратясь к предстоящим, приказала охотников, которые его привели, наградить деньгами, а его отвесть к себе во дворец и довольствовать всем, что он потребует, только содержать за крепким караулом. Тотчас отвели его в особливые, изрядно убранные покои, и для услуг дан ему один придворный лакеи, а к вечеру прислано довольно хорошее кушанье. На другой день поутру пришел к нему один араб и докладывает со всякою учтивостью, что королева изволит его спрашивать. Он тотчас, одевшись, последовал за оным арабом, который проводил его до самой королевиной спальни. Милорд вошел в спальню, увидел королеву, сидящую на пребогатой парчовой софе, стоящей под бархатным балдахином, сделанным из слоновых костей, с золотою бахромою и кистями.
Королева как скоро его увидела, то в ту же минуту так заразилась любовной к нему страстью, что несколько минут не могла ни одного выговорить слова, но, потупя глаза, молчала, и на черном ее лице показался багровый румянец, почему и нетрудно было милорду догадаться, что она в него влюбилась. Потом спрашивала она его, кто он таков и как зашел на сей остров. Милорд отвечал ей так же, как и прежде, что он несчастный английский милорд, ушел от турецких корсаров и попался по несчастию в руки охотников.
— Почему вы, господин милорд, — проговорила королева, — не видавши еще никакой здесь себе обиды, называете себя несчастным? Я вас уверяю, что, может быть, больше будете счастливы здесь, нежели в своем отечестве.
— Ваше величество, — отвечал милорд, — как бы человек, будучи в отдаленном от своего отечества месте, счастлив ни был, но природа всегда тянет на то место, где он родился и воспитан.
Королева, выславши всех предстоящих перед нею из спальни вон, продолжала свою речь:
— Я думаю, милорд, вы можете догадаться, о каком я говорю вашем счастии.
— Ваше величество, я слышал из высочайших уст милостивое обнадеживание, нимало не сомневаюсь, чтобы вы не сделали страннику милости; и я ничего больше не желаю, как только всенижайше прошу отпустить меня в свое отечество, за что я должным почтением во всем свете буду прославлять человеколюбивое ваше благодеяние.
— Нет, любезный милорд, — говорила королева, — я хочу больше сделать милости, нежели ты думаешь: мое соизволение есть, чтобы вы были моим мужем и всего арабского королевства государем; почему вы и можете рассудить, что какой бы вы, будучи в Англии, по достоинствам вашим великий чин от короля своего ни получили, но все оное с показанною от меня милостию никак не сравнительно; вообразите вы теперь себе свою судьбу, что вы из пленников, которых обыкновенно здесь, невзирая ни на какую благородную природу, употребляют на тяжкия работы или продают немилосердным народам, откуда никаким уже способом избавиться не можно, а вы, по благоволению моему, из высочайшей милости, будете моим супругом и арабским королем.
— Ваше величество, — отвечал милорд, — я на оказываемую вами не по достоинству моему милость приношу всенижайшую мою благодарность; но приемлю смелость вашему величеству доложить, что мне на сие милостивое вашего величества предложение никак согласиться не можно, потому что владельному государю неотменно надобно быть со своими подданными одного закона, от чего зависит общественное народное благоденствие, ибо я во многих читал историях, что когда бывали в некоторых владениях государи, не согласующиеся в законах со своими подданными, то чрез сие происходили многие худые следствия и великие бунты, убийство и безвинное кровопролитие и междоусобные брани, от чего, наконец, целые государства приходили в крайнее разорение; при этом всякий народ переданный от предков своих божественный закон должен содержать твердо, и я ни для какой причины не должен переменить своего закона.
— Да знаешь ли ты, — говорила королева, — что я имею власть как сделать тебя арабским государем, так и в сию минуту могу лишить тебя жизни?
— Я очень знаю, — отвечал милорд, — что жизнь моя теперь состоит во власти вашего величестве; только я скорее соглашусь лишиться жизни, нежели склониться на ваше соизволение.
Королева, видя, что он на предложение ее не соглашается, приняла намерение прельстить его своею красотою, ибо она между арабами считалась за великую красавицу, и, открывши пред милордом черные свои груди, которые были изрядного сложения, говорила:
— Посмотри, милорд, ты, конечно, в Лондоне таких приятных и нежных членов не видывал?
— Это правда, ваше величество, — отвечал он, — что и в самом Лондоне подлая женщина ни за какие деньги сих членов публично пред мужчиною открыть не согласится, чего ради я вашему величеству советую оные по-прежнему закрыть.
Королева, слыша от милорда сии презренные слова, пришла в великий стыд и чрезмерное огорчение и сказала:
— Ах, неблагодарный невольник! Могла ли я думать, чтобы ты отважился сделать мне такое презренное ругательство и нанести оскорбление моему величеству; нет, не думай ты, неблагодарный, чтоб я тебя за твою дерзость не наказала; я тебя научу знать, как должно обходиться с королевою; ты скоро узнаешь и будешь раскаиваться в своем преступлении, но милости уже моей на себя обратить не можешь. — И тотчас закричала: — Возьмите от меня сего злодея и, обнажив его, бросьте в самый глубочайший эдикуль, чтоб он более мог чувствовать ползающих по нем находящихся там разных гадов!
На сей королевин голос вошли четыре араба, и, взяв милорда под руки, повлекли из покоев королевиных вон, и, приведя его в одну палату, подобную погребу, сняв с него все платье, ввели в другую палату, сделанную в земле, ступеней с десять ниже первой, в которой воздух был сырой и густой, и сия палата, или, справедливее назвать — погреб, наполнена была несчетным множеством различных ползающих по земле гадов, и тут его без всякого света оставили.
А в первой палате для караула его остались два араба, которым отдан приказ: когда будет принесена ему пища, чтоб его выводили в первую палату, и как скоро наестся, то опять сажать в тот глубочайший эдикуль.
Как скоро милорд вошел в сей эдикуль, то в эту минуту стали на него вспалзывать гадины. Он почувствовал по всему телу от ползания их несносное щекотание и холод: одни обвиваются около его ног, другие около шеи, иные вспалзывают на его лицо; словом сказать, облепили его тело. Он хватает их своими руками, бросает на землю, но на место оных другие во множественном числе на него вспалзывают. От сего несносного мучения, не имея чем избавиться, бегает из угла в угол и от нестерпимости кричит во весь голос, но никакого спасения сыскать не может; тело его то хладеет, то приходит в великий жар.
В таком мучительном состоянии препроводя двое суток, придя в великое отчаяние, кричал:
— О милосердные боги! Доколе вы будете меня мучить? Чем я вас прогневил? До сих пор сносил великодушно все ниспосланные от вас несчастия, но теперь уже недостает более сил моих вытерпеть сего мучения! Или вы не знаете, что сие для того только претерпеваю, что не хочу нарушить данного от вас закона? Какое ваше правосудие? Для чего вы не изливаете вашего гнева и не погубляете тех варваров, которые не имеют к вам должного почтения, делами вашими ругаются, немилосердно мучат тех, которые вас почитают со страхом, предстоят пред вашими алтарями и приносят вам от усердия чистейшие жертвы? Пошлите скорее бледную смерть и велите в сей час острою косою отнять жизнь мою или дайте мне окаменелое и нечувствительное сердце, которое бы могло терпеливо сносить сие мучение!
Наконец в такой он пришел жар, что, лишаясь совсем здравого рассудка, показалось ему, что уже пришла кончина света.
По прошествии трех дней королева вздумала, что, конечно, милорд после сего мучительного наказания склонится на ее предложения, послала к нему одну верную свою девку и приказала ей его уговорить. Девка пришла к эдикулю в самое то время, как милорд, будучи в отчаянии, бегал без памяти по эдикулю и кричал выше объявленные слова. Услышав она сие, не говоря с ним ничего, возвратилась к королеве и объявила ей, что милорд лишился разума. Королева, услышавши сие, и сама признавала то за справедливость, потому что он, будучи нежного воспитания, не мог вытерпеть сего мучения; тотчас приказала его из эдикуля перевести в свой сад, который был подле самых ее покоев, с таким намерением, что, может быть, он, будучи на чистом, приятном воздухе, придет в прежнее состояние; а между тем будет она сама к нему ходить и его уговаривать.
Как привели его в оный сад, который огорожен был превысокою стеною, то отдан караульным строгий приказ, чтоб его без именного повеления никуда из сада не выпускали.
Милорд, увидевши себя в саду, благодарил богов за свое избавление и еще призывал их к себе на милость, помышляя: когда они его освободили из проклятого эдикуля, то могут избавить и от насилия королевина, и, ходя по саду, рассматривал, не может ли сыскать какого способа к своему уходу. Между тем прекрасный день стал приближаться к вечеру, чего ради вошел он в одну аллею, близ которой услышал тихий шум фонтанных вод и поющих птиц, и видит превеликий фонтан, в котором из поставленного посредине мраморного льва била самая чистейшая вода, а в стоящей поблизости оного фонтана беседке поставлена для него кровать. Вошед он в сию беседку, лег спать, и от претерпенного в эдикуле мучения и беспокойства не только всю ночь, но и до второго часа пополудни проспал очень спокойно; а как проснулся и открыл свои глаза, веселился, смотря на висящие сквозь редкую в беседке решетку различные благовонные цветы и утешаясь приятным пением находящихся в том саде птиц.
Но вдруг, взглянувши, увидел идущую мимо беседки королеву, которая, идучи со своими девицами, говорила:
— Ах! что я сделала! Какое потеряла у себя сокровище! С какою радостию увижу я любезного милорда! Ежели он теперь и будет к любви моей склонен, но будучи без ума, какое мне будет утешение!
В сих разговорах пришла она к фонтану и приказала пустить воду, а как мраморная чаша оною наполнилась, то она, раздевшись, стала мыться. Но, будучи погружена в различных размышлениях о любовной своей к милорду страсти и сожалея об учиненном ему в эдикуле мучении, упала в обморок; бывшие с нею девицы, подхватя ее, посадили на канапе и, сколько можно, старались уговорить и уверить, что, может быть, милорд теперь в прежнем разуме. Одна из девиц, взглянувши в беседку, увидя его лежащего на постели, сказала королеве, что он в ближней от сего фонтана беседке спит.
— Однако я не могу преодолеть мои страсти, пренебрегу стыд, пойду к нему и отдамся в его волю; ежели он меня и пренебрежет, то я снесу терпеливо вместо наказания за то, что бесчеловечно мучила его в эдикуле, — и, выговоря сие, закрывшись одною только белою простынею, оставя своих девиц у фонтана, пошла к милорду. Увидевши ее, он закрыл свою голову одеялом и притворился, будто спит. Королева, подошед к кровати, стащила с него одеяло, а он, вскочив с постели, хотел бежать; но она, ухватя его, удержала и села подле него на кровать.
Милорд, видя наглое бесстыдство, говорил:
— Ваше величество, я осмелюсь вам доложить, что у нас в Англии не только из таких знатных королевских особ, но из самых подлых женщин ни за какие деньги таким образом, как вы, тела своего перед мужчиной обнажить не согласится.
— Я и сама знаю, — отвечала ему королева, — чести моей поношение, но сие делаю от нестерпимой к тебе моей любви.
— Ваше величество, — говорил еще милорд, — вы совершенно от фонтанной воды озябли и можете простудиться, чего ради я и советую вам одеться.
Но королева, не ответствуя на его слова, обхватя его за шею, без всякого стыда стала его целовать, делая многие любовные изъявления; но он, сколько можно, с учтивостью отворачивался и, наконец, вырвавшись у нее из рук, ушел за густую аллею.
Королева, оставшись одна, с великим стыдом принуждена была идти к фонтану и, одевшись, возвратилась в свои покои; а к милорду послала со своего стола лучшее кушанье, будучи в той надежде, что когда-нибудь, может, его склонит в свою волю.
Милорд же, будучи в саду, ни о чем больше не помышлял, как только о своем избавлении, чего ради и принял намеренно кого ни есть из садовников или караульных подкупить, чтобы его ночью выпустили; и, к счастию, нашел он работающего в том саду старика, которому обещал тридцать червонных, ежели он сыщет способ к его уходу. Старик сей такого был состояния, что за означенные деньги не только чтоб изменил своей королеве, но готов был, по своим старым летам, и смерть принять, только бы показанные деньги и достались его детям, и для того говорил он милорду:
— Милостивый государь! Караульных подкупить ни за какие деньги не можно, потому что все состоят из самых верных ее величеству людей, а стена около сада так велика, что никаким способом через нее перелезть не можно; а есть в одном месте за оранжереею преглубокая расселина, только можно ли ею куда ни есть выйти и от чего она сделалась, того никто не ведает, и все называют ее подземною пропастью.
Милорд, дав старику тридцать червонных, просил, чтоб он показал ему сие место, куда старик его и отвел. Милорд, увидевши ужасную пещеру с висящими по обеим сторонам превеликими каменьями, хоть и думал, что ежели в оную идти, то, может быть, зайдет в такое глубокое место, до которого и воздух не проникает, отчего можно лишиться жизни, однако решился лучше в сей неизвестности умереть, нежели отдаться в волю королевину.
Итак, положил он за непременное в будущую ночь идти в ту пещеру и, с такими мыслями возвратясь в беседку, лег спать с тем, чтобы, выспавшись днем, пуститься на всю ночь в неизвестный путь.
А как наступила ночная темнота и бывшие в саду садовники находились уже в глубоком сне, то он, вставши, со всевозможною осторожностию следовал к той пещере, и, призвав богов на помощь, спустился в оную, и пошел с великою поспешностью; но от висящих в оной каменьев и от входящих северных ветров, которые производили великий шум, находился в немалом страхе.
Наконец по нескольких часах страх сей начал умаляться, ибо темная ночь дневным светом была уже прогоняема, и когда солнце стало восходить на высоту горизонта, то сделался в пещере от солнечных лучей небольшой свет, который подавал милорду надежду к скорому выходу; но от страха и от скорого бежанья пришел он в такую слабость, что никак уже далее идти не мог, но принужден в оной пещере под висящими каменьями лечь спать.
Теперь возвратимся мы, читатель, нашими мыслями в королевин сад и посмотрим, что там по уходе милордовом происходило.
Старик, который показал милорду пещеру, в тот же день, когда еще милорд находился в саду, сменен был с работы другим товарищем и пошел на свою квартиру без всякого подозрения; караульные поутру осматривали, искали милорда по всему саду и, не сыскав нигде, объявили королеве, что он пропал.
Королева тотчас приказала всех садовников и часовых отдать под караул и мучить разными мучениями, допрашивая, не сделал ли кто из них к побегу его какого способа, а по дорогам в разные места разосланы многие партии с обещанием великого награждения, ежели кто его поймает.
А на помянутую пещеру никто и подумать не мог, что милорд в нее ушел, потому что они почитали ее за адскую пропасть и подходить к ней близко боялись. Как посланные в разные места команды возвратились и объявили, что нигде милорда сыскать и никакого об нем известия получить не могли, то королева начала неутешно плакать, рвать на себе платье и волосы, бегая по своим покоям как исступленная или пьяная Бахуса нимфа, хотящая лишить себя жизни.
Оставим мы сию черную красавицу со всем ее любовным жаром в ее спальне; пусть она, опамятовавшись, ищет себе другого любовника, а мы возвратимся опять к милорду, который, отдохнувши в пещере часа три, встав, шел прямо на показывающийся ему свет, и через несколько часов вышел на чистый морской берег Великого океана, и, вставши на колени, вознося свой взор и руки к небу, благодарил богов за избавление его из столь свирепого государства и от насилия королевы. Потом, встав, ходил по берегу, не зная, в какую сторону направить ему путь свой, опасаясь, чтоб не попасться опять в руки арабам, и если б ему в сию минуту попалась хоть малая лодочка, то бы он, презревши опасности, пустился бы безрассудно в сие великое море. Наконец, по многом размышлении, рассудилось ему сойти с высокой горы к самому морю, где нашел он на берегу небольшую пещеру, похожую на жилище какого ни есть свирепого зверя, в которой и отважился остаться до тех пор, пока увидит идущее по морю судно.
Будучи он в пещере и находясь несколько часов в разных размышлениях, задремал и видит во сне идущего к себе свирепого льва, отчего вдруг проснувшись и вскоча, ищет около себя для обороны какого ни есть оружия, но, опамятовавшись, смотрит на все стороны, — никакого зверя не видать, и вместо того усидел вдали моря нечто чернеющееся. Вынувши он из кармана зрительную трубу и смотря в оную, видит идущий корабль, который держал курс свой прямо к тому берегу, на котором он находился. Посмотря в другой раз в трубку, признает, что корабль тот военный, только весь черный, потому распознать не можно, которого он государства, что его немало удивило. Не верит он своей трубке, протирает у оной с обеих концов стекла, и еще оный корабль рассматривает, и видит совершенно ясно, что он весь обит черным сукном и выходят из кают на верх корабля дамы. Наконец, корабль сей так близко подходит, что и без зрительной трубки черное сукно, которым обит, рассмотреть было можно, и находящиеся на оном корабле дамы стоят все в глубоком трауре и в масках и смотрят на то место, где милорд находится, а матросы бегают по канатам, подбирают паруса, готовят якори, спускают шлюпки и приготовляют лестницы, по которым с корабля сходить надлежит. Все чрезмерно милорда удивляет, и сердце его от страха приходит в трепет. Не знает, что подумать, для чего сему печальному кораблю пристать к необитаемому острову, но видит уже, что корабль, не дошед до берега сажен на тридцать, стал на якорь и все бывшие на корабле дамы, сошед на спущенные шлюпки, плывут прямо к нему и, подъехав к берегу, из шлюпок вышли. Одеты они были все в шелковых платьях, из которых одну принимают и почитают от прочих отменно, которая и идет наперед прямо к милорду, а другие следуют за нею. Милорд тотчас ей с великою учтивостью поклонился, а она, смотря на него, спрашивает, кто он таков и зачем здесь в пустом месте находится.
— Милостивая государыня, — отвечал он ей, — я несчастливый английский милорд Георг, был в полону у арабской королевы Мусульмины, от которой претерпел за несклонность мою к ней бесчеловечные мучения, но милостию богов, чрез неизвестную страшную пещеру, едва мог из крепкого ее сада уйти и на сем берегу дожидался какого ни есть корабля, на котором бы отсюда выехать.
— А куда вы, — спрашивала сия госпожа, — отсюда намерены ехать?
— Мое намерение, милостивая государыня, — отвечал милорд, — ехать в Бранденбургию затем, что в тамошнем банке имеется немалая сумма денег, отданная от моего дяди, ко взятию которой никого, кроме меня, наследников нет.
— Это неправда, господин милорд, — говорила госпожа, — напрасно вы стараетесь скрывать от меня свое намерение, вам не надлежит иначе называться, как английским бездельником, ребенком, которому, кроме одних игрушек, ни в чем доверенности сделать не можно. Я знаю, что ты льстишься сыскать маркграфиню, бывшую твою невесту, и знаю, какой глупостию лишился ты своего счастия; только не знаю, с какими глазами и совестию можешь ты пред нею явиться.
Сии слова привели милорда в великое сомнение: он не знал, что на оные отвечать. А разговаривающая с ним госпожа свирепым образом на него закричала:
— Что ты, бездельник, не ответствуешь! Знаешь ли, что я, не допустя тебе видеть маркграфиню, сей момент, вместо нее, учиню достойное по твоим делам наказание?
— Милостивая государыня, — отвечал милорд, — хотя я и не имею чести вас знать, но не могу надивиться скорому вашему гневу, излиянному на меня без всякой моей противности к вашей особе, и не знаю, почему вы изволите меня называть бездельником, которого имени я всю мою жизнь еще ни от кого не заслужил, а пред ее высочеством, маркграфинею, хотя я несколько виноват, но не столько, чтоб за то лишить меня жизни, потому что преступление мое учинилось не по моей неосторожности, но от волшебной хитрости. Елизаветина мама, которая если б захотела, то могла бы отнять и жизнь мою, и я бы по неведению моему никаким образом спастись не мог. Ныне же я, для чести и верности к ее высочеству, претерпел от арабской королевы тиранские мучения, какими, я думаю, и в самом аду, у немилостивого Плутона, злодеи не мучаются, и теперь ничего больше не желаю, как только или получить от ее высочества милость, или смертное наказание.
По окончании сих милордовых слов дама сия, сняв с себя маску, сказала:
— Правда, милорд, что я на тебя несколько сердита за твое преступление, но и моя есть в том неосторожность, что я, ведая о сей ехидной Елизаветиной маме, не предупредила вас остеречь, чтобы вы ничего из рук своей невесты и ее мамы не ели; а съевши то волшебное яблоко, никак уже вам удержаться было не можно, чтоб не открыть ей своей тайны. За претерпенное же тобою от арабской королевы в эдикуле мучение, о котором я по астрологической моей науке сведала, приняла намерение из благодарности к тебе один год из моего обещания убавить и, отыскав тебя здесь, отвезти в мое отечество.
Милорд, увидевши, что сия дама сама бранденбургская маркграфиня, стал перед нею на колени и просил в своем преступлении милостивого прощения.
Маркграфиня, подняв его, с великою приятностию поцеловала и тотчас приказала, чтоб все бывшие на корабле черные сукна и паруса собирать, а вместо того украсить разноцветными флагами, что с невероятною скоростью было исполнено; а она, взяв милорда за руку, привела к раззолоченной шлюпке, и, сев в оную, приехали на корабль, на котором играла такая прегромкая музыка, что от приятного звука, раздававшегося по всему океану, все морские чудовища, поднявшись из глубины бездны, собрались к сему украшенному кораблю и испускали из своих челюстей превеликую воду. Матросы же с великою поспешностью вынимают якоря и распускают паруса, а бывший на корабле капитан-командор докладывает маркграфине, что от собравшегося к кораблю великого множества морских чудовищ может последовать опасность, чего ради не прикажет ли отгонять их пушечною пальбою. Маркграфиня повелевает делать все, что он за полезное рассудит.
При сем радостном случае помянутый капитан Марцимирис хотя и исполнял по своей должности все маркграфинины повеления с великим усердием, но при том чрезмерно плакал. Милорд, увидя льющиеся из глаз его слезы, спрашивал его о причине оных.
— Не удивляйтесь ему, — говорила маркграфиня милорду, — он не от чего другого испускает слезы, как от искреннего усердия, видевши нашу радость и благополучное окончание всех несчастий.
— Это правда, ваше высочество, — отвечал Марцимирис, — что я, как верноподданнейший ваш раб, искренно приемлю участие и в радости вашего высочества, но слезам моим есть еще другая причина от напоминания при сем случае непреодолимой моей печали, которая по окончании моего века из памяти моей истребиться не может.
Слыша сие, милорд просил маркграфиню, чтоб она приказала ему объявить причину своей печали.
— Ваше высочество, — говорил Марцимирис, — я за великое почту счастие, что удостоюсь вашему высочеству рассказать странное, несчастливое мое приключение.
И начал рассказывать свою историю.
ЧАСТЬ II
— Немилостивая судьба, — говорил Марцимирис, — с самого начала моей жизни положила мне предел быть несчастливее всех на свете, потому что я любезных моих родителей, которые меня произвели на свет, не знаю, и где мое отечество, не ведаю, а только память моя постигает, что я был у турецкого паши Абдула невольником, от которого слыхал, когда его обо мне спрашивали, что он купил меня в самом малолетстве у морских разбойников и за усердные мои услуги содержал и воспитал как своего родственника, а когда я стал приходить в совершенный возраст, то в оное время, взявши он меня с собою во дворец, представил султану с следующими словами: «Ваше величество, я, как верноподданнейший ваш раб, приемлю смелость сего отрока рекомендовать в высочайшую вашу милость, потому что оказываемые мне в такие младые лета верные его услуги подают надежду получить от него такой плод, который, может быть, и в вашей империи будет полезен». Султан, слыша обо мне такую рекомендацию и смотря на меня очень прилежно, сказал: «Хотя я теперь в сем отроке ничего отменного приметить не могу, но по твоим словам оставляю его у себя и буду смотреть, достоин ли он той похвалы, которую ты ему приписываешь».
С сего времени остался я во дворце и, сколько было моего рассудка и возможности, старался оказывать мои услуги. По счастию моему, я так султану понравился, что он час от часу больше меня жаловал и, наконец, столько во мне уверился, что некоторые секретные дела при мне делывал. Итак, время от времени опробовавши мою верность, пожаловал меня в своем кабинете секретарем. Я, вступая в сию должность и докладывая его величеству о многих делах, осмеливался иногда предлагать свое мнение, на которое он нередко и соглашался; а потом, заметя, что я больше имею склонности и искусства к военным, нежели к гражданским делам, пожаловал меня пашою, в котором чине и послан я был, под командою великого визиря, против армии римского цезаря, где, во время происходивших баталий, получил я такое счастие, что с нашими в команде моей янычарами пробился в середину цесарской армии и отбил почти весь обоз и немалое число артиллерии, на что смотря, и все турецкие войска с великим стремлением напали на цесарцев и почти наголову всех разбили и побрали в плен.
Командующий цесарскою армиею генерал, видевши такое несчастливое приключение и не ожидая к подкреплению своему никакого вспоможения, принужден был без позволения своего государя вступить с визирем в мирные договоры, потому что он в такое приведен был худое состояние, что ежели бы то не сделал, то и сам со всею оставшеюся армиею должен был отдаться нам в плен. И так он, подкупя визиря великими подарками, заключил с ним перемирие до тех пор, пока от обоих дворов получены будут о том повелительные указы. А корыстолюбивый визирь, будучи обольщен подарками, взятый мною неприятельский обоз отдал обратно цесарцам.
Между тем как скоро донесено было султану о моей храбрости и о визирской измене, то в скором времени получил я султанский указ на визирский чин, а бывшего визиря за его измену удавить. А как тогда наступило зимнее время, то я, по принятии победоносной турецкой армии в свою команду, возвратился к турецким границам и расположился на квартирах, где получил еще от султана указ, которым велено мне сдать команду янычарскому аге, а самому быть в Константинополе, куда я, по сдаче моей команды, немедленно и отправился. По прибытии моем во дворец принял меня султан очень милостиво и наградил великими подарками. Но в то самое время отправлялся немалый корпус турецкого войска против персидской армии; султан, надеясь на мое искусство и храбрость, поручил оный в мою команду, с которым я против персиян и отправился.
Но как дела человеческие подвержены ежедневному сокрушению и непостоянная Фортуна всегда ездит на худой колеснице, потому и угадать не можно, на которую сторону она опрокинется, таким образом и я в сей кампании не так уже был счастлив, как против цесарцев. Сперва имели мы небольшие с персиянами сшибки с равным успехом и, наконец, положили учинить генеральную баталию, в которой сначала янычары наши оказали неустрашимую храбрость, почему я и имел надежду к получению совершенной победы; но в самое то время пришел к персиянам на помощь немалый корпус свежего войска, о котором я прежде никакого известия не имел, почему армия их против нашей и умножилась вдвое. Итак, они, окружа нашу армию, с такою свирепостию напали, что в скором времени, по кровопролитном сражении, принудили турок ретироваться без всякого порядка. Я, сколько ни старался ободрить их своим присутствием, и сам вдался в великую опасность, но никаким образом удержать и в порядок привести не мог и, не видя более никакой надежды, оставя и порученные мне войска на жертву персиянам, принужден был подумать о спасении собственной моей жизни. По счастию моему, недалеко от того места, где происходила баталия, был превеликий дремучий и почти непроходимый лес, то и к оному и ретировался. Персияне гнались за мною человек с сорок, но за резвостию моего аргамака догнать не могли, где я и спас жизнь мою. Персияне же с такого злобою напали на турок, что, не бравши ни одного человека в плен, предавали всех без разбора смерти, и я не думаю, чтобы кто ни есть, кроме меня, мог спасти жизнь свою. А я, будучи в лесу, рассуждал сам с собою, что мне делать; ежели возвратиться в Константинополь, то какое могу пред султаном принесть оправдание. И, зная их варварские нравы, верно был уверен, что другой милости оказано не будет: таким же манером велит меня задушить, как и бывшего со мною против цесарцев визиря; притом же я всегда почитал происхождение моей природы от христиан, чего ради я закон магометанский хотя по наружности и содержал, но, зная, что оный наполнен многими ложными помыслами, то всегда внутренно помышлял, чтобы, сыскавши удобное время, возвратиться в Европу, и лучше желал жить между христианами в посредственном состоянии, нежели у турок быть великим визирем, потому что по их законам знатный человек хотя бы и всю жизнь проводил честным человеком и какие бы ни оказал отечеству великие услуги, но по смерти его, сколько бы он ни имел своего имения, все возьмется на султана, а детям и наследникам не достается.
При сих словах милорд прервал Марцимирисову речь, сказав:
— Пожалуй, изъясни, для чего же у них имение знатных людей не достается детям?
— У них, милостивый государь, — продолжал Марцимирис, — в знатные чины почти никогда из придворных турок не жалуют, а по большей части производят таких, как я, то есть полоненных или купленных в малолетстве, которых нарочно воспитывают и обучают по своему закону, чтоб они не знали своего отца и матери и никому бы за рождение и воспитание свое одолжены не были, кроме султана, и его бы одного почитали за родителя и государя; потому-то когда знатный человек лишился жизни, то все имение описывается на султана, а детям дается только на пропитание самая малая часть. И сие узаконение, сказывают, для того установлено, чтобы великие люди, как-то: визири, губернаторы и знатные паши — для умножения своего богатства не могли разорять своих подданных. Сия-то причина и побуждала меня всегда искать случая от них уехать; а по разбитии персиянами турецкой армии, в которой я был главным начальником, я необходимо должен был стараться о спасении своей жизни; я же имел тогда при себе одних алмазных вещей без малого на миллион. С такими мыслями ехал я тем густым лесом двое суток, не зная сам, куда могу выехать; на третий день поутру лес начал казаться гораздо реже, чему я немало обрадовался.
Ехал я в таких размышлениях, как вдруг лошадь моя начала фыркать и шарахаться. Увидевши я сие, прибрал мою саблю, осмотрев пистолеты, переменил на полках порох, оправил кремни и, взглянувши вперед себя, увидел свирепого льва, который, разинув ужасные свои челюсти и высунувши длинный язык, стремился прямо на меня. Правда, что я сего страшного зверя сперва так испугался, что отчаялся в жизни, но, вдруг опамятовавшись, принял намерение защищаться, сколько будет возможности. Остановя свою лошадь и взяв в обе руки по пистолету, дожидался на себя сего дышащего злобою зверя, который, прибежавши ко мне и ставши на задние ноги, хотел меня ухватить, но я, уставя оба пистолета прямо в злые его челюсти, выстрелил, отчего он, испустя великий рев, повалился на землю; а я, будучи ободрен своею победою, слез с лошади, проколол его моею саблею, и притом, не знаю для чего, пришло мне в голову, чтобы снять с него кожу и взять ее с собою; вынувши кинжал, оную содрал и хотел положить на мое седло; лошадь моя, испугавшись оной кожи, из рук у меня вырвалась и ушла в лес. Бросивши я сию злую добычу, побежал за моею лошадью, но никак догнать не мог, и она из моих глаз пропала; итак, принужден я был идти пешком и, вышед из леса на чистое поле, увидел недалеко от того места большую подчищенную рощу, почему и рассуждал, что надобно быть в близости оной какому ни есть жилищу. Подошел к оной роще, увидел превеликий регулярный сад, чрез который по перспективной дорого виден преогромный каменный дом; думал я, что сему дому надобно быть загородному какого ни есть короля или знатного принца, только боялся — не персидского ли владения; но, рассматривая оный по архитектуре, признавал за европейский. А как несчастие придает иногда человеку излишнюю смелость, то и принял намерение в него войти, и, пришед к саду, и долго ходил около решетки и, прилежно рассматривая, сыскал маленькую дверь, которая так искусно была сделана, что едва рассмотреть было можно. Отворя сию дверь, я вошел прямо в одну густую покрытую аллею, которая убрана была предорогими мраморными и аспидными статуями.
Идучи я сею аллеею, вышел на пространное круглое место, от которого простирались еще в разные стороны три покрытые аллеи. А на средине сего круглого места была сделана небольшая ровная четырехугольная гора со ступенями, наверху которой, на мраморном глобусе, стояла мраморная же Юпитерова статуя, показывающая вид глубокой старости, но приятной и веселой, испускающая из рук своих гром и молнию.
Смотревши довольно на сие прекрасное место, будучи побужден любопытством, я пошел прямо по другой аллее, которая привела меня на перспективную дорогу, простирающуюся до самых палат. Дорога сия по обеим сторонам усажена густыми виноградными шпалерами, с зрелыми плодами, представляющая удивительную красоту; однако ж я к палатам идти не осмелился, а принял намерение еще рассмотреть садовое украшение и пошел по третьей аллее, по которой вышел к одной небольшой горе удивительного украшения. В середине имеющейся в той горе площади сделан небольшой круглый пруд, берега около него выкладены разноцветным мрамором, а вода в нем такой кристалловидной чистоты, что, смотря в оную, можно распознать плавающую разного рода рыбу. Посреди же сего пруда сделан каменный осьмиугольный остров, вышиною от воды только на три ступени, выкладенный зеленым дерном; а по краям ступеней произрастали различные благовонные цветы. На сем острове сделана из пальмового дерева небольшая осьмиугольная же, с большими, самыми чистыми стеклами беседка; наверху оной, вместо флюгера, поставлена из цветного мрамора, самого лучшего художества, Минервина статуя, показывающая прекрасное, величественное, мужественное и целомудренное лицо, держащая в одной руке блестящее копье.
К сему острову через пруд сделан небольшой из пальмового дерева подъемный мост, с раззолоченными цепями, по которому я с великою тихостью перейти осмелился и, подошед к беседке, увидел сквозь стекло стоящую в оной кровать. Не входя в сию беседку, я сел наверху острова, откуда с великим удивлением до тех пор рассматривал представляющиеся глазам моим прелестные предметы, что стал меня одолевать такой сон, от которого я никак ободриться не мог, и отважился, что ежели в ней никого нет, лечь на стоящую кровать спать; кровать же поставлена была на небольшом троне, обитом малиновым бархатом, с серебряным галуном, занавесь белая флеровая, вышитая разными цветами, а пол устлан шелковыми персидскими коврами. Открывши занавесь, я хотел ложиться, но, взглянув на стену, увидал стоящий дамский портрет такой удивительной красоты, какой отроду не видал, да и быть в натуре такой красоты не думал. Смотря на сей портрет, я говорил сам: «Я бы этих живописцев предал жестокому наказанию за то, что они своими вымыслами стараются изображать такую красоту, какой в роде человеческом никак быть не можно». В таких рассуждениях лег я на драгоценную постель, и спал я часа четыре очень спокойно; а проснувшись, увидел лежащую на окне флейту, которую я взял и заиграл в честь видимой на портрете красавицы арию, не зная, что сия флейта сделана чудною хитростию, ибо как скоро я заиграл, то в ту минуту все фонтаны с великим шумом пустили воду, а бывшие в саду разных родов птицы, каждая по своей природе, запели громогласные песни, от чего многие древа плоды свои с себя побросали. Я пришел от сей странности в великий страх, тотчас играть перестал, боясь, чтобы на сей шум кто ко мне не пришел и не убил за мое дерзновение до смерти. А как между тем день уже уклонялся к вечеру, то я не рассудил никуда из оного прекрасного места идти, но остался в сей беседке ночевать и на другой день до половины дня тут пробыл. Но, видя, что в саду ни одного человека нет и сведать мне ни о чем не от кого, то решился я идти прямо к палатам и вошел в первую горницу, обитую преизрядными обоями, в которой было премножество красного дерева столов и шкапов, наполненных серебряною, хрустальною и самою лучшею японскою фарфоровою посудою и разными фигурками. Другая горница убрана разными высокой работы картинами; на одной стороне поставлены славных государей и королей портреты, на другой — великих героев и философов, на третьей — еллинских богов и богинь; а на четвертой — всех бывших на свете знатных королевен и принцесс, которые по красоте своей имели достойную славу.
Как я, сидя в креслах, несколько минут упражнялся в сих размышлениях, то вдруг, к великому моему удивлению, услышал приятный дамский голос, произносящий следующие слова: «Что я, несчастная, вижу? Образ человеческий, которого многие лета не видала! Какая то человеческая смелость, что в сей проклятый дом войти осмелился! Конечно, приятная сего дома архитектура его прельстила, не зная того, кто здесь обитает и что вскоре хочет лишить его жизни и никаким способом возвратиться отсюда не может». При сих словах вошла ко мне из другой горницы с льющимися из глаз слезами сама та красавица, на портрет которой я смотря удивлялся. Увидевши ее, я вскочил с кресел и не знал, что от робости делать; став перед нею на колени, не мог отвечать ни одного слова, а она, видя мое изумление, со слезами мне говорила: «Конечно, вы, государь мой, прельстясь на великолепное сие здание, из любопытства зашли посмотреть сей дом; а если бы вы обстоятельно ведали о сем проклятом жилище, то вы самому злейшему вашему неприятелю не только во внутренность сего дома, но и приближаться к нему не советовали бы».
Я сожалению ее о мне очень дивился, только не мог понять, какой мне надлежит ожидать опасности, и так отвечал я ей: «Милостивая государыня! Это правда, что я зашел сюда по неведению, некоторым нечаянным случаем; но, удостоившись видеть такую божественную красоту, которой, конечно, никто из смертных не видал, то ежели могу претерпеть здесь какое несчастие, раскаиваться в том не буду». Она, подняв меня за руки, сказала: «Я очень радуюсь, что боги через целые три года попустили мне видеть образ человеческий; я плачу о своем несчастном заключении, воспоминая всеминутную печаль, для которой одна я из смертных произведена на свет, и немилостивая судьба, знать, то, конечно, в мое наказание, наградила меня сею рожею, которую ты называешь красотою; она-то и причина всему моему несчастию. Я вам объявлю, что сей дом сделан не человеческим искусством, но волшебною хитростию, и живет в нем злой Жени-дух, который, прельстясь на мою красоту и похитя меня от моих родителей, невидимою силою и в одну минуту, как бы сильным вихрем, принес в сие дьявольское жилище, в котором я препровождаю целые три года. Я бы давно себя лишила жизни, но некоторая невидимая сила меня к тому не допускает, и никаким способом из сего дома выйти не могу. А что вы меня называете только красавицею, какой будто лучше на свете быть не может, и тому нельзя статься, что я теперь, будучи три года в беспрестанной печали и сокрушающей сердце мое горести, могла так хороша казаться. Правда, ежели бы вы видели меня в то время, как я была у моих родителей, то бы, без сомнения, могли красоте моей дивиться. Я — дочь сардинского короля Фердинанда, именем Терезия, прошу же я вас объявить мне, кто вы таковы и каким образом в сей проклятый дом войти осмелились». — «Прекраснейшая принцесса! — отвечал я ей. — О происхождении моего рода я ничего вам донести не могу, потому что я в самом малолетстве взят турецкими корсарами в плен и, будучи у султана, дослужился визирского чина и послан был с корпусом турецкой армии против персиян, от которых, будучи побежден, едва спас жизнь мою бегством, и я нечаянным случаем зашел в сей дом».
Принцесса советовала мне как можно скорее из сего дьявольского жилища бежать, объявляя, что она никакой помощи ждать не может, и если Жени-дух меня застанет, то прекратит жизнь мою мучительною смертию, что уже и со многими случилось, которые также по неведению подходили к сему дому.
Лишь только принцесса сии слова окончила, то вдруг во всех палатах как бы великим вихрем все двери отворились, что и привело меня в великий ужас; а принцесса только успела выговорить: «Ах, человек, погиб ты вечно!» В сию минуту Жени-дух явился в палате и, вошед в спальню, увидя меня, повалился мне в ноги, произнося следующие слова: «Ах, государь мой, пожалуйста, не мучь меня! Что вам угодно, извольте приказать, я все ваши повеления в одну минуту исполню». Видевши сие, я чрезмерно удивился и от одерживающего меня страха пришел в чувство. Принцесса, стоя поджавши руки, с чувствительным вздыханием смотря на меня, удивилась, а я, и сам не зная сему причины, говорил духу: «Скажи мне, чего ты меня боишься?» Жени-дух отвечал: «Нет, сударь мой, я никак не могу прежде встать и дать вам ответ, пока вы не снимете с руки вашей перстень». Я снял перстень, а Жени-дух, тотчас встав, говорил: «Вы имеете в своем перстне такой камень, которому не только же духи должны повиноваться, но и глядеть на него, подобно как бы на блестящее солнце, не могут; а ежели бы вы не имели при себе сего камня и я бы вас застал здесь в доме с любезною моею принцессою, то бы вы вообразить себе не могли, какую мучительную смерть от растерзания духов получили бы; да и сия бы негодная (указывая на принцессу) без тяжкого наказания не осталась бы».
Выслушав сие, я вынул из кармана перстень и уставил против духа, который в тот момент упал опять предо мною в ноги, крича необыкновенным голосом: «О государь мой, сотвори со мною милость, не мучь меня и скажи, что вам угодно: я все по приказанию вашему исполню!»
«Я ничего больше от тебя не требую, — говорил я ему, — как только сколько возможно скорее представь меня с сею принцессою в Сардинское королевство, во дворец к ее родителю». Слыша сие, Жени-дух сказал: «Ах, как для меня несносна сия служба. Ежели бы я был смертный, то б лучше согласился лишиться жизни, нежели расстаться с сею красавицею».
По окончании сих слов пришел я в некоторое забвение, но через минуту, опамятовавшись, увидел себя, подобно как пробудившегося от сна, стоявшего с принцессою во дворе короля сардинского, пред его покоями. Придворные, увидевши нас из окошек, смотрели с великим удивлением, и один камер-юнкер бежал к нам спрашивать: «Кто вы таковы?» Не добежавши до нас, узнавши принцессу и не говоря ничего, побежал к королю и доложил, что дочь его, принцесса Терезия, с незнакомым человеком стоят пред его покоями. Король и королева, услыхав неожиданную радость, не могли увериться, и, забыв свою старость, бежали оба к нам на двор, и, обняв принцессу, с неописанным удивлением и радостными слезами взяв за руки, повели в свои покои, куда я за ними следовал. Вошед в покои, остановился я у дверей, а принцесса, взглянув на меня, говорила своим родителям: «Милостивые государи! Хотя вы вначале и должны благодарить богов за освобождение меня от дьявольской неволи, но не меньшей от вас благодарности достоин и сей кавалер, ибо я его помощию избавлена от того злого духа, который меня от вас похитил». Король и королева, благодаря меня наичувствительнейшим образом, сказали, что за сию мою услугу в знак благодарности отдают мне в вечное владение половину своего королевства.
Я, благодаря их со всевозможною учтивостию, отвечал, что услуга моя не так велика, чтоб за оную иметь такое награждение. «Нет, — говорил король, — вы вам возвратили такое сокровище, что мы не находим способа изъяснить вам нашей благодарности». А принцесса, смотря на меня, сказала: «А я, сударь, столь много почитаю ваше одолжение, что, в воздаяние моей благодарности, вручаю вам в вечное обладание чувствительное мое сердце».
При сих словах милорд спросил Марцимириса:
— Пожалуйста, скажите мне, где вы взяли удивительный тот перстень, который привел Жени-духа в покорность.
— Я позабыл вам доложить, — отвечал Марцимирис милорду, — что когда я был с армиею против персиян, то оным перстнем подарил меня один находящийся при мне паша и сказывал, что он, будучи в посланной от меня партии, снял его с убитого им персидского начальника. И сей перстень был удивительной фигуры: он похож на алмаз, но такие испускал от себя разноцветные искры, какие только вообразить можно.
— Когда я вошел в определенную мне богато убранную спальню, — продолжал Марцимирис рассказывать свою историю, — и хотел раздеваться, то вошел ко мне принцессин паж, объявляя, что принцесса приказала меня просить к себе. Я в ту же минуту вместе с ним пошел, и как вошел в ее спальню, то она говорила мне: «Любезный Марцимирис, я столь чувствительно вами одолжена, что никакой другой благодарности оказать не могу, как только, ежели вам не противно, желаю иметь вас своим мужем, чего ради я вас теперь для того и позвала, чтоб вы мне объявили свое мнение, по чему уже я могу просить о том дозволения у моих родителей». Я, слышав сие, не знал, что мне от радости делать, и, ставши перед него на колени, целуя прелестные ее руки, говорил: «Ваше высочество, возможно ли статься, чтоб боги могли положить такой предел и удостоить меня быть обладателем такой неоцененной красоты? А притом, может быть, и родители ваши не согласятся иметь себе зятем такого человека, который о происхождении своего рода ни малого не имеет известия». — «Об этом вы не думайте, — говорила принцесса, — я только хотела знать ваше намерение, а во исполнении оного положитесь на меня».
На другой день принцесса спросила у своих родителей, с представлением многих резонов, дозволения иметь меня своим супругом, объявляя, что она во время избавления ее мною от Жени-духа клялась всеми богами, чтоб, кроме меня, ни за кого замуж не выходить. Но король и королева, по застарелому древнему обыкновению, ни за что не хотели себя тем обесславить, чтоб за не знающего своей природы человека выдать свою дочь. Принцесса, видя несклонность своих родителей, не смела более им о том и напоминать, но с превеликим огорчением пошла в свои покои и всю ночь неутешно плакала, от чего произошел в ней такой жар и слабость, что на другой день не могла встать с постели, и с того времени день ото дня болезнь ее больше умножалась; и, наконец, чувствуя приближающуюся кончину, она приказала позвать к себе своих родителей. И когда они пришли, то она слабым голосом и с льющимися из прелестных ее глаз слезами говорила: «Милостивые родители, теперь уж я ни о чем вас более утруждать не могу, как только, чувствуя конец моей жизни, всенижайше прошу, когда дух мой с телом разлучится, то приказать мертвый мой труп омыть и, убравши, в гроб положить одной моей фрейлине Анастасии, а кроме нее никого в мою спальню до тех пор, как тело мое совсем будет убрано и положено в гроб, не пускать». Король и королева сквозь неутешные слезы и вздыхания просьбу ее исполнить обещались. После сего час от часу становилось ей тяжелее, и через несколько часов скончалась. Какого поражены были горестью престарелые ее родители, того никак изъяснить не можно, ибо их без всякого чувства отнесли в их покои. Весь королевский дом наполнился жалостью, повсюду слышен был вопль и стенание, а между тем целые три дня приготовлялась печальная церемония, по окончании которой с великою процессиею несено было драгоценное ее тело в капище Дианино. Я провожал гроб ее с неописанною горестию и, предавши погребению, возвратился во дворец.
Король и королева, смотря на меня, вспоминая оказанные мною дочери их услуги, неутешно плакали и, лобызая меня, просили, чтоб я остался у них вечно, обещая содержать меня вместо сына и учинить после себя наследником, но я, не желая ничего, просил их, чтоб они дозволили мне из своего королевства выехать. А как они не хотели того сделать и разными способами старались меня уговорить, то я, не дождавшись от них за мою услугу награждения, ночью, часа за три до солнечного восхода, ушел из Турина пешком и, пришед на рассвете в одну превеликую рощу, сел под деревом отдохнуть. Тут вообразились в уме моем от несносной моей печали все приключившиеся со мной несчастия, от чего пришел я в такое отчаяние, что, выхватя свою шпагу, хотел сам себя заколоть. Но, в самый сей момент, не знаю откуда, явился передо мною небольшого роста мальчик, и, подбежав ко мне, вырвавши у меня шпагу, переломил о свое колено, и сам побежал от меня в лес. Я так на него озлобился, что, бежав за ним, хотел, догнавши, убить его до смерти, но он столь был проворен и резв, что в одну минуту от меня скрылся. А я между тем пришел в здравый рассудок и сам раскаивался в своем предприятии, рассуждая, что хотя я и несчастлив, что лишился такой драгоценной невесты, но, может быть, правосудные боги, которые меня сверх моего отчаяния избавляли от многих несчастливых приключений, и при сем случае для предбудущего какого ни есть моего благополучия лишили меня сего сокровища, ибо провидения их никому постигнуть не можно. Мы часто почитаем то худым, от чего после делается добро.
Как я находился в разных размышлениях, то помянутый мальчик опять предо мною появился и говорит мне: «Помните ли вы, господин, что было в своем безумстве над собою сделали и за что на меня рассердились? Теперь, мне кажется, вы уже опамятовались и должны меня благодарить, что я спас жизнь вашу».
Странное его одеяние, не знаю я для чего, мне понравилось, и я спрашивал его, какой он человек. «Государь мой, — отвечал он мне, — я родителей моих не знаю и, как меня зовут, не ведаю, а именуюсь по малому моему росту мальчиком. Собственного своего ничего у себя не имею, и сие мое одеяние принадлежит здешнего государства народу; пищу себе имею такую, что нынешний день сыт, а завтра что буду есть, не ведаю, ибо я не имею у себя ни родственников, неприятелей, а пристанище имею в недалеко отстоящем отсюда городе, в трактире, и питаюсь от своих трудов таким образом: накупив разных конфет и цветов, хожу с оными по разным трактирам, и когда в оных господа пьют водку, то оные конфеты для закусок у меня покупают, а дамы, танцуя, теряют свои цветы, вместо которых берут у меня и платят довольное число денег. Итак, я своим состоянием очень доволен: никакой печали не имею, никого не боюсь, сплю и встаю когда хочу, иду куда желаю и веселюся тем, что мне приятно».
Из сих мальчиковых слов рассуждал я, что он природою своею несколько мне подобен, потому что и я так же, как он, от кого родился, не ведаю, и беспечальное его жилье мне так понравилось, что я просил его принять меня к себе в товарищи и жить в нелицемерном дружестве.
«Государь мой, — отвечал мне мальчик, — я с превеликою радостию вас в мое дружество приемлю, только с таким договором: когда станем жить и промышлять вместе, то сколько бы кто ни получил, все делить пополам, без малейшей утайки». Я на все сие согласился и уверял его великими клятвами, что ничего с моей стороны утаено не будет.
Таким образом вступили во взаимное дружество и пошли в город Осту, отстоящий от Турина миль с двадцать, и наняли для себя хорошую квартиру. Тут я сделал себе такое же платье, какое у моего товарища. Таким образом жили мы в том городе немало времени, в очень хорошем состоянии и всегда имели у себя довольное число денег. Наконец, по прошествии двух месяцев, пошел я один для некоторой надобности в гостиный двор и, ходя по рядам, увидел одну девицу, очень похожую на Анастасию, любимую принцессину фрейлину. Сперва было вздумал я, остановись, ее дожидаться, но опять рассудил, что ей в оном городе быть незачем. Итак, рассмотря ее, вошел к одному купцу в лавку; но сия девица, догнав меня и ухватя своими руками за плечи, сказала: «Ах, дражайший Марцимирис, куда ты от меня бежишь?» Я, обратясь, действительно узнал, что это Анастасия. Обрадовавшись, я ей говорил: «Откуда ты взялась?» — «А вы, сударь, — отвечала она, — где по сие время были? Я уже больше шести недель ищу вас по разным местам». — «Я радуюсь, — говорил я ей, — что тебя вижу в добром здоровье, и прошу объявить, какую вы до меня имеете нужду!» — «Государь, — отвечала она, — я никакой собственной своей нужды до вас не имею, а исполняю повеление моей государыни». — «Какой государыни?» — говорил я ей. Она мне отвечала: «Милостивой моей Терезии». — «Да что такое? — говорил я. — Или она при конце жизни изволила что приказывать?» — «Нет, сударь, — отвечала Анастасия, — не при конце жизни, а сейчас от нее послана я искать вас по всему здешнему городу». — «Я не разумею твоих слов, — говорил я, — как тебе можно от нечувствительного тела, которое при моих глазах предано земле, получать приказания?» — «Она, сударь, — отвечала Анастасия, — никогда нечувствительной не бывала». На сие я ей сказал: «Не прогневайся, любезная Анастасия, конечно, ты с ума сошла, что стараешься уверить меня в том, что я своими глазами видел». — «Никак, сударь, — отвечала она мне, — как я с ума не сходила, так и принцесса не умерла». — «Пожалуй, любезная Анастасия, не мучь смущенный мой дух, открой мне чудную сию тайну». — «Я, сударь, не намерена вас обманывать, — говорила Анастасия, — а я объявляю вам самую истину, что принцесса никогда не умирала, а находится в блистательной красоте и добродетели, как была и прежде, и нетерпеливо желает с вами видеться. А что ваши глаза видели ее погребенной в Дианином капище, то все было выдуманное от нее оттого, что родители ее не дозволяли ей иметь вас своим мужем: сего-то ради принцесса и просила своих родителей, чтоб по смерти ее никого, кроме меня, к ней не допускали. А как объявлено было о ее кончине, то я в то время приготовленную заранее восковую статую, убравши совсем, положила в гроб, которая под именем ее с надлежащей церемониею и погребена в Дианином капище; а принцесса в то самое время, ушед из Турина, дожидалась меня в одной деревне; по окончании же погребальной церемонии я, пришед к ее высочеству и сведав, что вы из Турина ушли, искала вас по разным местам, но, не получа никакого известия, мы приехали в сей город, и ежели бы здесь вас не нашли, то принцесса хотела остаться в сем городе жить тайным образом, а меня намерена была послать искать по разным местам. Итак, милостивый государь, покорно вас прошу не мешкать и следовать за мною к ее высочеству, где обо всем обстоятельно можете быть уверены».
Выслушавши сие, я в ту минуту пошел с Анастасией на их квартиру и, к неописанной моей радости, увидел принцессу, встречающую меня с распростертыми руками, почему я и не могу изъяснить, какою мы при сем нечаянном свидании объяты были чувствительною радостию. И по многим взаимным уверениям в нелицемерной нашей любви положили, чтоб в тот же день, выехав из сего города, в первом месте обвенчаться и ехать жить в Голландию, ибо мы имели при себе разных драгоценных вещей с лишком на миллион. И, собравшись, через несколько часов выехали, и, продолжая путь наш как сухим путем, так и морем немалое время, достигли благополучно города Гаги, и, остановись в нем, без всякой церемонии обвенчались, думая через два дня уехать в Амстердам.
На другой день после брачного нашего сочетания сидел я с любезною моею супругою у окошка и, взглянув на двор, увидел идущего к нам мальчика, бывшего моего товарища, чему я чрезмерно удивился, как он мог сведать о моем отъезде и каким способом в таком скором времени явился в сем городе и нашел нашу квартиру. Терезия спрашивала у меня: «Какой это человек к нам идет?» Но я, не отвечая ей ничего, выбежал на крыльцо, ибо вид его, как бы острою стрелою, прострелил мое сердце. А он, увидевши меня, говорил: «А, господин Марцимирис, ты думал, что тайно от меня уехал, и хочешь утаить, что женился на сардинской принцессе Терезии? Нет, мой друг, вперед никогда этого не думай, чтобы ты, где бы ни был, мог от меня укрыться». Я ему отвечал: «Я виноват только в том, что не простясь с вами уехал, а впрочем, теперь мне жить с вами по-прежнему никак нельзя, ибо я тогда затем подружился с вами, что считал мою невесту умершею, а ныне, когда всемогущие боги даровали мне эту принцессу, с которою я вступил в супружество, то и вознамерился возвратиться в отечество». — «Нет, государь мой, — отвечал мне мальчик, — напрасно вы стараетесь меня обманывать. Какое у вас отечество? Я верно знаю, что вы так же, как и я, ничего собственного своего не имеете и, от кого рождены, не знаете, да я же не просил, чтобы быть вашим приятелем, но вы сами убедили меня своею просьбою, чтоб я вас принял в свое дружество, и помните ли вы положенный между нами разговор: «Кто бы что ни получил, все делить пополам». — «Это правда, — говорил я ему, — но это разумелось в тогдашнее время, когда мы были оба холостые, жили вместе, и имели все общее, и что получали, то вместе проживали; а теперь, когда я, по промыслу богов, получил другое счастие, то и жизнь моя должна перемениться». Мальчик, не говоря больше ничего, только просил меня, чтоб я позволил ему на моей квартире ночевать, на что я и согласился. Мы обедали и весь день проводили вместе в разных разговорах. А как я после ужина пошел с любезною моею супругою в спальню, то и этот мальчик вошел за нами; я, обратясь, говорил ему, что время ложиться спать и для того шел бы он в другую горницу. «Нет, мой государь, — отвечал он мне, — ваше повеление противно положенному между нами договору, потому что во всем приобретенном тобою имею равную половину, а потом вы уже со своею супругою одну ночь проводили, а теперь другую надлежит ночевать мне, а вы изволите идти в ту горницу, в которую меня посылаете».
Терезия, услыша сие, затрепетала от страха и не знала, что делать; а я, пришед в чрезмерный гнев, воскликнул: «Еще ты, бестия, недоволен моим благоприятством и смеешь произносить в присутствии моей супруги неистовые слова!» Я поднял мою руку и так сильно ударил его по щеке, что он раза четыре, как дьявол, кругом повернулся и, не сказав ни слова, побежал со двора домой, почему я и думал, что от этого мошенника совсем уже отделался, и провел следующую ночь с моей супругою без всякого беспокойства. Но поутру в двенадцатом часу вошел ко мне полицейский вахмистр с объявлением, чтоб я немедленно явился в полицию для ответа на принесенную на меня от одного человека жалобу. Я, тотчас одевшись, пришел пред полицейских судей, которые спрашивали меня: какой я человек и давно ль в сей город приехал, объявляя притом, что один человек подал челобитную, будто я отнял у него жену и хочу увезти с собою.
«Милостивые государи, — говорил я судьям, — я был у турок в плену и, дослужась визирского чина, послан был от султана с армиею против персиян; а по разбитии ими турецкой армии уехал я в Сардинию и, откуда продолжая путь свой в Германию, нашел нечаянным случаем свою невесту, которую я с великими трудами избавил от некоторого злодея, и, женясь на ней, хочу уехать в Амстердам, а кто на меня всклепал такое злодейство, я не знаю. Я бы желал, чтобы челобитчик сам лично мог меня в том изобличить». Судьи сами не знали, какой человек челобитчик, ибо он, подавши на меня челобитную, сам из полиции вышел.
Как бы то ни было, только судьи, не приняв моего оправдания, сказали, что, пока не явится челобитчик и не сыскавши в том подлинной правости, из полиции меня выпустить не можно, чего ради и отдан был я под частный караул. Супругу мою приказано на квартире одному секретарю допросить, а челобитчика для доказательства сыскать. Терезия в допросе показала то же, что и я, и подарила секретаря хорошим подарком, а притом и я поднес судьям тихую милостыню, почему меня, хотя челобитчика не сыскали, из полиции выпустили.
Идучи домой, я думал на другой день неотменно отправиться в Амстердам, но проклятый мальчик, попавшись мне навстречу, говорил, чтоб я, конечно, по прежнему договору, дозволил в жене моей иметь участие; а ежели я того не сделаю, то и вовсе могу ее лишиться. И, выговоря сие, в ту минуту пропал из глаз моих.
Идучи на двор, я увидел, что Терезия смотрит в окно и радуется моему освобождению; а как вошел в покои, то нашел ее лежащею на полу без всякого чувства. Думал я, что ей сделался от радости от загустения крови обморок, и для того, вышед вон, хотел послать за лекарем, чтобы пустить кровь, но только я и другую горницу вышел, она, опамятовавшись, сквозь стеклянные двери кричала мне, чтоб за лекарем не посылал, для того что она совсем здорова. Я, обрадовавшись, воротился и, вошед в спальню, застал ее сидящею в креслах опять без всякого чувства; и, сколько ни старался разными спиртами приводить ее в память, но никаким образом сделать того не мог. И с сего времени она никогда, при моих глазах, в памяти не бывала. Случалось, когда мы ляжем спать и как скоро я засну, то она в ту же минуту опомнится, и по горячей ко мне любви, желая со мною говорить, станет меня будить, но только я открою мои глаза, она опять делается как истуканная. В таком состоянии жил с нею в Гаге около четырех лет, имел немало приятелей, которые нередко меня посещали; и когда меня в той горнице нет, то она с гостями сидит, разговаривает и потчует; я, будучи в другой горнице, слышу все ее разговоры, а как скоро к ней войду, то, где бы мои глаза ее ни завидели, сидящую ли в креслах или лежащую на постели, в ту минуту она обеспамятствует. И сие приключение делалось с нею без всякого беспокойства и болезни, подобно крепчайшему сну, от которого при моем присутствии никаким способом разбудить было не можно; для того, когда надобно нам о чем с него говорить, то говорили, будучи в разных горницах, сквозь затворенные двери.
Не осталось в городе ни одного доктора и лекаря, которого бы я не призывал для исцеления сей болезни. Хотя они употребляли некоторые лекарства, но, наконец, видя странное и неслыханное сие приключение, сказали, что сия болезнь до конца жизни ее неизлечима. Почему и не знали, какую нам должно вести жизнь. Наконец, вздумалось мне сделать ей чрез Анастасию предложение, чтоб она возвратилась к своим родителям, чрез то может их при старости несказанно обрадовать, а по смерти их быть наследницей Сардинского королевства, и ежели пожелает, то, сыскав себе достойного жениха, вышла бы замуж, потому что, может быть, за другим мужем сего приключения иметь не будет. А я принял намерение искать в Германии или во Франции себе службу и во всю жизнь не жениться.
Принцесса, слышавши это, приказала мне чрез Анастасию, что она на это, хотя с великим сожалением, соглашается и точно так же ни за кого на свете замуж не пойдет. Таким образом, согласясь с обеих сторон и будучи в разных горницах, неутешно о разлучении нашем плакали, и в знак памяти взял я к себе принцессин портрет, а ей отдал свой.
— Вот, милостивый государь, — говорил Марцимирис милорду, — причина моей печали, которой я до конца моей жизни позабыть не могу. Где теперь сия неописанной красоты принцесса, никакого известия не имею; только думаю, что сия странная болезнь напущена от того Жени-духа, от которого я ее избавил, и не сам ли он в образе мальчика предо мною казался, ибо все его дела были не человеческие, а перстень я свой, которого духи боялись, и сам не помню, где потерял.
Милорд и маркграфиня, благодаря Марцимириса за его историю, очень сожалели о его несчастий и немало удивлялись чудному с ним приключению. Между тем приготовлен был вечерний стол, а по окончании ужина маркграфиня говорила милорду:
— Теперь вы не можете на меня сердиться, что я вам в одной с собою каюте ночевать не позволю, ибо я уже опробовала вашу невоздержанность и боюсь, чтобы не навести на себя от богов справедливого гнева, чего ради желаю вам препроводить сию ночь в особливой каюте.
Поутру маркграфиня, одевшись, вошла в ту каюту, в которой находился милорд, и, найдя его лежащего еще в постели, говорила ему:
— Любезный милорд, ведь уже одиннадцать часов, а вы еще спите.
— Нет, ваше высочество, — отвечал он, — я очень давно проснулся, но что не встал с постели, тому причина та, что я нахожусь в великом размышлении о виденном мною удивительном сне. Как я вчерашнего вечера, простясь с вами, пришел в мою каюту и, легши на постелю, очень хорошо заснул, то видел во сне Юпитера, сошедшего с Олимпа на землю и сидящего на престоле, к которому собрались все боги и богини и стояли вокруг его престола. Потом прилетела на двух голубях в позлащенной колеснице прекраснейшая Венера, имеющая на себе длинное разноцветное одеяние, и длинные ее власы перевязаны золотою лентою. Все боги красоте ее удивлялись. Вышед из колесницы, она приступает к престолу Юпитерову ступанием тихим и кротким, но притом прекраснейшее ее лицо омочено текущими из глаз ее слезами. Юпитер встал со своего престола и, облобызав ее, сказал: «Дорогая мои дочь, о чем ты так скорбишь? Открой мне причину твоей горести». — «О всевидящий отец богов и человеков, — отвечала она ему, — возможно ль, чтобы ты не мог знать моей печали; я приношу тебе жалобу на маркграфиню бранденбургскую за преступление ее клятвы, которая по смерти своего мужа приносила всем богам, которых ты видишь окружающих престол твой, великие жертвы и клялась страшными клятвами три года не выходить замуж, только бы по желанию определили ей боги достойного жениха; и притом еще обещалась, что ежели до брачного сочетания сделает хоть малое какое в своем обещании преступление, то еще шесть лет ей вдовствовать. Но ныне сам ты, отче, знаешь, что она преступила сию клятву, ибо данного ей жениха английского милорда в построенном от Минервы близ Лондона доме своею красотою прельщала и совершенно бы впала в большое преступление, ежели бы чистейшая Диана ее от того не удержала. А жених ее преступил данное ему от нее завещание в том, что открыл Елизавете тайну о пребывании маркграфинином в Минервином доме, и теперь, прежде назначенного времени, хочет совокупиться браком. Почему я вступаюсь в неправедную ее клятву и прошу отмстить ей за сие клятвопреступление».
По окончании Венериных слов чистейшая Диана, имея на себе длинное белое одеяние, на голове венец с белыми перьями, приступая к престолу Юпитерову, сказала голосом тихим и кротким: «Отче богов и человеков! Ты ведаешь милорда, его твердость и постоянство; я о нем прошу, сохрани его для моей просьбы и даждь ему долголетнее здравие, ибо он хотя преступил клятву, но за то получил на острове арабском от королевы мучительное наказание и остался в непоколебимой твердости».
Юпитер отвечал сим богиням: «Я знаю, что дщерь моя Минерва маркграфиню любит и делает для нее великие мудрости, и для того я никакого наказания не определяю, а отдаю ее на вашу волю: вы что хотите, то с нею и делайте, а я ни в чем помогать вам не буду, а стану смотреть, кто из вас победительницею останется. А милорда поручаю чистейшей Диане и за претерпение его на арабском острове определяю ему Бранденбургское герцогство; в законах — Минерва будет ему помощница».
Выслушав милордово сновидение, маркграфиня сказала:
— Я и сама знаю, что Венера на меня гневается за преступление моей клятвы; однако ж я имею надежду на премудрую Минерву, которую я с самого малолетства больше всех богинь почитаю. Но что же делать? Будь сие во власти богов. А вам пора одеваться, и время уже кушать.
Едва успели они сесть за стол, как вдруг темная туча покрыла чистое небо, зашумела сильная буря, воздвигнулись ужасные волны. Видевши это, маркграфиня вскричала:
— Ах, любезный милорд, видишь ли ты, что Нептун, по совету Венерину, на погубление мое изливает гнев свой? Ежели я при сем несчастном случае погибну, а тебя милосердные боги от погибели избавят, то вспомни любезную твою маркграфиню, которая для тебя лишается жизни.
В страшную сию минуту морские волны сделались великими горами; от сильной бури главная мачта переломилась, ванты и паруса изорвались, и корабль, без всякого управления, более двух часов носился по неизвестной морской пучине. Наконец, нанесло его на камень и разбило на многие части. При сем последнем отчаянном случае милорд, ухватясь за одну большую доску, вопиял жалостным голосом:
— О великодушные боги, вы меня избавляли от многих несчастий: пошлите и теперь всемогущую вашу помощь!
Вдруг сильная волна выбросила его на морской берег, на котором лежал он всю ночь, без всякого чувства, и, наконец, начал чихать и тем возбудил в себе морскую воду, которая ручьями пустилась из его рта и ноздрей, и через несколько после того минут пришел он в память.
Вставши с земли, смотрит на море, но не знает, где он находится; вспоминает любезную свою маркграфиню, которую, верно, считает погибшею. Потом, ходивши он долгое время по морскому берегу, увидел в одном месте небольшую дорожку, чрезмерно обрадовался и, идучи оною, пришел в одну небольшую деревню, в которой и остался ночевать. Поутру вставши, купил лошадь и продолжал путь свой далее; отъехав же мили с две, увидел впереди себя город и, приехав в оный, стал в одном вольном доме. Хозяин того дома был человек уже престарелый, но разумный; увидавши милорда, как человека иностранного, принял его очень ласково. Милорд спрашивал хозяина:
— Пожалуйста, скажи, как именуется сей город и под чьим состоит владением?
— Милостивый государь, — отвечал старик, — этот город Картагена; владения испанской королевы, и мне немало удивительно, что вы не знаете, в каком государстве находитесь.
— Не удивляйтесь сему, — отвечал милорд хозяину, — потому что мне по несчастному моему приключению знать сего не можно, ибо я, по разбитии корабля, выброшен морскими волнами на здешний берег без всякого чувства, посему и не мог до сего часа знать, где я нахожусь, а теперь услыша от вас, очень радуюсь, что судьба привела меня в такое государство, в котором чужестранцы хорошо принимаются, и где я без всякого затруднения могу быть принят на службу. Но еще хочу вас спросить, — говорил милорд, — что вы объявили мне об одной только королеве, а о короле ничего не упоминали.
— Государь мой, — отвечал старик, — когда вы ничего не ведаете, то вас о всем уведомлю. Тому уже четыре года, как любезный наш король скончался, и наследников после него мужского пола не осталось, чего ради сенат принужден был признать наследницею всего государства дочь его, принцессу Анну. Только подданные ее немало имеют сожаления, что сия драгоценная наша государыня никому на свете супругою быть не хочет, враждебную к мужескому полу имеет антипатию, почему мы и не имеем надежды после нее иметь для испанской короны законных наследников. Она же имеет такое обыкновение, что никогда без маски выходить не изволит, и ни один еще чужестранный человек лица ее видеть не мог; да и свои подданные, кроме самых ближних ее придворных, никто без маски видеть ее не удостоился.
Слыша это, милорд говорил хозяину:
— Я, видя вашу к себе благосклонность, осмелюсь вас спросить: не знаете ли вы, какой ради причины государыня ваша скрывает свое лицо, и не случалось ли видеть хотя портрет ее или от кого слышать о ее красоте?
— Конечно, вы, государь мой, думаете, — отвечал хозяин, — что не имеет ли наша королева в лице своем какого неприятного вида. Нет, я вас уверяю, что она, при всех своих достоинствах, так хороша, что подобной ее красоты еще не видано. Причина же, принудившая ее скрывать свое лицо, произошла от сожаления своих подданных, потому что, когда она при покойном своем родителе прелестного своего лица не закрывала, то многие молодые кавалеры, заразясь прелестною ее красотою, лишились жизни.
Милорд хотя прежде и намерен был из Картагены возвратиться в свое отечество, но, слышав от старика такую о королеве похвалу, вознамерился для любопытства ехать в Толедо, где королева имела свое пребывание, и, объявя там о настоящем своем имени, жить, как надлежит знатному человеку, и, спознавшись с придворными кавалерами, искать случая увидеть королеву без маски.
Вследствие чего на другой день просил он хозяина, чтоб нанял ему почтовую с четырьмя лошадьми карету, и как оная была изготовлена, то он, заплатив хозяину за квартиру и благодаря его за ласковое обхождение, отправился в надлежащий путь и, приехав в Толедо, спрашивал у почтаря, где бы ему в сем городе сыскать хорошую квартиру. Почтарь объявил ему, что во всем городе лучшей квартиры сыскать не можно, как у купца Демаре, который содержит великий трактир, и все чужестранцы становятся у него.
Милорд, въехавший в оный трактир, объявил о своем имени. Демаре принял его очень ласково и с великою учтивостью спрашивал, что ему надобно. Милорд отвечал, что теперь ничего он больше не требует, как только для одной персоны квартиру. Демаре сказал, что не только квартиру, но, если надобно будет, карета, лошади и лакеи, сколько угодно, все будет в готовности.
Милорд, будучи сим очень доволен, говорил ему, что хотя он на первый случай для своего содержания несколько при себе денег и вещей имеет, но ежели впредь будет нужда, то может ли он поверить, до присылки из Лондона, тысяч до десяти за надлежащие проценты.
— Не только такую малую сумму, — отвечал Демаре, — но если вам надобно хотя до тридцати тысяч, но только извольте написать и адресовать вексель, на какого ни есть лондонского купца.
Милорд благодарил Демаре и, взяв перо, написал вексель и отдал ему, а к сестре своей Люции писал следующее письмо:
Любезная сестра!
Я верно знаю, что вы, не имея обо мне столько лет никакого известия, находитесь в отчаянии о моей жизни. Правда, что я во время моего странствования, претерпевая великие несчастия, неоднократно подвержен был смерти; но правосудные боги неисповедимыми своими судьбами до сего времени сохраняли жизнь мою и нечаянным случаем привели меня в Испанию. Я нахожусь теперь в Толедо под своим именем и, по некоторым обстоятельствам, должен вести роскошную жизнь, по знатности моей природы, чего ради я имею в деньгах немалый недостаток и для того принужден послать к вам на тридцать тысяч вексель, по которому прикажите из моих доходов заплатить и исходатайствовать сюда на имя Демаре от английских купцов о мне рекомендацию.
По отправлении сего милорд, разговаривая с Демаре, спросил, не имеет ли он какого случая рекомендовать его кому ни есть из придворных кавалеров, чрез которых бы можно было сыскать способ увидеть королеву без маски.
— Милостивый государь, — отвечал Демаре, — я бы с великою охотою рекомендовал вас одному приятелю, но его теперь в городе нет; он находится в своих местностях и ближе двух месяцев сюда не возвратится. А чтоб вам видеть королеву без маски, к тому ни один человек никакого способа сыскать не может; в присутствии же ее величества вы быть можете, потому что она всякую неделю два раза бывает в опере, где всему испанскому дворянству и иностранцам невозбранно быть дозволяется, и она часто со многими милостиво разговаривает; портрет же ее видеть можете во дворце, который стоит в аудиенц-камере.
По прошествии нескольких дней милорд, одевшись как можно лучше, пошел в театр и встал в таком месте, чтоб его знатные не могли видеть. Потом пришла королева, села на своем месте и с находящимися близ нее кавалерами и дамами очень много разговаривала. Милорд, слышавши разумные ее разговоры и видя приятный ее корпус, чрезмерно в нее влюбился и принял за непременное намерение всякими способами искать случая, чтоб видеть ее без маски и стараться ей понравиться, ибо он думал, что любезной его маркграфини, конечно, уже на свете не было.
Через несколько времени получил он из Лондона от сестры своей письмо и притом одного знатного английского купца к Демаре и другим испанским купцам о себе рекомендацию, чтоб ему верили до ста тысяч.
По этой рекомендации взял он у Демаре немалую сумму денег, нанял для себя хороший дом, переехал в оный, сделал богатый экипаж, накупил премножество галантерейных вещей и разных уборов, принял довольное число служителей и сделал богатые ливреи, а Демаре, заплатя за свое содержание довольную цену и наградя его немалыми подарками, обещался быть навсегда верным другом.
В одно время приехал к нему Демаре и сказал:
— Милостивый государь! Прежде всего обещал я рекомендовать вас моему приятелю; так ежели вам угодно, то я ныне могу оное исполнить; а сей мой приятель ее величества обер-камергер Фердинальд, который у королевы содержится в великой милости.
Милорд, благодаря Демаре, оставил его у себя обедать, а после обеда, посадя в свою карету, поехали к Фердинальду, который принял их очень ласково, причем Демаре говорил Фердинальду:
— Я в надежде вашей к себе милости приемлю смелость рекомендовать вам сего недавно приехавшего английского милорда, который, по недавнему прибытию, никого еще здесь не знает, и покорно прошу содержать его в своем дружестве.
Фердинальд на сию рекомендацию отвечал милорду:
— Я за счастие себе почту, если удостоюсь в чем ни есть оказать вам мою услугу, и прошу содержать меня в своей дружбе.
На другой день после того ездил милорд ко многим знатным господам с визитами, а после уже ездил в торжественные дни во дворец и в придворный театр. И в один день, будучи во дворце, по представлению Фердинальдову допущен был к королеве, к руке, при чем она ему сказала:
— Я радуюсь, видя вас при моем дворе, и желаю, чтоб вам здесь было не скучно.
После того милорд еще больше пленился любовною к королеве страстию, чего ради много раз принимал он намерение открыться в том Фердинальду и просить его вспомоществования и для того в один день приехал к нему ужинать. А как тогда никого у Фердинальда не было, то они по окончании стола, сидя вдвоем, разговаривали о разных материях. Милорд, видя способное время, начал говорить Фердинальду:
— Любезный друг, будучи я уверен в нелицемерной вашей дружбе, осмеливаюсь открыть вам сокровенную до сих пор в моем сердце тайну, ибо я не для чего другого сюда приехал, как только для любопытства, чтоб видеть без маски красоту вашей королевы и ей понравиться, чего ради и прошу вас, как искреннего друга, не можете ли вы сыскать к тому способного случая.
— Я вам открываюсь чистосердечно, — отвечал Фердинальд, — что хотя пред другими отменную и имею к себе ее величества милость, только очень редко удостоиваюсь видеть ее без маски, потому что она, кроме своей спальни, ни в каком месте оной с себя не снимает, а в спальню без позволения ее никто из кавалеров войти не может; а вам уже, как чужестранному человеку, никаким образом видеть ее не можно. Что же касается до ее красоты и разума, в том я могу вас уверить, что едва ли подобная ей может где сыскаться, а что она объявляет, будто от природы имеет к мужчинам великую антипатию, чего ради не только любить, но и законного супруга иметь себе не желает, и тому, кажется, по человечеству быть не можно. И я думаю, что сие происходит от чрезмерной ее амбиции, потому что она, будучи сильно заражена своею красотою и разумом, и думает, будто нет на свете одаренного от богов такими достоинствами человека, которого она могла бы удостоить быть своим супругом. Вы, может быть, государь мой, — говорил Фердинальд милорду, — по молодости своей еще не знаете, как женщины лукавы и притворны, а я уже довольно в том искусился, и ежели вам не нанесу скуки, то послушайте случившуюся со мною историю.
ЧАСТЬ III
При покойном короле, отце нынешней государыни, послан я был для некоторого секретного дела в Италию и по порученной мне комиссии принужден был жить в Генуе целые три года. А как я был тогда холостой и в самых молодых летах, то старался отыскать себе любовницу, в чем так был счастлив, что, живучи в сем городе самое короткое время, без всякого затруднения склонил к себе любовь очень хороших трех дам, из которых первая была одного капитана жена, именем Гевия, с которою я познакомился, бывши в гостях у сардинского посланника. Но, по несчастию моему, взаимная наша любовь не более одного месяца со мною продолжалась, потому что муж не будучи в отставке, по большей части жил в своих деревнях, чего ради и принуждена она была ехать в деревню. Прощаясь со мною, она очень плакала и просила меня, чтобы я до возвращения ее в Геную другой любовницы не искал, потому что она через три месяца, верно, уговорит своего мужа опять возвратиться в город. Я хоть обещал содержать сие непременно, но после рассудил, что я не тутошний житель, и, получа от короля указ, должен буду ехать в свое отечество; и я для того, не хотя терять времени к своему увеселению, принял намерение искать себе другую любовницу. И спустя неделю после ее отъезда, будучи в одном доме на бале, танцевал с одною дамою, которая в танце с особливою приятностию бросала на меня свои взоры. Приметивши я сие, спрашивал бывших тут своих знакомых, кто она такова. Они сказали, что она одного юстиции президента жена, именем Маремиса, причем указали мне ее мужа; он был уже не очень молод, а она в самой еще цветущей молодости, почему и рассуждал я, что, конечно, она его не любит. И для того поднял ее танцевать и показывал ей знаки моей склонности; по окончании же танцев экскузовался ей, что не обеспокоил ли ее моим поступком; она отвечала, что за счастие почитает, что удостоилась танцевать с таким кавалером, которому ни в чем отказать не может, а если мне не противно, то она с великою радостию желает быть короче знакома, и просила меня к себе в дом, объявляя, что оный, по вольности мужа ее, никогда для меня затворен быть не может. По сему предложению искал я случая, как бы познакомиться с ее мужем, вследствие чего на другой же день с одним моим приятелем в дом к нему я приехал и принят был от него, а наипаче от жены его, с великою ласкою. Таким образом не далее как через два дня свели мы с нею неразрывное дружество. Но любовные наши приятности продолжались только один месяц, ибо она, за случившеюся отцу ее кончиною, принуждена была ехать в деревню; при прощании со мною обещалась, как скоро будет можно, возвратиться опять в город. Я, дожидаясь ее целый месяц, нимало не думал искать себе новой любовницы. Но в одно время богатый итальянский купец Ферил звал к себе обедать всех чужестранных посланников, и мне тут же быть случилось. Жена у сего купца была прекрасная, обходительная, смелая и шутливая женщина.
Будучи за столом, принуждены были пить за здоровье тех государей, которых министры в сем городе находились.
Таким образом наполнили наши головы хмельными спиртами, отчего и сделалась компания наша очень веселою. Бывший тут французский министр, прельстяся на Филию (имя хозяйки), хотел ей объявить свою любовь, для того подошел к ней и, видя налепленную у ней на губе, для прикрытия маленького струпика, мушку, говорил ей: «Я очень, сударыня, сожалею, что сия болячка так неучтиво осмелилась на такую приятную губку испустить яд свой». Филия, усмехнувшись, отвечала: «Нет, сударь, она очень умна, потому что она самовластна и выбирает себе лучшее место, где ей угодно. Да я думаю, если бы можно, то бы вы охотно и сами в струпик превратиться желали». — «Нет, сударыня, — отвечал ей француз, — я не могу быть такою вещью, которая бы могла наносить человеческому роду, а особливо прекрасному женскому полу, беспокойство; но, напротив того, я вам, сударыня, могу объявить, что, будучи в Риме, получил от папы такую святость, что ежели моими губами притронусь до такой болезни, то она в ту же минуту исчезает». — «Ах, как я сожалею, — отвечала ему Филия, — что прежде сего не знала о сей вашей целительной святости: я бы не отсылала моего кучера к лекарю, ибо я надеюсь, что вы, по учтивости вашей ко мне, прикосновением святых своих губ исцелить его не отреклись бы, а он очень болен, — поцелуем». Француз, услыша сей неожиданный ответ, сгорел со стыда и, не говоря более ни слова, принужден был от нее отойти.
По отступлении сего француза, вознамерился я отведать своего счастия, сделать любовную пропозицию и, подошед к ней, говорил: «Смею ли я, сударыня, испросить у вас позволения возобновить французову шутку?» — «Я, сударь, не сомневаюсь, — отвечала она мне, — чтоб ваши шутки с французскою не имели бы великой разности». — «Я очень удивляюсь, — говорил я ей, — как можно кавалеру отважиться с дамой вести такую неприятную шутку. Однако вы на его святость такой сделали ответ, какого лучше желать не можно; а я, сударыня, с моей стороны, если б можно было мне сделаться сим струпиком, то бы никак не поселился на таком месте, которое от прикосновения губ подвержено всегдашнему беспокойству, а выбрал бы самое деликатнейшее, которое бы так было мягко, как самая лучшая пуховая подушка, и от нежного бы дыхания всегда качалось как в колыбели, и было бы покрыто без всякого подозрения». Филия, усмехнувшись, отвечала мне: «Подлинно зная, что вы несравненно достойнее его, я с своей стороны давно искала случая оказать вам мои услуги». Потом пошли мы с нею гулять по саду, и она мне признавалась, что давно уже была в меня влюблена, и ежели бы я не начал с нею говорить, то намерена была сама, без всякого стыда, открыться мне в своей любви.
По прошествии после сего немалого времени первая моя любовница Гевия с мужем своим из деревни возвратилась; а потом и другая, Маремиса, похороня своего отца, также в Геную приехала, которых я, по прежней их ко мне любви, посещением моим не оставлял и оказывал им, по возможности моей, равное благодеяние и всех их уверял моею верностию; да они все три содержали меня в великой любви, почему я не мог думать, чтоб они знали, что один я у них любовник.
В одно время случилось мне быть со всеми в одной компании. Я очень удивился, как все, взявшись за руки, пошли в особливый покой и меня туда же пригласили, и как мы теперь находились только в четырех персонах, то первая из них, Гевия, начала мне говорить: «Любезный Фердинальд! Хотя я знаю, что вы, как нездешний житель, не можете вечно быть моим любовником, однако ж не должно было вам так быть нетерпеливому и неверному, чтоб, не дождавшись меня, влюбиться в сию Маремису; но она такую же от вас, как и я, получила неверность, ибо вы, ее не дождавшись, влюбились еще в Филию и теперь имеете у себя вдруг трех любовниц. Хотя мы все три содержим вас в нелицемерной любви, но знаем, что никаким образом всех нас равно любить не можно, и для того мы, по общему нашему согласию, без всякой зависти, отдаем на твою волю, чтоб ты избрал из нас для себя одну, которую тебе угодно, и мы никак в том друг другу завидовать не будем».
Я, слыша сие, пришел в удивление, что они сие говорили с великою приятностию, и в такое пришел замешательство, что не знал, какой дать им на сие ответ и которой сделать преимущество, ибо они были хороши, умны и, кроме меня, никого не любили; почему и думал я, что, конечно, тем двум, которых я оставлю, будет обидно. Наконец, рассудилось мне употребить следующее средство, и я говорил им: «Любезные мои красавицы! Я бы желал и всех вас любить, но, когда вы сами между собою утвердились и положили выбор на мою совесть, то я, чтоб не сделать одной перед другой обиды, не нахожу иного средства, как только которая из вас лучше и хитрее обманет своего мужа, той я дам преимущество, и она останется верною моею любовницею». Они все на это предложение охотно согласились, но в том еще сделали спор: которой из них наперед приняться за искусство. И я на оное им сказал: «Гевия первая меня полюбила, то она наперед должна начать сие предприятие, а потом по порядку и другие». Утвердясь они на оном моем предложении и простясь со мною, разъехались по домам, и притом Гевия сказала, что на завтрашний день приступит к своему вымыслу, что она на другой день действительно исполнила следующим образом.
Поутру муж ее, поехавши для некоторого дела со двора, сказал, что ему ближе первого часа домой быть не можно. Как скоро он со двора съехал, то Гевия тотчас приказала своим людям в некоторых первых горницах сверх имеющихся обоев обить другими обоями и наносить из погреба в сени бочек с вином, бутылок и штофов с разными напитками, поставила в одной горнице бильярд и все сделала так, как бывает в трактирах. Потом назвала офицеров и разного звания незнакомых мужу ее гостей, а сама, одевшись, как ходят трактирщицы, приказала всем, что, когда муж ее приедет домой, то бы не сказывали ему, что это его дом, а уверяли бы, что в сем доме несколько уже времени стоит трактир.
Самир, Гевиин муж, приехавши в первом часу пополудни и вошед в сени, увидел множество бочек и прочего, чему очень удивился; но как вошел в покои и увидел в оных совсем другое убранство и премножество разного звания незнакомых ему людей, из которых одни, сидя за столом, обедают, другие играют в карты, а иные в бильярд, в такое пришел изумление, что не знал, на что подумать. Вообразилось ему, что, конечно, он ошибся и не в ту заехал улицу; чего ради вышел за ворота, рассматривает соседние дома и, признавая свой дом, не может понять, для чего в нем делаются такие чудеса. Вошед он опять в переднюю горницу, вскричал: «Жена, Гевия!» На сей голос Гевия, выбежавши из другой горницы и притворясь, как нимало ему не знакомая, говорила: «Чего, сударь, изволишь?» Самир, видя свою жену, подобно трактирщице, в одном бастроне и в фартуке, говорил ей: «Что ты, Гевия, взбесилась! На что сделала у себя в доме трактир?» — «Нет, сударь, — отвечала она ему, — разве вы не вскружились ли, что, заехав в незнакомый дом, кличете свою жену, которой здесь никогда не бывало, да еще и браниться начинаете. Мне кажется, вы худое имеете зрение. Извольте надеть очки и рассмотрите хорошенько: здесь не иное что, как трактир, — и, отворя в другую горницу двери, указывает, — видите ли вы, что здесь господа офицеры кушают? Ежели и вам надобен обед, то извольте садиться, и что прикажете, все будет подано, буде же хотите играть в бильярд, ищите товарища, и что вам угодно, то сейчас прикажу подать, и невежничать и ругать меня не извольте». Самир, рассердясь на свою жену, закричал: «Что ты, бестия, вздумала меня обманывать и отпираться, что ты не моя жена; скажи, пожалуйста, как ты осмелилась сделать в моем доме трактир?»
На сей их шум вышли бывшие офицеры, которым Гевия с притворными слезами говорила: «Умилосердитесь, господа офицеры, сохраните меня от сего нечестивого и сумасбродного человека, который, не знаю откуда зашед в мой дом, называет своим, а меня — женою, и притом бранит и ругает; а вы сами несколько уже лет меня знаете, что я вдова и пятый год содержу сей трактир». Офицеры, приступя к Самиру и смеясь над ним, уверяют его, что он или заблудился, или сошел с ума, что чужой дом называет своим, а трактирщицу — женою. Самир ответствует им: «Государи мои, напрасно вздумали меня дурачить и хотите уверить, что это трактир: я еще в памяти и верно знаю, что в здешней улице никогда трактира не бывало. А всего смешнее — можно ль мне обмануться и не узнать своей жены?» Офицеры больше ему смеются и уверяют, что, конечно, он от забвения не в ту улицу заехал, а сия трактирщица, может быть, на его жену похожа, и притом спрашивали его: «Давно ли он из своего дома выехал?» Самир отвечал им: «Сегодня поутру».
«Ну, вот, господа офицеры, — говорила Гевия, — не правда ли, что сей человек сумасшедший и не вздор ли он говорит? Как можно мне, жене его, в такое короткое время переменить в его доме обои и прочие уборы и сделать из его дома трактир?»
Самир так рассердился на свою жену, что, замахнувшись, хотел ее ударить в щеку, но она, отвернувшись от него, кликнула бывших в трактире пьяных и велела мужа своего бить, которые, прибежав, разбили бедному Самиру нос и губы до крови и, подбивши ему глаза, столкали со двора долой и ворота заперли.
Самир, видевши над собою от своей жены такое ругательство, поехал к ее сродникам жаловаться и просил их, чтоб они для верности поехали к нему в дом и своими бы глазами свидетельствовали непотребные ее поступки.
Между тем временем, как Самир собирал жениных родственников, Гевия тотчас приказала из дома своего бильярды и все бочки и бутылки выносить вон и опять убрать по-прежнему. Офицеры же и прочие гости, будучи удовольствованы, разошлись по своим домам; а она, нарядясь в обыкновенное платье, села под окном, дожидаясь своего мужа, который в скором времени со всеми ближними ее родственниками и приехал. Увидевши она их, бежит в сени, встречает с великою радостию и, видя своего мужа разбитого, бросившись ему на шею, вскричала: «Ах, мой батюшка! Где это ты так уходился?» Родственники же ее, вошед в покои и видя все в надлежащем порядке, удивляются и никак не думают, чтоб в такое короткое время могла сделаться в доме его такая перемена, и рассказывают Гевии обо всем, что они слышали от ее мужа, и признают, что совершенно он ее тем поклепал.
Гевия, слышавши сие от своих родственников, говорила им: «Можете ли вы теперь увериться об худой моей жизни с таким беспутным мужем, ибо я не в первый уже раз претерпеваю от него такие ругательства. Он был где-нибудь в развратном доме». И, обратясь к мужу, говорила: «Бесчинник и ругатель моей чести, долго ль будешь так пьянствовать и меня, честного отца дочь, поносить безвинно такими ругательными делами? С сего времени я ни под каким видом жить с тобою не хочу. Вы, любезные родственники, сами свидетели всему его беспутству, вступитесь за честь мою и избавьте от сего беспутного мужа». Родственники Гевиины, видя ее правость, стали на Самира кричать и бранить, для чего он осмелился честную жену так поносить, и притом говорили ему, что они неотменно будут просить, чтоб его с женою развести.
Бедный Самир не знал, что делать, и сам уже себе не верил; принужден был признаться, что он ошибся и вместо своего дома заехал в трактир. И, ставши перед женою на колени, просит прощения, признавая во всем себя виновным и обещаясь с клятвою вперед ее любить и почитать больше прежнего. Но она никак не хотела на это согласиться, однако ж, наконец, по многой просьбе своих родственников, взяла с него клятвенное обещание, чтоб ему впредь ни в чем ее не подозревать, с ним помирилась, и Самир за счастие себе почитал, что мог у разгневанной им своей жены испросить прощение.
— Я, слышавши об оном Гевиином обмане, — говорил Фердинальд милорду, — очень дивился и нетерпеливо ожидал, что сделает со своим мужем другая моя любовница, которая действительно на другой день и начала играть свою роль таким образом.
Как я уже упомянул, Маремисин муж был в коллегии судьею, почему и принужден он был всякий день в оную ездить, и как в следующий день выехал из своего дома очень рано, то Маремиса приказала все покои обить черным сукном и на лакеев надела черную ливрею и приказала всем своим домашним, чтоб они, когда муж ее приедет домой, принимали его как постороннего, не показывая ему нимало вида, что он сего дома хозяин, а сама, одевшись в траурное платье, села под окошком.
Юрий (имя ее мужа), выехавши из коллегии во втором часу пополудни, приехал домой и, видя на дворе своих лакеев в черной ливрее, очень удивился и не мог понять, какая бы жене его в такое короткое время могла приключиться печаль и каким образом успела она так скоро и не сказавши ему сделать черную ливрею, чего ради он, подозвавши к себе одного лакея, спрашивает:
— Дома ли жена?
— Какую вы жену изволите спрашивать? — отвечал ему лакей.
Юрий, рассердясь, говорил:
— Как какую жену? Мою Маремису!
Лакей отвечал ему:
— Я, сударь, не только вашей жены не знаю, но вас в первый раз имею честь видеть!
Юрий, зная, что сей человек подлинно его и зовут Яганом, закричал на него с великим сердцем:
— Что ты, бестия, взбесился! Как ты господина своего, который тебя спрашивает о своей жене, не знаешь?
— Я, сударь, очень госпожу свою знаю, — отвечал лакей, — и помню милость покойного моего господина Ацендира, которого мы с великим сожалением вчерашний день земле предали, а вас до сего часа и в глаза не видывал.
Юрий так рассердился, что, ударивши Ягана в щеку, сказал:
— Как ты, каналья, осмелился меня дурачить!
Лакей, получивши пощечину, побежал к своей госпоже. Юрий между тем и сам пошел в палаты и, видя оные в глубоком трауре, пришел в чрезмерное удивление, а вошед в другую горницу, видит жену свою, идущую к нему навстречу в черном платье, погруженную в великой печали и с льющимися из глаз слезами, так что от великой горести едва могла на ногах устоять, а для того одною рукою опиралась на клюку, а под другую держала ее девка в черном платье.
Увидевши она своего мужа, говорила ему слабым голосом:
— Я, сударь, не имею чести вас знать, но не могу надивиться вашей наглости, потому что я при теперешней моей несчастной печали, лишившись любезного моего мужа, не успела еще отереть горчайшие мои Слезы, а уже начинаю чувствовать такие обиды. Ежели вы имеете до меня какое дело, то бы вам не с такою наглостию в дом мой приехать надлежало, и без всякого резона бранить и бить людей моих не следует, чего, я думаю, ни один честный человек сделать не может.
Юрий, слыша сие и несколько задумавшись, отвечал:
— Что вы, сударыня, конечно, хотите меня сделать таким дураком, чтоб я не верил тому, что мои глаза видят и уши слышат? Я еще с ума не сошел. Скажите мне, для чего вы представляете мой дом печальным, отпираетесь, что вы моя жена, и хотите уверить, что я умер? Нет, я совершенно еще жив и ясно вижу, что ты сущая моя жена Маремиса, а бил я сего лакея Ягана за то, что и он также стал от меня отпираться. Пожалуйста, скажи мне, Маремиса, что такое у тебя делается?
Маремиса, глядя на него и сквозь притворные слезы усмехнувшись, говорила:
— Не прогневайтесь, государь мой, я еще отроду такого безумного и смешного человека, как вы, не видывала, потому что, увидевши меня в первый раз и в такой несносной печали, вздумали надо мною шутить и называть своею женою и принудили меня своим дурачеством сквозь горчайшие мои слезы смеяться.
— Нет, это не смех, — говорил Юрий.
— Да что ж может быть смешнее и глупее, — отвечала жена, — заехавши вместо своего в чужой дом и вклепавшись в моего человека, его прибить, да и тем еще не удовольствовавшись, осмеливаешься меня называть своею женою, чему никак быть не можно, ибо мне и во сне не снилось, не только наяву, чтоб ты был моим мужем. Я еще с ума не сошла так, как ты, но себя помню и знаю, что я имела у себя любезного супруга Ацендира, которого, по несчастию моему, лишась, вчерашний только день предала погребению, а сегодня уже принуждена терпеть от вас такую обиду! Итак, сударь, ежели вы честно из моего дома не выйдете, то я принуждена буду приказать моим людям проводить вас за ворота неволею, а за учиненную мне от вас обиду просить, где надлежит, надлежащей сатисфакции.
Юрий, видя себя от своей жены в таком дурачестве, не смел больше спорить, а рассудил лучше ехать к ее матери и сродникам жаловаться, чтоб они ее уняли. И, выехавши из своего двора, для верности, что он в своем доме был, подписал на стене карандашом. Приехав же к Маремисиной матери, рассказал ей все случившееся с ним приключение и просил ее со слезами, чтоб она ее от таких беспутных дел уняла. Мать Маремисина, слыша от зятя своего такую жалобу, очень на свою дочь рассердилась и тотчас приказала заложить карету и послала некоторых ближних своих сродников, чтоб вместе с ними ехать в дом зятя и дочь за такие беспутные дела наказать.
Маремиса же, как муж ее, съехавши со двора, на палатах подписывал, видела, велела тотчас оное стереть, а суконные обои из покоев выносить и лакеям черную ливрею скинуть, а сама, убравшись по-прежнему в другое платье, приказала ставить кушанья и села обедать; между тем муж ее с матерью и сродниками приехали.
Маремиса тотчас вскочила из-за стола, выбежала к ним навстречу и, принимая с радостным видом, удивляется нечаянному их приезду, а к мужу обратись, говорила:
— Умилосердись, батюшка, ты меня уморил с голоду! Что у тебя за обычай! Сам зайдешь в гости обедать, а ко мне и сказать не пришлешь, и я до третьего часа пополудни все тебя дожидалась и не обедала.
Мать Маремисина, видя свою дочь и дом зятин в надлежащем порядке, не знает, на что подумать, и рассказывает ей про жалобу ее мужа.
Маремиса, выслушав сие, говорила:
— Умилосердитесь, матушка, и вы, любезные родственники, что это за чудеса я от вас слышу? Я не могу верить, что муж мой, который очень меня любит, мог вам на меня сказывать такую небылицу, да и мне свойственно ли, по нелицемерной моей к нему любви и честной его старости, делать с ним такую шутку? И может ли статься, чтоб в столь короткое время могло сделаться такое невероятное приключение. Что тебе, мой друг, сделалось, — говорила она мужу. — Я никогда не могла и помыслить, чтоб ты, по своей горячей ко мне любви, мог на меня затеять такую неправду.
Юрий сими жениными словами в такое приведен был сомнительное замешательство, что не знал, что отвечать, и сам себе не верил, что с ним такое сделалось. Потом, призвав своего лакея Ягана, говорил:
— Мне помнится, что я тебя давеча ударил по щеке.
— Нет, сударь, — отвечал Яган, — не только что вы меня не изволили бить, но я сегодня до сего времени еще вас не видал, потому что супруга ваша изволила меня посылать искать вас, и я был в коллегии, ездил по всем вашим приятелям, но нигде вас найти не мог, и только перед вашим приездом на двор въехал.
Юрий, не уверясь тем, пошел за ворота смотреть на палатах то место, где он подписал карандашом; но как и оного не нашел, то принужден был думать, что, едучи из коллегии домой, в карете задремал и все сие видел во сне.
А жена его и мать со сродниками уверяли его, что у него в голове от мыслей сделалось помешательство, и для того послали за лекарем и пустили ему из обеих рук столько крови, что он, пришед в обморок, упал со стула. Маремиса же, не могши удержаться от смеха, выбежала ко мне в другую горницу, в которой я потаенно находился, надседалась со смеху, а я, благодаря ее за сию выдумку, возвратился домой.
На третий день дошла очередь обманывать своего мужа Филии, третьей моей любовнице; но ей трудное всех было исполнить свое намерение, потому что муж ее был болен подагрою и никуда со двора не выезжал. Но чего не выдумает хитрая женщина! Выпросивши она у лекаря сонного опиума, напоила оным своего мужа, и как он от того чрезмерно крепко заснул, то она, призвав к себе стоящего в крепости на карауле гарнизонного офицера и обольстя его великими подарками, просила, чтоб он приказал на сонного ее мужа надеть солдатское платье и отвезть его в крепость в солдатскую караульню. А когда он проспится, то бы его уговорили, что он солдат, а не купец, и поступили бы с ним, как надлежит с настоящим солдатом. Офицер, прельстясь на ее подарки, действительно то исполнил и, взяв ее мужа, приказал солдатам отнесть его и караульню, и как придет время смениться часовым, то бы его послали на караул с прочими солдатами, несмотря ни на какие его отговорки. Итак, через несколько часов пришел капрал к Ферилу (имя Филиина мужа), стал его будить; но как он от крепкого сна не очень скоро пробудился, то капрал, по обыкновенной солдатской регуле, ударивши его палкою, говорил: «Вставай, пора на часы идти!» Ферил, почувствовавши капральский удар, открыл от сна свои глаза и, видя себя в караульне и в солдатском мундире, несказанно удивился, а капрал пристал к нему и велит поскорее на часы идти, говоря ему, что он и так от пьянства одни свои часы проспал. Ферил с удивлением отвечал капралу, что он не солдат, а купец и, как здесь очутился, не знает. Но капрал, исполняй свою должность и офицерский приказ, не слушая его слов, кричит на него и бьет без милости палкою, принуждая брать ружье и идти на караул, и говорит ему:
— Что ты, Ферил, взбесился? Конечно, тебе спьяну что-нибудь во сне привиделось, ты никогда купцом не бывал, но несколько уже лет служишь со мною в одной роте.
Бедный Ферил, не понимая, что такое с ним делается, принужден был забыть свою подагру и, боясь еще капральских побоев, взял ружье и пошел на часы, а отстояв оные, спросил офицера, чтоб объявить ему, каким образом сделали его солдатом? Офицер, смеясь, говорил:
— Конечно, тебе во сне виделось, что ты купец, — показывает ему список, в котором имя его написано.
Ферил стал доказывать свою правость, но офицер приказал капралу бить его палкою, чтоб он больше пустого не врал, а исправлял бы свою должность.
По прошествии надлежащего времени офицер сей со своей командою из крепости с караула сменился, и Ферила, как настоящего солдата, поставили с прочими на квартиру, и никуда его пускать не приказало. Итак, бедный Ферил, по прошествии нескольких дней, видя, что состояние его не переменяется, принужден был и сам подумать, что он действительно солдат, а что был купцом и имел у себя дом и жену Филию, то почитал уже за сновидение. Таким образом находился он целые три недели в действительной солдатской службе и, сделавши привычку, начал прежнее свое состояние позабывать.
Филия, видя, что муж ее действительно остался в том мнении, что он солдат, а не купец, сжалившись над ним, призвала опять к себе этого офицера и, дав ему сонного опиума, приказала оным напоить Ферила, и как он заснет, то, снявши с него солдатское платье, принесть сонного домой, и положила на постель, потом и сама, раздевшись, легла подле него.
По нескольких часах, Ферил, проснувшись, воображая себе солдатскую должность, вскочил с постели и говорит:
— Ах, братцы! где я? Дайте мне поскорее мой мундир, пора мне на часы идти.
Филия, ухватя его, говорила:
— Ах, батюшка, опомнись, на какие тебе часы идти?
Ферил, хотя и признает свою жену и дом свой, но ничему не верит, а только думает, что он солдат, и для того говорил ей:
— Поди от меня прочь! Что ты за женщина и каким способом меня к себе заманила?
— Умилосердитесь, батюшка, — отвечала Филия, — что тебе сделалось, ведь я твоя любезная жена Филия; осмотрись и признай, что это твой дом. Скажи, пожалуй, разве тебе что во сне привиделось?
— Поди от меня прочь, бесстыдная женщина, — говорил Ферил, — какой у меня дом, какая у меня жена? Я солдат, ни дома, ни жены у себя не имею и где теперь нахожусь — не знаю, а только думаю и боюсь, что я часы свои проспал и от капрала немилостиво бит буду.
— Пожалуйста, мой друг, опомнись, какой ты солдат? Ты отроду солдатом не был.
Ферил, смотря на свою жену и видя свой дом, начал думать, что, верно, ему виделось во сне, что он был солдатом, и, одевшись, ходил для вероятности со своею женою по всей покоям, по двору и по саду и, уверившись, что он находится в своем доме, рассказывал жене странное свое сновидение, а она, слушая, внутренно смеялась и, вышед ко мне в другую горницу, в которой я также тайно находился, рассказывала мне мужнино дурачество, чему я немало смеялся и, благодаря ее за разумную выдумку, обещался ей дать пред другими преимущество.
После сего случилось мне опять всех их вместе увидеть. Я, оказав им всем надлежащую учтивость, просил, чтоб они на меня не сердились, что я за разумную выдумку даю преимущество Филии и обязуюсь ей быть верным любовником. Гевия и Маремиса без всякого огорчения на сие согласились, а впрочем, обещались быть мне всегдашними друзьями. Итак, я после сего с любезною Филиею продолжал мою любовь более полугода, потом, по присланному от моего короля указу, велено мне возвратиться в свое отечество. При отъезде моем оные три госпожи провожали меня, как искреннего своего приятеля, с великими слезами.
— Вот, любезный милорд, как хитры и лукавы женщины и как искусно умеют они притворяться, по сему можете вы судить и о нашей королеве. Мне и самому кажется невероятно, чтоб она натуральное от мужского пола имела отвращение; а что вы желаете видеть прелестное ее лицо, то я, по обязанной с вами дружеской любви другого способа найти не могу, как только что королева будет в опере, то в то время я могу вас провесть в ее спальню, и вы можете скрыться в потаенном месте, и как королева придет из оперы и станет раздеваться, то вам можно будет рассмотреть красоту лица ее, а после, когда она ляжет в постель и започивает, то можете вы тихонько оттуда выйти. И буде вы на сие согласитесь, то надобно оное делать с великою осторожностию для того, что ежели сие откроется, то мы оба можем лишиться жизни.
Милорд столь был страстен и нетерпелив, что на все отважился и говорил Фердинальду:
— Ах, любезный друг, возможно ль статься, чтоб я не сохранил при сем случае всевозможной осторожности?
— Изрядно, — сказал Фердинальд, — извольте же завтра приезжать ко мне, непременно свое обещание исполню.
На другой день после обеда милорд, приехав к Фердинальду, вместе с ним поехал в оперу, в которой была и королева. Побыв они тут немного, Фердинальд взял милорда, проводил в королевину спальню, в которой между прочими драгоценными уборами стояла кровать и на одной стене между двух окошек превеликое зеркало, а подле оного уборный королевин столик; на другой же стене висел ее портрет, на который милорд так засмотрелся, что не хотел отойти прочь. Но Фердинальд, посмотря на часы, говорил ему:
— Ну, любезный друг, время скрыться, ибо королева обыкновенно в десятом часу из оперы возвращается; и для того я пойду опять в оперу затем, что неотменно надобно ее до самой спальни провожать, а как я выйду из спальни, то буду вас в другой горнице за дверьми дожидаться.
И, оставя его, пошел в оперу, а милорд убрался под кровать. Через полчаса пришла королева в спальню, которую Фердинальд, как дежурный, проводя, вышел вон и стал за дверьми, а с королевою в спальне осталась одна только гофмейстерина Луиза, сестра Фердинальдова, которая у королевы была в великой милости и одна только она должна была ее раздевать и до тех пор сидеть подле кровати, пока она започивает; королева, сняв с себя маску, села за уборный столик и стала раздеваться, и хотя она сидела к милорду спиною, но ему из-под кровати в стоящее против нее зеркало все было видно.
Разобравши она с головы брильянты и снявши с себя все платье, надела другую белую и некрахмальную сорочку.
Таким способом милорд, лежа под кроватью и приподняв подзор, не только прекрасное ее лицо, но и все тело мог видеть; потом королева легла на кровать и до тех пор с Луизою разговаривала, пока заснула. А Луиза, видя, что она започивала, встав тихонько, пошла в определенный покой; по выходе ее, Фердинальд, стоя за дверьми, дожидался милорда, который хотя и с великою осторожностию из-под кровати вышел, но вместо того, чтобы поскорей идти из спальни вон, пошел к кровати и, открыв занавес, отважился три раза королеву очень тихо поцеловать. Фердинальд, отворя немного двери и видя милордово дерзновение, манил его рукою, чтоб он как можно скорее шел вон, но милорд, будучи в любовном жару, не только того не видал, но еще, стоя перед нею, рассматривал все ее прелести. Видевши сие, Фердинальд трепетал от страха и тысячу раз раскаивался, что допустил его до сего случая, чего ради принужден был войти тихонько в спальню и, взяв его за руку, вывел вон.
После сего через несколько дней случилось милорду быть вместе с гофмейстериною и с ее братом Фердинальдом в одном доме в гостях, где Фердинальд, по просьбе милордовой, объявя Луизе о любовной страсти, просил ее, чтоб она по возможности своей постаралась рекомендовать его королеве в милость. Луиза, зная, что королева к мужчинам великую имеет антипатию, долго отговаривалась, наконец, видя неотступную просьбу брата своего, на то согласилась и обещала всевозможные употреблять к тому способы. По сему обещанию в следующую ночь Луиза, севши подле королевской кровати, разговаривала сперва о разных материях, а потом, как будто в смех, начала королеве говорить:
— Ваше величество, как вы ныне изволите обходиться со своим любовником, которого во сне видели?
— Это худая шутка, — отвечала королева, — я не знаю, что такое после сего сна со мною сделалось, потому что я ныне о мужском поле совсем другое имею мнение и не знаю, как себя преодолеть.
— Не прогневайтесь на меня, ваше величество, — сказала Луиза, — я, надеясь на вашу милость, осмелюсь доложить: какая вам нужда мучиться против своего желания и преодолевать натуральную страсть? Не лучше ли бы было иметь вам достойного супруга, а нам — государя! Похвально ли ваше намерение, что вы, против всех естественных, божеских и гражданских прав и законов, вознамерились ни за кого не выходить замуж и чрез то всех своих подданных приводите в крайнюю печаль и лишаете надежды иметь испанской короне законных наследников? А когда бы вы имели достойного супруга, с которым бы общее прилагали попечение в правлении государственных дел, а особенно во время войны, где сам государь присутствует, тут больше в победах бывают успехи, и с какою бы неописанною радостию все ваши подданные ожидали от вас законных наследников! — При сем Луиза, рассмеявшись, сказала: — Да и на постели-то вашему величеству сам-друг опочивать было бы веселее, нежели одной, а мне бы у вас уже и быть не для чего.
Королева, рассмеявшись, сказала:
— Да, пожалуй, скажи мне хорошего жениха?
— Ваше величество, — говорила Луиза, — вы все изволите обходить только смехом, а я верно знаю, что в сердце своем, будучи в таких летах, любовный жар чувствуете.
— Это правда, друг мой, — отвечала королева, — я уже теперь и сама признаюсь, что сие есть дело необходимое, и ежели бы мог сыскаться достойный жених, то бы я, конечно, выйти замуж согласилась.
— Да на что вашему величеству, — говорила Луиза, — лучше искать жениха, как английский милорд? Он истинно как красотой, так разумом и науками многих превосходит.
— Нет, — сказала королева, — этому быть не можно, чтоб я таким замужеством себя обесславила; ты сама рассудить можешь, что пристойно ли королевской дочери выйти замуж за милорда, но разве за короля или за принца королевской крови; а ежели такого не сыщется, то я вечно замуж не пойду.
— Это вашего величества мнение несправедливо, — говорила Луиза, — потому что никакой король не согласится, чтоб, оставя свое королевство, на вас жениться и жить с вами в Испании, а ежели вам выйти замуж и ехать в другое государство, то подданным вашим какое от того будет удовольствие, ибо всякий народ желает иметь пред другим преимущество. Вам о чести милорда рассуждать нечего, ибо не вы по нем будете испанскою королевою, но он по вас будет называться королем испанским, только бы одарен был разумом и достоинствами и способен был к государственному правлению. А сей английский милорд таким одарен от богов разумом и всеми добродетелями, что лучше его искать не можно, за что от своего короля, не будучи еще ни в какой службе, пожалован прямо в генерал-адъютанты; а собою так хорош, что я из мужчин подобного ему не видала; его же и все вашего величества министры так любят, что ни одни еще чужестранный человек при дворе вашем в такой чести и почтении не был. И только бы вашему величеству было угодно, а то, без сомнения, можно сказать, что все ваши верноподданные такого любезного жениха с великою радостию и с распростертыми руками принять не отрекутся.
На сии Луизины слова королева, рассмеявшись, сказала:
— Уж ты меня своими рассказами усыпила.
И, оборотясь на другую сторону, започивала, а Луиза, вышед из спальни, пошла в свои покои и, вставши поутру, послала своего лакея к милорду просить его к себе. Милорд, тотчас одевшись, к ней приехал, и она ему рассказала, как прошедшую ночь с королевою разговаривала и представляла ей его в женихи, на что хотя никакого от нее ответа и не получала, однако ж «при напоминании вашего имени она казалась очень весела, и я уповаю, что хотя не скоро, однако к замужеству ее склонить можно».
Милорд, благодаря Луизу, просил ее, не может ли она сыскать способ, чтобы можно было ему видеть королеву без маски и удостоиться с нею говорить.
— Не знаю, — сказала Луиза, — какой бы сыскать к тому случай, потому что она ни к кому кушать не ездит и маски никогда, кроме того, как кушает, не снимает; однако я в удовольствие ваше выдумала следующее средство: есть у нас загородный конфискованный, одного несчастного здешнего адмирала, преудивительной архитектуры дом и такого богатства и украшения, что никто за оцененную его великую цену купить не может. Королева давно уже желает его видеть и намерена когда-нибудь ехать туда прогуливаться; если бы он не в такой великой сумме был описан, то бы вы могли его выкупить и хотя на время меня оным подарить; я бы, в надежде королевиной ко мне милости, позвала ее к себе в тот дом откушать и, может быть, испросила бы у ней позволение и вам тут же присутствовать, где, конечно, могли бы вы ее увидеть без маски и удостоиться с нею говорить.
— А в какой сумме оный дом оценен? — спрашивал милорд у Луизы.
— Во ста тысячах, — отвечала она ему.
— Очень хорошо, — сказал милорд, — я столько денег у себя имею и теперь же оным вас презентую.
Луиза, получа такой чрезвычайный подарок, очень была довольна и обещалась всеми силами королеву уговорить.
Милорд, приехавши от Луизы домой, тотчас послал в конфискацию деньги, почему оный дом за ним и записали; а гофмейстерина, приехавши во дворец, призвала к себе гофмаршала и просила его, чтоб послал он в новый ее дом лучшего гофмейстера со всякою провизиею и лучших музыкантов для того, что она завтрашний день намерена просить королеву к себе кушать. Гофмаршал, зная, что Луиза у королевы находится в отменной милости, все в угодность ее исполнить обещался. А Луиза, пришед к королеве в спальню и поклонясь ей в ноги, говорила:
— Ваше величество, я надеюсь на высочайшую вашу милость, нимало не сомневаюсь, что рабская моя просьба будет услышана.
Королева, подняв ее, поцеловала и говорила ей:
— Пожалуй, проси, что тебе надобно, и будь уверена, что я ни в чем не откажу.
— Я ни о чем больше ваше величество не утруждаю, как только всенижайше прошу сделать мне милость, пожаловать удостоить меня своим присутствием завтрашний день в моем новом доме откушать.
— Да какой у тебя новый дом? — спрашивала королева. — Разве ты где купила?
— Ваше величество, — отвечала Луиза, — изволите знать бывший адмиральский загородный дом, который был в конфискации? Теперь оный состоит уже за мною, потому что находящийся при вашем дворе английский милорд его выкупил и подарил мне.
Королева, усмехнувшись, сказала:
— Знать, он богат, что дарит такими чрезвычайными подарками. Давно ль у вас с ним сошлась такая дружба?
— Ничего, ваше величество, — отвечала Луиза, — он по дружбе с моим братом Фердинальдом, будучи мне знаком, в одно время разговаривали мы об оном доме, что он конфискован, и я его очень хвалила, то милорд в тот же час меня оным и подарил, а деньги в конфискацию отослал.
— Очень хорошо, — сказала королева, — изволь дожидаться, я верно завтра к тебе буду.
Луиза, видевши королевину милость, просила еще, чтоб ей дозволено было позвать туда и милорда.
— Ах, мать моя, — сказала королева, — кстати ли ему тут мешаться? Ты знаешь, что со мною, кроме моих фрейлин и одного твоего брата, Фердинальда, никого из кавалеров не бывает.
— Ваше величество, — отвечала Луиза, — да как же мне его не позвать, для того, что по его щедрости сей дом получила, а благодарности иметь не буду?
— Хорошо, зови его, только я не знаю, какая ему будет утеха быть одному между нами.
— Да не можно ли, ваше величество, — просила еще Луиза, — сделать последнюю со мною милость, чтоб пожаловать ко мне без маски, для того, что в оной как говорить, так и веселиться не очень способно; а притом и я, не видя дражайшего вашего лица, не могу знать, приятно ли будет вашему величеству мое угощение.
— Ну, я и то в угодность твою сделаю, — сказала королева, — и верно буду без маски.
Луиза, за чрезмерную сию милость благодаря королеву, поехала в новый свой дом, чтобы все там приготовить, а к милорду о всем том послала сказать.
На другой день поутру, в двенадцатом часу, милорд, убравшись как можно лучше, и в таком пребогатом экипаже, какого во всем городе ни у кого не было, приехал в тот дом, а в начале первого часа и королева прибыть изволила.
Милорд сошел на крыльцо и, приняв ее из кареты под руки, вел в палаты. Королева хотя была и без маски, но шла от крыльца до самых покоев с великим пренебрежением, отворотясь от милорда в сторону, почему он прямо красоты лица ее рассмотреть не мог; после чего через полчаса приехала туда же еще названая королевина сестра Елена, которая еще при отце своем за бесчестные дела сослана для житья в монастырь неподалеку от Толедо.
Королева, ходя с придворными своими дамами и фрейлинами по всем покоям, очень любовалась и хвалила хорошую архитектуру и все убранство того дома, а как поставили кушанье и сели за стол, то королева дозволила милорду сесть на форшнейдерском месте. Сестра же королевина, Елена, с первого взгляда так в милорда влюбилась, что без всякого стыда делала многие любовные объяснения, но он, не хотев с нею вступить ни в какие разговоры, как можно коротко на все ее вопросы ответствовал. Между тем, разрезывая жаркое, перерезал у себя палец и, вынувши из кармана платок, завязал оным свою руку. Елена, увидевши сие, тотчас сняла у себя с шеи ленту и, подавая милорду, говорила:
— Ежели вам сия лента не противна, то прошу оною перевязать ваш палец и унять текущую из оного алейшую вашу кровь, что я за особливое почту удовольствие.
Милорд, видя непристойное Еленино нахальство, отвечал ей:
— Покорнейше благодарствую за ваше одолжение, только руки шелку не любят, и для того советую вам опять перевязать вашу шею, у которой без ленты очень много красоты убавилось.
Королева слышала сие и, оборотясь к своим фрейлинам, захохотала; а потом, вставши из-за стола, начала танцевать. Милорд осмелился поднять королеву, и хотя она пошла, но все танцевала как бы с некоторым пренебрежением; а как только окончился менуэт, то Елена тотчас подняла танцевать милорда и, будучи в танцах, оказывала ему великие любовные знаки.
Королева же, приметя в милорде чрез все его поступки остроту разума и честные мысли, нечувствительно почувствовала в сердце своем любовный жар, только всеми мерами старалась оный скрывать. Однако ж не могла вытерпеть, чтобы с ним не говорить, а после разговоров сама же подняла его танцевать, но все оное делала с великою благопристойностию. И с сего времени так в него влюбилась, что положила непременное намерение, кроме него, никого в женихи себе не удостоивать, только до времени никому из своих придворных объявлять о том не хотела.
Таким образом, препроводя королева в сем доме весь день в разных увеселениях, осталась по просьбе Луизиной ночевать, причем и милорду в особливых покоях ночевать дозволено. Елену же хотя Луиза и не приглашала, но она нахальством своим тут же осталась.
По окончании вечернего стола, в обыкновенное время, как стали все ложиться спать, то королева, приметивши, что сестра ее за милордом волочится, приказала своим фрейлинам за нею примечать. Через несколько часов бесстыдная Елена, думая, что все уже заснули, вставши с своей кровати и надев на себя одну только мантилью, пошла в ту комнату, которая отведена была для милорда. Но как скоро она из спальни вышла, то одна фрейлина, по приказу королевину, следовала за нею и ставши у дверей, примечала ее поступки. Милорд, лежа на постели, находился о красоте королевиной в различных размышлениях; но вдруг, увидя отворившуюся дверь и идущую к себе даму, очень удивился, и как подошла к его кровати и мог он ее узнать, то говорил ей:
— Ах, ваше высочество? Пристойно ли это? Зачем вы в такое необыкновенное время прийти сюда взводили?
— К тебе, любезный милорд, — отвечала она ему, — это самое лучшее время для доказательства непреодолимой моей к тебе любви.
— О боги, — сказал милорд, — я думаю, ни одна подлая женщина такой наглости и бесстыдства сделать не может! Я ваше высочество уверяю, что я ни малой склонности к вам не имею и ни для чего любить вас не намерен; чего ради покорно прошу — извольте идти в свою комнату, а меня оставьте в покое.
И, обратись в другую сторону, окутался в одеяло. Но она, не удовольствовавшись своим бесстыдством, зашла к нему с другой стороны кровати. Милорд, видя такое бесстыдство, вскоча с постели, говорил:
— Ежели вы не изволите сейчас отсюда выйти, то я принужден буду кричать, чтоб вас в таком безобразном виде от меня вывели, о чем к поношению вашей чести будет известно не только в здешнем доме, но и во всем городе.
Елена, видя свою неудачу, пошла вон, сказав при этом с великим сердцем:
— Не думай ты, неблагодарный злодей, чтоб я тебе не отмстила за твое неудовольствие.
Фрейлина, стоя за дверьми, все сие слыша и, возвратись к королеве, обо всем рассказала.
Поутру, вставши, милорд допущен был к королевиной руке, которую она пожаловала ему с великою приятностию, а за обедом очень много с ним разговаривала, после же никогда ее так много танцующей не видывали. Потом королева, оказав любезной своей гофмейстерине за ее угощение свое удовольствие, отправилась в город. Милорд вел ее до кареты за руку, и она уже не только чтоб отворачиваться, но, с приятностью на него смотря, сказала:
— Я думаю, вы довольно приметили, что мне все ваши чувства понравились, и я вас уверяю, что сердцем моим никто, кроме вас, обладать не будет, только прошу, чтоб сие до времени было содержано в сокровенности; к двору же моему вы можете лучше ездить прямо в мою спальню.
Милорд поцеловал королевину руку, и она его в щеку — и поехала во дворец.
Таким образом после сего ездил он во дворец всякий день, и королева имела с ним такое откровенное обхождение, как надлежит с настоящим женихом; а по прошествии несколько времени, говорила ему:
— Любезный милорд, я положила намерение завтрашний день вступить с вами в законное супружество, чего ради приказано от меня обер-гофмаршалу, чтоб к завтрашнему дню все было в готовности, а церемониальной комиссии велено объявить всем знатным персонам, чтоб они к десятому часу сбирались во дворец, и кому с вашей стороны быть надлежит, о том, я думаю, реестр к вам уже сообщен.
Милорд, слышавши неожиданное скорое королевино намерение, изумился и отвечал ей:
— Ваше величество! Как можно сему статься, чтоб к завтрашнему дню все сие могло изготовиться, потому что до сего времени вы никому о том объявлять не изволили.
— Нет, любезный милорд, вы о том не сомневайтесь, ибо я как скоро приняла намерение иметь вас своим мужем, то и отдан был от меня всем знатным секретный приказ, чтоб к завтрашнему времени, то есть к назначенному числу, все было приготовлено, с таким притом подтверждением, чтоб, для чего такие приготовления делаются, никому не объявляли; почему и думаю я, как вы приедете домой, то все принадлежащее к сему торжеству найдете в готовности, чего ради и время вам ехать в свой дом.
И, простясь с ним, пошла в свой кабинет, а он поехал домой. Приехав, увидел на дворе драгоценную карету, заложенную в восемь неаполитанских лошадей, а в покоях множество лакеев и официантов в богатой дворцовой ливрее; на столе несколько платья и церемониальный реестр, какие министры и знатные господа с его стороны быть имеют.
Поутру, то есть в день, назначенный к свадьбе, вставши, он стал одеваться; а к десятому часу начали съезжаться к нему в дом те особы, которым по расписанию быть велено, и все находились в великой радости о перемене королевина мнения и о выборе ею такого достойного жениха, а им государя; в назначенный же час поехали по надлежащему церемониальному порядку в кирку и, вошед в оную, ожидали королевина прибытия. Через час времени сказано было, что королева изволит ехать, почему все бывшие с милордовой стороны стали для встречи королевы выбираться из кирки, а милорд, по обыкновению жениха, дожидался в кирке с такою неописанною радостию, что сам себе не верил, чтобы сие благополучное для него счастие могло совершиться; вот милорд видит уже королеву с многочисленною свитою, входящую в кирку, а как стала она подходить ближе, то каким он, вместо радости, поражен был страхом и удивлением, ибо вместо королевы приведена была и поставлена с ним рядом королевина сестра Елена, которая как скоро вошла в кирку, то и приказала пастору, чтоб он начал венчать.
Милорд, видя нечаянное сие приключение, в великое пришел замешательство и не знал, что делать, наконец, закричал:
— Умилосердись, государыня, долго ль вам так нахальничать, и можно ль, чтобы вы недовольно могли привесть к себе в любовь того, который скорее согласится лишиться жизни, нежели склониться на ваше требование и быть вашим мужем; и как тому статься, чтоб я променял на вас ту драгоценную красоту и премудрую особу, которая сотворена от богов во удивление всему свету? — И, оборотясь к бывшим с ним министрам, сказал: — Государи мои, прошу не прогневаться, я в такое приведен дурачество, что не знаю, что мне делать.
И, выговоря сие, пошел из кирки вон и, севши в карету, поехал во дворец к королеве жаловаться. Вошед он в королевину спальню, увидел ее раздевающеюся, которая встретила его следующими словами:
— Любезный милорд, хоть от меня определено было, чтоб намерение нынешний день совершилося, но сестра моя до того не допустила, ибо я, подъезжая со всею церемониею к кирке, увидела ее прежде меня туда приехавшею и выходящею из кареты в брачном одеянии, почему и рассудилось мне дать ей в том волю, а притом еще воображала я и то, что, может быть, она сие делает и по общему вашему согласию, и для того принуждена я была возвратиться во дворец.
— Ваше величество, — говорил милорд, — я сам затем из кирки уехал, чтобы принести вам на нее жалобу, ибо я нигде от нахальства ее не имею покоя.
— Однако, любезный милорд, — сказала королева, — о том не беспокойтесь, а возьмите недолгое время терпение; я все сие переделаю другим манером и желание ваше непременно приведу к благополучному окончанию.
После сего милорд, опять всякий день после обеда приезжая во дворец, хаживал к королеве на особливое крыльцо темными переходами, в которых и днем для света становились с зажженными свечами фонари. В один вечер, идучи он от королевы теми переходами, увидел идущих против себя шесть человек вооруженных драбантов, которые как скоро против него поравнялись, то, схватя его под руки и завязавши ему платком глаза, вывели на двор и, посадя в карету, поскакали. Милорд другого при сем случае не воображал, как только, что сие сделано от принцессы Елены за его к ней несклонность, почему и жизнь свою почитал в опасности, думая, что не приказано ли оным драбантам отвезти его в какое ни есть пустое место и лишить жизни. Однако ж драбанты, ехавши с ним несколько часов, остановились у некоторой террасы и, вынувши его из кареты и приведя к дверям, толкнули в оные, отчего принужден он был в великом страхе упасть на землю, а сами заперли и поскакали с каретой назад.
Несчастный милорд от сего страшного приключения насилу мог опамятоваться, и, встав с земли, развязал себе глаза, и, осматриваясь вокруг себя, не мог никого видеть, а только слышит при темноте ночной шумящие от ветра деревья и, рассмотрев хорошенько, видит, что находится в подчищенной роще, но не знает, что с ним будет делаться, проливает источники слез, вспоминает все случившиеся с ним несчастные приключения, воздевает руки к небу, призывает всех богов к себе на помощь и в таких колеблющихся печальных размышлениях препроводит остаток ночи, сидя под одним деревом. А как румяная заря отверзла блистающему солнцу двери, которое своими светлыми лучами прогнало темноту ночную, то увидел он, что находится в преизрядном регулярном саду, украшенном перспективными аллеями и насаженном разными цветами. Идучи он по одной аллее, увидал идущего к себе навстречу человека в черном платье; увидев его, несколько обрадовался, думая от него сведать, в каком он месте находится; но сей человек, подошед к нему, с учтивостью поклонился; только на вопросы его ничего не ответствует, почему рассудилось милорду, что он не разумеет английского языка, и он начал с ним говорить по-французски, по-немецки и по-арабски, но человек не отвечал ни одного слова. Итак, милорд заключил об нем, что он от природы ничего говорить не умеет. Ходя по сему саду, он вышел на перспективную дорогу, простирающуюся к превеликому каменному дому; дорога сия устлана была черным сукном; хотя сие и удивляло его, однако принял он намерение идти в тот дом и вошел в первую горницу, обитую черным сукном, в которой в одном углу сидел лакей в черном кафтане; но, увидевши его, встал и с учтивостью поклонился.
— Скажи, пожалуйста, мой друг, — говорил милорд лакею, — что это за дом и по какой причине в таком глубоком трауре?
Лакей, не ответствуя ничего, только кланяясь, отворил ему двери в другую горницу, черным же сукном обитую, и в ней четыре человека лакеев в черной же ливрее, которые, с равным учтивством поклонясь ему, смотрели на него с таким видом, как бы ожидали приказаний. Спрашивал он у них на разных языках, кому сей дом принадлежит, но и от сих нималого ответа получить не мог, и с тем вошел он в третью такую же горницу, в которой стояла под черным балдахином кровать с черным сафьяновым занавесом; на постели лежал траурный шлафрок и траурные же подле кровати стояли туфли.
В сей печальной горнице сел он на кресла и до самого полудня находился в разнообразных размышлениях, и как только пробило двенадцать часов, то вошел к нему один лакей и, отворяя в другую горницу двери, указывал ему на открытый стол и поставленное кушанье. Вошед он в сию горницу, видя на столе один только прибор, рассудил, что оный приготовлен для него; сел он за стол, а два лакея с тарелками стали за его стулом. Кушанья было для одной персоны очень довольно, и все на серебряном сервизе, также несколько бутылок разного вина; лакеи же все находятся в его повелении, и что прикажет, все исполняют с великою учтивостью, только они ни одного слова не говорят. Пообедавши, вышел он опять в спальню, где приготовлен уже чай и кофе, и кофешенк, стоя с белою салфеткою, ожидал его повеления.
Напившись кофе, препроводил он весь день в различных размышлениях, и к вечеру, в назначенный час, таким же образом приготовлен был ужин; отужинав, пошел спать, а за ним вошел камердинер и, раздев его, поклонясь, пошел вон.
Поутру, проснувшись и видя лежащий на столе серебряный колокольчик, позвонил в оный; тотчас же вошел к нему тот же камердинер и, кланяясь, дожидался его приказа. Милорд говорил ему, чтоб подал одеваться; он тотчас выбежал в другую горницу, принес черный кафтан и нижнее платье; милорд спросил платье, которое вечером с него снял камердинер, но тот, не ответствуя ничего, только кланяется и делает такие знаки, что ему, кроме оного, давать не приказано, и, надевая на него башмаки, вместо брильянтовых его пряжек, застегнул черными железными, чему милорд противиться уже не смел; а другой лакей принес серебряную лохань, полотенце и склянку с благовонного водою, и как он обтер свое лицо и руки, то камердинер стал подавать ему желтую сорочку с большими батистовыми манжетами, но милорд оной одевать не хотел; то видя, камердинер пошел к нему с учтивостью, стал будто рассматривать у его сорочки кружевные манжеты, и вдруг, взяв за ворот, разодрал на нем сорочку до самого подола, а сам, отскоча от него, очень низко поклонился.
Милорд рассудил, что, конечно, им так поступать с ним приказано, только не знал, от кого и для чего сие делается, почему и принужден он был надеть принесенную камердинером сорочку и все траурное платье. Как скоро он оделся, то кофешенк принес в спальню и кофе, которого выпивши он одну чашку, сел подле окошка; и, будучи о своем несчастии в различных размышлениях, простря взор свой на небо, произносил следующие слова:
— О, немилостивые и жестокосердные боги! Доколе будете проливать на меня гнев свой, за какое преступление озлобились? Еще ли вы не удовольствовались несчастным моим приключением, которое я претерпел в арабском эдикуле? Не укротился ли гнев ваш лишением дражайшей моей невесты маркграфини? Какое же ныне еще приуготовляете мне мучение? Когда вы хотите отнять жизнь мою, то клянусь, что если б теперь была при мне моя шпага, то б сию минуту поразил свое сердце и пролил бы кровь свою в угодность жестокосердной вашей жертве!
Не успел он окончить своих печальных слов, как увидел отворившиеся на дворе ворота, в которые вошли восемь человек в длинных и черных япанчах, с распущенными на головах с черным флером шляпами, в руках несли обитый черным бархатом эшафот; за ним шли два гайдука в длинных же черных япанчах и несли обитую малиновым бархатом и обшитую золотым галуном плаху; за ним следовал в пестрой япанче палач с превеликим острым топором; потом в обыкновенном платье пастор с книгою, а за ним две дамы и несколько кавалеров и дам, в самом глубоком траурном платье.
Печальное сие зрелище привело милорда в великий ужас, однако ж делать ему было нечего. Укрепя он себя рассудком, вышел в зал, в котором принесенный эшафот был поставлен и положена на нем виденная им плаха; вокруг эшафота поставлено двенадцать серебряных подсвечников с зажженными свечами; на правой стороне эшафота стоял пастор, а на левой с престрашным топором палач. И как скоро все в надлежащий порядок было приведено, то два гайдука, подхватя милорда под руки, ввели на эшафот и поставили лицом к плахе; потом первые две дамы, покрытые большими капорами, взошли туда же и стали против милорда, а прочие все стояли около эшафота, имея в руках зажженные свечи, и показывали печальный вид; из двух же стоящих на эшафоте дам одна, поднявши свой капор (сия была принцесса Елена), говорила:
— Видишь ли ты, жестокосердный, что для тебя приготовлено за пренебрежение принцесской чести? И ты теперь ничем другим избавиться не можешь, как только склонностию своей любви и клятвенным обещанием, что тебе, кроме меня, ни на ком не жениться; а ежели сего не учинишь, то без всякого милосердия и жалости, на сей лежащей перед твоими глазами плахе, голова твоя сию минуту будет отрублена.
— Я удивляюсь вашему высочеству, — отвечал милорд, — что вы вздумали меня страшить смертию. Извольте быть уверены, что я с великою радостию готов лучше сейчас окончить жизнь мою, нежели согласиться на бесчестное ваше требование, и если вам угодно, то прикажите поскорее совершить злое ваше намерение, только позвольте мне, по должности закона, принесть в моих грехах чрез сего пастора чистосердечное покаяние.
Принцесса на сие с великим сердцем сказала:
— Приноси поскорее зверское твое покаяние и ложись на сию плаху, чтоб я могла видеть и утешиться на отрубленную твою голову.
— Это вашему высочеству очень свойственно, — отвечал милорд, — потому что когда вы по своему бесстыдству в живых головах для удовольствия любовной вашей страсти не могли получить счастия, то в мертвых еще и меньше сыскать можете.
По окончании сих слов, оборотясь к пастору и встав на колени, приносил ему на ухо свое покаяние, а окончивши оное, встав и поклонясь на все стороны, сказал:
— Вы, правосудные боги, видите, что я безвинно оканчиваю жизнь мою, — и лег на плаху.
Не можно изобразить, с какою жалостию все предстоящие на сие смотрели, и ни один человек не мог от слез удержаться, а палач, подняв ужасный свой топор, хотел сильным ударом опустить оный на его шею, но предстоящая тут другая дама оный удержала и с превеликими слезами, подняв милорда за руку, говорила:
— Любезный милорд, теперь уже я несомненно уверена в нелицемерной твоей любви; прости мне, как своей невесте, вину сию, ибо я чрез сие пробовала твою верность.
Милорд, стоя на коленях и целуя королевины руки, уверял страшнейшими клятвами, что он без всякой страсти, для верности ее величеству, готов был лишиться жизни.
Королева, взяв его за руку, повела в другие в том же доме покои, ибо сие происходило в загородном королевском доме, отстоящем от Толедо на одну милю, в котором королева публично объявила, что она желает милорда иметь законным себе супругом и вручает ему испанскую корону, и что она сей же день намерена вступить в законное супружество. Не можно изъяснить, с каким усердием и радостию все находившиеся тут приносили милорду поздравления и тот же час утвердили благоволение своей королевы присягою.
Потом королева вошла в особливые покои убираться, приказав церемониймейстеру, чтобы к назначенному часу все было в готовности. Принцесса же Елена, будучи чрезмерно в милорда влюблена и видя его благополучное окончание, поехала с великою злобою в монастырь, в котором она имела с мое пребывание.
Через несколько часов донесено королеве, что вся церемониальная процессия в готовности; королева и милорд сели в особливые кареты, и вся процессия следовала в Толедо до самой кирки в хорошем порядке, для смотрения которой все улицы наполнены были таким множеством народа, что с великою теснотою процессия сия едва могла следовать, и от всех слышны были радостные восклицания.
По прибытии в кирку, милорд с королевою поставлены были на пребогатом украшенном месте; весь священный чин к начинанию священного действия был в готовности, и как стал первосвященник зажигать брачные свечи, то в самую сию минуту сделался от бывшего в кирке народа необыкновенный шум; одни бегут из кирки вон, другие в оную вбегают, а иные вынимают для своей обороны шпаги. Наконец, увидели вбежавших в кирку несколько человек с обнаженными шпагами драбантов, кои немилостиво всех встречающихся им предавали смерти, из которых один, подбежав к стоящей с милордом королеве, вонзил острую свою шпагу в самое ее сердце, отчего неописанная сия красота поверглась на пол храма, покрылось прекрасное ее лицо бледностию, и весь священный храм обагрен был невинною кровию. Милорд в отчаянии своей жизни, выхватя свою шпагу, четырех человек драбантов заколол до смерти и, тем очистивши себе от сих злодеев дорогу, ретировался из кирки вон, и, прибежав к карете, обрубя своей шпагою у одной лошади постромки, сел верхом и ускакал в дом к верному своему приятелю Демаре. Но его в то время дома не было… Однако ж милорд, для спасения своей жизни, скрылся в его доме, положив намерение, дождавшись его, взять несколько денег и тайным образом из Толедо уехать.
Через несколько часов Демаре, возвратясь домой и увидевши милорда, обнял его и со слезами спрашивал:
— Каким образом спасли вы жизнь свою от тех злодеев, которые предали смерти любезную нашу королеву?
Милорд рассказал ему все приключившиеся обстоятельства и спрашивал у него: не знает ли он причину сему бунту и что делается в городе?
— Милостивый государь, — говорил Демаре сквозь текущие слезы, — все возмущение произошло от злости королевиной сестры Елены, которая, видевши, что королева наша действительно удостоила вас быть своим супругом, а нам — государем, то она, с превеликой зависти и злости, приехав в монастырь, тотчас призвала к себе драбантского корпуса капитана, которого она давно содержала у себя в неограниченной милости, и между собою согласились, чтобы королеву и вас, также и всех бывших с вами в кирке знатных господ лишить жизни, а сама обещалась за оного капитана выйти замуж и объявить его испанским королем.
— О боги! — вскричал милорд. — Какое ваше правосудие, что допустили вы злой женщине умертвить безвинно единоутробную и добродетельную сестру свою!
И, говоря сие, повалился без всякого чувства. Демаре, подхватя его, положил на свою кровать и разными спиртами, через несколько часов, едва мог привести в память. Как скоро он опамятовался, то пустились источники слез из глаз его, и Демаре сколько можно старался его уговорить и уверял, что сенат и все благородное испанское дворянство, помня королевино устное объявление, кроме милорда, никого испанским королем иметь не желают.
— А, друг мой, — отвечал милорд, — может ли меня утешить испанская корона, когда я лишился той неоцененной красоты, которую почитал дороже всех сокровищ на свете? И для того прошу тебя, любезный друг, одно только сделать мне одолжение: ссудить меня деньгами; а я тебе дам вексель и поеду отсюда, куда поведут меня глаза мои, и всечасно буду оплакивать несчастную мою судьбу.
Демаре, видя, что милорд никак остаться у них не хочет, дал ему четыре тысячи червонных и одну лошадь, за что он благодарил его и, простясь с ним дружески, следующею же ночью из Толедо выехал, направляя путь свой в Италию; и по нескольких днях приехал он благополучно в Венецию, во время самого карнавала, когда бывает там великое торжество и различные увеселения.
Милорд, по приезде своем, нанял себе хороший дом, принял несколько лакеев и одного камердинера и в один день, будучи в театре, очень веселился на театральное представление и на множество собравшегося народа. А как кончилась бывшая тогда опера, то все находившиеся в театре кавалеры и дамы, собравшись в одну превеликую залу, стали играть на разных инструментах, между которыми была одна дама чрезвычайной красоты и так хорошо пела, что все, оставя свои игры, слушали одно только ее пение. Милорд тут же играл на флейтраверсе и, переставши играть, смотря с великого прилежностию на сию даму, сказал сам себе:
— Возможно ль, чтобы человек с человеком имел такое сходство, ибо сия дама так на бывшую мою невесту маркграфиню похожа, что ежели бы она не при моих глазах погибла в морской бездне, то бы я мог почесть сию даму за сущую маркграфиню; только кажется, что сия красотою своею ее превосходит.
И для того старался он как можно о ней проведать, чего ради и спрашивал у бывших тут, кто она такова, которые сказали ему, что сия французская дофина недавно в город сей приехала. По окончании всех веселостей поехал он домой и лег спать; но красота сей дамы так пленила его сердце, что он, будучи в различных размышлениях, всю ночь проводил в великом беспокойстве и, вставши поутру, находился в немалой задумчивости. Камердинер его, видя, что он находился в беспокойных мыслях, пришед к нему, с великою учтивостию говорил:
— Милостивый государь, о чем вы изволите беспокоиться? Конечно, вы, будучи в опере, влюбились в какую ни есть красавицу? Ежели я оное отгадал, то пожалуйте, без всякого сомнения, извольте мне в том открыться, может быть, я, чрез свое старание, сыщу вам дорогу к тому сердцу, от которого вы претерпеваете такое беспокойство.
Милорд, не будучи еще уверен в камердинерской верности, не хотел ему в том открыться и для того сказал:
— Нет, мой друг, я не очень здоров и чувствую в себе небольшой жар.
Флейман (имя камердинера), усмехнувшись, говорил:
— Пожалуй, милостивый государь, вы изволите во мне сомневаться; может быть; по недавнему вашему сюда прибытию, о нас еще обстоятельно не изволите ведать; я вам объявляю, что в здешнем городе наша в том состоит должность, и мы в соединении любовных сердец великое имеем искусство. Я вас уверяю, в кого бы вы ни влюбились, здешняя ли она или приезжая, только лишь бы не имела у себя любовника, а то я, верно, оную в любовь вашу склонить могу, ибо по вольности здешней республики у нас такое обыкновение, что ежели кавалер влюбится в какую даму, то без всякой опасности может послать к ней с объявлением своей любви камердинера; а дама ежели и не хочет его любить, то не должна на него за сие сердиться.
Милорд на сие камердинерово представление согласился и говорил ему:
— Теперь я тебе, друг мой, открываюсь, что я мучаюсь любовною страстию к одной приезжей сюда французской дофине, которая, будучи вчера в опере, так красотою своею меня пленила, что ежели я не получу ее склонности, то опасаюсь, чтобы мне не приключилось какой болезни; и ежели ты можешь сыскать такой способ, то я почту за великое одолжение и без награждения тебя не оставлю.
— Милостивый государь, — отвечал Флейман, — напрасно вы давно мне о том объявить не изволили. Я теперь же пойду, объявлю ей о вашей любви и как можно буду стараться узнать ее мысли.
И пошел, сыскал тот дом, в котором жила дофина, и, вызвав к себе ее пажа, спрашивал:
— Пожалуй, мой друг, скажи, не содержит ли ваша дофина кого ни есть из кавалеров в отменной у себя милости?
— Нет, друг мой, — отвечал паж, — она совсем противного тому свойства, и я вас уверяю, что она ни в кого на свете влюбиться не может.
Однако Флейман, несмотря на то, вынув из кармана пять червонцев, подарил пажу и просил его, чтоб он доложил о нем дофине, что до ее светлости имеет нужду. Паж побежал, доложил и, вышед оттуда, позвал Флеймана в ее спальню. Вошед к ней, он с учтивостию говорил:
— Ваша светлость, я здешний, Венецианской республики, камердинер и с покорнейшим моим почтением приемлю смелость вашей светлости доложить о моем господине, у которого я служу, что он, будучи в опере, так сильно красотою вашею пленился, что принужден теперь лежать в постели, и ежели ваша светлость хотя малое имеет по человечеству о нем сожаление, то ничем другим от сей болезни избавиться он не может, как вашею склонностию.
— Слушай, мой друг, — говорила дофина, — я знаю, что в здешнем городе ваша в том состоит должность, что кавалеры чрез вас объявляют дамам свою любовь; за то вас по вольности здешней и не наказывают, а ежели бы в другом городе пришел ко мне с таким объявлением, то вместо ответа без всякого милосердия был бы наказан, а может быть, и потерял свою голову. Однако я, по здешнему обыкновению, объявляю тебе, что я никого на свете любить не намерена, ибо чистая моя совесть от сей страсти свободна.
Флейман, поклонясь, вышел из спальни вон и, вздохнув, сказал:
— Ах, бедный Георг, какую я тебе принесу радость? Разве умножу болезнь твою и опасаюсь, чтоб оная не лишила тебя жизни.
Дофина, услышав о Георговом имени, кликнувши Флеймана назад, спросила:
— Скажи, пожалуйста, какого ты поминаешь Георга?.
— Я помянул, ваша светлость, имя моего господина, у которого я служу.
— А какой он человек, — спрашивала дофина, — и давно ль в сей город приехал?
— Я этого теперь вашей светлости объявить не должен, — отвечал Флейман, — потому что когда вы никакой милости оказать не намерены, то на что вам и ведать об его фамилии; довольно, что вы изволили от меня услышать об его имени.
— Пожалуй, мой друг, — говорила дофина, — скажи мне, какой он человек, за что я тебе сделаю подарок.
— Нет, ваша светлость, — отвечал Флейман, — ни за какие тысячи вы от меня больше сего сведать не можете.
И, поклонясь, пошел со двора долой.
Дофина, тотчас позвав своего лакея, приказала ему идти за Флейманом, дабы узнать Георгову квартиру и наведаться, какой он человек. Лакей пришел к милордову дому и, видя у ворот одного лакея, спрашивал, кто стоит в этом доме. Лакей отвечал, что сей дом нанимает английский милорд Георг, который недавно в сей город приехал. Дофинин лакей спросил еще:
— Да теперь он дома или куда выехал?
— Нет, — отвечал лакей милордов, — он болен и никуда не выезжает.
С чем дофинин лакей и возвратился. А Флейман, пришед к милорду, говорил:
— Милостивый государь, я ходил к ее светлости и сам удостоился ее видеть: подлинно, она такая красавица, что всякого заразить может. Я ей о любви вашей объявлял и получил от ней ответ, что она по своему постоянству никого на свете любить не намерена, почему вы и надежды в том иметь не можете, а я советую вам, преодолев сию страсть, ее оставить, а извольте положиться на меня, и я кроме нее могу в здешнем городе сыскать очень хорошенькую красоточку.
— Нет, друг мой, — говорил милорд, — я, кроме нее, никого на свете любить не хочу, да и в нее я для того больше влюбился, что она очень похожа на бывшую мою невесту, которую я любил больше моей жизни.
После сего, на другой день, дофина, призвав своего пажа, приказала ему идти с тем лакеем, который проведывал о милордовом доме, сыскать его камердинера и позвать к себе. Паж, пришед к милордову дому и вызвав Флеймана, просил его к дофине. Флейман, обрадовавшись сему, спрашивал пажа, как он мог сыскать их квартиру. Паж, указавши на лакея, сказал:
— Вот он мне указал.
— А ты, мой друг, — говорил он лакею, — почему наш дом знаешь?
Лакей отвечал:
— Когда вы у нас были, то дофина посылала меня нарочно за вами вслед, спознать, где вы живете.
Флейман думал, по строгому ее отказу, не хочет ли она за объявление милордовой любви сделать какое отмщение, но опять рассудил, ежели б она намерена употребить какое зло, то бы никак явно к их дому своих людей подсылать не стала. Итак, пошел он вместе с пажом к дофине. Как паж об нем доложил, то дофина, призвав его в свою спальню, говорила:
— Я после твоего ухода, пришед в жалость о приключившейся твоему господину от моей красоты болезни и опасаясь, чтоб мне не быть причиною его смерти, хотя и причинила намерение чистосердечною моею к нему любовью от того избавить, но как я не имела еще случая персонально его видеть, то и не могу так скоро войти в обязательство любовного союза; чего ради выдумала я употребить такой способ, чтоб я его могла видеть и с ним говорить, а он бы меня не узнал, на что, я думаю, и ты согласен будешь; только дай мне честное слово, чтоб до времени ему о том не объявлять. Подите вы теперь к своему господину и рекомендуйте ему одного доктора, который от сих болезней очень искусно вылечивает; когда он на сие согласится, то вы меня о том уведомьте, и я, нарядясь в докторское платье, сама к нему приеду, и, рассмотря его достоинства, ежели он мне понравится, то я чрез вас же могу объявить мою склонность, а вы от меня за свои услуги оставлены не будете.
Флейман клялся дофине, что он с великою радостию все ее приказания исполнять будет.
Возвратясь домой, пошел к милорду в спальню и говорил:
— Что, милостивый государь, есть ли вам хотя малое от болезни облегчение?
— Нет, мой друг, — отвечал милорд, — вместо облегчения я час от часу больше чувствую тягости и сам вижу, что болезнь моя умножается.
— Это, милостивый государь, не рассудительно, — говорил Флейман, — на что страдать и мучиться о такой даме, которая любить вас не намерена? Вы сами изволите знать, что принужденная любовь приятна быть не может. Я вам советую, для своего облегчения от сей болезни, полечиться; здесь есть один французский доктор, который очень искусно от сих болезней вылечивает, и ежели вам угодно, то я его попрошу, чтоб он к вам приехал.
— Ах, мой друг, — сказал милорд, — возможно ль статься, чтобы сыскался такой доктор, который бы мог любовь из сердца выгнать? Я верно знаю, что меня от сей болезни, кроме той персоны, от которой я получил сию заразу, никакой человек избавить не может.
— А я, государь, вас уверяю, — говорил Флейман, — что сей доктор много молодых людей, страдавших сей болезнию, совершенно вылечил, ибо он знает некоторые совершенные симпатические лекарства.
— Очень хорошо, — сказал милорд, — сходи и попроси его ко мне; посмотрим его искусство.
Флейман тотчас побежал к дофине и сказал, что милорд приказал доктора просить к себе.
— Хорошо, — сказала дофина, — поди и скажи ему, что доктор скоро будет.
Флейман пошел домой, дофина после сего, убравшись в мужское платье и надев на себя парик, вскоре за ним, в образе доктора, к милорду приехала. Вошед в спальню, села подле его кровати и спрашивала, чем он болен.
— Я вам, господин доктор, — отвечал милорд, — чистосердечно открываюсь, что я получил сию болезнь от любовной страсти, которою заразился, будучи в опере, от одной дамы.
— Пожалуй, объявите мне ее имя, — говорил доктор, — а без того мне вас никак лечить не можно.
Милорд, не хотя объявить о ее имени, отвечал доктору:
— Нет, господин доктор, мне того никак сделать не можно, ибо я так много ее почитаю, что лучше соглашусь от сей болезни умереть, нежели объявить об ее имени.
Но доктор говорил ему, чтоб без всякой опасности в том открылся и верно бы надеялся, что, кроме его, никто ведать о том не будет, и притом уверял, что он действительно вылечит.
Милорд, будучи докторским обещанием уверен, говорил:
— Я заражен красотою французской дофины.
— Ах, господин милорд! — вскричал доктор. — Как вы осмелились к такой знатной и сияющей в непорочных добродетелях особе адресоваться с любовию? Я вам объявляю, что ежели бы вы влюбились в другую какую ни есть даму, то б я, конечно, вас вылечил и содержал бы сие тайно; а теперь пользовать мне вас никак не можно, потому что я собственный ее светлости доктор и по доверенности моей к ней утаить сего не могу; но донесу о том ей и думаю, что ее светлость, за нанесенную вами чрез сие чести ее обиду, не преминет искать надлежащей сатисфакции.
— Ах, господин доктор, — говорил милорд, — можно ль мне было ожидать, чтоб вы могли меня привесть в такое искушение? Я бы ни для чего никому на свете о том не объявил.
— Да и я, — отвечал доктор, — ежели бы от вас слышал о другой какой персоне, то бы мне объявлять и нужды не было, а то вы сами изволите рассудить, когда б вы что ни есть сведали касающееся до оскорбления величества вашего короля, то могли ль бы вы по верности вашей о том умолчать? Равномерно и мне ни под каким видом утаить сего не можно.
Милорд через силу встает с постели и, кланяясь доктору, просит, чтоб сделал с ним милость, не объявлять о том дофине.
— Пожалуйте, извольте сесть, — говорил доктор, — я вижу, что вы очень слабы, и опасаюсь, чтобы от движения вашего не усилилась ваша болезнь, а я уже по просьбе вашей о том умолчу, только вы сами будьте воздержны и никому об этом не объявляйте.
Милорд, благодаря доктора, просил его, ежели он может, то б хотя малое чрез свое искусство сделать ему от сей болезни облегчение, и подарил ему пятьдесят червонных. Доктор, не принимая денег, обнадеживает, что ему очень скоро поможет, и притом спрашивает у него:
— Да, полно, правда ли, что вы так страстно в нее влюблены?
— Ах, господин доктор, — отвечал милорд, — клянусь вам всеми богами, что я от ее красоты сие мучение претерпеваю, и ни на одну минуту ее прекрасный образ из мыслей моих не выходит.
— Нельзя этому статься, — говорил доктор, — ежели бы всегда красота ее представлялась в глазах ваших, то как же вы, видя ее пред собою, узнать ее не можете?
Сии докторовы слова привели милорда в великое сомнение, смотрит он на него с великою прилежностью и, признавая его очень похожим на дофину, думает, что, конечно, она сама наряжена в докторское платье, и для того говорит:
— Ах, милостивая государыня, что вы меня спрашиваете; вы, конечно, не доктор, но самая та обожаемая мною красота, от которой я так страдаю.
Доктор, рассмеявшись и вскоча со стула, сказал:
— Что вы, господин милорд, опомнитесь, конечно, вы в меланхолии, что доктора признаете вместо прекрасной. Пожалуйте, дайте мне свою руку, я вижу в вас великий жар, отчего вы так и бредите.
Милорд пришел в великий стыд, не знал, что делать; а доктор, посмотря его пульс, говорил:
— Подлинно в вас великий жар, и ежели он до завтра не уменьшится, то неотменно надобно будет пустить вам кровь, ибо я опасаюсь, чтоб вы не пришли в большое беспамятство, чему и теперь уже сделали маленькое начало, что меня признали за дофину. Я вас прошу, пожалуйста, объявите мне, как другу, какую вы особливую в лице дофинином нашли приятность, что так страстно в нее влюбились?
— Я вам, господин доктор, — отвечал милорд, — открою самую истину. Меня сия персона больше всего тем пленила, что она с бывшею моею невестою, которую я любил больше моей жизни, такое имела сходство, что ежели бы она не при моих глазах, во время разбития корабля, погибла, то я б сию дофину мог бы почесть за нее.
— Каким же способом вы, — говорит доктор, — будучи с своею невестою на одном корабле, спасли жизнь свою?
— Меня спасли милостивые боги, — отвечал милорд, — чудными своими судьбами: на одной корабельной доске выбросило меня на морской берег.
— Почему же вы думаете, — продолжал доктор, — что будто боги до одного только вас милостивы, над одними вами могли показать свое могущество, а вашу невесту такими же судьбами от потопления не могли избавить? И вы, не рассудя ничего, утвердились в том мнении, что любезной вашей невесты нет уже на свете, и, не получивши об ней подлинного известия, влюбились в дофину и чрез то нарушили данное от вас своей невесте обещание. Какая ж в вас верность и какая любовь? Ну, ежели она так же, как и вы, от смерти избавилась и, может быть, теперь живет в своем отечестве и без верного об вас известия ни за кого замуж идти не хочет, а вы, как я думаю, ежели бы дофина была согласна, то б, конечно, на ней женились, а после, когда б узнали, что прежняя невеста жива, то с какими бы глазами и совестию могли перед нею появиться и какое бы принесли оправдание?
Сие докторское рассуждение привело милорда в великое замешательство и раскаяние, и сколько он ни крепился, но не мог удержать пустившихся источников слез из глаз своих и ни одного не мог выговорить слова. Доктор, унимая его, выговорил:
— Я вижу, что вы чистосердечно раскаиваетесь, то, пожалуйста, не печальтесь; вот я тотчас напишу вам рецепт, от которого верно получите как от болезни, так и от беспокойных ваших мыслей облегчение, и можете ехать в то государство, из которого была ваша невеста. — И, ударивши его по плечу рукою, сказал: — Не тужи, мой друг, скоро будешь здоров.
Доктор пошел в его кабинет для написания рецепта, а милорд остался на постели в различных размышлениях о неверности своей к премудрой маркграфине. Через несколько минут каким он вдруг поражен был нечаянным страхом и удивлением, как увидел вышедшую из кабинета в маске и в преизрядном уборе даму с сими словами:
— Господин милорд, я слышала от моего доктора о несчастной вашей болезни, которая вам приключилась единственно от страстной вашей ко мне любви, и для того, вместо докторского рецепта, сама пришла исцелить вас от сей болезни: будь, мой любезный, здоров, получай себе в любовь дофину, от которой несклонности ты страждешь.
Милорд, видя неожиданное сие приключение, не знал, что ему делать и какой дать ответ; наконец, пришед несколько в рассудок, говорил:
— Ваша светлость, прошу на меня не прогневаться, что я за болезнию моею не могу оказать вам должного моего почтения.
Дофина, севши к нему на кровать, говорила:
— Ну, мой любезный милорд, довольны ли вы моим рецептом, и чувствуете ли вы от вашей болезни облегчение?
— Милостивая государыня, — отвечал милорд, — я за великое почитаю счастие, что удостоился вашу светлость видеть, но вместо облегчения большую тягость на сердце моем чувствую.
— Ах, как я несчастлива! — сказала дофина. — Когда я имела образ докторский, тогда вы не столько чувствовали болезнь и говорили, что одна только я могу вас от оной избавить, а теперь, как я сама явилась перед вашими глазами, то вместо облегчения нанесла сердцу вашему тягость. Какая ж это любовь и какое постоянство, что вы нетерпеливо желали склонности, а теперь стали уже отпираться?
— Ваша светлость, — отвечал милорд, — не присутствие ваше учинило мне отягощение, но разумные ваши рассуждения возобновили в сердце моем прошедшие мои злоключения и обличили меня в моей неверности к прежней моей невесте.
— Итак, я вижу, — говорила дофина, — что ты хочешь отпереться от той, к которой ты присылал своего камердинера с объявлением любви. Виновата ли я, что ты прежде не сдумался о той неверности, которую ты чрез сие сделаешь прежней своей невесте.
— Милостивая государыня, — отвечал милорд, — отчаяние несчастливых моих случаев до того меня доводило; а теперь по разумным вашим рассуждениям я и сам одумался, что, может быть, прежняя моя невеста, неиспытанными божескими судьбами, так как и я, от потопления избавилась; чего ради, не получая достоверного об ней известия, не могу ни с кем иметь любовного обязательства; ежели же сведаю, что ее на свете более уж нет, то клянусь вам всеми богами, что, кроме вас, никого на свете любить не буду.
— А ежели она жива, — говорила дофина, — то ты на ней женишься, а мою любовь, которая неверную твою душу мучила, оставишь? Ах, неверный, какое твое постоянство? Знаешь ли ты, что обидишь ту, за которую завтра же потеряешь безрассудную твою голову?
— Это состоит теперь во власти вашей светлости, — отвечал милорд, — что изволите, то со мной и делайте, а я завтра или сейчас готов лучше лишиться жизни, нежели сделать неверность прежней моей невесте.
— Ах, жестокосердый ругатель, — сказала дофина, — как же ты, не одумавшись, смел адресоваться ко мне с непостоянным твоим сердцем и чрез то мог нанесть чести моей такое поношение, которого б я не хотела сносить и от короля твоего, не только от тебя? Итак, ты, непостоянный, — продолжала говорить дофина, — теперь оставляешь и не хочешь любить ту, которая для любви твоей немалый от богов претерпевала гнев, искавши тебя несколько лет, никогда не думая иметь себе другого супруга. Ах, Георг, опомнись, где твой разум? Куда девалось твое постоянство, где великодушие и твердость? — И, сняв с себя маску, сказала: — Смотри и узнавай любезную твою маркграфиню, которую ты почитал между мертвыми.
Сими последними словами милорд приведен был в неописанное удивление и не мог верить, чтоб сия дама сущая была маркграфиня, но, рассмотря прилежно, в такую пришел радость, что, забыв свою болезнь, вскочил с постели, встал перед нею на колени и говорил:
— О боги, что я вижу! вы едины свидетели, какую отраду ощущает мое сердце, видевши ту божественную красоту, которая через несколько лет нимало не умалилась и не переменила своего намерения.
Маркграфиня, подняв его за руку и любезно целуя, уверяет в непременной любви своей и, севши с ним на кровать, рассказывает ему, каким образом она получила спасение своей жизни.
Таким образом маркграфиня с милордом, проводя весь день в разных разговорах, положили намерение, как можно скорее, для окончания брачного торжества, ехать в Бранденбургию, а через три дня выехали из Венеции.
По приезде маркграфини в свое владение, приказала она приготовить к брачному торжеству великолепнейшую церемонию, по изготовлении которой следовали с великою процессиею в кирку, где благополучно, по претерпении великих несчастий, к неизреченной всех подданных радости, и совершилось брачное сочетание и от всех учинена новому герцогу в верности присяга.
Потом Георг, разговаривая с любезною своею маркграфиней, вспомнил о бывшем на их корабле капитане Марцимирисе и спрашивал у нее, нет ли о нем какого известия?
Маркграфиня отвечала, что Марцимирис жив и находится теперь с любезною своею Терезиею в Сардинии королем. А каким образом он спасся и получил корону, я вам расскажу его историю.
— По разбитии нашего корабля, — говорила маркграфиня, — несчастный Марцимирис также ухватился своими руками за одну доску, с которою его, помощию богов, и выбросило волною на Лотарингский берег, где он лежал целые сутки без памяти; а как пришел в прежнее состояние, то отправился в город Турин и, наняв квартиру, спрашивал хозяина о жизни их короля и королевы. Хозяин отвечал ему, что король и королева здравствуют, только в великой уже старости, а наследников у себя не имеют: была у них одна дочь неописанной красоты, которую от них похитил злой дух и содержал у себя целые три года, но незнаемый какой-то человек, именем Марцимирис, от духа ее избавил, за что она обещалась выйти за него замуж; но король наш от гордости оной его дочери за него не отдал, отчего она с печали занемогла и через несколько дней скончалась и погребена в Дианином капище.
«Да где же тот человек, — спрашивал Марцимирис, — который избавил вашу принцессу от духа?» — «Об оном я вам сказать не могу, — отвечал хозяин Марцимирису, — потому что он после смерти принцессиной на третий день пропал без вести. Король посылал его искать по всему государству, но нигде его сыскать не могли; а только нашли после него в той горнице, в которой он жил, пару платья и в одном кармане двадцать червонных да один какой-то перстень, который и теперь хранится у короля; и король очень сожалеет об оном Марцимирисе, для того, что он хотел его сделать после себя наследником, чего ради и публиковано было по всему королевству, что ежели кто его сыщет, тому обещано великое вознаграждение; однако ж и до сего времени никакого о нем известия нет».
Слышавши сие, Марцимирис очень обрадовался, что перстень его, которому духи повинуются, цел, воображая себе, что когда он получит перстень, то может отыскать супругу свою Терезию. Итак, пошел прямо в королевский дворец, где, увидевши его, один лакей, который находился у него в услугах, побежал и объявил королю. Король, несказанно обрадовавшись, приказал Марцимириса позвать к себе и, приняв его с великою ласкою, спрашивал: «Где вы столько времени находились?» — «Ваше величество, — отвечал Марцимирис, — когда любезная ваша дочь скончалась, тогда я от несносной печали не хотел больше на свете жить, ушел в лес и хотел сам себя предать смерти, но некоторые люди меня от того избавили, и я, пришед к морскому берегу, севши на корабль, отправился в Бранденбургию и, приняв там службу, пожалован был капитан-командиром. Будучи же для некоторой экспедиции с ее высочеством Бранденбургскою маркграфинею на море близ Арабского острова, корабль наш жестокою бурею разбило, ее высочество и бывшие при ней спаслись ли от потопления, того я не знаю, а я, без всякого чувства, выброшен на одной доске на морской берег владений вашего величества».
«Я очень радуюсь, — говорил король Марцимирису, — что я вижу вас здоровым, и как я не имею у себя детей, то желаю, за твои услуги моей дочери, сделать моим наследником».
Марцимирис со всевозможною учтивостию благодарил короля за высочайшую его милость, препроводив с ним несколько времени в разных разговорах, а потом король приказал принесть Марцимирисово платье, кошелек с червонцами и перстень. Увидевши свой перстень, Марцимирис говорил королю: «Ваше величество, когда я получил сей перстень, то, может быть, и дочь вашего величества опять сыщется».
Король, удивившись сему, говорил: «Возможно ли статься, чтобы вы сим перстнем могли оживотворить дочь мою, которая уже другой год скончалась, и в присутствии нашем, чему и сам ты был очевидным свидетелем, погребена в Дианином капище! А ежели вы сие сделаете, то она никому, кроме вас, женою не будет».
«Ваше величество, — отвечал Марцимирис, — я больше думаю, что дочь ваша опять находится у того же духа, от которого я ее избавил».
«Господин Марцимирис, — говорил король, — я не могу понять, каким бы образом могло сие случиться; разве дух после погребения унес мертвое тело и силою своею ее оживотворил?»
«Нет, ваше величество, — отвечал Марцимирис, — мне воображается, не сделано ли от того духа во время принцессиной болезни какого ни есть фальшивого корпуса, который под именем принцессиным и погребен в Дианином капище, а она в то время унесена по-прежнему в его жилище. Не изволите ли для достоверности приказать теперь освидетельствовать ее гробницу?»
Король тотчас приказал заложить карету и вместе с королевою и Марцимирисом приехали в капище Дианино и, открыв принцессину гробницу, в великое пришли удивление, что вместо ее тела нашли лежащую во всем уборе восковую статую, почему король и королева действительно уверились, что дочь их унесена духом; для того, обняв Марцимириса, с великими слезами просили и клялись наистрашнейшими клятвами, что ежели он дочь их сыщет, то они верно, выдавши ее за него, учинят наследником своей короны.
Марцимирис, выпросивши у короля три тысячи червонных и наняв корабль, отправился в город, где он с принцессою расстался и, прибыв туда, спрашивал у жителей:
«Пожалуйста, скажите, с год тому времени жил в здешнем городе человек, именем Марцимирис, с своею женою: здесь ли он ныне или куда выехал?»
«Марцимирис давно уже отсюда уехал, — отвечали ему городские жители, — а жена также хотела из здешнего города ехать, но в тот же день, как муж ее оставил, вселился в тот дом злой дух, который ее всякий день немилосердно мучил, и никто к тому дому приблизиться не смел; несколько уже раз здешние жители собирались и хотели сего духа выгнать, но никоим образом сделать того не могли, и он многих дьявольскою силою лишил жизни».
Услышав сие, Марцимирис чрезмерно обрадовался и уверил жителей, что он сего духа не только из дома, но из города вон выгонит.
«Пожалуй, не ходи, — говорили они ему, — мы верно знаем, что как бы ты отважен ни был, но как скоро войдешь в сей дом, то жив оттуда не возвратишься».
Марцимирис, надеясь на силу своего перстня, пошел с великою поспешностью к тому дому, и как вошел на двор, то вдруг сделался такой превеликий вихрь и шум, что казалось, и здание того дома может разрушиться; но Марцимирис, имея на своей руке перстень, вошел без всякого ужаса и прямо в спальню и увидел любезную свою супругу, лежащую на постели без всякого чувства; а бывший прежде его товарищем мальчик выбежал к нему навстречу из другой горницы и говорил: «А, господин Марцимирис, зачем вы сюда пришли? Не думаете ли меня еще по щеке ударить и жену свою опять к себе получить? Нет, мой друг, теперь уже не прежнее время. Да видно, что вы ее и сами не любите, что, оставя одну, целый год скитались неведомо где; и для того извольте с честию отсюда убираться, а ежели вы добровольно не выйдете, то я вам дам такую пощечину, что от моего удара в одну минуту испустишь несправедливый дух твой». И, подняв руку, хотел его ударить, но Марцимирис, разжав свою руку, уставил против его глаз перстень, который как скоро дух увидел, то повалился Марцимирису в ноги, крича голосом: «Господин Марцимирис, пожалуй, не мучь меня, сними свой перстень, а я во всем, что тебе угодно, повинуюсь».
«Нет, злодей, — говорил Марцимирис, — я до тех пор не перестану мучить, пока ты мне не скажешь, какой ты человек и для чего разлучил меня с моею женою».
Мальчик, лежа у него в ногах, сказывал: «Я тот же Жени-дух, у которого ты в доме взял принцессу и который вас перенес в Сардинское королевство, а после, как ты на ней женился, то я всегда невидимо следил за тобою и старался сделать тебе затмение, чтобы ты потерял свой перстень, который ты по старанию моему и забыл в своем платье у сардинского короля, почему я, не имея уже опасности, и разлучил вас с вашею супругою, в чем приношу тебе мое извинение, только помилуй и не мучь меня».
«Да для чего же ты не перенес принцессу, — спрашивал Марцимирис, — в тот же дом, где прежнее было твое жилище?»
«Нельзя было мне этого сделать, — отвечал дух, — потому что когда вы у меня были и, снимая с руки перстень, клали себе в карман, в котором был у вас платок, а после, вынувши платок, утирались, который и теперь там лежит; почему мне войти туда уже невозможно. Да, пожалуй, сделай милость, — говорил дух, — не мучь меня, скажи, что вам надобно: я все для вас сделаю, только сними с своей руки перстень или зажми его в руку».
Марцимирис зажал перстень в руку, а дух, вставши, говорил: «Что изволите приказать делать?» — «Первое я тебе повелеваю, — говорил Марцимирис, — чтобы жена моя так была здорова, как в то время, когда я на ней женился».
Лишь только он сие выговорил, то в тот же момент Терезия, вскоча с постели и прибежав к Марцимирису, бросилась ему на шею и, обливаясь слезами, говорила: «Ах, любезный Марцимирис, я уже совсем отчаивалась вас видеть, думая, что вы, верно, меня оставили».
Марцимирис, указывая на духа, который в образе мальчика стоял у дверей, сказал: «Вот этот каналья причиною нашего разлучения».
Терезия, смотря на духа, дрожала от страха.
«Видишь ли ты, бестия, — сказал Марцимирис духу, — как она от тебя напугана; я хочу, чтоб этот страх был уничтожен».
Дух, повинуясь владетелю перстня, взглянул на Терезию и сказал, что она может быть спокойна и не бояться его, от чего в ту же минуту Терезия пришла в настоящее свое положение и препроводила остальное время дня с Марцимирисом в неописанной радости. Когда же вошла Анастасия и увидела Марцимириса, сидящего с своей супругой, а духа стоящего подобно невольнику, то воскликнула: «А, милостивый государь, еще боги милосердны до нас, что послали тебя для нашего избавления».
Потом Терезия приказала Анастасии подавать ужинать, и когда она принесла обыкновенно приготовленное кушанье, то Марцимирис, оборотясь к духу, приказал принесть лучшего кушанья и разных напитков, что и было им исполнено в одну минуту чудесным образом. Притом Марцимирис сказал духу, что он у него до тех пор будет в услугах, пока захочет его отпустить, на что дух отвечал, что он должен теперь ему повиноваться, потому что он нашел свой перстень.
По окончании ужина Марцимирис с своею супругою препроводили ночь в спальне без всякой боязни. А поутру, вставши, он сказал духу, что желает, чтоб его с супругою и с Анастасиею перенесли в Сардинское королевство, в Терезиину спальню, и что его услуги тогда ему больше не надобны будут. Едва Марцимирис сие успел выговорить, как увидел свое желание исполненным. Терезия тотчас побежала к своим родителям, которые, увидя ее, не знали, что от радости делать. Испуская источники слез и обнимая дочь свою, спрашивали, какими судьбами могла она опять к ним возвратиться.
«Любезный мой супруг Марцимирис в другой раз избавил меня от того же духа, который меня и прежде от вас похитил».
«Как, — говорил король, — разве вы с ним браком соединены?».
На что Терезия, обнимая его колена, отвечала:
«Могла ли я поступить иначе, будучи два раза избавлена им от Жени-духа?»
«Где же теперь Марцимирис?» — спрашивал король.
«Он в моей спальне», — отвечала Терезия.
Потом король велел позвать Марцимириса, встретил его с распростертыми объятиями и, в знак благодарности за избавление дочери, уступил свою корону. На другой день публично объявил его своим зятем и наследником Сардинского и Лотарингского королевства, чего ради учинена присяга от подданных с великою радостию. Через несколько месяцев король и королева скончались, будучи в совершенной старости. Марцимирис с Терезиею предали их тела погребению в Дианином капище с надлежащею церемонною, а сами препровождают жизнь в Турине во всяком благополучии.
По окончании маркграфинею Марцимирисовой истории Георг говорил ей:
— Теперь и мы должны богам принесть нашу благодарность, ибо хотя они и наказали нас по своему правосудию разными несчастливыми приключениями, но, не лишая нас жизни, привели неиспытанными судьбами желание наше к благополучному окончанию.
Маркграфиня, по совету любезного своего супруга, общо с ним приносили богам честнейшие жертвы, а подданным своим оказали великие знаки своей милости.
Таким образом, Георг, будучи бранденбургским герцогом, за благоразумное правление своим владением был любим всеми своими подданными, прославив имя свое во всей Германии и, дожив с премудрою маркграфинею до самой глубокой старости, к немалому сожалению своих подданных скончались — прежде Георг, а после, через два месяца, и маркграфиня, оставляя по себе достойных престола своего наследников.
Николай Зряхов
БИТВА РУССКИХ С КАБАРДИНЦАМИ, ИЛИ ПРЕКРАСНАЯ МАГОМЕТАНКА, УМИРАЮЩАЯ НА ГРОБЕ СВОЕГО МУЖА
Русская повесть
ЧАСТЬ I
Повествуя о битве русских с кабардинцами, я и все мои соотечественники должны отдать истинное преимущество нашим воинам, храбростью своей и единодушием прославившим себя и заставившим трепетать врагов царю и отечеству.
Наши воины, одушевляемые святою верою в Бога, верностию к царю и пламенея истинною любовию к своему отечеству, летят как орлы с радостию на поле брани. Никакие препоны их не удерживают. Высочайшие Альпийские и Забалканские горы для них кажутся ничтожеством. По мановению своего монарха, по гласу разумного и опытного полководца, они переходят бездонные пропасти сих гор, достигают вершин их, сокрытых в облаках, как бурный поток свергаются долу. И, представ пред взоры смущенного врага, от внезапного их появления приведенного в ужасную робость, невзирая на его многочисленность и выгодную позицию, им занятую и укрепленную со всем искусством к выдержанию приступов, невзирая на всепожирающий пламень многих орудий, извергающих смерть, — идут на штыках — при громогласных криках «ура!». Заставляют молчать орудия неприятельские и бьют его наголову, провозглашая победу, славу Богу и царю русскому! — Бросают к стопам его пожатые ими лавры — и просят новых повелений, куда еще им парить для наказания и покорения врагов.
Вот истинный характер и изображение наших храбрых русских воинов, заставивших о себе удивляться не только просвещенных и доблестных, мужеством славящихся народов в Европе, но и страны Азийские, вмещающие в себе миллионы воинов, ныне довольно также просвещенных и опытных в войнах. Колонны россиян, подобные македонским фалангам, заставляют трепетать бесчисленные полчища врагов своих: то страшны ли им горы и ущелия кабардинские и быстрая, ужасная река Терек? Они, невзирая на бурные волны ее, влекущие большие каменья, производящие страшный рев и шум, и, если не наведены мосты, переходят вплавь почти чрез оную, и, вынося на себе орудия, являются пред кабардинцами, как грозные исполины, и заставляют их трепетать, и, мужеством своим их побеждая, приводят опять в подданство своему царю.
Описав подвиги моих соотечественников, я также обязанностию себе поставляю представить моим читателям и народ кабардинский точно в том виде, как он есть. Если их кто видел, а еще и того лучше, кто с ними был в сражениях, то те верно утвердят истину моего описания о сем гордом народе, славящемся своей храбростию и прочими талантами.
Кабардинцы, обитающие за рекой Тереком, служащей границей между ними и Кавказскою губерниею, имеют свои постоянные жилища в горах и ущелиях, есть народ сильный, видный собою и весьма храбрый, имеющий отличные заводы лошадей, всюду славящихся своей добротою, красивостию и легкостию в скачках. Они сами делают отличной доброты разные оружия, как-то: шашки[18], кинжалы, копья, стрелы, ружья, пистолеты и панцири удивительной легкости. Так называемый трехкольчужный панцирь бывает весом по 6 фунтов, а если его возьмешь в руки, то он подобен мелкой сетке; но когда наденешь на себя, он делается будто литым, и сильный солдат штыком только может разорвать сии стальные кольца; пуля на взлете его не пробивает, а наши сабли скользят, не причиняя им вреда; но казацкие дротики проходят между кольцами и причиняют вред или смерть неприятелю. Вышеупомянутыми оружиями кабардинцы отлично действуют; из ружей, пистолетов стреляют весьма метко; стрелами и копьем причиняют великий вред, и острейшие их кинжалы в ручной схватке, верно брошенные их рукой, наносят неисцелимые язвы. Многие из кабардинцев даже и коней своих во время сражений закрывают до половины таким же панцирем. Они сражаются без устройства, а нападения их весьма опасны. Отлично храбрые панцирники часто вскакивают в наше каре и, наделав множество суматохи и вреда, перескакивают чрез интервалы пушек наших и на извивающихся змеями конях своих скрываются в мгновенье ока от пущенных в них пуль и картечей. Жены и дочери их весьма прелестны и так же отважны, как и они. Они нередко выходят на сражения мстить за убитых своих отцов, братьев, супругов и детей.
Сии кабардинцы, по наблюдениям некоторых историков, полагаются потомками храбрых амазонок, потому что они поселились в их стране; а другие полагают их пришельцами, занявшими сии места. Но оставим сие изыскание для ученых, лучше меня знающих историю света, и обратимся к продолжению описаний сего замечательного народа.
Кабардинцы все вообще магометанского закона. Смотря по состоянию, каждый муж может иметь по семи жен; но старшая из них имеет пред прочими преимущество. Магометанки послушны мужьям своим. Одно его мгновенье заставляет каждую из них понимать волю супруга и повелителя; нежный его взор или улыбка приводит их в восхищение, малейшая угрюмость, или строгий взгляд, приводит их в трепет. Они страстно любят мужей своих и боятся их как повелителей, могущих располагать их жизнию.
Кабардинцы, исключая оружий, также занимаются другими изделиями: они чернь на серебре и насечки на железе работают неподражаемо. Бурки их почитаются лучшими из всех горных народов. Есть такие, которые стоят по 100 целковых. Жены их занимаются прядением шелка, бумаги и шерсти и делают из них весьма тонкие и добротные ткани, но жаль только, что не знают искусства просвещенных народов их усовершенствовать. Они также занимаются хлебопашеством, скотоводством, пчеловодством и звериною ловлею. Но самое их любимое занятие, и весьма прибыльное, из животных прекрасные лошади, кои их выносят, так сказать, со дна моря. Если кабардинец, отрезанный от своих в сраженье, не надеется получить скоро их помощи, то пускает к берегу реки коня своего, и, невзирая на ужасную ее быстроту и весьма крутой берег, с конем ввергается в нее и погружается в волнах ее; если кто подумает, что он погиб невозвратно, тот ошибается; чрез несколько минут конь невредимо выносит его на другой берег реки. Когда же в сраженье подобьют под кабардинцем лошадь, то другой всадник в мгновение подскакивает к нему; сей хватается за заднюю луку седла, а иногда за переднюю, — и добрый конь уносит их из виду.
В мирное время путешественник, какого бы он закона ни был, прибывший для наблюдения их страны и произведений ее, принимается у них дружески, пользуется их хлебом и солью и, чтоб в пути не мог получить какого вреда от злых людей или зверей, конвоируется ими от аула до другого и так далее и, спокойно проживая у них несколько времени, с сожалением оставляет сию страну и благодарит жителей за гостеприимство.
Вместе с тем, однако ж, у них господствует врожденное желание к набегам, грабежам и даже убийствам. Они часто, большими партиями переправляясь чрез реку Терек, избирают праздничные и воскресные дни, посвященные христианам на моления, нападают на селения и деревни, захватывают народ в церквах, берут в плен, грабят имение и скот и гонят в свои жилища, перепродавая пленных в дальние страны — туркам и другим народам.
В начале нынешнего столетия таковые проказы кабардинцев, часто без пользы преследуемых русскими военными командами, доведены были до сведения императора Александра Первого, который повелел главнокомандующему отдельным Кавказским корпусом двинуть оные на кабардинцев, жестоко наказать за их дерзости и бесчеловечие, собрать с них значительную контрибуцию за все убытки, понесенные разоренными русскими от их набегов, и за движение российских воинов для их усмирения и, когда принесут они раскаяние и будут просить пощады, привести их на верность вновь к присяге, и, взяв верных аманатов с их народа, возвратить войска наши на прежние их квартиры.
Повеление правосудного монарха в самой точности и поспешности было исполнено; и Кавказский корпус, выступя в походах, шел скорыми маршами к реке Тереку, горя желанием сразиться с басурманами и наказать их жестоко за обиды своим соотчичам.
Кабардинцы, чрез своих шпионов уведомленные о приблизившейся ужасной буре и грозе, вскоре долженствующей над ними разразиться, в бесчисленных толпах собрались — решились защищать свою страну и жизнь до последней капли крови. Однако ж, невзирая на их единодушие, перевес судьбы остался на стороне русских и заставил их просить милосердия и пощады у российского полководца, уполномоченного властию монарха продлить или прекратить с ними войну на статьях мира, полезного отечеству.
Храбрые русские воины пели, шедши на битву с кабардинцами за быструю реку Терек. Свежие и веселые их лица ясно доказывали изобилие в продовольствии, а пылающие мужественным огнем взоры — желание сразиться скорее с неприятелем.
Вскоре орлы российские прилетели к шумной и быстрой реке Тереку, стали устраивать понтонные мосты для переправы чрез оную на другой берег, в пределы кабардинские.
Неприятель, давно ожидавший незваных гостей, во многих местах по своему берегу поделал засеки и, в бесчисленных толпах собравшись в оных, пустил в войска наши тысячи метких пуль и стрел.
С нашей стороны им отвечали из многих орудий и тем заставили несколько рассеяться кабардинцев. При громе пушек наши егеря (коих черкесы называют «солдат пьян ямак», потому что при выстрелах в наших застрельщиков, они, притворяясь убитыми или ранеными, упадают на землю, перекатываются с одного места на другое, заряжают свои ружья и штуцера, лежа на спине или на боку, и когда кабардинские наездники или панцирники пустятся скакать на своих отличных конях к тому месту, где виден был упавший егерь, то сей, выждав приближение кабардинца, думающего с него снять доспехи и голову, за которую они получают плату, разит его пулею в разрез и наносит или рану, или повергает с коня мертвым на землю. От этого-то самого у кабардинцев и вошла сказанная пословица о наших егерях) бросились почти вплавь чрез реку Терек и вынесли на своих плечах легкие орудия, невзирая на все препятствия, чинимые им кабардинцами — выйти на их берег.
За егерями бросились донские, линейные и гребенские казаки.
Переправясь на тот берег, наши егеря открыли из своих ружей страшный огонь в неприятеля; пули засвистали, и орудия начали бросать из жерл своих пламень и смерть на кабардинцев: картечи наши заставили неприятеля смешаться и рассеяться несколько. Казаки на дротиках и саблях ударили на неприятеля, и кровь с обеих сторон полилась ручьями.
Ужасный крик сражающихся и стоны раненых и умирающих воинов заглушали даже выстрелы из орудий. Земля стонала под тяжестию коней с их всадниками. Те и другие, мстя за смерть своих товарищей и родных, пренебрегали опасностями и пролегали себе дорогу чрез ряды своих неприятелей. С нашей стороны крики «ура», с кабардинской «алла!» оглашали воздух. Сии отступили назад с умыслом, чтоб заманить наших поближе к своим засекам; и как скоро русские с ними поравнялись, то многочисленное число кабардинцев, в них сокрытых, ударили в наших сбоку и в тыл, на своих отличных шашках, пересекающих наших ружей стволы и штыки. Смешавшиеся наши воины с кабардинцами воспрепятствовали орудиям нашим действовать против последних, чтоб не причинять большого вреда своим.
Сия неудобность могла быть пагубна для россиян; ибо кабардинцы, подкрепленные свежими воинами и панцирниками, превосходили вчетверо наших числом и притом дрались с ужасным отчаянием; но, к счастью наших воинов, Казанского пехотного полка гренадерские роты, перешед стремительно вброд реку Терек, ударили в штыки на кабардинцев, а два прибывших с ними полка драгун, Таганрогский и Борисоглебский, пошли работать на саблях с кабардинской конницей, и сражение взяло другой вид. Стоны умирающих, раненых, растоптанных конями достигали до небес, сокрытых от дыма беспрерывно палящих пушек и ружей, с пылью, поднявшейся столбами вверх, между коих нельзя было различить своих от неприятеля.
Кабардинцы, вновь подкрепленные многочисленным числом отборных своих панцирников, стеснили русских и окружили было со всех сторон; но в это время и весь наш корпус переправился на берег кабардинцев, которые, приведены будучи в робость поспешным движением нашего войска, отступили стремительно назад и, поворотя коней своих и пехоту, ударились бежать и соединились с многочисленными толпами своих, не бывших еще в сем кровопролитном сражении. Наши их преследовали по пятам и поражали пулями, штыками и картечью из орудий.
Гребенского казацкого полка эсаул Победоносцев, молодой, прекрасный собою юноша, хорошо образованный и одаренный необычайной силой, мужеством и проворством, с отборною своею сотнею казаков врезался в многочисленную толпу самых отважных панцирников кабардинских, предводительствуемых их богатым и весьма храбрым князем Узбеком, — и тут-то пошла потеха![19]
Храбрый эсаул Победоносцев, пренебрегая многочисленным неприятелем, как русский герой, косил их на все стороны тяжелым мечом своим, и на кого из кабардинцев обрушивались его молниеносные удары, те повергались с коней своих жестоко раненными или мертвыми. Но он был один. Казаки его имели дело также с панцирниками, препятствовавшими им соединиться со своим начальником, окруженным со всех сторон кабардинцами.
Сей удивительный герой не хотел отступить шагу с места сражения и один удержал своею храбростию стремление врагов. Он имел уже три раны в боках своих от копий кабардинских; вдруг является молодой, осанистый собою кабардинец, на отличном коне, с опущенным забралом своего шишака, и, отсторонив прочих своих воинов, вступает в поединок с нашим героем. Сабли их встречаются, испускают треск и искры огненные; юный кабардинец избирает время, яростно поражает мечом своим нашего героя в грудь: но сей, пренебрегая ужасную боль, с ужасною силою вонзает меч в грудь своего противника, разрубает панцирь и повергает его мертвым с коня; в это время еще получает Победоносцев глубокую рану в правую руку. Кровь льется из ран его ручьями, силы богатырские в нем истощились, и тяжелый меч выпал из его могучей длани. Он склонил геройское чело к голове коня своего и готов уже был упасть с него на землю, как в то же время князь Узбек, почитающий отличных рыцарей превыше всего на свете, удивленный необычайным мужеством и силой юного героя Победоносцева, сам подхватил его и приказал своим людям сиять его с коня, как можно осторожнее и поспешнее отнести его на руках и аул к его домашним и от имени его приказать им в ту же минуту сделать всевозможное пособие и содержать как можно лучше, о чем он не преминет сам лично узнать без замедления. «В особенности скажите от меня моей милой дочери Селиме, чтобы она о сем храбром рыцаре пеклась как о своем отце и старалась внушить ему нашу религию».
Говоря сие, князь Узбек с удивительным искусством перевязал раны Победоносцева и потом примолвил: «врачу моему Бразину скажите, чтобы он самые эти же средства употреблял с этим раненым, а впрочем, он сам знает. Ступайте! Алла да покровительствует вам в пути! Скажите, что я, слава пророку нашему, здоров и надеюсь скоро увидаться с ними». Четыре сильных воина, покрыв соединенные щиты данным Узбеком им богатым небольшим ковром, работанным дочерью его, прекрасною Селимою, кладут на него еще в сильном обмороке находящегося Победоносцева и, подняв на свои плечи, поспешно уносят.
Вскоре сии кабардинцы с несомым триумфом приходят в аул к жилищу своего князя Узбека; жены и дети его выскакивают и, увидев знакомый им ковер, полагают, что принесли убитого или раненого князя, испускают жалобный стон и вопль.
Одни из носильщиков: «Успокойтесь, это не князь наш; это русский храбрый и знатный воин, жестоко нами раненный, коего сам князь перевязывал раны, за то ли, что он прекрасен как солнце, или за то, что он наших самых лучших панцирников один перекрошил десятка два, и можно сказать, что этот христианин если б сделался магометанином, то был бы украшением нашей стороны и первым путеводителем к победе. Только глубокие язвы его и много истекшей из них крови дали нам восторжествовать над ним, когда уже он был почти мертвый. Но князь приказал вам сказать, чтобы как можно поспешнее для этого воина сделали пособия, содержали как можно лучше: а в особенности вам, княжна, приказал ваш родитель смотреть за сим юношею, как за ним самим, и стараться склонять его в нашу религию (юная Селима вспыхивает огнем и потом бледнеет). Обо всем этом он скоро приедет сам удостовериться, а теперь покажите нам место, где его сложить. Мы очень устали».
Во мгновение ока Селима схватывает мягкие подушки, выносит к ним и ведет их в богатую кибитку ее отца, где разостлан был сафьянный тюфяк; кладет сама подушки в головы и говорит носильщикам:
— Положите его, но ради Аллы и Магомета, как можно осторожнее!
Те тихо Победоносцева кладут на постель, и тот же воин говорит ей:
— Князь наш приказал, чтоб врач его, Бразин, точно так же бы поступал с раненым, как он перевязал сам раны, и употребил бы все средства его вылечить.
— Хорошо, это все будет исполнено сейчас же! — отвечала Селима. — Вот вам за труды (дает им пять золотых монет); тебе две за извещение, а этим трем по одной за труды их. Ступайте и скажите отцу моему, что я все силы употреблю исполнить его приказания. Скажите также, что мы все здоровы и об одном молим день и ночь Аллу, чтоб он спас его от рук христианских. Ступайте-ка, там вас угостят.
Принесшие раненого, делая низкие поклоны прекрасной княжне, отступают до входа в кибитку и за двери, ибо у магометан полагается неучтивством и даже преступлением, уходя, оборачиваться задом к своим начальникам и владельцам.
По выходе их прелестная Селима, размышляя о приказаниях, данных отцом ее, почувствовала трепет в сердце и пожелала рассмотреть черты лица раненого.
В это время солнечные лучи прямо ударяли в стекла кибитки и в лицо раненого. Селима подходит, разглядывает Победоносцева и приходит в жестокое смущение, увидев в нем самого прекраснейшего из мужчин. Темно-русые кудри осеняли гордое чело его с тонкими бровями; густые согнутые ресницы доказывали, что они скрывают прекрасные глаза; белое лицо, покрытое смертною бледностию, оттенивалось самым слабым румянцем на ланитах его; губы небольшого рта, уже споря со смертию, все еще были алы. Широкие плечи, высокая грудь, тонкая талия, рост более обыкновенного представили ей Победоносцева знаменитым героем. Она томно вздохнула, и слезы выкатились из прелестных очей ее, когда она подумала, если раненый умрет. Эта первая искра невинной любви, этот зародыш, неприметно закрадывающийся в сердца наши, уже расположил нежную душу юной Селимы в пользу нашего героя.
— Ах, родитель мой, ты прав! — тихо восклицает Селима и бежит, чтоб позвать к раненому Бразина.
Вскоре является она опять в кибитку с Бразиным, который осматривает больного и делает ему возможное пособие по обыкновению страны своей. Здесь можно сказать о сих народах азиатских, что простые их лекарства, мази и пластыри, ими составляемые, так же скоро возвращают больным и раненым здоровье, как и европейские. Я приведу здесь один пример, которому был я очевидным свидетелем.
В первый поход под Эривань однополчанин мой, поручик Д—в, неосторожно наелся недозрелых плодов, через что страдал жестоко болью в желудке, с обыкновенными последствиями сей болезни, с лишком год. Все лекаря, и притом очень искусные, по испытании всех средств к его излечению, наконец отказались невозможностью возвратить ему здоровье. Это жестоко поразило больного; ибо он полагал, что смерть его неминуема, как и прочих офицеров и солдат, бывших в сем походе, от сей же болезни лишившихся жизни в весьма значительном количестве, как под Эриванью походом оттуда, так и по возвращении на занимаемые нами квартиры.
Я и эскадронный мой командир предложили этому офицеру испытать жившего в том селении, где мы имели свои квартиры, армянского лекаря, весьма искусного в пользовании. Он прибыл к нам из штаба. Азиатский врач был призван смотреть его болезнь, расспросил о всем подробно и обещался, с помощию Бога, возвратить ему здоровье. Такая надежда оживила умирающие чувства больного и поселила радость в душе его. Врач составил сам лекарство своего изобретения, предписал больному диету и в шесть недель излечил сию болезнь совершенно. Больной со слезами принес благодарные моления Всевышнему, спасшему его от смерти, и чувствительную признательность достойному врачу своему. Оправясь совершенно, вышел в отставку и уехал на свою родину.
Вот доказательства искусства азиатских врачей. Я, быв болен такою же болезнию, излечился от оной сам простым лекарством. Взяв красного виноградного цельного вина и натерев на терке, смотря по количеству вина, сухой гранатовой корки с оленьим рогом, вскипятив на огне, употреблял по нескольку чайных чашек в день и в короткое время выздоровел, но утвердительно сказать не могу, от этого ли вяжущего лекарства или от милосердия Всевышнего, — кажется, последнее справедливее. Да и всякий врач, если только он не вольнодумец, полагающийся на одно свое искусство, должен с помощию пекущегося о нас святого промысла приниматься пользовать больного, в особенности страдающего жестокою, опасною болезнию. Но обратимся к нашей повести.
Помощию искусных средств, употребленных Бразиным, чрез несколько минут Победоносцев пришел в чувство, открыл черные большие глаза свои, окинул быстрым взором все его окружающее и с крайним удивлением тихо воскликнул:
— О Боже, где я теперь нахожусь?
Селима, затрепетавшая от радости, знав несколько наш язык, скромно отвечала:
— У твоих друзей, пекущихся о спасении твоей жизни.
Нежный, хотя и неправильный выговор юной Селимы заставил раненого обратить на нее свои взоры, и Победоносцев, пораженный красотою кабардинской княжны, почувствовал внезапно пламень в груди своей, сердце его забилось сильнее обыкновенного, и яркий румянец покрыл его щеки.
— Где я? — спросил он снова, — и кто ты, которая являешься ко мне и называешь себя моим другом?
— Я Селима, дочь кабардинского князя Узбека, — кротко и простодушно отвечала юная княжна. — Ты, раненный, попался к нему в плен, но, видя твое неимоверное мужество, он спас твою драгоценную жизнь, доставил тебя чрез своих людей к нам, приказал исцелить твои раны, содержать как сына и (краснеет)… мне именно поручил смотреть за тобою с этим врачом Бразиным.
Победоносцев, развлеченный различными чувствами, сказал тихо:
— В плену у кабардинцев… следовательно, рука моя, носящая булатный меч, мне изменила! (Смотрит на правую свою руку, хочет ее поднять, но она ему отказывается.) А, теперь я знаю, почему я здесь нахожусь! Итак, я разлучен — и может быть навеки — с моими родителями… с соотечественниками… с товарищами… и что важнее для меня — с славою, которая украсит лавровыми венками главы их; а я, несчастный пленник, — в это время буду влачить здесь оковы неволи!.. О, это ужасно!.. (Стирает левою рукою выкатившиеся из глаз его слезы.)
С е л и м а (нежно и с состраданием). Христианин! разве герои плачут? Но стыдно ли это!.. Ведь я тебе уже сказала, что ты у друзей своих. Разве ты мне не веришь?
П о б е д о н о с ц е в (растроганный). Верю, от всего сердца моего верю тебе, прелестнейшая княжна; но русскому такому воину, как я, весьма горько быть в неволе в то время, как мои соотечественники проливают кровь свою за царя и отечество[20].
С е л и м а. Да ведь ты уже и так много пролил ее для них: у тебя пять глубоких ран, и двадцать моих самых храбрых соотечественников, сраженных твоей рукой и лишившихся жизни, достаточны засвидетельствовать твою храбрость и покрыть славой геройское чело твое.
П о б е д о н о с ц е в (приметно слабея от напряжения сил в разговоре с княжною, тихим голосом). Благодарю тебя, прекраснейшая княжна, за доброе твое обо мне мнение! Ты оживляешь мою душу.
Б р а з и н (к Селиме, на своем языке). Ради Аллы, замолчите, светлейшая княжна! Ваш разговор ввергнет этого прекрасного и чувствительного воина в опаснейшее положение. Посмотрите, как он приметно слабеет от напряжения сил. Это очень невыгодно для его жестоких ран, кои имеют теперь воспаление и могут еще навлечь опаснейшую болезнь ему, и тогда смерть его неизбежна: а всему этому виною будете вы, княжна, а не копья и стрелы наши. Удалитесь на часок отсюда, пока он укрепится от лекарств моих, которые я ему сейчас дам принять; а то они уже не спасут его.
С е л и м а (бледная, трепещущим голосом, на своем же языке). О, Алла! итак, я погубила сего храброго и прекрасного юношу?.. О! тогда я не прощу себе… я знаю, как заплатить за сию мою неосторожность! Хорошо! я повинуюсь тебе, Бразин, — и хотя с горестию, но оставляю вас наедине с ним; но только умоляю тебя Аллою, спаси этого героя, и благодарная Селима не пощадит для тебя злата. (Хочет идти.)
Победоносцев, во время сего разговора не сводивший глаз своих с прекрасной княжны и знав их язык, как свой природный, заметил в ней великую перемену в лице и ужас, написанный на оном от слов, сказанных ей Бразиным. Восхищаясь ее чувствами и полагая в них будущее свое блаженство, сказал по-русски Селиме: «Прекрасная княжна, останьтесь здесь. Ваше отсутствие увеличивает болезнь мою и страдания. Я чувствую, что вы присутствием вашим даете мне новую жизнь и облегчите мои душевные и телесные силы». (Обращаясь к Бразину, на их языке.) «Почтенный врач! Не беспокойтесь так много о моем положении. Я русский воин, имею силу и твердость к перенесению жестокой моей болезни. Прошу вас, не отстраняйте отсюда прекрасной княжны: ее присутствие для облегчения моего необходимо, а притом она исполняет приказание своего отца. Я даю вам слово воздержаться от долговременного разговора. Давайте мне ваше лекарство, если полагаете это необходимым».
С е л и м а (в восторге и всплеснув руками). О Алла! Он знает язык наш! Какое счастие для Селимы!..
П о б е д о н о с ц е в (также восхищенный). Да, прекрасная княжна! Я знаю ваш язык столько же, как свой природный, и до сего времени нарочно не говорил им, имея на это свои резоны. Теперь вы узнали сию тайну и радуетесь этому; я также рад, что узнал из речей ваших, что вы изрядно говорите на русском языке. Со временем он очень будет для нас нужен.
С е л и м а (в некотором рассеянии и приложив к сердцу правую руку). Желаю от всего этого невинного сердца и души моей исполнения твоих намерении и, что ни случилось бы со мной, подвергаюсь пределам судьбы моей.
П о б е д о н о с ц е в (увлеченный восхищением и надеждой). Вы будете совершенно счастливы, прекраснейшая княжна. Я смею вас в этом уверить. Но оставим это до другого времени, пока узнаем короче друг друга. Княжна, знает ли Бразин наш язык?
С е л и м а. Нет, он ни одного слова не разумеет, что мы говорим, и вы всегда при моих домашних или сторонних людях говорите со мною на вашем языке, чтобы никто не разумел нас, если заключаться будет какая тайна в нашем разговоре. (Томно вздыхает.)
Во время сего разговора Бразин составлял для раненого свои лекарства, и Селима с любопытством надзирала за оным, потому что сама знала всю его силу, а притом и опасалась для больного вреда, ибо ей был небезызвестен характер ее соотечественников и ненависть их к христианам, а в особенности к русским.
Бразин дал Победоносцеву принять составленной им эссенции красноватого цвета и на несколько минут не говорить ничего, пока лекарство примет свои действия. Удивительный сей состав вскоре доказал свою силу: Победоносцев почувствовал какую-то вновь рождающуюся бодрость в душе его и уменьшение боли в ранах своих: сон неприметно стал смыкать его ресницы, и хотя он не спускал глаз своих с прелестной княжны, а она своих с него, но волшебная сила лекарства все превозмогла и он погрузился в крепкий сон.
Б р а з и н. Ну, теперь он проспит целые сутки, не надобно его тревожить: сон для него теперь всего полезнее, ибо он очень слаб от вытекшей крови из его ран; но к счастью, что родитель ваш, княжна, поспешил искусно перевязать его раны, которые, судя по тяжкому его дыханию, очень жестоки и опасны.
С е л и м а (со страхом). Опасны, Бразин! Следовательно, этот прекрасный христианин не может быть излечен твоим искусством и от них во цвете лет своих погибнет?
Б р а з и н. Я еще не осматривал его ран, а сужу по наружности. Завтра, когда перевяжу их, тогда вам, княжна, открою всю истину.
С е л и м а. Ради самого Аллы, заклинаю тебя пророком нашим Магометом, добрый мой Бразин! Употреби все твое искусство спасти жизнь этого юного и прекрасного героя. Отец мой тебя за это щедро наградит, я также не забуду до гроба услуг твоих.
Б р а з и н. Я рад, прекрасная княжна, пожертвовать вам не только всем моим знанием в лечении болезней, но и самой жизнью моей. Я — ваш раб нижайший, верный и усерднейший невольник; воля для меня отца вашего, а моего повелителя, и ваша священна. Но, княжна, могу ли вам сказать несколько слов, чтобы не навлечь вашего на себя гнева? (Опускает глаза в землю и, преклонив голову, кладет обе руки на свою грудь.)
С е л и м а. Говори и ничего не опасайся.
Б р а з и н (обрадованный, становится пред нею на колена). Призываю Аллу и великого пророка Магомета в том, что истину будут вещать уста мои, прекрасная княжна, пред тобой. Когда этого раненого принесли сюда, то я в это время был у князя Тамерлана, который родителю вашему предлагал о вашем с ним соединении. Сей прекрасный, юный и богатый витязь нашей страны был сегодня же привезен жестоко раненный в свой аул; он прислал за мной лошадь. Я нашел, что глубокая рана на груди его весьма опасна. Он сказал мне, что получил ее в сражении против русских гребенских казаков, от юного христианина, весьма храброго, который, предводительствуя своими казаками, множество самых лучших наших воинов лишил жизни и изуродовал. Он знает, что родитель ваш отправил его сюда для излечения, и я полагаю, что это не иной кто, как сей христианин (показывает на Победоносцева). Когда меня вы потребовали сюда в самоскорейшем времени, то князь Тамерлан, догадавшись о причине сего зла, переменился весь в лице и, протянув ко мне дрожащую руку, с умоляющим взором просил сказать вам, прекрасная княжна, что тот, кто пролил кровь его и, может быть, открыл путь в могилу, христианин, пренебрегаемый правоверными и ненавидимый великим нашим пророком, неужели будет предпочтен ему в вашем сердце, которое для вас одной билось? «Скажи, Бразин, скажи прекрасной Селиме, — примолвил он со слезами, — чтоб она опасалась, как злого духа, сего христианина, который приведет ее на край глубокой пропасти и затворит навсегда для нее двери в рай Магометов, в небесное жилище гурий. Скажи также, что я тогда лишу сам себя жизни, и будет тому виною она одна».
С е л и м а. Встань, Бразин. Я очень верю, что Тамерлан меня любит и ищет со мною соединения: но, невзирая на все достоинства, описанные в нем тобою, я никогда не желала соответствовать его любви. Увидевшись с сим князем, скажи ему от меня, что я благодарю его за советы: но как я должна вполне исполнить малейшие приказания моего отца, то, что бы со мною ни произошло, не должно наносить Тамерлану скорби, а еще и того более отчаянья, ибо я никогда не расположена любить его и быть его женою. Но смотри, Бразин, чтоб эти слова твои были в последний раз предо мной, а то ты подвергнешься жестокому гневу моего отца, если я открою ему твою дерзость. Я знаю, что Тамерлан ненавистник христиан и жестокий юноша. Он, может быть, не пожалеет золота, чтобы подкупить тебя уморить сего храброго воина или даже послать убийц лишить его жизни. Тогда смотри: самая ужасная казнь тебя ожидает, а его — вечное мщение моего отца и моя до гроба ненависть! Слова твои в пользу Тамерлана заставляют меня к тебе иметь подозрение, и потому отнюдь без меня не смей давать этому раненому своих лекарств и перевязывать ран без присутствия присланного мною невольника!
Бразин трепетал всем телом, ибо совесть его точно не была чиста, когда Тамерлан посулил ему двести червонных и подарил двадцать пять впредь, если он прекратит жизнь ненавистного его врага, Победоносцева, коего мужество и красота заставляли Тамерлана мучиться жестокой ревностью, воображая, что князь Узбек, благоволивший о сем христианине, верно, имеет намерение, обратив его в их веру, женить на Селиме, которая, знав русский язык, легко может быть прельщена словами и красотой ненавистного его соперника. Он умолял княжну простить ему в его дерзости и быть уверенной, что он за все сокровища света не согласится ей изменить, и докажет то скорым выздоровлением раненого.
С е л и м а. Хорошо, я увижу это из последствия твоего с ним обращения, чего ты достоин — награды или наказания. Останься при раненом, пока я схожу домой. Я сейчас сюда возвращусь.
Б р а з и н (смотря за Селимою). Я знаю причину твоего гнева и ненависти к Тамерлану! Этот негодяй обворожил тебя своею красотою я словами на его языке. Жаль, что я не знаю оного, а то бы другие принял меры разлучить вас при самом начале. (По некотором молчании.) Гм! Потерять двести червонных — это ужасно!.. Да и для кого же? Для врага веры и отечества!.. Ну, кабы ты, хитрая Селима, да не знала силы лекарства, которого тайну я тебе, на мою погибель, открыл, то завтра же бы этот русский лежал в сырой земле. Теперь делать нечего — голова мне дороже этих денег! Я знаю, каковы наши кабардинки: она, не дождавшись отца, вонзит кинжал в мое сердце, если заметит какую-либо во мне измену.
Селима, возвратясь с невольницей и невольником, несшими разные питья и кушанья для раненого, если он, проснувшись, пожелает пить или что-нибудь скушать, обратясь к невольнику, сказала:
— Малек! Не отлучайся никуда отсюда и, если что случится с этим больным, беги ко мне и чрез Фатиму дай знать мне: я на верность твою надеюсь, как на самое себя. За это ты не останешься без награды.
М а л е к. Ваши приказания, прекрасная княжна, для меня священны! Вы можете в этом поверить нижайшему вашему рабу. (Низко кланяется.)
С е л и м а. Бразин, пекись со тщанием об этом русском воине. Отец мой уведомил, что чрез три дня он приедет нас посетить. Смотри оправдай его надежды и свое искусство.
Б р а з и н. Прекрасная княжна, будьте надежны; я ручаюсь за свое искусство, если только не приобщится к ранам другая болезнь.
С е л и м а. Надобно стараться не допустить оную; а притом я замечаю, что этот русский воин самого крепкого сложения: может быть, сие воспрепятствует приобщиться другой болезни. (К невольнице.) Пойдем, Фатима! Я рано завтра приду навестить вас и сейчас пришлю вам кушанья, питья и постели. Огонь не тушите: пускай горит всю ночь у вас, вы по переменкам сидите подле раненого. (Покрывает его прекрасным шелковым, одеялом, ее руками вышитым, и поспешно уходит.)
Б р а з и н (по уходе их). Любезный Малек! Вот как пекутся наши повелители о христианах, а подданные, правоверные мусульмане, умирают без всякой помощи! Удивительно!
М а л е к. Тут ничего нет удивительного, Бразин. Князь наш, любивший отличать мужество и подвиги героев, полюбил этого русского и повелел спасти жизнь ему. Мы не знаем, какие его намерения. Да и почему же быть не так? Разве христианин не такой же человек, как и мы? Наших более попадается к ним в плен, а их весьма хорошо русские содержат, не так, как у нас: мучают работой, побоями и заставляют переменить свою веру. У них этого не делается, разве сам магометанин того захочет.
Б р а з и н. Да, я бишь и забыл, что ты любимец русских и княжны, которую ты спас из челюстей хищного зверя. За эту услугу можно бы тебя наградить не тем.
М а л е к. Я исполнил долг мой и довольно этим награжден; притом же я всегда пользуюсь князя и княжны особенными милостями, а это я более всего на свете уважаю.
Б р а з и н (сжав губы, про себя). Подлый раб, и тот дает мне уроки! (Осматривает больного.) Малек! Уже полночь: я немного засну, а ты посиди; коли больной проснется, разбуди меня. Почаще поглядывай на него.
М а л е к. Спи, Алла да будет над тобою; я, пожалуй, и всю ночь просижу один.
Б р а з и н. Тем лучше; а я, право, люблю поспать.
М а л е к. По обыкновению вашей братьи и когда больной требует вашей помощи при последних минутах своей жизни, то вы зеваете или спите.
Б р а з и н (засыпая). Мели что хочешь, а я буду спать.
На другой день, лишь только утренняя заря разостлала свой розовый ковер на восточном небе для встречи сияющего солнца, то Селима уже была при входе в кибитку больного, устремившего туда свои алчущие взоры, без сомнения, ждущие сей прекрасной княжны.
Селима с величественною осанкою входит в кибитку, в черной одежде, подпоясанной золотым с каменьями поясом, обнимавшим ее стройную, гибкую и тонкую талию. Грудь ее закрывала сетка из червонцев, шею украшало бриллиантовое ожерелье, а голову — зеленая бархатная шапочка, унизанная крупными перлами с бриллиантовой же пряжечкой, коею было приколото с левой стороны белое страусовое перо, загнувшееся чрез верх шапочки на правую сторону. Маленькие ноги обуты в сафьянные алые сапожки, вышитые золотом. Белый флер с левого плеча, наискось, был бантом завязан с правой стороны груди. Победоносцев запылал весь в огне, сердце его забилось от радости, удивления и восхищении. «Что вижу? — восклицает он. — О милый призрак! Ты являешься мне для того, чтоб утешить меня в предсмертный час моей жизни».
И он готов устремиться к ней с распростертыми руками, но силы его оставляют, и он снова падает на кровать. «Нет, это мечта воображения, — продолжает он, — обман чувств, взволнованных жаром крови!»
Потом, всматриваясь пристально в Селиму и приходя в чувство, он говорит:
— О, кто бы ни была ты, смертная или существо неземное, но появление твое утешительно для моего сердца! Умоляю тебя, не удаляйся, помедли здесь хоть несколько минут; я чувствую, что присутствие твое облегчает мои страдания, чувствую, что, смотря на тебя, я отраднее закрою навеки глаза мои.
С е л и м а. Добрый воин! Я не призрак, я такая же смертная, как ты. Я сама почла тебя за неземное существо, как ты меня, и мы оба ошиблись. Если же тебе приятно мое присутствие, то я с радостию готова уделить тебе мое время, но не за тем, чтоб ты закрыл глаза, а за тем, чтоб ты жил для моего счастия, потому что приятные черты лица твоего глубоко напечатлелись в моем сердце, и одна только смерть может прекратить мою пламенную страсть к тебе; при первом моем взгляде я отдала тебе все мое существование… но я боюсь, чтоб ты не отвергнул любви моей (потупляет вниз печальные взоры).
П о б е д о н о с ц е в. Что я слышу? Не обманывает ли меня слух мой? Какие утешительные слова! Ах, повтори, повтори еще раз, что сказала ты! Милый голос твой снова призывает меня к жизни, которую любовь твоя обещает украсить для меня всеми благами; но, чтоб отвергнуть любовь твою, отвергнуть то, что для меня всего драгоценнее в мире, надо быть лишену чувств человеческих и иметь сердце подобное камню. Нет, я так люблю тебя, что даже не верю теперешнему моему счастию и даже признание твое почитаю игрою слов.
С е л и м а. Нет, это не игра слов, а настоящая истина. Хочешь ли, я это сейчас тебе докажу? Но нет, сперва выздоравливай, а то я вижу большие перемены в твоем лице, которое то покрывается розами, то бледнеет, как лилия. Тебе удивительно, что я сегодня так богато одета: сегодня — мое рождение. Я хочу испытать ныне планету своего счастья. Но скажи мне, Андрей (так звали Победоносцева), перевязывали ли твои раны?
П о б е д о н о с ц е в. С час времени.
С е л и м а (с горестию и сожалением, к Малеку). Я думаю, он жестоко страдал и кричал?
М а л е к (с веселою улыбкою). Недаром наши называют русских железными воинами! Наш раненый, при жестокой операции, деланной ему Бразиным в глубоких его ранах, ни разу не охнул, не поморщился и ни одного раза даже не вздохнул, но еще с улыбкою сказал нам с Бразиным: «Однако ж и ваши кабардинцы не умеют шутить в сражениях. Я думаю, они унесли у меня здоровья лет на десяток; но я за это на них не сержусь, это право войны!»
С е л и м а (с удивлением пожимая плечами). Чудеса!.. (К Бразину, тихо.) Что, Бразин, есть ли надежда на излечение?
Б р а з и н (также тихо). Теперь я этого совершенно утвердить не могу; посмотрим, что произойдет чрез шесть дней: коли не присовокупится другая болезнь, то я ручаюсь за его выздоровление. Раны его очень опасны, в особенности на груди и в правой руке; он хотя и выздоровеет, но жестоко будет страдать грудью и худо владеть правою рукою. А притом надобно еще прибавить, только не огорчитесь, княжна, что он недолго проживет и в младости лет своих увянет, и хотя вновь расцветет, но не для света, а для могилы.
С е л и м а (с ужасом). О, Алла! Ты вдруг двух твоих созданий прекратишь жизнь!
Бледная, обращает печальные, слезами наполненные глаза, на Победоносцева, который, не спуская своих с нее, старался вслушаться в ее разговор с Бразиным.
П о б е д о н о с ц е в. Успокойтесь, прелестнейшая княжна! Я лучше знаю Бразина свое положение и уверяю вас, что я, к несчастью, выздоровлю, хотя бы желал сию же минуту умереть пред вашими взорами; ибо, потеряв все надежды на будущее блаженство, я точно недолго проживу: ужасная тоска и отчаянье откроют мне гроб!
С е л и м а. Какие ужасные слова! Какие неприличные желания такому герою, как ты! Если ты уже потерял свое блаженство в отечестве твоем, то мы постараемся вновь доставить его тебе здесь, если только душа твоя столько же прекрасна, как и лицо твое, и если сердце свободно от известной страсти. Нет, мы не дадим тебе умереть в стране нашей: ты увидишь своих родных и соотечественников, и может быть, если последуешь моим советам, то еще и не один.
П о б е д о н о с ц е в (в восхищении). Не сон ли обворожает мои чувства? Не голос ли иного мира вливает в сердце мое столь усладительные уверения? О Селима! Да наградит тебя Бог за мое спасение!
С е л и м а. Я пойду ненадолго к моей матери и сестрам: они ждут меня. Часа через два я приду сюда и буду здесь с тобой обедать. Я хочу провести этот день с тобою.
П о б е д о н о с ц е в. О несравненная Селима! Какой радостию наполняешь ты мою душу, какой целительный бальзам слова твои вливают в раны моего сердца! Чем мог я заслужить это? Чем могу возблагодарить тебя, прелестная Селима?
С е л и м а. Об этом поговорим после. Теперь до свидания, прощай! (Уходит.)
П о б е д о н о с ц е в (про себя). Неподражаемое создание! Одно слово, один небесный взгляд голубых глаз твоих, один вздох в прелестной груди твоей, вмещающей такое же сердце, одна улыбка прекраснейших розовых уст обворожают все мои чувства и приводят меня в неизъяснимый восторг! Неужели обрел я здесь такое сокровище, которого всюду тщетно искал? О, мне позавидует и первый счастливец в мире, когда такая несравненная красота будет принадлежать мне! (Задумывается.)
Не прошло и двух часов, как Селима опять явилась, но не в той, а в другой одежде. Теперь одежда на ней была зеленого цвета, а шапочка на голове — черная, столь же богатая, как и прежняя.
Высокую грудь ее не обременяли уже червонцы, а накинут был прозрачный белый флер, сквозь который можно было заметить скрывающиеся прелести, к груди ее приколота была едва распустившаяся горная роза.
П о б е д о н о с ц е в. Какие прелести! Верно, и у кабардинок зеленый цвет служит эмблемою надежды, а розовый — верности. Этот цветок, спорящий со своей владетельницею в красоте, верно, не завянет на груди ее!
С е л и м а. Видишь, Андрей, как я верна в своем слове. Как ты себя теперь чувствуешь?
П о б е д о н о с ц е в. Как нельзя лучше! Я оживотворяюсь твоим присутствием, прелестная Селима: да и могу ли что иное чувствовать, кроме радости, когда ты в глазах моих?
С е л и м а (краснея). Благодарю тебя, добрый Андрей, и надеюсь, что мы, короче с тобою познакомясь, найдем утешение друг в друге, а может быть, и вечное блаженство в сей жизни.
П о б е д о н о с ц е в. Дай бог, чтоб это случилось! О! Тогда бы я истинно назвал себя благополучным.
Сей день Селима была безотлучно при Победоносцеве и сама из своих рук, белейших снега, подавала лекарства и питье раненому и так мило, так невинно смотрела ему в глаза, что у больного сердце от радости замирало. Он два раза поцеловал ее руку.
Через три дня Победоносцеву стало гораздо легче, и Селима, пришед к нему вместе с солнечным восходом, приказала Бразину с Малеком удалиться, пока она их позовет, и, оставшись наедине с нашим героем, села подле него у постели, поджав ноги свои, по обыкновению азиатцев, и устремила на него нежный и любопытный взор.
П о б е д о н о с ц е в. Милая, прелестная Селима! Верно, ты мне хочешь открыть какую-нибудь тайну!
С е л и м а. Ты угадал, Андрей! Очень, очень важную; но если я ошибусь в твоих чувствах, то погибла навеки!
Отирает алмазные слезы с розовых ланит своих и тихо вздыхает.
П о б е д о н о с ц е в. Прекрасная княжна, сколько бы ни была важна тайна, которую ты мне хочешь открыть, но поверь, что я сохраню до гроба ее в душе моей и сердце. Говори, милая Селима, говори! Я не могу видеть сих драгоценных слез, проливаемых тобою.
С е л и м а (нежно улыбаясь). Я с первого взора твоего заметила, что ты полюбил меня. Правда ли это?
П о б е д о н о с ц е в. Истинно, милая Селима, что с первого на тебя взгляда я почувствовал к тебе самую пламенную страсть, — и думаю, если меня судьба с тобой разлучит, то я умру с отчаяния.
С е л и м а (краснея). И я также, ибо полюбила тебя всей моей душой! Нам надобно принять меры, чтобы с тобой вовеки не разлучиться. Согласен ли ты на это?
П о б е д о н о с ц е в. Если только удостоюсь сего счастия.
С е л и м а. Это очень легко. Отец мой, тебя полюбив, приказал мне хранить тебя, как его самого, и поручил мне важную комиссию, которая приводит меня в трепет, если не исполнятся его и мои намерения.
П о б е д о н о с ц е в. Прелестная Селима! Но что это за тайна, что за намерении? К кому они именно относится?.. Бога ради, говори скорей! Я вижу, ты вся трепещешь… говори!
С е л и м а. Хорошо, и тебе повинуюсь. Слушай и отвечай после мне со всей откровенностию. Когда тебя отец мой, жестоко раненного, спас от неминуемой смерти и прислал для излечения в наш аул, то чрез посланного приказал мне именно сказать, чтобы я пеклась о тебе как об нем самом, старалась бы обратить тебя в нашу веру, конечно для того, что он, прельщенный твоим видом и великой храбростию, желает моего с тобой соединения, без чего никак не должно мне быть твоею женою, ибо различие наших вер полагает сему непреодолимые преграды. Теперь говори, хочешь ли ты исполнить его и мои желания: принять наш закон и веру и принадлежать мне одной, быть со мной неразлучным до самой могилы?
П о б е д о н о с ц е в (побледнев). Милая Селима! Я люблю тебя более моей жизни и готов сию же минуту ей тебе пожертвовать, но переменить веру православную моих предков и родителей, сделаться изменником в принесенных обетах моему Спасителю Христу, моему государю и отечеству, которые отвергнут меня от своего лона, и имя мое сделается ненавистным между моих соотечественников, запятнает славу и честь моих престарелых и добродетельных родителей, у которых я один сын и наследник богатого имения: нет, прекраснейшая Селима, нет! Я не могу, я не смею на это решиться и невзирая даже на самую мучительную смерть, ибо мне честь и слава дороже всего на свете. Вот тебе, прелестная княжна, мой откровенный ответ. Он решителен и сообразен с моей душой и сердцем и обязанностию верноподданного к Российскому престолу; но клянусь тебе небом, что, невзирая на различие вер наших, я тебя буду вечно обожать и, если судьба нас навеки разлучит, умру холостым и, нося прелестный образ твой в моем сердце, пребуду верным тебе до гроба!
С е л и м а (с ужасом). Все решилось, и мне должно умереть!.. (Плачет.)
П о б е д о н о с ц е в. На что так отчаиваться, прекрасная Селима? Бог милосерд; он нас не оставит и подаст терпение в нашей разлуке и страданиях! А притом, мы не в последний еще раз видимся здесь с тобой, время все покажет, а утвержденные узы любви клятвою — любить друг друга до могилы облегчат наши мучения и приведут на какой-нибудь конец.
С е л и м а (рыдая). Конец известен, что надобно мне умереть! Ибо, потеряв все надежды к моему с тобой соединению чрез твое отриновение, мне жизнь стала в тягость. Одна секунда — и сей острый кинжал, который виден за моим поясом, сделает мне сию услугу и пронзит сердце твоей несчастной Селимы.
П о б е д о н о с ц е в (с ужасом). Что говоришь ты, Селима? Слова твои ужасают меня! Как! С таким светлым умом, и ты можешь предаваться такому отчаянию! Умоляю тебя, выкинь из головы такую ужасную мысль, которая разрушила бы все наши надежды на будущее, еще не совсем исчезнувшие и могущие осуществиться. Будь терпелива, милая Селима! Счастие еще блеснет для нас яркою звездою, жизнь еще улыбнется нам, судьба подарит меня тобою, и я с восторгом прижму тебя к моему сердцу. Ах, если б ты узнала короче исповедуемую мною религию и закон, милая Селима, то бы ты полюбила всем сердцем моего Бога, великого Бога христиан и матерь его Святую деву Марию, покровительствующую добрым и приводящую на путь истины и исправления грешных! Какие сладкие чувства! Какой небесный восторг вливает в нас православие христианской веры и ее учения, учения нашего Христа, пришедшего с небес искупить нас своею кровию и смертию на кресте от муки вечной!
Селима, с вниманием слушая Победоносцева, пребыла несколько минут в рассеянном размышлении о словах его:
— Я полагаю из твоих изъяснений, что религия ваша гораздо превосходнее нашей и должна в отправлении церковных обрядов быть величественна. Ах! Если б я имела власть, то поехала бы с тобою в твое отечество, которое должно быть прекраснее наших диких гор и ущелий, наполненных хищными зверями и плотоядными птицами. Но ты знаешь, Андрей, что я связана законом и родительскою властию. Отец мой сегодня к нам придет навестить нас: он, во-первых, спросит: какой я получила ответ от тебя в рассуждении перемены веры? Ты научи меня, милый, добрый мой Андрей, что я должна ему сказать?
П о б е д о н о с ц е в. Не уверять решительно в исполнении надежд на мое обращение в магометанство, а подать ему мысль, что, может быть, время сделает меня его сыном и другом нашего народа. Если же он будет об этом спрашивать, то я уже знаю, ему что отвечать.
С е л и м а. Это прекрасная выдумка, однако же делает меня обманчивою дочерью пред моим родителем. Мне это очень прискорбно, ибо уста мои никогда не говорили лжи, не только пред ним, матерью и родными, но даже и пред посторонними людьми. Но делать нечего: любя тебя всем сердцем, я повинуюсь воле твоей, как, может быть, будущему моему супругу и повелителю.
П о б е д о н о с ц е в (в восхищении). Милая несравненная Селима! Друг души моей! О ты, которая владеешь всем моим существованием и жизнию, прими клятву в вечной моей к тебе любви и верности!
С е л и м а (краснея тихо). И мою также…
Преклоняет пламенное лицо свое к раненой груди Победоносцева, и тот осмеливается напечатлеть на розовых устах ее самый пламенный, первый поцелуй страстной любви, а Селима, стремительно вскочив, устремляет на него недовольный взор.
— Андрей! — говорит она, — я не люблю таких дерзостей и очень ошиблась, почитая тебя мужчиной, умеющим уважать прекрасный пол. Откровенное и невинное мое с тобой обращение довело тебя до такой вольности. Я теперь очень сердита на тебя и долго к тебе не приду.
П о б е д о н о с ц е в (с умильным взором). Прелестная княжна! Прости меня, что я в пылу моих чувств к тебе не мог себя удержать. Признаюсь, что во время военных действий я умел остановить напор неприятелей, превосходивших нас силами, но остановить порыв чувств моих к тебе я не в состоянии. Итак, я объявляю себя твоим пленником, ты можешь располагать мною, как тебе угодно; лишь одного прошу у тебя — не лишай меня счастия здесь тебя видеть, оживляться твоею красотою, твоим милым взором…
С е л и м а (которая, видя замешательство Андрея, сжалилась над ним). Бедненький, ты в самом деле поверил моим словам и переменился в лице: между тем как в чертах твоих не выражалось ни малейшего страдании, когда ты чувствовал жестокие мучения от ран! Это доказывает мне теперь, что ты истинно меня любишь (протягивает к нему руку). Мир! Я тебя во всем прощаю, милый мой Андрей! Успокойся. Я нарочно пошутила, чтоб испугать твои чувства.
Победоносцев берет ее руку, покрывает ее пламенными поцелуями и тихо восклицает:
— О Селима! Нет, я не могу жить без тебя! Ты одна можешь составить мое блаженство! Ты или никто в мире!
С е л и м а. Все равно: и я только тобою одним могу быть счастлива. Ты — или никто не будет моим супругом! Слово мое неизменно и верно. Но мне пора идти к своим; я дам тебе знать, когда приедет отец мой. Приготовься принять его с тою доверенностию, дружбой и любовью, какую он у тебя заслужил и какую ты оказываешь к любимой дочери. (Улетает как зефир.)
По уходе Селимы Победоносцев был вне себя от восхищении. Он теперь узнал совершенно чувства прекрасной княжны. Они родили в нем восхитительную мысль обратить ее в христианство и уговорить бежать с ним в его отечество. Сие намерение и сладкие надежды на будущее свое блаженство поселили в душе его радость и много содействовали к его скорому выздоровлению.
Селима, возвратись в свою комнату, также радовалась, узнав, сколь нежно и пламенно любит ее Победоносцев. Грудь ее волновалась, как тихие волны реки, колеблемые весенним ветром. Сердце милой и прекрасной сей девушки билось, как маятник в часах. Жаркий поцелуй Андрея еще пламенел на алых устах ее. Она видела разливающийся румянец на щеках Андрея; взгляды и все движения доказывали ей, что он только ею дышит. Но при всей радости какая-то непостижимая грусть тяготила ее душу, когда она вспомнила слова Бразина, что Победоносцев не для света, но для могилы вновь расцветет. Это ужасно поразило ее нежное сердце — и слезы брызнули из глаз ее. «Но что бы со мною и с ним ни случилось, я решилась уже принадлежать ему, прекрасному юноше. Пусть один удар сократит жизнь нашу!»
Солнышко село за высокие горы кабардинские, и дымчатый покров вечера спустился на землю. Шумные волны реки Терека, в отдалении текущего, сливались с песней соловья и других птиц. Блестящие стада овец и мычащих коров в большом количестве с тучных своих пажитей стекались под свои кровы. Вдалеке еще раздавались глухие соло ревущих орудий и гулы от скачущих всадников. Но вскоре все это умолкло, и ночь разостлала свой темный ковер на все предметы.
Вдруг раздался радостный крик в ауле, и князь Узбек с многочисленною свитою явился у своего жилища. Он повергся в объятия своих жен и детей и проливал слезы нежности. Сей князь любим был всей страною за свои добродетели, бескорыстие и мужество. Он никогда не делал со своими людьми набегов на русские селенья и деревни, но во время войны и опасности, угрожающей его отечеству, первый являлся на бранное поле.
Когда радости восхитительного свидания утихли, он тихо спросил у Селимы, каков раненый христианин, есть ли ему лучше и есть ли какая-нибудь надежда на его обращение в их веру, что он поручил ей исполнить?
— В столь короткое время я не могла еще совершенно узнать мысли этого воина, — отвечала Селима. — Но кажется, что он с удовольствием слушал мои предложения; следовательно, нельзя сомневаться в успехе сего намерения.
У з б е к. Продолжай, Селима, продолжай, милая дочь моя, внушать ему мысли в самом восхитительном виде о нашем законе. Твоя красота и ум много могут споспешествовать самому пламенному моему желанию — видеть его твоим супругом. Этот мужественный воин, со столь прекрасною наружностью, доставил бы мне сладчайшее счастие назвать его своим сыном.
С е л и м а (краснея). Ваша правда, родитель мой, что этот христианин истинно достоин вашей и моей любви. При всей красоте своей он имеет обширный ум и нежное, доброе сердце и душу.
У з б е к. А какой храбрый воин-то, я еще в жизнь мою не видывал таких! Самые лучшие ратоборцы из моей дружины от могучей руки его пали мертвыми; его ужасный меч рассекал панцири и шлемы наших воинов. Он, окруженный нами, казался крылатым змеем, и удары его, подобные грому, с быстротою обрушивались на главы кабардинцев. Кровь лилась из ран его ручьями, но он еще все сражался против великого числа наших латников. Наконец меч выпал из руки его, и он уже падал с коня своего, когда я, подхватив бесчувственного, приказал снять с коня и сам, перевязав его раны, велел отнести сюда и поручил тебе за ним присмотреть, ибо знаю довольно характер моих соотечественников, которые бы его умертвили если не явно, так тайно. В особенности князь Тамерлан, твой жених, юноша коварный и жестокий, который, соединяя своих подданных с моими и надеясь на свою силу и искусство в ратоборстве, схватился с этим христианином в надежде воспользоваться славою победы; но сей воин с одного маху поразил его в грудь столь метко и ужасно, что Тамерлан взревел и телом своим покрыл хребет коня своего.
С е л и м а. Вот истинный герой, о котором, я думаю, жалеют русские военачальники, а в особенности его подчиненные!
У з б е к. Это правда. Его казаки, увидав, что их начальник погиб в сражении или взят в плен, с отчаянием бросились на наших панцирников и произвели страшное кровопролитие. К ним подоспели на помощь егери, или, как наши их называют, пьяные солдаты, и мы принуждены были с уроном отступить. Он есаул Гребенского казачьего полка. Эти казаки из всех казаков есть у русских самые лучшие воины. Они наши соседи, носят одинаковую с нами одежду и оружие, и почти каждый из них знает наш язык.
С е л и м а (скоро). Да, и Андрей им говорит так же, как и на своем природном языке.
У з б е к (с радостию). Тем для нас лучше — это облегчит твое с ним объяснение и разговоры. Но пойдем, Селима, я хочу видеть этого храброго христианина.
С е л и м а. Погодите немножко — я дам ему знать о вашем прибытии и желании, чтобы нечаянное ваше посещение не было вредно его ранам.
У з б е к. Это умно. Пошли же сейчас к нему.
С е л и м а (уходит и чрез несколько минут, возвратясь). Пойдемте, он рад вас видеть и просит удостоить его сей чести.
У з б е к. Пойдем, Селима.
Берет ее за руку и идет к кибитке нашего раненого.
При входе отца с дочерью Победоносцев весь вспыхнул в лице, от различных чувств, его занимающих, но с веселою улыбкою протянул свою левую руку к князю Узбеку.
У з б е к. Здравствуй, добрый Андрей! Здравствуй, друг мой! Что, хорошо ли тебя у меня содержат? Есть ли тебе легче и доволен ли ты приставленной мною к тебе этой (показывает на Селиму) надзирательницею?
П о б е д о н о с ц е в (с чувством). Благодарю тебя, добрый князь, за все твои милости и попечения обо мне! Ты спас меня от смерти и даровал счастие узнать твои достоинства и добродетели, с небесной красотой твоей дочери, которой неусыпные старания обо мне более действуют на мое выздоровление, нежели все лекарства искусного твоего врача Бразина.
У з б е к. Сердечно этому рад, но еще более буду восхищен и благодарен тебе сам, если буду иметь счастие назвать тебя моим сыном.
П о б е д о н о с ц е в. Вы уже получили на это титло неоспоримые права; ибо спасли жизнь мою, тогда как сами подвергались опасности потерять свою от руки моей. Все это доказывает ваше превосходное сердце и душу, и благородный поступок ваш принес бы честь и христианству. Я не останусь у вас в долгу и постараюсь заслужить ту дружбу и любовь, которыми вы меня почтили.
У з б е к (тронутый до глубины души, пожимает руку раненого). Алла да утвердит сей узел неразрывною цепию нашего соединения в одну веру и семейство. Андрей! Ты достоин сей участи, тебя ожидающей. С рукою Селимы предоставляю тебе и все мое несчетное богатство, если ты сделаешься магометанином и моим сыном; паче чаяния, если же отвергнешь мои дружеские и отеческие предложения, любовь, попечение и прелесть Селимы, которой нежные чувства я очень знаю; то клянусь пророком нашим Магометом, ты повсюду, невзирая на различие вер наших, останешься для меня другом и до конца оной незабвенным в моем сердце! Но в таком случае Селима никогда уже не будет твоею супругою. От воли и чувств твоих зависит избрать то или другое.
П о б е д о н о с ц е в. Почтенный князь! Перемена религии есть важнейший предмет, долженствующий занимать все наше существование. Может быть, другой принял бы с радостию ваше предложение, прельстясь красотою Селимы и вашим богатством; но я, твердо наставленный в законе христианском и в вере моих предков, почитаю их для себя священными. Но чтоб не быть противу вас неблагодарным, я хочу подробно узнать учение вашего алкорана и тогда, сравнив обо веры, дам мой вам решительный ответ о моем мнении и намерениях. Я знаю хорошо ваш язык, умею на оном читать и писать: это облегчит мое учение; но мне нужны вашего алкорана в других мостах объяснения, которые мне покажутся темны или невразумительны. Кто же будет моим наставником?
Читатели мои здесь, может быть, подумают, что герой мой, прельщенный красотой кабардинской княжны и богатством отца ее, чувствуя к одной пламенную любовь, а к другому признательность и дружбу, повергается в расставленные ему сети, ибо алкоран заключает в себе восхитительные награды мусульманам, но все таковые ошибутся: хитрый, умный, но воспитанный и утвержденный в законе христианском, мой герой выдумал это для того, чтобы лучше опровергнуть учение Магомета разумными доводами, ибо он предчувствовал, что учительницею его будет Селима, которой присутствие для него необходимо, и которой внушив лжеумствования их Магомета, он хотел ее обратить в нашу веру.
У з б е к (с восхищением). О Алла! Прославь своего великого пророка и просвети светом правоверия очи и душу сего любезного юноши и героя! (К Селиме.) Милая дочь! Беги скорее и принеси алкоран пророка, который хранится в моей комнате. (Селима убегает.)
У з б е к. Я уверен, мой любезный Андрей, что это писание нашего великого пророка заставит тебя благоговеть пред ним и предпочесть нашу веру — чего я от всего своего сердца желаю.
П о б е д о н о с ц е в. Я это увижу. Но кто же будет моим наставником?
У з б е к (догадавшись о желаниях нашего героя, грозит ему с усмешкою пальцем). Плутишка! Я знаю, кого ты желаешь избрать им!.. Верно, Селиму, не правда ли?
П о б е д о н о с ц е в (покраснев). Здесь нужен мне учитель, знающий хорошо ваш закон и умеющий толковать его.
У з б е к (с улыбкою). Селима лучше нашего муллы знает закон магометан, она будет твоею учительницею. Доволен ли ты этим?
П о б е д о н о с ц е в (с радостию). Как нельзя больше. Такая прекрасная учительница одна в силах сделать из невозможного возможное. За это благодарю вас, добрый мой благодетель!
У з б е к (с тайным видом). А это самое отвлечет подозрение моих домашних и подданных, которые осуждают меня за то, что я, вопреки нашей веры, закона и обычая мусульман, питаю к тебе отеческую любовь и позволяю дочери моей ходить за тобою, когда не только это запрещено нам алкораном, но даже женщины и девицы нашей веры должны закрывать лицо свое не только от христиан, но даже и от своих единоверцев. Кроме моих домашних и тебя, еще ни один смертный не удостоился видеть красоты моей дочери.
П о б е д о н о с ц е в. Это, для меня кажется, сделано весьма благоразумно в сих постановлениях вашего закона; ибо красота часто привлекает к себе разного свойства людей, иногда недостойных, которые, заразясь ею и не имея никаких средств обладать обожаемым предметом, ищут непозволенных средств вовлечь свою любовницу в расставленные хитростью их сети и потом погубить навеки.
У з б е к. Я с тобой согласен. Не видя лица женщины и девицы, мужчина боится ошибиться в своем выборе — и потому у нас невинность не подвергается опасности искушения, как у европейцев, где все открыты прелести, как будто на продажу драгоценный товар.
П о б е д о н о с ц е в. Оставим это. Князь! Теперь скажите мне откровенно, какой вид имеет брань русских с кабардинцами и что вы думаете о моих соотечественниках и ваших намерениях, к продолжению или прекращению сей войны?
У з б е к (тяжело вздохнув). Любя тебя, как сына, почитая твою храбрость, которой я был очевидным свидетелем, я тебе откровенно скажу, что я весьма уважаю мужество и благоразумные распоряжения русских военачальников и их подчиненных. Они везде имеют преимущество перед нами и всегда остаются в выигрыше. Эта пагубная брань с вашими не доведет до добра кабардинцев. Мы уже потеряли великое число самых лучших воинов, падших от руки русских. Ты сам десятка два скосил их. Но никого из них так не жалко мне, как юного Рамира, воина отлично мужественного. Твой меч прошел сквозь его панцирь прямо в мужественное его сердце, и он пал мертвый от руки твоей с гордого коня своего. (Отирает слезу.) Я его любил так же, как люблю теперь тебя. Ты один должен мне заменить эту горестную потерю. Он был сын мой! Одна Селима знает эту тайну. Но мать его и домашние полагают его еще в живых. (Грустно вздыхает.)
П о б е д о н о с ц е в (с изумлением). Ваш сын! Ах, как жаль, что он попал под острие моей сабли! Но что делать, князь, в пылу ли сражения разбирать, кого поражаешь из противников? Он, как мой неприятель, конечно, искал также и моей погибели; но судьба решила иначе. Вы могли бы мне отмстить за него, но я уверен, что вам известны права войны, и так как вы уважаете храбрых, то я надеюсь, что смерть вашего неустрашимого сына вы не сочтете мне в вину.
У з б е к. Я с тобой согласен: права войны это извиняют; но успокойся, мой добрый Андрей! Ты меня и его, а мы тебя еще не знали и сражались между собою как непримиримые враги. Рассуди, если б твой сын, брат или отец пали от руки нашей в той кровопролитной битве, то мог ли бы ты ненавидеть нас за то, что мы, защищая жизнь свою, их поразили? Следовательно, ты отнюдь не помышлял об этом невинном преступлении. Сын мой умер со славою воина от руки героя и показал мне в последний раз свою ко мне любовь и храбрость. Когда я хотел с тобой сразиться, он не допустил меня до этого и просил у меня позволения испытать свои силы с твоими. Я, несчастный, похвалил его поступок: он в мгновение пускает своего гордого коня к тебе, у вас произошел самый смертный поединок. Я в эту минуту трепетал всем телом, и душа моя содрогалась от отчаяния, когда ваши быстрые удары мечей, встречаясь, испускали гром. Рамир нанес тебе тяжелую рану в грудь; но ты, усугубя свое мужество, обрушил ужасный меч в грудь противника с такою силою, что сын мои, как сноп, свалился с коня и ту же минуту умер. Люди мои бросились на тебя в большом числе, но ты стал как каменный утес, пренебрегающий бурями и с быстротою реки все увлекающий. Проворство твое, невзирая на сию опасную рану, облившую тебя и коня твоего кровью твоею, не ослабило богатырских сил твоих, и многие мои воины заплатили жизнию за свою дерзость сразиться с тобою. Наконец ты, во многих местах и в особенности раненный в правую руку, не мог уже более сражаться. Я, удивляясь твоей храбрости, приказал тебя, умирающего, снять с коня, сам перевязал твои раны и отправил сюда, и теперь, слава Алле! почитаю тебя исцеленным и в возмездие моей горькой утраты могу надеяться видеть в тебе любезного моего сына Рамира, коего прах тайно, ночью похоронен на нашем кладбище. Селима знает его могилу. Ты можешь со временем посетить прах достойного твоего споборника, павшего от руки твоей; он достоин твоей любви, дружбы и сей последней чести. Но не лей слез своих напрасно, добрый мой Андрей! Я вижу, тебя убивает моя горесть, но ты можешь исцелить ее, утешить престарелого отца и заменить мне моего сына; при том же ты можешь теперь, для успокоения твоих добрых чувств сожаления о моем сыне, усмотреть из самой опасной твоей на груди раны, что он также не щадил тебя и искал твоей смерти. Вы с ним поквитались и коли не здесь, то в раю пророка нашего увидите и примиритесь.
П о б е д о н о с ц е в. Ваши слова и эта рана на груди моей несколько меня успокаивают, что я, также защищая жизнь свою, лишил жизни вашего сына; но Бог видит, сколько я об нем сожалею и крушусь о вашей ужасной горести, которой сделался я по неведению виною. Я постараюсь употребить все мои силы, чтоб доказать вам сыновнюю любовь и утешить вас в печали. Где бы я ни был, что бы ни произошло между нами, но вы всегда будете, почтенный князь, занимать в сердце моем место второго отца!
По окончании сих слов Селима входит, неся в руках своих алкоран, оправленный в золотой с драгоценными каменьями переплет. Узбек встает, преклоняет пред ним колена и с благоговением его целует.
У з б е к (поднеся оный Победоносцеву). Да, сей закон нашего пророка утешит тебя в горестях, облегчит твои страдания, исцелит раны тела твоего и приведет тебя на путь истинно правоверных мусульман, и отженет мрак с очей твоих и подаст тебе разум в учении! (Кладет алкоран на столик, стоящий подле Победоносцева, и делает пред ним трехкратное коленопреклонение; и опять с великим благоговением целует и устремляет свои взоры на небо, шепчет какую-то молитву, без сомнения об обращении нашего героя в их веру; потом, обратясь к Селиме.) Милая моя дочь! Тебе, тебе поручаю я учить и толковать наш священный алкоран доброму сему юноше, будущему моему сыну, а твоему супругу. От успехов твоего учения и стараний будет зависеть мое, и твое, и его блаженство жизни. Будь безотлучно при нем, Алла да будет над вами, и руководствует вас наш великий пророк! (Кладет свои руки на голову Селимы и потом. Победоносцева.) Андрей! Я надеюсь тебя вскоре видеть моим сыном и супругом возлюбленным моей Селимы. Прощай, Андрей, прощай, друг мой, будущий мой сын, прощай! Я иду опить соединиться с ожидающими меня моими воинами.
П о б е д о н о с ц е в. Князь! Однако ж не забудь, что русские — мои братья, что еще одна кровь течет в наших жилах, что вера христиан еще соединяет меня с ними, а гребенцы мои сотрудники и весьма близкие к моему сердцу. Не слишком вели своим нападать на них; а то вам невыгодно будет: ведь они шутить не любят в сражениях. Берегись их более других казаков.
У з б е к. В лице моего Андрея я буду любить их! (Целует его и Селиму и, отирая слезы, уходит, восхищаясь сим молодым человеком и его обещаниями.)
С е л и м а (в великой радости). Отец мой благословил нас! А я буду твоею учительницею! Ах, как мне это приятно, Андрей! Не правда ли, что отец мой добрый человек? Он тебя любит как сына своего Рамира…
П о б е д о н о с ц е в (в рассеянии). Которого я убил и лишил его всех благ в жизни, утешения и подпоры в старости его лет, отнял его у моего благодетеля навсегда…
С е л и м а (с ужасом). Кто тебе это открыл?
П о б е д о н о с ц е в. Сам твой родитель. После этого я никак не могу быть твоим супругом: я убийца твоего брата! Кровь его еще дымится на моей раненой руке! О, Селима! Нам должно с тобою разлучиться… и — увы, навеки… (Вздыхает.)
С е л и м а (в отчаянии, с решительностию). Разлучиться!.. Жестокий, безжалостный, нечувствительный юноша! Тебе мало было одной жертвы!.. Ну так смотри, вот другая готова!.. (Приставляет обнаженный кинжал острием к сердцу своему.) Андрей, ты еще не знаешь, как любят и умирают магометанки! Смотри и насладись моей кровию и смертию… (Хочет заколоться.)
П о б е д о н о с ц е в (в ужасе, поспешно сползает со своего тюфяка, приближается к ней и, схватив ее за руку, обезоруживает). Селима, что ты это вздумала?
С е л и м а (бледная и шатаясь, тихо). Хочу умереть! (Упадает без чувств подле Победоносцева.)
В это время вбегает Фатима и, увидя свою княжну в таком положении, кровь и обнаженный кинжал между нею и Победоносцевым, с ужасом отступает назад. «Христианин! Ты ее убийца!.. трепещи!.. Я сейчас побегу и донесу о жестоком твоем поступке, и ты не избегнешь казни!..»
П о б е д о н о с ц е в. Бога ради! Не шуми, Фатима! Я тут ни в чем не винен: Селима хотела заколоться, и я едва мог успеть разрушить это пагубное намерение ее произвести в действие. Это не ее, а собственная моя кровь видна на полу: я повредил себе правую раненую руку — но это ничего не значит. Для спасения жизни Селимы я готов теперь же последнюю свою кровь пролить. Любезная Фатима! Подай скорее княжне помощь. Она в сильном обмороке: прыскай ей холодной водою на лицо, расстегни на груди платье и ослабь пояс, чтоб она могла свободнее дышать.
Фатима исполняет советы Победоносцева, а он пополз опять на свою постель и проложил до нее кровавый след своего пути.
Ф а т и м а (со страхом). О, Алла!! Ты изойдешь кровью и умрешь, добрый юноша!.. Я побегу позвать сюда Бразина! чтоб он скорей тебе и княжне подал помощь… (Хочет идти.)
П о б е д о н о с ц е в. Нет, любезная Фатима, нет, не делай этого! На что знать Бразину, что здесь происходило? Я вижу, что княжна скоро придет в чувство. Вложи скорей кинжал в ножны и подчисти кровь мою, чтобы Селима, пришед в память, не видала сих ужасных следов моего несчастия от ее безрассудства; а я еще несколько минут могу выдержать… (Вдруг чувствует ужасную дурноту…) Фатима, когда я умру, то скажи Селиме, что, спасая ее жизнь… я пожертвовал ей моею… простите!.. час кончины моей настал… (Упадает в обморок.)
Ф а т и м а (с трепетом). О, Алла! Он умирает!.. (Со стоном.) О, великий пророк, научи меня, что теперь должна я делать?..
Подчищает кровь, в это время Селима приходит в память, открывает свои прелестные глаза и со страхом обращает их на Фатиму.
С е л и м а. Фатима, что ты делаешь? (Увидя кровь, с ужасом.) Чья это кровь?.. Итак, совершилось мое пагубное намерение — и я умираю!.. О, Боже! Зачем же мне жить на свете, если он меня не любит и хочет покинуть злой горести и слезам?.. (Закрывает лицо свое руками и рыдает.)
Ф а т и м а (также плача). Успокойтесь, светлейшая княжна! Ваш безрассудный поступок не совершился — отнять у себя столь нам драгоценную жизнь вашу!.. это не ваша, а его кровь. Вы его умертвили!..
С е л и м а (вставая поспешно на ноги, с трепетом). Чья? Кго кровь? Кого и умертвила? (Устремляет на Фатиму отчаянный взор.)
Ф а т и м а (проливая слезы). Этого доброго христианина, этого столь пламенно и нежно вас любящего героя русского… Он, спасая вашу жизнь, лишился своей. Смотрите, княжна! Вот плоды вашего безрассудства! Бедный! Он изошел кровью — и умер. (Показывает на Победоносцева, в сильном обмороке лежащего, из раны коего алая кровь струилась и пролагала себе ручьями путь с тюфяка; смертная бледность покрывала прекраснейшие черты его лица; закрытые глаза и сомкнутые уста, без малейшего признака жизни, изображали его точно мертвым.)
С е л и м а (с воплем и отчаянием бросаясь к постели Победоносцева). Андрей!.. Андрей! Друг души моей! Бесценный для моего сердца! Итак — я твоя убийца!.. Увы! Ты умер!.. ты уже не существуешь более для сего света… Ты не слышишь слов твоей несчастной Селимы!.. Ты оставил меня слезам и отчаянию!.. Оставил вечному раскаянию, что я сократила жизнь твою, столь мне драгоценную!.. О Бог русских христиан! Услышь моление недостойной магометанки… Оживотвори сего друга моего сердца — и я буду чтить тебя как он; да увижу твое могущество, силу и премудрость! Да увижу славу твою, столько прославляемую твоими христианами! Не отринь моих молений к тебе, Бог русских! (К Фатиме, подчищающей кровь.) Милая Фатима! Беги скорей и позови сюда Бразина и Малека. Может быть, еще не поздно подать ему помощь. (Фатима убегает.)
Между тем Селима, горько плача, целует раненого в холодные уста, прикладывает свою руку к его сердцу и, чувствуя самое слабое оного биение, с горестию восклицает: «Он умирает!.. Жестокая, я одна была причиной его рановременной кончины!.. Нет, я не переживу его, и этот кинжал вторично мне не изменит!.. Уже некому более будет без него удержать мою руку и спасти меня от ужасной смерти! (Бегает в отчаянии, не зная, что делать.) Андрей! Милый, добрый Андрей! Проснись от сна смертного! Взгляни в последний раз на твою нежную, страждущую подругу и прости меня в злой смерти своей, которой я тебя поразила!.. Но нет, он не слышит моего стона… моих жалоб!.. не видит моего отчаяния и слез раскаяния!.. Несчастная Селима! Кого ты столь бесчеловечно погубила? (Услышав шаги людей и тихий шум, встает и садится в некотором отдалении от раненого. Бразин с Малеком, сопровождаемые Фатимой, вбегают.)
Б р а з и н. Что это значит? Что с ним случилось? Я давеча перевязывал его раны — они подали мне надежду на скорое выздоровление, а теперь он умирает!.. С его кончиною и голова моя с плеч!.. А теперь?.. О Алла! Спаси его и меня!..
С е л и м а. Отец мой, его посетив, много с ним разговаривал — и я, провожая родителя, оставила его веселого; но чрез несколько минут, возвратясь сюда, нашла его в этом плачевном положении и за тобою послала Фатиму. Милый Бразин! Употреби все твое искусство спасти его, и казна княжны твоей тебе открыта вместе с вечной благодарностию.
Б р а з и н (с внутреннею радостию, мысленно). Да, теперь я понагрею руки от тебя, коли успею оживить твоего будущего мужа. (Громко.) Княжна, успокойтесь и молитесь Алле! Я постараюсь возвратить ему жизнь.
С е л и м а. О добрый мой Бразин! Ты оживляешь мои умирающие чувства; да наградит тебя наш великий пророк.
Б р а з и н. Не нужно ли вам, светлейшая княжна, отсюда удалиться, пока я перевяжу его рану; а то вы, может быть, испугаетесь.
С е л и м а. Нет, до той поры не сойду с этого места, пока ты сделаешь свою операцию над ним и не уверишь меня, что он будет жив, и пока я сама не услышу голоса этого доброго, прекрасного юноши и героя.
Бразин, изготовя мази, примочки и бинты, развязывает глубокую рану на руке Победоносцева, из коей хлынула кровь фонтаном и забрызгала его. Рана Победоносцева была искусно перевязана, и помощию спиртов он пришел в чувство, окинул всех блуждающим взором и, не видя Селимы, в изголовьях его сидящей, слабым голосом спросил: где княжна Селима?
С е л и м а. Я здесь, милый Андрей! (Подходит к его постели, и, пожимая его левую руку, — на русском языке.) Прости меня, милый мой Андрей! Я сделалась было виною твоей смерти!.. Забудь мой поступок — и возврати мне опять твое сердце, твои нежные чувства, которые меня пленили и соделали навек твоею невольницею. Бог ваш, Бог русских, услышал молитвы магометанки: он сжалился на мои слезы, на мои стенания, видев мое раскаяние, он возвращает тебя мне опять, и я, дав клятву его исповедовать, исполню обет мой, чтоб не разлучаться с тобою до самой могилы. Теперь доволен ли ты мной и можешь ли простить твою Селиму, едва не лишившую тебя столь драгоценной для меня жизни?
П о б е д о н о с ц е в (с восхищением). От всего сердца, прелестная княжна! Ты своим обещанием даешь мне новую жизнь и составляешь мне неизъяснимое блаженство. О Селима, храни эту клятву! Бог наш сколько милосерд, столько же правосуден, если кто всуе призывает его имя и помощь! Его никто обмануть не может: он наш сердцевидец; от его взора ничто укрыться не может. Но что это за кровь на полу? Неужели ты совершила свой безрассудный поступок и пролила столь драгоценную мне кровь твою.
С е л и м а (горестно). Нет, это твоя, Андрей, которая брызнула при перевязке твоей руки Бразиным.
Случившееся с Победоносцевым столь плачевное происшествие, едва не сопроводившее его в могилу, заставило Селиму впредь быть осторожною, переменить отважность магометанок на кротость и смирение христианок, которые внушал ей выздоравливающий Андрей. Он все дни и вечера, сравнивая ложное ученье их пророка с учением нашего Христа, доказывал ей из священного христианского закона истину и непреложность христианской веры. «Наш Спаситель учит смирению, кротости, целомудрию, любить всех ближних и миловать и прощать врагов наших; а ваш лжепророк Магомет обещает награды мусульманам тем, которые больше умертвят христиан, коих он заставляет ненавидеть как непоследователей его веры и учения, и потому ты, милая Селима, теперь сама видишь преимущество нашей веры пред вашей. У вас лжепророк позволяет вдруг много иметь жен, — наш закон это запрещает: у нас более одной жены иметь не позволено, но и та не так как у вас полагается невольницей, а другом и сотрудницей во всех делах своего супруга, который обязан ее любить всем сердцем, а она его также любить, почитать и слушаться его приказаний. Муж у нас обязан жену беречь, как существо слабое от нежной чувствительности вашего пола и потому, что она известное время носит под своим сердцем плод законного союза и при рождении детей, претерпевая мучения, питает их своим млеком, хранит их нежное младенчество, научает чтить Бога, своих родителей, кровных, любить всех вообще людей, как одно семейство, рассыпанное по лицу земли. Когда же они достигают отроческих лет, то уже муж обязан пещись об них: научать закону Божию и прочим наукам, просвещающим человеческий разум, доставлять им пищу, одежду и кров, под которым бы они жили спокойно и утвердились в летах своих. После сего, в жертву благодарности, дети уже обязаны пещись о своих родителях, облегчать труды их, доставлять работой или науками им пропитание и все нужное в жизни, лелеять старость».
Такими и еще многими доводами и наставлениями, неприметным образом, Победоносцев склонил Селиму предпочесть веру христиан их вере. Она сама видела заблуждения последователей учения их Магомета и всем сердцем полюбила нашего Спасителя, привязалась к нашей вере с такою ревностию, что едва могла скрывать пред своим семейством набожные чувства христиан и только в присутствии своей матери и родных наружно исполняла свои догматы веры, а думала о Христе нашем со всею любовию и невинностию прекрасной души своей.
Победоносцев, обрадованный успехом своих замыслов и намерений, вскоре выучил Селиму читать и писать по-русски; тогда уже ему гораздо легче было ее утвердить в нашей вере.
Часто, когда уже Победоносцев совершенно почти выздоровел от ран, удалялся он с Селимой в прелестнейшие места их владения, где, походив довольно и набрав ягод или набрав пахучих цветов той страны, они садились близ кристалловидного родника, под тенью густых дерев, при пении птичек, завтракали взятый с собою запас и запивали из сладкого кубка сею прекрасною водою. Селима плела венки и, украшая ими голову Победоносцева, мило улыбалась, называла его милым своим героем и целовала так нежно, что у него сердце билось и трепетало, как юный цветок во время сильной бури, и как бы хотело перелететь в грудь прекрасной княжны и там сделаться соседом ее сердца. Он также связывал букет из разных цветов и, толкуя Селиме символический их смысл, прикалывал оный к ее груди, и Селима, алея как роза, с томным вздохом, преклонив свою голову к груди Победоносцева, пристально смотрела на его пламенеющие щеки и страстные взоры, белой своей маленькой и полной рукой разбирала кудри на гордом челе его и улыбалась.
Победоносцем открывал в юной княжне с каждым днем новые достоинства. Исключая разительной красоты ее, она имела оборотливый и прозорливый ум, нежное сердце, чистую и невинную душу дитяти. Она имела прекрасный голос и пела с выразительностию и чувством русские песни и арии, которым научил ее Победоносцев. Пляски своего народа, весьма трудные, ибо они начинают и кончают их все на одних пальцах и перелетывают, так сказать, с места на место на больших пространствах, — знала в превосходной степени. А об ее рукодельях нечего и говорить: все, что только есть труднейшего в вышиванье, плетенье и тканье, в этом никто не мог сравниться с нею. Победоносцев был для нее всего драгоценней. Он столь же страстно любил ее, но никогда из уст скромного юноши не вырывались слова, могущие оскорбить невинность юной красавицы. Он не мог на нее налюбоваться и дышал одной ею. Селима уже более не говорила ему о принятии их веры, ибо сама сделалась христианкой. Часто она спрашивала друга своего: чем должна кончиться любовь их? И Победоносцев, смягчая разговор и скрывая свои настоящие виды, отвечал, что если отец ее откажет ему в ее руке, то у него останется одно средство — умереть! И Селима со слезами упрекала его в жестокости и неблагодарности и говорила ему, что, оставшись после него сиротой, она также умрет с отчаянья.
Тогда Победоносцев, целуя Селиму в прелестные уста, вновь произносил клятву любить ее и принадлежать ей до гроба и тем ее успокаивал.
Так протекли для них шесть недель, как шесть минут. Кабардинцы, разбитые во многих сражениях российскими войсками, чувствуя невозможность продолжать далее войну, избрав богатейших, знатных и разумных послов из своего народа, в числе которых князь Узбек представлял по опытности первое лицо, отправили к главнокомандующему Кавказским корпусом, с богатыми дарами, для испрошения пощады и мира.
Сей добрый начальник, уполномоченный самим государем, с удовольствием принял их предложение, после нескольких часов совещания в совете, где начальники дивизий, бригад и полков находились, поставлены были пункты мирных условий, по коим кабардинцы обязывались заплатить россиянам за все убытки, прежде и ныне им причиненные, приняв вновь присягу на верность к престолу Российскому и дать двенадцать аманатов, до исполнения их обещаний служащих верною порукою за народ кабардинский. Пленных с обеих сторон возвратить; без замедления прекратить все неприятельские действия с обеих сторон и доставить в отряд российских войск условленное количество скота и хлеба.
Посланные от кабардинского народа, обласканные и щедро одаренные главнокомандующим, с благодарностию к нему и с радостию в сердце возвратились к своим, ждавшим их с нетерпеливостию, которым и объявили все статьи мирных условий, ими с россиянами постановленных. Шумный призыв Аллы и Магомета пронесся в стане кабардинских воинов. И они с восхищением отправились в свои жилища.
Кабардинцы в тот же день привезли наложенную на них дань деньгами и доставили назначенное количество хлеба и скота, присовокупив к сему еще рису и пшена с коровьим маслом и сыром для всего отряда, чтобы русские воины помнили их добродушие и услужливость.
Уполномоченные от кабардинского народа послы приняли, в верности и на подданство вновь к Российскому престолу, присягу и вручили из самых знатнейших кабардинцев двенадцать аманатов.
Таким образом окончилась битва русских с кабардинцами, стоящая с обеих сторон кровопролития и смерти многих самых лучших воинов.
В российском отряде для торжества заключенного мира продолжалась несколько часов пушечная пальба из многих орудий, при громогласных криках «ура!», а у кабардинцев ружейная стрельба, играние на трубах и бубнах, с громкими криками радости о возвратившихся и свои мирные убежища.
ЧАСТЬ II
На другой день, поутру, многочисленный отряд российского поиска с орудиями, сопровождавший великое число пленных кабардинцев, остановился в обширной и цветущей долине, и начальник оного потребовал от князей кабардинских размена военнопленных.
Узбек, пришедший в кибитку Победоносцева, поздравил его с заключенным миром между ними и русскими, присовокупив, что пришедший отряд российских поиск требует размена пленных. (Пристально смотрит на Победоносцева, сей вестью обрадованного сначала и после склонившего главу к своей груди, печально размышлявшего.) «Ну, Андрей! На что же ты решаешься? Скажи мне откровенно: хочешь ли ты принять закон и пору нашего пророка, быть моим сыном и супругом Селимы или забыть мои благодеяния, спасение твое от неминуемой смерти и самую пламенную страсть моей дочери к тебе — желаешь возвратиться в свое отечество?»
П о б е д о н о с ц е в. Сколь ни лестны мне твои предложении, как ни велики твои оказанные мне милости и благодеяния, сколько ни драгоценна мне любовь и обладание Селимой; но прости меня, добрый князь, мой незабвенный благодетель, что я признаюсь тебе со всей сыновней искренностию, никак не осмелюсь переменить, ни за какие сокровища вселенной, православной христианской веры и закона моих предков, сделаться изменником моему государю и отечеству и тем опечалить моих почтенных родителей, которые не перенесут своего и моего бесчестия и умрут от стыда и отчаяния, что дали жизнь такому сыну, который, при старости их лет, покрыл главы их поношением. Имя мое, славящееся в битвах кровопролитных, между моих соотечественников будут презирать — и я, отверженный, презренный моим отечеством, должен буду пасть под бременем терзаний совести и мучений, неразлучных с преступлениями. Я знаю, что сим отриновением наношу сердцу твоему жестокое огорчение, но я решился возвратиться на мою родину достойным подданным моего государя, сыном отечества и моих родителей. Там, воспоминая твои милости, попечения и любовь твоей прелестной дочери, я умру, может быть, с отчаяния, — да и верь мне, не перенесу столь горькой разлуки с вами; но я подвергаюсь моей участи, долгу и чести, заставляющих меня пребыть до последнего вздоха истинным христианином и русским неизменным воином. Я сам чувствую, что жизнь моя недолго продолжится, и я благословлю ту минуту, когда предстанет пред взоры мои смерть, как единственно оставшееся мне в сем мире благо. Вот мое решение! Теперь суди как хочешь, люби или ненавидь меня: я это отдаю на твой произвол!
У з б е к (с горестию и отчаянием). Жестокий, неблагодарный Андрей! Ты обманул мои приятнейшие желания и мечты. Ты лишил меня сына, нежно мною любимого, подпору и утешение в моей старости! Ты, прельстив дочь мою Селиму, обманчивой наружностию твоих добродетелей и данных ей обетов, заставил ее обожать тебя и, склонив ее в христианскую веру, теперь покидаешь вечным горестным слезам и отчаянию!.. (Плачет.)
П о б е д о н о с ц е в (становясь пред ним на колена). Благодетель мой! Спаситель жизни моей! Ах! Не упрекай меня в смерти твоего сына, от руки которого я сам ношу смерть в груди моей! Не упрекай меня в любви к Селиме и в восприятии ею первых правил христианской религии, — на это было ее самопроизвольное и непринужденное желание, лучше сказать: на это была воля благих небес. Сердце мое обливается кровию от одного помышления, что я должен с вами разлучиться навеки. Я не жизнь, но смерть несу в душе своей в мое отечество, ибо, лишась твоих милостей и дружбы, лишась любви драгоценной Селимы — я умру с отчаяния. Священный долг верности и присяги меня к тому принуждает.
У з б е к (грустно вздыхая и отирая ручьи слез с бледных ланит своих, поднимает Победоносцева). Встань, милый, добрый Андрей! Я виноват, что столь жестоко огорчил тебя упреками, растравляющими раны твоего нежного сердца! Я очень знаю, как ты любишь меня и обожаешь Селиму. Но ты также известен о строгости нашего закона. Я не могу за христианина отдать дочь мою. Не только все мое семейство, но даже и вся страна кабардинская устремит на меня недовольные взоры, и я подвергнусь стыду и поношению! Но чтобы ты помнил об Узбеке, то дарю тебе сие оружие (снимает с себя драгоценную саблю и опоясывает ею нашего героя, склонившего чело на плечо сего князя). А вот этот драгоценный кошелек, вязанный милою моей Селимою, с пятьюстами червонных, прими от нее в знак любви и памяти об ее страданиях и отчаянии по разлуке с тобой. Я знаю, что она не перенесет твоего отсутствия и увянет во всей своей красоте и юности, как цветок, палимый зноем и обуреваемый северными ветрами. Этого мало: я дарю тебе самого лучшего коня из моего завода с богатым прибором, чтоб видели соотечественники почесть, воздаваемую тебе кабардинским князем Узбеком, твоим другом, коего ты лишил сладчайшего удовольствия и отрад в сей жизни. (Горько плачет.)
П о б е д о н о с ц е в. О благодетель мой! Второй отец! Чем я могу заплатить тебе за столь великие твои ко мне милости? (Крепко сжимает его в своих объятиях.)
Узбек, еще более растроганный, кладет обе руки свои ни голову Победоносцева и говорит: «Титло отца, столь сладостное моему сердцу, которое ты мне дал, дает мне право благословить тебя в путь. Молю, да Алла сопутствует тебе, и осеняет тебя своим покровом, и усыпает путь жизни твоей цветами радости и вечного блаженства! (Отирает слезы и уходя.) Андрей, я пришлю за тобою, когда все будет готово к отправлению твоему. Теперь до свидания, прощай!
Победоносцев, жестоко растроганный, сел в последний раз на свой тюфяк, целовал подушки, доставленные ему прелестной его возлюбленной, и, томно вздыхая, обращал всюду печальные свои взоры на места, где сиживала с ним нежная Селима. «Боже милосердый! — воскликнул он громко и рыдая. — Итак, я ее более не увижу — эту прекрасную, милую Селиму! Она, верно, теперь в отчаянии о моем отъезде и не смеет спросить позволение у своего отца проститься в последний раз со своим несчастным другом!.. (Склоняет голову к груди, тяжело вздыхает и погружается в мрачное молчание.) О Селима! — восклицает опять Победоносцев. — Где ты? Приди утешить твоего друга и разделить с ним горесть о вечной разлуке! Приди… ах, я умираю от отчаянья, тебя лишаясь!»
Селима, давно уже пред ним стоявшая, которой он в ужасном отчаянии не мог видеть, отвечает: «Я здесь, милый, но жестокий и неблагодарный юноша! Я здесь — я пришла с тобой проститься и упрекнуть тебя в нечувствительности ко мне и моему отцу, который теперь горько плачет о твоей с ним разлуке и приготовляет тебе все нужное к пути. Но ты очень хорошо мне за любовь к тебе, а ему за все к тебе милости заплатил, то есть открыл нам обоим могилу!..» (Проливает обильные слезы.)
П о б е д о н о с ц е в (становясь перед Селимою на колена). Милая драгоценная Селима! Ты пришла в последний раз сделать упрек недостойному твоему другу и с ним навеки проститься!.. О, да наградит тебя Творец вселенной за доставление мне сих горьких, но вместе и сладчайших минут последнего моего свидания. (Целует ее руки и прижимает ее к своему бьющемуся сердцу.) Селима! Друг души моей, прости… ах! Прости навеки! (Рыдает.)
С е л и м а. Успокойся, милый Андрей! Более ни одного слова упреков тебе не изольется из уст моих. Я знаю, сколько ты страдаешь и мучаешься о разлуке со мной… но ты сам решил свою и мою судьбу. Я состою под волей моего отца, которого приказания чту себе законом, а жизнь его предпочитаю собственно моей. Рок, завидующий нашему блаженству, постановил между нами ужасную пропасть, нас разделяющую навсегда!.. Прости, Андрей, прости навеки!.. Не забудь твоей страждущей Селимы. Прости, будь благополучен, избери себе и твоем отечестве достойную супругу, которая, обладай твоим сердцем, будет счастлива тобою! А я… я… несчастная… скоро расстанусь с этим миром, и, пока ты достигнешь до своего отечества, Селима твоя будет уже покоиться в могиле. Тогда хотя вспомни о любви моей, вспомни о далеком прахе твоей Селимы, который будет покоиться возле праха моего возлюбленного брата Рамира, где ты, призывая тень его в свидетели, дал мне клятву до гроба любить меня и принадлежать мне одной. Помнишь ли ты, как при этом случае громко засвистал соловей и какой ужасный удар грома разразился над нами, когда мы, произнеся клятву в любви и верности и крепко обнявшись, запечатлели ее поцелуем? О, все это предзнаменовало нашу разлуку и злоключения!
П о б е д о н о с ц е в. Ах, милая Селима, не напоминай мне этих подробностей, не терзай моего сердца на части. Я уже ношу смерть в груди моей! Может, мне осталось жить только несколько часов. Прости меня, Селима, прости, друг моего сердца, что долг, наложенный на меня законами нашего отечества, заставляет меня оставить тебя на горе и отчаянье, прости и позволь мне в последний раз обнять тебя и запечатлеть на устах твоих прощальный поцелуй.
Он заключает Селиму в свои объятия и покрывает ее жаркими поцелуями. Селима трепещет, как голубок; она вырывается из рук Победоносцева.
С е л и м а. Эта минута вечной разлуки с тобой будет мне памятна до последней минуты моей жизни и скроется вместе со мной в хладной могиле. Прощай, Андрей! Прости, друг моего сердца! Прости до радостного свидания в сем или в будущем мире! Прости!
Дает ему самый пламенный поцелуй и, проливая слезы, с рыданием уходит.
По уходе Селимы Победоносцев погружается в мрачное отчаяние и размышление. Хлад в сердце и по жилам его пробегает стремительно, душа страдает, и он ожидает, что час смерти его настал. Это оживило его чувства; он бросается на колена, воздевает руки к небу и благодарит его за прекращение своей тягостной жизни.
В это прими входит Малек и, низко кланяясь нашему горою: «Светлейший наш князь Узбек приказал тебе сказать, что все к пути твоему готово и чтобы ты пришел сейчас проститься с его домашними».
П о б е д о н о с ц е в. Сейчас! (Вынимает из кошелька двадцать червонных и подавая их Малеку.) Из числа этих червонцев возьми десять себе за услуги, которые ты мне здесь во время болезни моей оказал, а остальные вручи доброй Фатиме, за таковые же обо мне попечения. Прощай, добрый Малек! (Пожимает его руку.)
Малек, вместе обрадованный сим богатым для него подарком и опечаленный отъездом нашего героя, горько заплакал.
— Почтенный Андрей, — сказал он, — зачем ты нас так скоро покидаешь? Зачем оставляешь в ужасной горести, слезах и отчаянии светлейшую княжну нашу Селиму, которая так горячо тебя любит? Останься у нас, будь ее мужем, а нашим повелителем, — останься с нами. Я молю тебя об этом у ног твоих! (Становится пред Победоносцевым на колена.)
П о б е д о н о с ц е в (растроганный). Встань, добрый Малек, и обними меня. За твое добродушие и желание благодарю тебя, но я должен с вами расстаться, и, увы! Может быть, навеки! Скажи от меня Селиме, что образ ее несу я в сердце моем в мое отечество. (Обнимает и целует в голову Малека и идет с ним в жилище Узбека.)
Сей князь со всем своим семейством встретил Победоносцева с радостию и вместе с ужасной горестию о скорой с ним разлуке; угостил его со всей знатной пышностию и дал курить ему свой богатейший кальян; когда же Победоносцев хотел его ему возвратить, то Узбек, отстраняя его своей рукой, промолвил: «Возьми его себе, Андрей, и помни, что, курив с тобой вместе сей кальян, мы заключили узел неразрывной дружбы с тобой. Ну, теперь прощайся! Нас только и ожидают все князья для отправления в путь».
Победоносцев со слезами прощается с женами Узбека, его двумя еще дочерьми и малолетним сыном; но тщетно искал он взорами Селимы; ее тут не было. Отец, предвидевший, сколь горестно будет для нее прощание, запретил ей выходить к ним. Итак, Победоносцев, не видя предмета своего сердца — милой Селимы, с растерзанною душой вышел из жилища ее родителя, откуда благословения и желания ему счастия всего семейства заставили пролить слезы благодарности.
Прекраснейший конь, покрытый драгоценной, белой как снег буркой, ржал и, копытами своими роя землю, ожидал с нетерпением своего всадника.
У з б е к (показывая на коня Победоносцеву). Андрей! Садись. Это твой конь, и все, что на нем, принадлежит тебе.
Малек, державший Победоносцева коня под уздцы, снял с седла бурку, и герой наш обомлел от удивления, увидев седло, окованное червонным золотом, и обе луки его, осыпанные драгоценными каменьями. Богатейший чепрак голубого бархата, шитый золотом и унизанный крупным жемчугом, свис из-под седла до половины задних ног коня его. Но когда он увидал золотом вышитые крупно слова на русском языке: «Кабардинская княжна Селима герою русскому, эсаулу Андрею Победоносцеву в знак памяти» — то слезы у него брызнули из глаз, и он, целуя сии слова, устремил взоры свои на небо, потом на Узбека, сим весьма растроганного, вскочил проворно на коня своего, который, сделав курбет, преклонил голову к земле, как будто прощаясь со своей землей, чему он действительно был научен Рамиром: ибо это был самый тот конь, на коем он был убит рукой Победоносцева; и Узбек, не могши без содрогания смотреть на него, чтоб не вспомнить своего сына, подарил его Победоносцеву, поправшему своею храбростию владельца сего коня.
Многочисленная свита, провожавшая Узбека и нашего героя, по левую сторону ехавшего с сим князем на гордом и, казалось, танцующем коне своем, представляла его Марсом. Щеки Победоносцева, алея, спорили с белизной его лица, русые кудри рассыпались на гордом челе его. Стройную его талию покрывал блестящий короткий лучшей работы и легчайший панцирь, подаренный ему также Узбеком. Князь вздохнул и из глубины сердца пожалел, что желания его и Селимы отвержены столь прекрасным и храбрым юношей, на которого также и прочих соединившихся с ним кабардинских князей взоры удивления и зависти были обращены.
Вскоре кабардинцы с нашими военнопленными прибыли и долину, где стоял наш отряд.
Князь Узбек, как всех старший и знаменитейший из кабардинских князей, первый представил начальнику русского отряда Победоносцева, коего держа за руку, сказал первому с откровенностию: «Господин генерал! Вот мой пленник, или, лучше сказать, мой сын и друг, Гребенского полка эсаул Победоносцев Андрей, которого вам вручаю. Прошу покорнейше довести до сведения господина главнокомандующего вашими войсками, что сей благородный, добродетельный и храбрый юноша, находясь в доме моем для излечения жестоких ран, вел себя как нельзя лучше и заставил все мое семейство, вопреки нашей вере и закону, полюбить его всем сердцем и обращаться как с своим родным. Он лишил в сражении жизни моего сына, который нанес ему жестокую рану в грудь. Невзирая на оную, сей юный герой положил десятка два самых лучших моих воинов, дерзнувших с ним сразиться. Пять ран, полученных им и сем сражении, ослабили его богатырские силы, и меч выпал из рук его. Я сам перевязал его опасные раны и отослал в дом мой, где он выпользован. Не хочу запираться, что, прельстясь его наружностию, храбростию, умом и добродетелью, я и дочь моя, прекрасная Селима, которую я нарочно употребил для оказания ему пособий, чтоб он, прельстясь ее красотой, согласился принять нашу веру, обещав ее ему в жены и отдав все мое великое богатство, чтоб он заменил утрату моего сына; но он, обратив почти в христианку дочь мою, страстно его любившую, решительно нам обоим отказал, что он ни веры прародительской, ни присяги своему государю и отечеству никогда не решится изменить, заставил меня, удивляясь его твердости, терпению и мужеству в ратоборстве, с горестию и слезами вам в целости его представить, одарив прилично моему званию, богатству и достоинствам сего храброго юношу. Спросите его сами, господин генерал, правда ли это.
Г е н е р а л. Не нужно и спрашивать его, ибо слезами наполненные глаза его ясно меня удостоверяют в истине слов ваших. (Взяв за руку Узбека.) Добрый, почтенный князь! Для меня очень приятно слышать такую похвалу вашу о сем юном воине. Будьте уверены, князь, и вы также, господин Победоносцев, что благодетеля вашего благородные поступки с вами и ваше поведение, с верностию к престолу и отечеству, и с оказанной вами храбростию, свидетельствующих оную пять ран, полученных вами в сей битве, доведены будут мною по обязанности до сведения главнокомандующего, который уже неоднократно отличал вас от других ваших товарищей в сражении, и вы, верно, не останетесь без награды.
Князь и Победоносцев кланяются и благодарят сего генерала, к отряду коего принадлежали все гребенские казаки.
Узбек, прощаясь с начальником отряда, повторял свою просьбу и, получив в исполнении оной уверение, обнял Победоносцева со всей родительской нежностию и слезами, облобызал его и сказал: «Прощай, милый Андрей!», вышел скоро из палатки, не дожидаясь в горести своих других князей, ибо бывшие у него в плену русские воины его подчиненными уже были сданы дежурному штаб-офицеру. Вскочил на своего коня и, сказав герою нашему еще в последний раз: «Прощай!», пустился со своей свитой во весь опор и скрылся от очей опечаленного Победоносцева.
Учинив размен пленных, командующий сим отрядом генерал выступил в обратный путь к главному корпусу. Победоносцев, которого он полюбил с первого взгляда, по приказанию его ехал подле него на подаренном ему Узбеком коне, и заставил удивляться богатой сбруе сего начальника, ласково с ним разговаривающего и спрашивающего об образе жизни кабардинцев, о местах, ими занимаемых, и прочем. Наконец зашел разговор об оставленной им Селиме и об их прощании, и Победоносцев со всей свойственной ему откровенностию рассказал все генералу, который похвалил его верность: к царю, вере, отечеству. «Признаюсь, — промолвил сей добрый начальник, — что не всякий из молодых людей, быв на вашем месте, решился бы пожертвовать славе таким блаженством, какое вам представлялось. Но вы очень благоразумно в этом щекотливом деле поступили и доказали кабардинцам, каковы русские воины».
При закате солнца сей отряд, при громогласных криках «ура!», выступил в наш лагерь, и генерал, снова уверя Победоносцева в своем предстательстве об нем у главнокомандующего, приказал ему явиться в полк свой и ожидать исполнения его обещаний.
Штаб- и обер-офицеры его полка и все даже гребенцы встретили с радостным восторгом Победоносцева, полагаемого ими убитым в сражении или в плену умершим от рук неверных; но сколь они все удивились, когда разглядели богато убранного коня его, вооруженного драгоценной шашкой, которой никто не мог объявить цены; вышитые слова на чепраке Селимой еще более удивили его товарищей. «Ай да Андрей Иванович! Уж нигде не даст промаху! Смотрите-ка, — кричали они другим, каков же наш храбрый эсаул! Княжна кабардинская дарит тебя богатым убором в знак памяти!» — «Браво! Браво, господин Победоносцев! — кричали другие. Ты нигде не посрамил имени русского героя, не пристыдил нас, но возвеличил твоих товарищей и подчиненных». — «Ну-ка, друзья, за благополучное прибытие нашего доблестного товарища выпьем круговую!» — вскрикнули последние; и Победоносцев не ранее восьми иди девяти часов вечера отделался от куражных своих однополчан и возвратился в свою палатку думать об оставленной своей милой Селиме.
Ночь покрыла уже мраком всю природу: только слышны были сигналы часовых, в цепи расположенных. Главнокомандующий, не доверяя еще кабардинцам, приказал, чтобы пушки и ружья были заряжены, и начальники аванпостов наблюдали осторожность: фитили горели в трубках, и канонеры с бомбардирами, лежа около своих орудий, попивали из своих манерок винцо, закусывали и говорили, что кому пришло на мысль.
Пехотинцы, казаки и кавалеристы сидели в круговниках около огня, шутили один над другим, чтобы от безделья чем-нибудь заниматься.
Казанского пехотного полка гренадеры, отличившиеся больше других в сражениях с кабардинцами, сидя около такого огня и разглаживая свои большие усы, жарили на деревянных вертелах баранье мясо и говядину, наливали из манерок в крышки их вино и, потчуя друг друга, закусывали этим жарким.
«Ну, теперь мы, братцы, вытянули по две чарухи и порядком закусили, — сказал старый, увешанный орденами и медалями гренадер своим товарищам, — так не угодно ли спеть сочиненную нами песенку на кабардинцев? Да смотрите: все хором и дружно, только не очень шибко. Ну, слушать же меня!» Крякает, кашляет и плюет; начинает песню, и прочие ему стройно подтягивают.
«Браво, гренадеры, браво!» — вскричал кто-то при окончании песни, и солдаты, узнав в нем своего шефа, прекрасного, доброго и умного генерала, вскочили поспешно с мест своих и вытянулись в нитку.
«Здорово, ребята! — сказал он гренадерам — и громкие басистые голоса ответствовали по обыкновению. — Веселитесь, гренадеры! Мне очень приятно видеть вас веселыми и во всем довольными. Вот вам два червонца на водку: выпейте завтра со всеми товарищами за мое здоровье».
И громогласное «ура!» огласило кабардинские горы и перепугало жителей, думавших, что русские напали на них врасплох. «Заря давно пробита, ступайте теперь отдыхать, — сказал им шеф, — и не шумите более». Уходит. Гренадеры, благодаря его, уходят также в свои палатки, и, немного погодя, огоньки постепенно потухли в лагере — и, исключая окликов и сигналов часовых, ничего не слышно.
Был уже час за полночь, как луна, выглянув из-за светлых облаков своих, пролила серебристые и ясные лучи на все окрестности.
Гребенского полка пикет стоял ближе всех к лесу, из-за которого вдруг показался вооруженный воин в блестящих доспехах: на шеломе и шишаке его развевались в воздухе багряного цвета белые перья, походка его была скорая, он почти не касается до земли ногами и, казалось, летел, а не шел. Воин приближается к казачьей цепи, и ближний часовой окликает: «Кто идет?» — «Солдат!» — отвечает воин не совсем правильным русским языком.
К а з а к. Что отзыв?
В о и н. Я его не знаю.
К а з а к. А если не знаешь, то погоди немножко, я позову сюда урядника, чтоб он допросил тебя, кто ты. Может, ты и шпион! Эй! пошлите сюда урядника! — закричал часовой.
У р я д н и к (прибежав). Что тебе нужно?
К а з а к. Да вот, господин урядник, какой-то воин и, смотря по его виду и одежде, верно, не русский, пришел к моей цепи и говорит, что не знает отзыва. Допросить его.
У р я д н и к (воину). Кто ты таков?
В о и н. Такой же человек, как и ты.
У р я д н и к. Для чего ты пришел в наш отряд в такие поздние часы?
В о и н. Они для странствующего воина не могут быть поздны, особенно если он имеет самые важнейшие дела донести, кому следует, без замедления.
У р я д н и к. Ну, так пойдем же к начальнику нашего поста: пускай он как знает, так тебя и допрашивает. Часовой, пропусти его.
К а з а к (отнимая ствол ружья от груди воина). Ступай.
Воин сей, сопровождаемый урядником и двумя казаками, приводится к караульному хорунжему, которому урядник доносит обо всем случившемся и об ответах незнакомого воина.
Х о р у н ж и й. Кто ты таков?
В о и н. Я уже прежде отвечал, что человек.
Х о р у н ж и й. Этого мало. По одежде вашей я вижу, что вы человек военный: но удивляюсь, как вы не знаете вое иного порядка. Вы должны отвечать коротко и ясно, иначе вы можете получить неприятность. Опять спрашиваю вас, как ваше имя и что вам нужно в нашем лагере?
В о и н. Это тайна, которую до времени я не могу вам открыть.
Х о р у н ж и й. Какие же ваши намерения?
В о и н. Самые невинные и честные.
Х о р у н ж и й. Если вы не откроете мне причины вашего прихода, то я почту вас за шпиона.
В о и н. Я не шпион, вы ошибаетесь.
Х о р у н ж и й. Нельзя не ошибиться. Я вижу в вас странного и непостижимого человека, и потому, по праву военному, я должен буду отправить вас на гауптвахту.
В о и н. Я могу объяснить мою тайну только одному человеку.
Х о р у н ж и й. А кто этот человек?
Воин хранит молчание.
Х о р у н ж и й. Да говорите скорее, а иначе вы можете вывести меня из терпения, и я вынужден буду отдать вас под караул.
В о и н. Мне не хотелось открыться вам, но если так, то прошу сказать мне, знаете ли вы эсаула Победоносцева.
Х о р у н ж и й. Как не знать, он мой начальник.
В о и н (с радостию). Ну тем лучше! С ним-то одним я пришел видеться и поговорить кое о чем. Вели меня проводить к нему. Я тебе за это останусь благодарен. Он будет тебе за меня порукой.
Х о р у н ж и й. Эй, урядник! Прикажи позвать сюда эсаула Андрея Ивановича Победоносцева и вели ему доложить, что какой-то незнакомый воин желает его видеть.
У р я д н и к. Слушаю, ваше благородие! (Уходит.)
Х о р у н ж и й (про себя и пожимая плечами). Удивительная загадка! Голос у этого воина слишком нежен, а поступки так отважны! Бог знает, что и подумать! Посмотрим, что произойдет далее.
Слышен шум от походки людей, и воин невольно вздрагивает. Победоносцев входит к хорунжему. «Ну что ты, милый Николай Иванович, просил меня к тебе прийти?!»
Х о р у н ж и й. Вот этот незнакомый и чудный воин, пришедший в наш лагерь, требует с вами свидания — и не хочет открыться, кто он таков. Вы, может быть, будете счастливее меня.
П о б е д о н о с ц е в (обращаясь к воину). Кто ты таков и для чего требовал моего с тобою свидания?
В о и н (пожимая плечами). Очень жалею, что ты так скоро мог забыть твоего друга! Я пришел повидаться с тобой, и коли ты так нечувствителен к дружбе, то проститься с тобою навеки! (Вздыхает.)
Победоносцев от радости затрепетал, узнав знакомый ему голос, проникший прямо в его сердце. «О Боже! Это друг души моей! Какими судьбами ты сюда попал?» (Обнимает воина.)
В о и н. Неужели ты думал, что я хладнокровно буду смотреть на твое отсутствие? Если ты так думал, то очень ошибся. Я пришел умереть вместе с тобой, но, пожалуйста, поручись скорее за меня своему офицеру. Я очень устал и хочу отдохнуть у тебя в палатке.
П о б е д о н о с ц е в. Не только словом, но даже жизнию моей и последней каплей крови! (К хорунжему.) Прошу вас вверить этого воина моему попечению. Я надеюсь, что вы это для меня сделаете.
Х о р у н ж и й. Помилуйте, Андрей Иванович! Не только этого воина, но и себя вверяю вам. Вы знаете, как я вас люблю и почитаю.
П о б е д о н о с ц е в. Очень уверен в ваших благородных чувствах и никогда не забуду сей вашей услуги, мне оказанной. (Вынимает из кошелька пять целковых и подает их хорунжему.) Прошу вас эти деньги разделить на ваш караул.
В о и н. А это от меня! (Вручает ему пять червонных.) Теперь, господин офицер, прощайте! Мы завтра с вами покороче познакомимся! (Взяв Победоносцева за руку.) Пойдем скорее в твою палатку. (Оба уходят.)
Х о р у н ж и й. Рука воина слишком щедра и нежна. Тут кроется какая-нибудь важная тайна, но мы завтра все разнюхаем. Эй, урядник! (Тот входит.)
У р я д н и к. Что прикажете, ваше благородие?
Х о р у н ж и й. Вот тебе пять червонных, пожалованных незнакомым воином, и пять целковых — Андреем Ивановичем: раздели эти деньги на наш караул и возьми из них себе один червонец.
У р я д н и к. Покорнейше благодарим вас, ваше благородие, и тех, которые оказали нам сию милость! (Уходит.)
Между тем Победоносцев с воином приходит в свою палатку, где горела восковая свеча, и приказывает своему вестовому скорее согреть чайник и подать бутылку самого лучшего вина. «Ну теперь вы можете, господин воин, снять ваши доспехи без всякого опасения и отдохнуть от дороги».
Воин (я думаю, читатели уже догадались, что это была княжна Селима) сбрасывает с себя шишак, панцирь, кладет копье, щит, шашку и кинжал подле оружия Победоносцева и со слезами восхищения повергается в объятия трепещущего от радости своего возлюбленного.
С е л и м а. Андрей, видишь ли теперь, как я тебя люблю? Неужели ты думал о Селиме, что она перенесет спокойно с тобой разлуку?.. Нет, без тебя мне нее показалось ужасной пустыней в нашем жилище; я обливала слезами подушки и постель, на которой ты лежал у нас; все кусточки, все тропинки, где я с тобой гуляла, окроплены моими слезами. Одна безмолвная природа внимала моим жалобам и стенаниям. Страшная тоска тяготила мое сердце, а душу отчаянье, — и я решилась с тобой соединиться и более уже не разлучаться. Но нам надобно скорее все свершить и завтра же принять крещение и соединиться браком; а то отец мой, хватившись меня, прилетит сюда и уничтожит все наши планы. Воля родителей неотъемлема: но когда мы будем обвенчаны, тогда уже поздно разлучать нас. Согласен ли ты на это?
П о б е д о н о с ц е в (осыпая ее руки поцелуями). Милая, несравненная Селима! Можешь ли ты об этом меня спрашивать? Твое со мной соединение наполняет душу мою небесным восторгом и делает меня счастливейшим человеком в сем мире!
С е л и м а. Итак, завтра, как можно раньше поутру, надобно начать первое, то есть мое крещение в православную христианскую веру, а потом уж другое.
П о б е д о н о с ц е в. Все будет исполнено в течение нескольких минут, милая моя Селима. Теперь выпей эту рюмочку прекрасного рейнвейна: он подкрепит тебя.
С е л и м а. Разве ты забыл, Андрей, что магометанки не пьют вина?
П о б е д о н о с ц е в. Магометанки пусть его не пьют, но нареченная христианка должна выкушать.
С е л и м а. Повинуюсь. За здоровье милого друга и за счастливое соединение наше! (Выпивает.) Ах, какое крепкое! Ведь я буду пьяна.
П о б е д о н о с ц е в. Это еще не беда: тем лучше, скорее заснешь, а я посижу с тобой: но теперь выпей чашку нашего чаю. (Потчует Селиму.) Да не хочешь ли ты чего покушать? У меня есть прекрасный пилав с курицей, который я приказал изготовить в воспоминание тебя, когда ты меня им потчевала, совсем не ожидая столь драгоценной гостьи.
С е л и м а (целуя Победоносцева). То-то же, теперь знай, как любят магометанки!
После чая они занялись разговорами, в которых излияние взаимных сердечных чувствований занимало первое место, и поменялись жаркими поцелуями, но ни одна недостойная мысль не смела коснуться души добродетельного Андрея. Он умел держать себя, как должно честному и благородному человеку, не давая воли своему пылкому воображению. В таких невинных удовольствиях наши влюбленные и не видали, как зарумянился восток, и солнышко, позлащая облака, оживило всю природу.
В это время Селима выглянула из палатки на небо и, обратись к Андрею, сказала:
— Ах, уж день! Мы так приятно провели время, милый мой, что даже не заметили, как миновала ночь. Выйдем на свежий воздух и полюбуемся природой. Взгляни, какое чудесное лазоревое небо! Как приятно алеет оно утренней зарей!
— Да, — прервал Андрей, — оно так же заалело, как твое приятное личико.
Он поцеловал ее в щеку, — и, в самом деле, у Селимы, как у майской благоухающей розы, пылали щеки, а взор ее прелестных глаз делал ее еще восхитительней и представлял в ней Победоносцеву одну из прекраснейших нимф Венеры.
Селима, обняв своей лилейной рукой шею Андрея, сказала ему:
— Видишь ли ты, как величественно всходит солнце.
— Вижу, — отвечал он.
— Так величествен и ты с твоею гордою осанкою.
— Благодарю за комплимент.
— Благодарю за сравнение с алеющею зарею.
Андрей нежно обнял ее, и они долго, в немом восхищении, любовались друг другом. Селима первая прервала молчание.
— Я думаю, милый мой, не время ли нам оставить эти приятные места, и как можно скорее, а то того и смотри, как нахлынет мой отец.
— Это правда, — отвечал Победоносцев, — у нас все в лагере зашевелилось и пришло в движение. Командир моего полка теперь уже давно встал, да и сам генерал, который имеет привычку по зарям несколько времени прогуливаться. Но у тебя, Селима, нет соответственной твоему полу одежды. В чем ты покажешься к ним?
С е л и м а (с улыбкой). Ошибаешься! Посмотри, как я в несколько минут преображусь в амазонку; но сперва дай мне умыться.
И Победоносцев, давно все изготовивший, подставил к ней серебряный тазик и держал в руке своей такой же рукомойник с тонким, белым, как снег, полотенцем.
С е л и м а. Однако ж я по металлу этому вижу, что ты, Андрей, не совсем беден.
П о б е д о н о с ц е в. Нет, милая Селима, благодаря Бога, родители мои богаты; я один у них сын и наследник большого имения. Мы будем жить с тобою в самом цветущем положении.
С е л и м а (тихо, вздохнув). Дай Бог, чтобы это как можно долее продолжалось!
П о б е д о н о с ц е в. Ты вздыхаешь, прелестная Селима! Что это значит!
С е л и м а. Признаюсь, я ужасно опасаюсь твоих жестоких ран, и Боже сохрани, если… (Отирает слезы.)
П о б е д о н о с ц е в. Если я умру? Что ж делать, сей предел для нас неизменим. Только об одной тебе тогда будет страдать и мучиться душа моя. Но ведь я чувствую, милая Селима, что теперь совершенно здоров, а чрез несколько минут соделаюсь благополучнейшим из всех людей.
Разговаривая так, Селима улыбалась и просила Победоносцева оставить ее на несколько минут. «Да мне кажется, и тебе, Андрей, надобно переменить одежду. Неужели ты в этой пойдешь к своим начальникам со мною?»
— Не беспокойся, моя милая Селима, — отвечал Победоносцев, — военный человек знает, когда и как ему одеться, особенно чтобы приглянуться такой хорошенькой, как ты! — прибавил он, затягивая свое щегольское полукафтанье. Он был прелестен в этом полукафтанье.
— Ну вот, и я совсем, — продолжал он. — Военный человек не заставит долго ждать себя, у него живо все кипит.
Он закрутил свои черные как смоль усики и, обратясь к Селиме, сказал:
— Кажется, теперь мы не пристыдим мою милую Селиму.
— Все это хорошо, — сказала Селима, — но позволь мне быть немного неучтивой и попросить тебя выйти из палатки.
— Как! Я уже так скоро наскучил тебе?
— О нет! Я только прошу тебя, чтоб ты не помешал мне поприличнее одеться; потому что, в свою очередь, я не хочу нарядом своим пристыдить моего милого Андрея.
— Благодарю, милая Селима; а я хотел предложить тебе мои услуги и помощь одеться.
— А разве ты не знаешь, что черкешенки не любят одеваться при мужчинах, и потому прошу оставить меня на время.
— Хотя неохотно, а делать нечего, должен исполнить твое приказание, впрочем, с тем только условием, чтоб ты за мое послушание наградила меня по крайней мере поцелуем.
Целует ее и уходит.
По уходе его Селима пробыла несколько минут в самом восхитительном рассеянии. «Ах, Андрей, один Бог видит, как я люблю тебя!» (Становится на колена пред маленьким образом Богоматери с Спасителем, оправленным в золотую ризу с бриллиантовыми венцами, пред коим теплилась лампада.) «Это благословение родителей Андрея, — говорит про себя Селима, — я видела этот образ на груди его, когда он был у нас. Ах! Какие небесные черты на лицах Спасителя и его Пречистой Матери!» Молится с благоговением и слезами по обряду христиан, чему научил ее Победоносцев. Она чувствует восторг в душе своей и сердце, до сего времени неизвестный ей: усугубляет свои моления и слезы и потом, встав поспешно, одевается в приличное платье, которое она с собой принесла из дому и скрыла, чтобы более удивить своего любезного, не заметившего в радости узла под рукой ее, когда она пришла с ним в его палату.
Победоносцев, не смевший нарушить благоговейных чувств своей невесты, богато одетый и подпоясанный драгоценной саблей, подаренной ему Узбеком, имел два ордена на груди своей, высокой и богатырской, показывающие его храбрость и отличие в первых сражениях. Тонкий и стройный стан его обвит был персидским богатым поясом, верхняя одежда его была из самого лучшего английского сукна, с манерным золотым позументом и таким же шитьем, а полукафтанье алого бархата. Прохаживаясь около палатки, он частехонько покашливал, давая то знать Селиме, что он ожидает ее призыва.
С е л и м а. Милый Андрей, взойди сюда, я давно уже готова.
Победоносцев входит и, смотря на Селиму, приходит в восторг и удивление; невеста его одета была также в золотое бархатное платье, вышитое золотом и в бордюр низанное жемчугом и драгоценными каменьями. Нижняя одежда была из розового атласа, шитая серебром. Алмазное ожерелье, алая бархатная шапочка на голове и пояс, также ими украшенный, бросали лучи, не уступающие блеску солнца.
П о б е д о н о с ц е в. Что я вижу! Какое чудное превращение! Селима, где ты взяла эту одежду? Уж ты не повелительница ли духов, принесших тебе эти драгоценности?
С е л и м а (с улыбкой). Вчера ты от радости, увидев меня, не заметил, что я имела большой узел под рукой, с этим платьем и вещами. Я их нарочно спрятала от тебя до сегодняшнего дня; но я вижу, что мы как будто сговорились в одежде нашей одного цвета. Ах, Андрей! Как пристало тебе это полукафтанье. Мне очень нравишься в нем!
П о б е д о н о с ц е в. Да и ты, милая Селима, в наряде своем походишь на пышный цветок роскошного сада.
С е л и м а (зажимая ему рот своей прекрасной рукой). Тише, тише, Андрей, ты уж слишком захвалил меня.
П о б е д о н о с ц е в. Да и всякий на моем месте сказал бы то же, видя пред собой мою прекрасную Селиму. Однако я в самом деле заговорился, а между тем нам с тобой время отправиться к полковнику, а с ним к нашему генералу.
Селима покрыла голову свою прекрасным флером и величественно шла по левую руку своего жениха. Много встречающихся им офицеров останавливались и, знав нашего героя, приветствовали дружески и спрашивали, кто такая особа, его сопровождавшая. Победоносцев коротко им отвечал: «Об этом скоро узнаете!» — и продолжал путь прямо к палате своего полковника.
Вошед в оную, он по долгу службы явился к своему полковнику и потом представил ему кабардинскую княжну. В коротких словах объявил ему все дело, просил его как можно скорее представить их к господину генералу. «Сейчас, милый и храбрый эсаул, — сказал полковник его, весьма добрый и веселый старик, — но сперва надобно мне видеть, Андрей Иванович, за кого я должен хлопотать и достойна ли партия такого молодца, как ты?» — «Очень хорошо! — сказал Победоносцев. — Милая Селима! Подними флер с лица твоего». (Селима исполняет, и старый полковник отступает назад.) «Боже мой, я с роду моего еще не видывал такой красоты! О! Победоносцев, за твои раны, мужество к престолу и отечеству, за твои добродетели и повиновение с благоговением к святому промыслу ты столь сугубо награжден! Ты единственный счастливец в мире, обладая столь великим сокровищем. (Улыбаясь.) Княжна! Бога ради, скройте ваши прелести от взоров старого воина, а то я не ручаюсь за свое сердце!..»
Победоносцев и Селима смеются и, благодаря за столь лестный привет, просят его поспешить представить их генералу, чтобы медление не обратилось ко вреду их.
— Фу, какая пропасть! — вскричал полковник, опоясывая свой шарф. — Да не думаешь ли ты, Андрей Иванович, что кабардинцы отнимут у нас эту звезду незаходимую, луну светлую, солнце красное! Нет, это бредни! Ну ступайте же за мной, да смотрите, не забегайте вперед, а то ведь мне за вами не успеть. (Выходят из палатки. Победоносцев с Селимой следуют за ним по левую руку.)
Пришед к богатейшей ставке генерала казачьего полка, полковник просил их немножко подождать, пока он обо всем донесет ему.
С е л и м а. Андрей! Я что-то робею. Что бы это значило?
А н д р е й. Это оттого, что ты не знаешь светских обращений христиан или европейцев. Генерал наш самый прекрасный, добрый и ласковый начальник. Посмотри, как он нас вежливо примет. Притом же, чего тебе робеть под покровом твоего друга? Успокойся, нас сию минуту потребуют к нему.
В самом деле, в эту минуту выскочивший из ставки адъютант сказал: «Господин Победоносцев, пожалуйте с сопровождаемой вами особой к его превосходительству, господину генералу, он нетерпеливо желает вас видеть». (Поднимает вход в палатку.)
Победоносцев, держа за руку Селиму, подходит к начальнику и просит его высокого покровительства себе и кабардинской княжне, своей нареченной супруге, которая пришла для сего предмета и для принятия христианской веры в их лагерь. В надежде, под защитой его, исполнять сии два священные обета без малейшего замедления.
Г е н е р а л. Для меня очень приятно в сем случае быть вам полезным и отдать вам, господин Победоносцев, при всех здесь находящихся чиновниках, должную похвалу за ваши отличные подвиги противу врагов престола и отечества, как равно и изъявить вам мое удовольствие, что вы уже и между магометан, быв у них в плену, заслужили всеобщую их любовь и уважение и тем прославили вдвойне имя русских воинов.
П о б е д о н о с ц е в. Ваше превосходительство, это есть обязанность каждого воина и честного человека.
Г е н е р а л. Сколько вы в сей первой и ужасно кровопролитной битве с кабардинцами получили ран и во что именно?
П о б е д о н о с ц е в. Только пять, ваше превосходительство, самые опасные в грудь и правую руку, и три в оба бока, не так глубокие и скоро выпользованные искусством кабардинского врача и самыми нежными попечениями сей прелестной княжны и ее родителя князя Узбека.
Г е н е р а л. Я полагаю, что вы должны терпеть ужасные страдания от прежних двух ран? Что вы теперь чувствуете? Как ваше здоровье?
П о б е д о н о с ц е в. Думаю, ваше превосходительство, что я с моим здоровьем должен навек проститься, потому что ужасную чувствую боль и стеснение в груди и, кажется, правою рукою плохо буду владеть: но у меня есть левая для защиты престола и отечества! Еще есть несколько крови, которую я с радостью принесу им в жертву вместе с моей жизнию!
Г е н е р а л. Это очень похвально! Вы заслуживаете за сие все мое уважение, всю мою признательность, и будьте уверены, что я все ваши поступки, геройство и даже столь прекрасные отзывы доведу до сведения нашего государя императора, который умеет награждать столь благодарные чувства и мужество своих подданных. (Обращаясь к великому числу тут бывших штаб-и обер-офицеров.) Господа! Вот примерный молодой человек, отличный воин и благородный во всех своих действиях! Рекомендую вам взять его себе образцом! (К Победоносцеву.) Будьте уверены, что я ваш всегдашний покровитель.
П о б е д о н о с ц е в (почтительно кланяясь). Сии милости вашего превосходительства, оставшись вечным памятником в благодарном моем сердце, заставят меня на предбудущее время не щадить своей жизни, чтобы соделаться их достойным.
Г е н е р а л (взяв Победоносцева за правую руку и пожимая тихо оную). Эта рука, карающая врагов престола и отечества, может быть порукой ваших обетов, вместе с вашими чувствами, которые я уважаю. (К Селиме.) Княжна! Если мои желания не будут для вас противны, то позвольте мне иметь удовольствие видеть открытым лицо ваше.
С е л и м а (вспыхнув). С большим удовольствием, господин генерал!
Снимает флер с головы своей, и начальник со всеми тут бывшими обомлели от удивления, увидев необыкновенную красоту кабардинской княжны.
Г е н е р а л (целуя у княжны руку). Позвольте мне изъявить вам мою радость, видя вас здесь, прекрасная княжна, со столь благим намерением, вами предпринятым. Я сейчас прикажу изготовить все нужное для совершения сих священных обрядов и сам вызываюсь быть вашим при крещении воспреемником, а при бракосочетании посаженым отцом.
Победоносцев и Селима в чувствительных выражениях благодарят его за сию оказываемую милость и честь.
Г е н е р а л (старшему своему адъютанту). Сию минуту изготовить бумагу старшему священнику отряда, чтобы он с прочими священниками немедленно для совершения крещения и брака сих двух особ был в полковой церкви, и со всех полков певчие и музыка, с тремя легкими орудиями, должны быть у входа в церковь; также нарядить пристойное число пехоты и конницы в парад, и чтобы это было исполнено как можно скорее! Когда же все будет готово, мне ту же минуту донести.
А д ъ ю т а н т. Слушаю, ваше превосходительство! (Убегает поспешно.)
Через час все было изготовлено, и генерал, ведя под руку Селиму, другой держа Победоносцева за руку, сопровождаемый многочисленной свитой военных чиновников, прибыл к полевой церковной палатке и остановил чету при дверях храма.
Вдруг загремела музыка, и потом певчие подхватили концерт.
При сем окончании куплета генерал берет Селиму за руку и вводит в храм. Крещение совершилось, и Селима, в оном нареченная Софией, причастилась Святых тайн, и из церкви, сопровождаемая генералом и духовным клиром, подведенная к Победоносцеву, поверглась в его объятия, как будущая супруга.
Музыка при появлении Софии опять загремела, и хор певчих повторил новый концерт.
Войско кричит «ура!» при часто повторяемых из пушек выстрелах.
Наконец все умолкло, и жених с невестой введены были в храм, где и совершилось их бракосочетание, при окончании коего опять загремели орудия, музыка и троекратные крики «ура!».
В пространной цветущей долине, под тенью густых деревьев, раскинута была для новобрачных и гостей богатая турецкая палатка, присланная генералом, другие и большие были раскинуты для желающих отдохнуть, в которых стояли столы с водкой, винами и закуской, в других с плодами и прохладительными напитками, и все это устроил генерал, отец молодых супругов, на свой счет. Победоносцев вручил, с его позволения, пятьдесят червонных главному дежурному полковнику, для порции нижним чинам, бывшим при крещении и бракосочетании его с Софией.
Генерал, проводив новобрачных в сию палатку, выпил за их соединение бокал шампанского и, желая им веселиться, извинился, что дела его отвлекают на несколько часов от них; что он, по отправлении депеш, к ним возвратится разделить общую радость, и ушел.
Вскоре явился пространный и богатейший стол в палатке новобрачных на пятьдесят персон, установленный лучшими кушаньями и напитками, и вокруг палатки сей еще многие столы для офицеров, которые любят попить и повеселиться, когда приведет к тому случай. И, подлинно сказать, нигде не найдешь такой шумной непритворной радости, как в походе, на пирушке товарищей, сдружившихся на ратном поле. Тут человек, не зная, что неумолимая готовит ему завтра, будто хочет истощить все наслаждения того дня, который у него остается. Весело, беззаботно молодежь собирается в кружок: шутки сыплются за шутками, остроты за остротами; все лица дышат откровенностию и чистосердечием, ни гордости, ни чванства не видно ни на одном. А как пойдут рассказы про сердечные приключения — чего тут не наслушаешься! Одна выходка лучше другой, а смеху и конца нет!
Стол окончился: подали десерт, потом кофе и чай, кто что хотел. Все собрание было весело, но радость Победоносцева и Софии лучше можно вообразить, нежели описать. Музыка гремела, пушки палили при повторении тостов: императорской фамилии, главнокомандующему и новобрачным. Певчие пели приличные на таковой случай концерты.
Генерал исполнил свое обещание и пришел провести часок времени с молодыми и гостями. Начались танцы.
Г е н е р а л (к Софии). Я слышал, прелестнейшая София, что пляски вашего народа очень хороши; не можете ли вы сделать для меня удовольствие показать мне сие искусство ваших бывших соотечественников?
С о ф и я. Извольте, почтеннейший начальник и благодетель! Я готова исполнить малейшие ваши желания.
Встает, дает тон музыкантам, как играть черкесский танец, и пляшет со столь превосходным искусством, прелестию и легкостию, что все собрание ей рукоплескает. Генерал поцеловал ее руку, а Победоносцев, прельщенный своей милой супругой, не мог утерпеть, чтобы не заключить ее в свои объятия и не напечатлеть поцелуя на ее алых устах.
Вдруг раздается глухой шум в лагере, подобный приливу и отливу моря после ужасной бури, и наконец все утихает.
Чрез несколько минут входит дежурный штаб-офицер и докладывает генералу о прискакавшей многочисленной толпе вооруженных конных кабардинцев к передовым пикетам нашим. «Предводительствующий ими требует немедленно быть к вашему превосходительству допущен, с донесением о важном деле».
Г е н е р а л. Спросили ли вы, кто сей предводитель кабардинцев?
Д е ж у р н ы й. Князь их, Узбек.
С о ф и я (с ужасом). Отец мой? О Боже! Что с нами будет?
Г е н е р а л (с улыбкой). Ничего! Чего вам опасаться, когда вы под особенным моим покровительством. Дело сделано, теперь уже никакая власть несильна исхитить вас из объятий вашего супруга.
П о б е д о н о с ц е в (тихо своей супруге). Как тебе не стыдно робеть, София, разве ты не знаешь, что я один в силах оспоривать свои права и защищать тебя у всех кабардинцев? Успокойся, все пойдет хорошо!
Г е н е р а л (дежурному). Подите и попросите сюда князя Узбека.
Д е ж у р н ы й. Слушаю, ваше превосходительство! (Уходит.)
Г е н е р а л (к адъютанту). А вы дайте от меня приказание, чтоб десять шестифунтовых орудий готовы были по первому сигналу сделать троекратный залп. Музыканты и певчие также подле сей палатки находились бы, а нижним чинам велел за каждым залпом повторять «ура!».
А д ъ ю т а н т. Слушаю, ваше превосходительство! (Уходит поспешно.)
Спустя около получаса входит в ставку князь Узбек, сопровождаемый многочисленной свитой своих подчиненных и, почтительно кланяясь генералу, изъявляет радость в приветствии, что случай еще раз дает ему счастье его видеть; потом, окинув глазами все собрание, останавливает их на Андрее и Софии, при входе его вставших с мест своих.
У з б е к (протирая глаза). О! Алла! Что я вижу? Дочь моя Селима!.. Зачем ты здесь?
Андрей и София упадают пред Узбеком на колена.
С о ф и я (с умоляющим взором и слезами). О! Родитель мой! Прости меня! Я не могла жить без сего юноши (показывает на Победоносцева), а ныне моего супруга. Разлука с ним прекратила бы жизнь мою! (Целует у отца руки.) Прости дочь твою и благослови союз наш!
У з б е к (отирая слезы). Недостойная, но все еще милая моему сердцу Селима! Как ты могла решиться на столь дерзновенный и опасный поступок, ты, которая была так тиха и невинна! Ах, жестокая, неблагодарная дочь, и ты не думала, что столь постыдным твоим намерением покроешь главу отца твоего бесчестием и откроешь ему путь к могиле! (Проливает слезы.)
П о б е д о н о с ц е в. Мой отец! Мой благодетель! Прости, прости невинную дочь твою и обрати весь гнев твой на меня: я внушил ей первые чувства любви и ее неприметным ей самой образом обратил в христианку. Мы дали клятву пред Богом, на могиле Рамира, принадлежать до гроба друг другу. Дочь твоя, разлученная со мной, в отчаянии решилась со мной соединиться. Она приняла наш закон, веру, она теперь моя законная супруга, и ты да сей человеколюбивый мой начальник (показывает на генерала) стали нашими отцами. Прости нас и благослови! (Обнимает колена Узбека и, целуя его руки, орошает слезами.)
У з б е к. Селима! Ты точно уже христианка и супруга Андрея?
С о ф и я. Точно, родитель мой! Сей добрый начальник (показывает на генерала и прочих гостей) и сии господа чиновники могут вас уверить, что два священные обета по закону христиан исполнились в их присутствии; но вы всегда и до конца дней останетесь нашим нежным родителем. У ног твоих умоляем тебя, прости детей твоих и благослови их союз!
Г е н е р а л (взяв дружески за руку Узбека). Добрый и почтенный князь! Я также присовокупляю мою просьбу к детям вашим — и прошу вас простить их. Дело сделано, его возвратить нельзя. По собственному желанию сей прекрасной вашей дочери, не похищенной у вас ни силой, ни коварством, но пришедшей сюда по собственному влечению ее сердца, я, по данной мне государем власти, разрешил ее просьбу, сам был ее воспреемником и посаженым отцом при их браке; теперь вы обязаны занять у них первое место, а я второе. Послушайся меня, князь, и прости их. Ведь мне уже известно, как ты любил этого молодого человека; старался обратить его в свою веру, женить на твоей дочери, и чрез таковой поступок, если б он тебе удался, Победоносцев был бы отвержен, как нарушитель веры законов и присяги своему царю! Но как судьба сделала сие намерение ничтожным по мужеству сего юного героя, то Богу угодно было обратить дочь твою в христианство и дать ее в награду сему доброму юноше.
У з б е к. Я уважаю ваше предстательство, ваши справедливые резоны, господин генерал, и в удовольствие ваше и с тем вместе по собственному моему сердцу прощаю дочь мою и благословляю союз их! (Кладет каждому из новобрачных на голову свою руку и, читая про себя молитву, говорит им.) Встаньте и падите в мои объятия, вы оба навсегда останетесь драгоценными моему сердцу.
Новобрачные вскакивают, бросаются в объятия Узбека и осыпают его поцелуями.
Внезапный залп из орудий, смешанный с музыкой и громким криком «ура!», заставил невольно вздрогнуть Узбека и его свиту. София со страхом упала в объятия своего супруга.
Г е н е р а л. Это для радостного вашего к нам прибытия, почтенный князь, и в заключение примирения нашего с вашим народом и детьми вашими.
Второй и третий залпы из орудий вскоре один за другим поколебали основание земли — и вдруг сделалось все тихо, как в могиле, но едва только князь поместился и сел между детей своих и генералом, как певчие грянули следующий концерт:
Певчие поют «многая лета», музыка играет, и пальба из пушек продолжается.
Все кабардинцы и самый князь были очарованы таким блистательным торжеством, но еще более удивились, когда в самом пышном азиатском вкусе подан был князю и его свите обед. Все, что только было редчайшего и прекраснейшего у генерала, все было поставлено пред взоры удивленных кабардинцев.
Генерал просил Узбека и его свиту сесть и покушать, чтобы более придать им аппетиту и почестей, сам сел по правую руку князя, а по левую посадил подле него его детей.
Пированье сие долго продолжалось: ибо после стола поставлены были плоды и конфекты, и кабардинцы, вопреки своего закона и веры, смотря по примеру своего князя Узбека, обвороженного лаской и милостями генерала, изготовленное кушанье христианами с таким же аппетитом ели, как и у мусульман. Поданный прекрасный шербет сварен был на малаге, но, по причине разных духов и специй, князь и свита его с жадностью выпили по нескольку сего напитка чашек, совсем не подозревая хитрости русских. Но генералу хотелось посмотреть, каковы магометане бывают, когда сделаются под хмельком.
Князь Узбек и многие из его свиты, совсем не понимая, отчего они стали так веселы, просили дозволение у генерала составить народную их пляску. Сей с радостью на это согласился — и музыканты заиграли кабардинский танец. Вот тут-то пошла потеха! Уханье, скачки, вывертыванье с искусством ног, перелетыванье с одного места на другое доказывали, однако ж, нашим, что кабардинцы превосходят нас и проворстве, легкости и стройности фигуры своего тела, которых они во всех изменениях танца не теряют.
Часу в двенадцатом генерал распростился со всеми и, благословя новобрачных, ушел. По отбытии его началась опять попойка у наших и разные пляски, продолжившиеся почти до света. Тут мало-помалу все разбрелись: Победоносцев дал музыкантам и певчим пятьдесят червонцев и отпустил их. Ковры и подушки разостлали на полу в обширной сей ставке, и кабардинцы полегли один подле другого. Лошади их были прибраны гребенцами, которые от эсаула своего не были забыты.
Новобрачные, испросив благословение у князя, удалились в отдаленный балаган, нарочно для них устроенный и увешанный гирляндами из цветов.
Утро было самое прекраснейшее. Восток, озаряемый лучами восходящего солнца, сливался с пурпуром. Воздух благоухал ароматом от множества диких роз, ландышей и фиалок, растущих в долине. Кроткие зефиры отряхали с них бриллиантовую росу, колебали зеленые ветки кустов, в которых птички славили своими гармоническими песнями дневное светило, величественно восходившее из-за синеющих гор. Кристальные родники шумели в зеленых урнах своих — и алмазные струйки извилистыми ручейками пролагали в тени кустов путь свой.
Победоносцев давно уже встал и, одетый в новое платье, ожидал пробуждения своей прелестной супруги, покоящейся еще приятным сном. Он подошел к ней на цыпочках, чтоб насладиться ее небесной красотою. Розовый румянец оттенял белизну лица прекрасной Софии, алые уста ее улыбались с очаровательной приятностию от сладких сновидений. Темно-русые локоны, рассыпанные по плечам, упадали на полуоткрытую высокую, белейшего снега грудь, на которой покоилась такая же левая рука, а правая закинута была на голову. Она подобна была Медицейской Венере, столь прославляемой и неподражаемой во всех отношениях искусства. Но и та не могла сравниться по неодушевленности своей с сею красавицею. И пламенеющий супруг не мог утерпеть, чтобы не напечатлеть самый пламенный поцелуй на прелестных устах своей прекрасной подруги. София, вздохнув, просыпается. С ангельскою улыбкою протянув свою к Андрею руку и томно вздохнув: «Милый! Ты меня испугал. Я так спокойно спала и не желала бы более пробудиться от самых приятнейших мечтаний, которые представлялись мне во сне. Но ты уже совсем одет, разве давно утро?» — «Солнышко уже высоко взошло на горизонте, — отвечал ей Победоносцев, — пора вставать тебе, милая София! Нам надобно поспешить засвидетельствовать наше почтение твоему отцу, а во-вторых, господину генералу, оказавшему нам столько незаслуженных милостей и почестей при твоем крещении, нашем бракосочетании и угощении. Вставай, милая прелестная моя София, и одевайся скорей». Целует ее в улыбающиеся уста. «Мне хотелось еще несколько минут понежиться и поспать; но когда ты мне приказываешь, то я сию же секунду встану». Потягивается, зевает и, накинув, с пламенным румянцем от стыдливости, на открытую свою грудь прозрачную косынку, говорит: «Милый мой супруг! Теперь уже ничто, кроме смерти, нас разлучить не может. Мы соединены неразрывным союзом, и дай Бог, чтобы оный как можно долее продолжался для нас среди радостей и здоровья, в объятьях вечной любви и верности». Целует нежно своего супруга и прибавляет: «Теперь оставь меня, милый Андрей, пока я встану и оденусь». — «Нет, прекрасная София, уж этому-то не бывать. Ведь это не намеднишняя пора, выгонять меня от себя. Я теперь имею власть и не послушаться».
С о ф и я (с усмешкою). Нет, прошу покорно слушаться, потому что там только счастие и любовь, где покорность и послушанье. Ты согласишься со мной, мой друг.
— Ты, как я замечаю, большая философка, моя милая, — сказал Андрей. — Однако, чем толковать здесь, не лучше ли нам пойти прогуляться и подышать чистым воздухом, — прибавил он, подавая Софии руку.
И они отправились в ближайший лесок, где расстилался прекрасный зеленый луг, испещренный благовонными цветами.
Проведя там несколько времени в приятных разговорах, они возвратились домой, где уже ожидал их посланный от князя Узбека Малек с большим узлом под рукой.
«Ах, Боже! — вскрикивает от удивленья Андрей и София. — Малек, как ты очутился здесь?» Малек, с радостию целуя у них руки и поздравив с законным браком: «Да еще и не один — и любезная моя Фатима здесь». — «Как здесь? — спрашивает с восхищением София… — Какими это судьбами? Или чародейством вы сюда явились?» — «Очень просто, — отвечал Малек, — Родитель, не видя вас, употребил все старание вас отыскать, но, не получив в этом успеха, догадался, где вы находитесь. Сначала это его весьма огорчило; потом он, устремив на небо свои взоры, со слезами произнес: «О Алла! Так тебе угодно было поступить. И я благоговею пред твоим всемогуществом!» И после этого сделался спокоен. «Малек! — промолвил он мне. — Твоя благодетельница, а моя дочь, верно, соединилась с Андреем, без которого она жить не могла. Коли я успею застать ее еще магометанкой и не женой еще сего храброго юноши, то по власти родительской возвращу ее сюда. Буде же уже совершились ее обеты крещения и брака, то я не в силах их разрушить. И потому, если к вечеру не возвращусь с моей свитой сюда и не пришлю сказать о моих надеждах, то это значит, что все для меня потеряно, — и тогда прикажи Фатиме взять все Селимины драгоценные вещи и самую богатую одежду и вместе с ней, при наступлении ночи, отправьтесь в русский лагерь, где я буду уже ночевать, и, узнав, где стою, явитесь ко мне». В точности исполняя приказания вашего светлейшего родителя и не видав его к нам возвращения, я объявил ей волю князя, который для удостоверения дал мне свой именной перстень, чтоб Фатима не могла сомневаться. Мы, с радостию все изготовя, при наступлении ночи пустились с ней в путь и на рассвете пришли сюда. Но вот и Фатима!» (Фатима вбегает, повергается к ногам своей княжны и, в восторгах радости целуя ее руки, орошает их слезами.) «Княжна! Вы уже христианка и супруга Андрея!» — «Да! — отвечает София, подняв и целуя в уста юную и прелестную Фатиму. — Разве тебе это неприятно, милая Фатима?» — «О нет, княжна; я этому очень рада! Теперь вы счастливы в объятиях этого прекрасного супруга. Я и Малек также желаем последовать вашему примеру». (Краснеет и вздыхает.) — «Если только соизволит на сие мой родитель, — говорит София, — то мы с Андреем будем вашими воспреемниками и отцами при браке; ибо я давно знаю, что вы нежно любите друг друга».
М а л е к (подавая Софии узел). Извольте принять, — это прислал вам и вашему супругу в подарок ваш родитель.
С о ф и я. Ах как тяжело! Что-то тут накладено?
Развязывает большой узел, видит все свои драгоценные вещи, и богатые одежды, и большой сафьяновый мешок, шитый золотом, завязанный и запечатанный перстнем ее отца, на коем приколота была бумага с сими, на черкесском языке, словами:
«Князь Узбек милому сыну и супругу молодому моей возлюбленной дочери здравия желает и четыре тысячи червонных ему в подарок, а ей в приданое посылает».
П о б е д о н о с ц е в (с восхищением). Неподражаемый отец и благодетель, сколько вдруг милостей он нам оказывает! (Целует его записку.)
С о ф и я. Истинно добрый отец! (Отирает слезы чувствительности.) Он, узнав о побеге моем, наперед уже предузнал последствия оного и запасся сей суммой денег, приказал Малеку и Фатиме доставить мне платье и вещи, а притом и этих двух добрых людей, верно, нам же хочет подарить.
П о б е д о н о с ц е в. Я тоже думаю. О! Дай Бог ему здоровья, спокойствия и долго пожить на этом свете!
Между сих разговоров София одевается в новое, еще в богатейшее первого платье, и новые прелести лица еще более увеличиваются от блеска каменьев и золота.
Они приходят в палатку, где был князь Узбек со своею свитою, повергаются оба к ногам его и, благодаря за все его милости, целуют его руки и потом кидаются в его объятия, называя его своим отцом и благодетелем, а он самыми нежнейшими их именами.
У з б е к. Это не все еще, дети мои! Я вам уступаю Малека и Фатиму, которых так любит моя дочь, а они ее обожают. Тебе, Андрей, я не замедлю прислать из моего многочисленного табуна самых лучших жеребцов и кобылиц для завода, чтобы все земляки твои тебе завидовали, столь счастливому и богатому. Но я думаю, вам и мне время идти к господину генералу вашему для отдания нашего почтения. Пойдемте вместе к нему.
Берет за руку Победоносцева и дочь свою и проводит их к ставке генерала. Офицеры, бывшие тут на ординарцах, поздравляли князя и молодых, коим Узбек с низкими поклонами пожимал руки, а Победоносцев оделял унтер-офицеров и вестовых, а также и все люди генерала, вчера им прислуживавшие, были щедро одарены.
Князь Узбек очень хорошо знал европейскую политику, ибо в юности своей путешествовал как по России, так и по другим соседственным с оною иностранным городам, и научился вежливости и милосердию у сих народов, что осталось в нем и поныне.
Генерал принял князя и детей его и своих с ласкою, посадив их, говорил умно, приятно, шутил над стыдливой Софией, над Победоносцевым, и даже над самим князем, не могшим устеречь своей дочери от такого молодца, преобратившего все его намеренья в ничто. «Да, генерал! — сказал ему так же шутливо Узбек, — мы два раза бываем глупы: в младенчестве и при старости. Я Андрею много верил, дочь моя также; а он исподтишка, воспользовавшись нашей простотой, обоих нас перехитрил и привел к желаемому концу свои намерения».
Г е н е р а л. Однако же вы ничего из этого не потеряли, добрый мой князь. Дочь ваша будет счастлива с этим молодым человеком, которого я все достоинства и храбрость уважаю.
У з б е к. Господни генерал! Удостоите сих моих и ваших детей высокого вашего покровительства, и и вечно обязан буду вам признательностию: а притом не лишите и меня удовольствия принять в жертву моего к вам почтения и памяти приведенного мной вам коня моего завода, с убором нашей страны. Он здесь, не угодно ли его посмотреть и приказать попробовать его доброту?
Г е н е р а л. Благодарю вас, князь, я никогда не забуду этого приятного моего с вами знакомства! Пойдемте, я желаю видеть ваш сюрприз. (Все выходят из ставки.)
Два кабардинца с великим усилием удерживали коня сего неимоверной красоты. Он бил ногами в землю, ржал и поминутно становился на дыбы. Ковер был с него снят, и генерал со всеми бывшими тут чиновниками поражен был удивлением на богатый его убор.
У з б е к. Ну-ка, милый сын мой Андрей! Сядь на этого доброго коня и покажи нам твое искусство в управлении им. Я знаю, ты не из последних ездоков.
Что-то шепчет ему на ухо, и Андрей как птица взлетел на борзого коня, дал ему шпоры; конь взвился, поднял свою гриву и хвост и в мгновение ока скрылся из виду удивленных зрителей.
У з б е к. Не правда ли моя, господин генерал; каков конь?
Г е н е р а л (в восхищении). Единственный, неподражаемый! (Обнимает Узбека.) Благодарю вас, князь.
У з б е к. Знаете ли, где теперь всадник с этим конем?
Г е н е р а л. Нет, но я полагаю, не более двух верст отсюда.
У з б е к. Ошиблись, господин генерал: он близ нашего аула. Посмотрите, Андрей вам привезет оттуда знак, и не более как в один час.
Г е н е р а л. Но ведь отсюда до жилища вашего будет более десяти верст? Этого быть не может, это невероятно!
У з б е к (с усмешкою). Это безделица! Этого коня можно без отдыха пустить на двадцать верст, и он вынесет из воды и из пламени. Смотрите, генерал! Видите ли вы вдали пыль, столбом поднявшуюся? Это возвращается к нам Андрей.
Г е н е р а л. Не может быть! (Смотрит на свои часы.) Еще нет трех четвертей часа, как он поскакал. Птица не может так скоро долететь.
У з б е к. Да сей конь не уступит ей в легкости и скорости. Это брат младший коню, подаренному мною Андрею; они равны в своих добротах. Я часто, гоняясь за зверями, захлестывал на них плетью волков, лисиц и даже зайцев. Вот какие достоинства имеют эти два коня!
При окончания сих слов показался в виду Андрей, стрелою летевший к ставке генерала; конь ржал под ним и удвоил быстроту свою и в две секунды стал пред удивленными еще более зрителями. Андрей проворно соскочил с него и отдал коня кабардинцам, который был весь в пене, раза два храпнул, перевел дух и как будто никогда не ездил.
А н д р е й (подавая своему тестю два пистолета и кинжал, оправленный золотом и драгоценными каменьями). Извольте, батюшка, домашние вам кланяются и просят скорее к ним возвратиться. Я у них выкурил кальян табаку и выпил чашку шербету.
У з б е к. Видите ли, господин генерал! Он еще там погостил, а то бы еще скорее сюда прибыл. (Подавая генералу пистолеты и кинжал.) Я забыл эти вещи взять с собой. Прошу вас, господин генерал, принять их от меня в знак ваших милостей.
Г е н е р а л. И вечной признательности с моею к вам дружбою. Вы всегда можете ко мне относиться с нашими требованиями, если что будет касаться собственно до вас или до вашего народа.
Обнимает Узбека и дарит ему свои золотые карманные часы, осыпанные бриллиантами, с такой же цепочкой чрез плечо и с прекрасною печатью своей фамилии с гербом.
Г е н е р а л. Прошу также и от меня принять сей знак моей к вам признательности. На сих часах стрелка стоит на десяти, этот час вам будет напоминать обо мне и о приятном нашем с вами знакомстве. (Надевает сам часы свои на князя Узбека, который благодарит его.)
Наконец настал час разлуки. Узбек отдал должное почтение генералу, испросив вторично его покровительства для себя и детей своих, повергся в их объятия, благословил их, оросил слезами нежности, смешанными с горестью о разлуке с ними, и, уверив их во всегдашней родительской к ним любви, обещал сам их посетить. Отдав почтение всем тут бывшим чиновникам и сопровождаемый своей свитой, сев на коня, вскоре сокрылся из вида опечаленных Андрея и Софии, которые, проливая слезы, возвратились в брачный свой полевой покой и там старались успокоиться.
На другой день рано поутру корпус российских войск выступил в обратный путь на свои квартиры. Барабаны загремели с трубами кавалеристов, и, с позволения генерала, проходя мимо его церемониальным маршем, Казанского пехотного полка певчие под музыку запели песню, сочиненную на побеждение кабардинцев и на возвращение войск наших.
Г е н е р а л. Прекрасно! Благодарю вас, храбрые воины, прославившие престол, царя и отечество! Государь наш узнает о ваших подвигах.
Воины, проходя, кричали ему «ура!».
Войска наши благополучно прибыли на свои квартиры, и Победоносцев, принеся в чувствительных выражениях генералу благодарность, спросил позволения отправиться на свою родину, которое и получил от него с особенными знаками благоволения и уверения в награде от щедрот нашего монарха, отправился к своим родителям.
По прибытии наших героев в отечество Победоносцева, родители его, с супругой столь прекраснейшей, а их невесткой, встретили их с восторгами радости. Все друзья и знакомые Андрея спешили засвидетельствовать ему свое удовольствие и восхищение о благополучном возвращении. Всех взоры с удивлением останавливались на прелестной его супруге, переменившей свою одежду на богатое со вкусом платье гребенских казачек, которое почти не имело никакой разницы; но в торжественные дни надевала свои одежды, и взоры зрителей ослеплялись их блеском.
Целую неделю продолжалось торжество в доме Победоносцева родителей. Многочисленные собрания знакомых, друзей и вновь ищущих дружбы и знакомства прекрасных сих супругой увеличивались со дня на день; после сего визиты, ими деланные посетителям, очень весел или прекрасную Софию; путешествуя из одного места в другое, в открытой коляске, а иногда и верхами, чрез цветущие луга, леса и горы, где они открывали новые прелести в природе и наслаждались всем небесным восторгом и блаженством.
София, узнав хорошо веру, закон, обращение и обычаи европейские, вникнув в хозяйство, облегчала труды своей свекрови и была как ею, так и свекром обожаема за свои добродетели, кротость, целомудрие и истинную к ним дочернюю почтительность и любовь. Все знакомые их уважали и любили с искренностию. Слава о красоте Софии распространилась по всей гребенской земле, что и заставляло многих приезжать туда, чтобы удостовериться в истине сего слуха.
К концу года их брака София разрешилась от бремени прекрасным сыном, коего не хотела, как первый залог любви и союза, вверить чуждым попечениям и сама питала его своею грудью, чрез что усугубила радость в нежно любимом своем супруге, который не мог насмотреться на свою прекрасную подругу с малюткою, безотлучно находящуюся при нем.
Князь Узбек, извещенный о даровании ему внука, немедленно к ним приехал с пышною свитою своих подданных и привез им богатые дары, с обещанным числом приведенных прекраснейших коней, усугубив восхищение молодых супругов и увеличив число посетителей, желающих узнать отца прекрасной Софии и посмотреть на блестящую его свиту.
Торжество и собрания вновь начались в доме Победоносцева и до самого отъезда князя, в течение двух недель, продолжались каждый день.
К довершению общей радости, Победоносцев получил от своего начальника чрез адъютанта повышение чина и знак отличия за храбрость, оказанную в сражениях против горцев.
Князь Узбек, распростясь со слезами, им проливаемыми, с детьми своими, сопровождавшими его несколько верст, отбыл в свои владения; а молодые супруги наши возвратились в свои дома и, погоревав о разлуке с Узбеком, их отцом, стали жить по-прежнему в вечной радости и удовольствии.
Пять месяцев по рождении сына, названного Аркадием, супруги наши наслаждались благосостоянием и цветущим здоровьем, как вдруг в самую полночь Андрей сделался жестоко болен. Он почувствовал ужасное давление в груди; сильный кашель со рвотою кровью в нем открылся, и наш герой почувствовал, что силы его совершенно оставили. Глубокие раны в груди и правой руке его растворились и сделали сомнительным его выздоровление. Призванные доктора, сделав консилиум, приступили к пользованию юноши героя, уже осеняемого тению смерти, но все их искусства оставались безуспешными. София, нося ужас и отчаяние в душе своей об опасном положении своего обожаемого супруга, послала нарочного к отцу своему и просила его как можно скорее к ним приехать и привезти с собою врача его Бразина, «ибо, — писала она к нему, — милый мой супруг, а твой нежный сын Андрей, находится при последних минутах жизни и хочет меня покинуть вдовою с бедным сиротою, нашим маленьким сыном».
Сие известие жестоко поразило сердце и душу чувствительного Узбека, ибо он любил Андрея не менее своей дочери; но он сам лежал на одре болезни и никак не мог исполнить просьбу и желание своих детей. Увидев из письма Софии, что раны, на груди и на правой руке ее супруга отворившиеся, открывают ему преждевременно могилу, он вспомнил, кем ему первая нанесена, и слова своего зятя, что он сам носит смерть и груди своей от руки его сына, еще более увеличили его отчаяние и повергли в вящую против прежнего болезнь. Написав чрез великую силу ответ к своей дочери, в оном излил он всю свою к ним нежность, с благословением и жестокою скорбию о положении любезного ему Андрея, приложил к нему драгоценный свой перстень и, призвав Бразина, вручив ему оные, приказал, не жалея лошадей, скакать что есть духу к детям его и все употребить искусство для спасения Андрея, умирающего от ран своих. «Я это прежде предвидел, — отвечал Бразин, — и дал знать княжне, но от тебя это скрыл, чтобы не огорчить. Я сейчас скачу туда, и коли Алла мне поможет возвратить жизнь Андрею, то я знаю, что ты окажешь мне твои милости». — «Поспеши, Бразин, исполнить это, и богатая награда тебя ожидает здесь. Скорее отправляйся с этим посланным от дочери моей и извести меня, что произойдет там». (Бразин уходит.)
Болезнь Андрея со дня на день увеличивалась. Все доктора и даже присланный генералом искусный врач не подавали никакой надежды на его выздоровление, даже назначили день и час его смерти; но Софии об этом сказать опасались.
Прибыл Бразин с письмом и подарком и влил некоторую надежду для больного и Софии, еще более огорченной болезнию своего отца. Сей врач, осмотрев больного, побледнел, сомнительно покачал головою и тяжело вздохнул. Сие не могло укрыться от прозорливости Софии, и она горько зарыдала. Однако ж искусство Бразина продлило на несколько дней жизнь Андрея, он почувствовал некоторое облегчение и, дав об этом знать прелестной своей супруге, наполнил ее душу восхитительною радостию; но она недолго продолжалась. Облегчение раненого было преддверием смерти его, и Андрей, невзирая на все попечения и искусство своих врачей, в двенадцатый день своей жестокой болезни тихо испустил дух свой на руках милой супруги, смертельным ударом пораженной, имея от рождения только двадцать три года. Судьба неумолимая лишила в нем лучшего воина, верного друга, прекраснейшего из мужчин, самого пламенного и нежного супруга и сына почтительного, верного подданного престолу и отечеству, столь страшного врагам их своей исполинской силой, искусством и мужеством в ратоборстве.
София, увидев, что супруг ее более уже не существует для нее, почувствовала хлад смерти, разливающийся и ее сердце и во всех жилах. Она не пролила и и одной слезы над его прахом. Сердце ее окаменело; душа и все чувства ее были умерщвлены. София была бледна как смерть, трепетала, отчаяние пылало в голубых ее глазах — и ноги отказывались ей служить. Родители Андрея и много друзей и знакомых, бывших тут при его кончине, ясно видели страдание сей несчастной и опасались или помешательства в уме ее, или удара, который не замедлит ее поразить.
Она по просьбе их удалилась со своей свекровью, нежно ее любящей, в свою комнату, села на стул — и в мертвом молчании, склонив прекрасную свою голову на белую руку, неподвижный устремила взор на небо, как будто укоряя его за судьбу свою. В сем положении провела она несколько часов. Все утешения, все слезы ее свекрови, Малека и Фатимы, которые ею с покойным супругом были окрещены и названы — первый Минаем, а вторая Фионой, сопряжены были браком, — рыдающие у ног ее и осыпающие поцелуями ее руки и колена, не сильны были привести ее в жалость и возбудить от смертной бесчувственности.
Так прошел первый день смерти Андреевой. София часто приходила смотреть на хладный прах своего милого друга, с равнодушием смотрела, как клали его в гроб, обитый алым бархатом с золотыми скобками и позументом, поставленный под таким же балдахином на высоком катафалке. Увещания духовного их отца, разумного священника, ничего не действовали на душу и сердце злополучной Софии, — и она всю ночь просидела без сна подле гроба своего супруга.
На другой день, когда священники с причтом собрались, при многочисленном стечении друзей, знакомых и разного звания людей, служить по усопшем панихиду, — София входит в сию печальную комнату, обитую черным сукном, в самой той одежде и уборе, в которых она венчалась с Андреем, кланяется на все стороны и трепещущим голосом произносит, держа в руках маленького своего сына, весело на нее смотревшего и улыбавшегося как ангела, — следующие слова: «Его уже более нет на свете! Нет милого обожаемого мной моего супруга! Он оставил меня горестною вдовою с сим невинным младенцем и сиротою, нашим сыном, влачить горестную без него жизнь среди слез и отчаяния!.. Бог видит, как я его любила при жизни и как люблю по смерти. Давно уже ужасная тоска глодала мое сердце и душу, которая была предвестницей скорой нашей разлуки. С самого дня болезни нежнолюбимого супруга моего я носила уже образ смерти в убитой душе моей. Жребий мой совершился!.. И не могу жить без него ни одной минуты, но клянусь и призываю в свидетели исповедуемого мной Бога, при духовном отце моем, всех их священнослужителях и всем народе, что никогда пагубная мысль о самоубийстве не осеняла души моей. Но для меня ударил последний и самый сладкий час соединения с моим супругом. (Подносит своего сына к образу Богоматери и став пред ним на колена и подняв вверх своего малютку.) Тебе, заступница смертных, Пречистая Дева, матерь моего Бога, тебе вручаю сей нежный и законный плод нежного союза, этого несчастного сироту! Осени ею твоим непроницаемым покровом, будь его путеводительницею и соделай столь же достойным, как покойный отец его, но гораздо счастливейшим его злополучных родителей! (Встает и подносит сына к своей свекрови, кладет его ей на руку и говорит.) После сей великой заступницы ты примешь титло его несчастной матери. Научи его быть таким, как был твой сын, а мой обожаемый супруг. Простите, если я в чем пред вами виновата!» (Упадает на колена и целует ее руки.)
С в е к р о в ь (поднимая ее вместе со своим супругом). Милая София, драгоценная дочь моя! Что с тобой сделалось? Ах! Ты поражаешь сердца наши двойным ударом! Неужели и ты хочешь нас оставить в злой горести, слезах и отчаянии, без подпоры и утешения влачить дни наши и оставить сего малютку невинного сиротой? Милая София! Почтительная дочь, успокойся! Бога ради успокойся!.. Что ты это вздумала? Ведь отчаянием и даже своею смертию не воскресишь твоего милого друга. О София! Не прогневляй Бога таковым поступком и положи на него все твои надежды. Он тебя успокоит! Посмотри, как твой сын с наполненными слез глазами протягивает к тебе рученьки свои, как бы умоляя не покидать его сиротою! Неужели плач невинного твоего сына не силен привести тебя в жалость и рассудок?
— Нет, — отвечает ей трепещущая всем телом София, — нет, я не могу жить без него, без сего драгоценного друга души моей, лежащего без дыхания в сем гробе! Я должна с ним соединиться!.. Уже ангел смерти поражает меня мечом своим! Прости!
Идет ко гробу своего супруга. Аркадий испускает жалобный вопль и протягивает к ней свои ручонки. София возвращается к нему, целует его нежно, отирает горькие слезы с глаз его своею рукою, благословляет и удушающим от скорби голосом говорит: «Успокойся, сын мой, Господь над тобой. Ты у такой же нежной матери остаешься на руках. Прости! Ангел-хранитель да будет над тобою!»
Еще раз его целует и поспешно идет ко гробу своего супруга, входит на самую последнюю ступеньку, приближается к милому ей праху и, произнося громко: «Драгоценный супруг! Я иду к тебе», упадает на гроб его, — и прекрасная душа Софии вместе с тихим вздохом вознеслась на небо.
Родители Андрея и многие из друзей его, бросаясь спасти Софию, отвлекают ее от гроба; но она уже не существовала более ни для кого. Все (с ужасом): «О Боже! Она лишилась жизни!.. Вот пример необыкновенной супружеской любви!»
Так скончала жизнь прекраснейшая и добродетельнейшая из смертных, нежная и верная супруга! Кто не прольет слез, читая сии строки, тот не имеет небесных чувств сострадания, и пусть лучше, не читая моей повести, бросит ее в огонь.
Гроб переменили и положили сих нежных супругов в один еще гораздо великолепнейший первого, чтоб и по смерти не были они разлучены.
Друзья кладут из роз сплетенные венки в гроб нежных супругов и, рыдая, отходят от их праха.
Так скончала жизнь свою бывшая прекрасная магометанка, сделавшаяся впоследствии самой набожной христианкой, и на гробе милого супруга дала собой пример прекрасному полу и нежной любви и верности.
Похороны были богатейшие, при многочисленном стечении народа, проливающего о ранней их кончине слезы. Над могилой их поставлен был драгоценный памятник, с плачущими: отроком, опершимся одной рукой об урну, из коей видны были два сердца, стоящим на своем туле и держащим в другой руке переломленную стрелу и лук с ослабленной тетивой; с другой стороны — Гименеем, утушающим брачный пламенник одною рукою, а другою (держащим. — А. Р.) два цветочных венка, положенные на их урну, с надписью их лет, красоты, добродетелей и горестной смерти. Четыре густых липы осеняют прах их, и обсаженная цветами могила каждую весну и лето благоухает ими. Певец природы, милый соловей, свивший гнездышко на одном из сих дерев, в это время поет столь прелестно, как на могиле Орфея!
Родители Андрея обратили всю нежность свою и попечение к оставшемуся их внуку, и Аркадий, пришед в возраст, оправдал их воспитание и надежды. Он заключал в себе достоинства своих родителей: имел прелестнейшие черты лица своей матери и отца, был силен, храбр, великодушен и верен, как покойный отец, и столь же нежен в любви и кротости, как его мать. Он отличался во многих сражениях, как и отец его, и, получив две раны и знаки отличия, по неотступной просьбе деда своего и бабки вышел в отставку, женился на прекрасной девице и жил весьма счастливо.
Каждое воскресенье он, в сопровождении своей супруги, своих воспитателей, друзей покойных родителей и верных слуг их Миная и Фионы, ходил служить на могилу их панихиды, раздавал бедным милостыню, призирал вдов и сирот и так от восхождения солнца и до заката оного беседовал с нищими под тенью дерев, осеняющих прах его добродетельных родителей.
Князь Узбек, извещенный возвратившимся Бразиным о преждевременной смерти Андрея и Софии, едва начинающий выздоравливать, был жестоко поражен сей утратой нежно любимых детей своих; болезнь его опять возвратилась, и он, к сожалению всей страны кабардинской, жен и детей своих, чрез несколько дней окончил жизнь свою, завещал пред своею смертию сыну своему Паладину держаться тех же правил, какие он имел во время своей жизни, т. е. уважать и любить христиан, в особенности русских, которые не только славны своими победами в целом свете, но также и своими добродетелями; запретил ему под заклятием принимать примеры с кабардинцев для разорения, грабежа и убийства от набегов их на страны русских, которые после мстят за сие оружием, не раз уже заставляющим их народ просить пощады, по жестоком кровопролитии похитившим лучших воинов страны кабардинской, а в том числе его брата Рамира, убитого в последнем сражении: приказал питать родственную любовь и дружбу к малютке, сыну его сестры Селимы и Андрея, коих рановременная смерть открыла отцу его могилу.
Паладин в точности исполнял приказания покойного отца своего и несколько раз был в доме покойной сестры своей и Андрея с богатыми дарами для своего племянника Аркадия, который, по возрасте, также платил ему своим посещением и дарами своей земли, и вместе с ним и двумя сестрами его матери Софии, беседуя на прахе могилы своего деда Узбека и его сына Рамира, проливал слезы и, прогостив у них несколько дней, возвращался с чувствами благодарности и дружбы в свой дом.
Миша Евстигнеев
ЧЕРТ В ПОМАДНОЙ БАНКЕ
(Не вру, сейчас провалиться!)
Шутка к масленице{1}
Глава I
БАНКА ПОМАДЫ
Я вам скажу, милостивые государи и государыни, нет ничего неприятного иметь широкую поверхность головы, гладкую, как ладонь; то есть — это я говорю не относительно одного хозяина — владельца этой гладкой поверхности; но так, на мой взгляд, некрасиво смотреть и на чужие гладкие, природою обиженные головы.
Или мне так думается. Изволите видеть: у меня так гладка поверхность моей сорокапятилетней головы, что парикмахеру очень совестно брать с меня даже за стрижку волос; оно, знаете, и сам сознаюсь, что многонько за какой-нибудь десяток-другой волосов; но зато у меня очень хорошенькие бакенбарды и он всегда так прекрасно их расчесывает, что я решаюсь отдавать ему гривенник без торгу.
Но что главное со стороны этих нескромных цирульников, что они обличают с сожалением мой недостаток.
— Ах, сударь! Как у вас мало волос!
— Ах, сударь! Как широка ваша лысина!
— Отчего, сударь, так облезла ваша голова?
Такие парикмахерские вопросы сильно раздражали меня, но я по своей скромности не имею способности браниться, в ответ на участие постороннего и с телячьей смиренностью отвечаю бывало на вопрос:
— Да, господа! Большая неприятность для холостяка иметь такую голову; оно под шляпою или ермолкой не видать, а как, примерно, кому отдать поклон, ну тут сейчас и заметно: «наше почтенье».
Вот таким-то побытом{2} я все и маялся; как чуть какой-нибудь цирульник заговорит про мою полированную голову, а я себе и мотаю на ус: «Не знает ли он какого-нибудь домашнего секрета? А этим публикованным секретам я не больно верю: мало ли что печатают…»
Тут мне сейчас один рекомендует макассаровое масло{3}, другой рекомендует макассаровое масло с ромом, третий, опровергая макассаровое масло с ромом, советовал репейное масло с водкою, четвертый советует свиное сало с пырейным маслом, пятый… Э, да это и не перескажешь. Уж я пичкал и пачкал свою голову… так только сказать одно: вспомнить, страх берет! А ведь ни одной волосинки не прибавилось — заметьте.
Соберутся товарищи. «Эх, Максим Авдеич! Скоро ли мы на твоей свадьбе пировать станем? Тебе жениться давно пора, у тебя уж и лысина открыта». Смоются, конечно.
А Максима Авдеича от этого слова словно кто по лысине обухом ударит; знаете — все слабость к прекрасному полу одолевает. Однако и знаете, все думается… Не показывая вида и скажешь: «Да что, господа, хорошо бы и в самом деле — сватайте».
А приятелям-то и на руку посмеяться насчет ближнего; захохочут да и пойдут кто во что горазд:
— Ты бы пошел поворожился.
— Ты бы посоветовался с кем-нибудь.
— Ты бы сходил на Кузнецкий… чего там нет. Наверное, такую глупость, как твою лысину, чем-нибудь залепят.
Все этакие фразы и откалывают. Им, знаете, хорошо, как голова словно лес; а у меня словно степь Сахара, да еще, пожалуй, относительно глаже, та хоть с песком, а я свою голову веду в чистоте.
Только все эти насмешки я переносил с великим хладнокровием. Ну, думаю, посмеются, да и перестанут. Хорошо-с!
Ко мне, знаете, каждый день будочник носит «Полицейские»{4}. А я всякий день их читаю. Знаете, некоторого рода развлечение приобретаю. Без супруги, знаете, ведь и полицейская газета — тоже некоторого рода удовольствие.
Только что же: вдруг вычитываю: «Нет более плешивых». Как так, думаю я: неужели все в Москве плешивые вдруг заросли? Даже при этом мои остатки волос поднялись с висков дыбом. Пойду к Софрону Софронычу, посмотрю и, знаете, газету взял с собой на случай, чтоб он не придрался, ведь он сутяга, за все в суд волочет. Вот я взял «Ведомости» с собой в карман. Прихожу, поздоровкались, как следует, я, знаете, мельком взглянул робко на приятеля и говорю:
— Софрон Софроныч! Что ж ты, брат, плешивый?
— А ты, дурак, разве в двадцать лет ни разу не видел меня плешивым, а еще товарищ! Да я думаю, в пятнадцать лет по волоску в день и то много вылезет: ну-ка, сосчитай — сколько вылезет, да сколько вычешешь, да сколько жена вытеребит?
Я на вопрос приятеля призадумался.
— За что же меня жена будет драть, если у меня на голове ничего нет?
И даже чрез три минуты обрадовался этому обстоятельству, думая, что жене меня не за что драть.
— За дело, голубчик, за дело! — как бы отвечая на мое размышление, отвечал Софрон Софроныч, наливая рюмку очищенной.
— Я не об том вас спрашиваю, — начал я опять, — вы поймите меня, Софрон Софроныч, вот в газетах я прочитал, что тут уверяют: «нет более плешивых».
— Ну-с! Что далее? — доспрашивался Софрон Софроныч.
— Я, доверяя печатному слову, думал, что ваша голова заросла волосами.
— Ха! ха! ха! Да мне пятьдесят, а тебе сорок пять, твоей бы следовало скорее исправиться.
— Что же это значит? — спросил я в недоумении, будучи от природы тупоумен.
— Это значит, что ты дорастешь до моего разума чрез пять лет и поймешь! Это вестимо при тебе?
— При мне, — отвечал я вопрошающему.
— Читай все по порядку, — сказал он.
Я начал:
— Нет более плешивых особ из числа тех, которые, имея возможность приобрести у нас хотя одну банку живительной эссенции, прибегнут к нашему средству, которое составляет единственный случай к оживлению волосяных корней, увядших вследствие сильных забот, разработки умственных идей, восприятия мыслительных работ и прочее, и прочее, и прочее. Тот из них, кто испытает на себе наше средство, только может понять всю важность предложения и оценить на практике добросовестность предложения.
— А, так вот что? — сказал я. — Спасибо, Софрон Софроныч, а то бы без твоего рассмотрения никак не мог бы догадаться читать далее. Скажи теперь мне, как же это?
— Помилуй, братец, сам разбирай. Купил банку, натер лысину и жди: что будет! Станет зарастать волосами, скажи спасибо, а нет — брось всю эту дрянь за оконце — и кончено.
— Так как же? — опять спрашиваю я.
— Так же! — отвечал он. — Что я говорю, так по-моему и делай.
Я подумал: не худое дело попробовать, а если потерплю убыток, то ничего, знать, не поделать, а потратить, видно, полтинничек.
Распрощался с своим сердитым приятелем и прихожу домой. Пришел и думаю:
— Что, если правду говорит Софрон Софроныч, что помазаться, да и жди, значит, жди! Ну жди, все же жди, — а коли не пробовать, так и так ничего не будет, не опробовавши, подавно ничего не будет. Как бы это так попробовать, чтобы и ошибки и изъяну не было?
Думал, да и надумал только одно: опробовать, не опробовавши, следовательно, правды не доберешься, практика — всему делу голова. Обдумавши так, прихожу по объявлению в магазин.
— Вы публиковали, — говорю я, — что «нет более плешивых»?
— Я! — говорит содержатель магазина.
— Послушайте, — говорю я, — а это что? — и обнажил пред ним свою голову, гладкую как ладонь.
— Известно — плешь! — отвечал содержатель магазина.
— Плешь! — убийственным голосом отвечал я, — зачем же говорить, что «нет более плешивых».
— Ведь вы у меня не покупали помады? — сказал магазинщик. — А вы купите и приходите чрез месяц с этими придирками, а теперь или купите помаду, или прекратите разговоры. Тот, кто желает приобрести моей помады, тот не претендует мне ранее времени, а потому я только получаю похвалы, отчего я и печатаю подобного рода объявления.
Мне не хотелось разговаривать с содержателем торгового заведения; может быть, думал я, он говорит правду, а я зачем буду противоречить, не зная настоящего дела. Куда ни пошел полтинник, наплевать! Попробуем, авось-либо не проиграю и не обнищаю, и купил банку помады.
Купил банку, принес домой, поставил на шифоньерку и думаю:
— Что делать, не сходить ли в баню натереться? Может, действительнее будет средство, или уж попробовать дома?
И решил дома употребить это средство, чтобы никто не видал моих экспериментов и не сглазил.
— Вот, — думаю, — как чрез две недели взглянут на меня товарищи, — так сдивются, когда моя гладкая поляна начнет зарастать; пожалуй, не узнают, — и заключил, что не узнают приятели, а до того времени решился не казаться никому на глаза.
Скинул с себя верхнее платье, взглянул в зеркало на голову, потер темя чистым полотенцем, и мне показалось — оно еще шире и ужаснее, я отвернулся от своего изображения в зеркале и схватился за спасительное средство.
Банка такая уютненькая, красивенькая, даже показалось мне маловатою, однако делать было нечего, как ни мала, да, может быть, пользительна, и с нетерпением вскрыл банку. О, ужас наших дней, что я в ней увидел!!!
Глава II
ЧЕРТ В ПОМАДНОЙ БАНКЕ
В банке сидел вместо помадной массы черт! Я сперва думал — мышь, схватил за хвост, тащу, знаете, оттуда… глядь — черт! Даже оторопь взяла да и досада, на первых порах, что вместо помады за полтинник черта приобрел. Которые путаются и так по свету во множестве, по сказаниям старух — задаром в услуги навязываются.
— Милостивый государь! Милостивый государь! Помилуйте! — пищал черт.
Знаете, крепонько хвостик прихватил, вот ему и больненько.
— Нет, мошенник! Вот я тебя, подлеца!.. Да помадчику достанется… вот я вас! — сказал в ответ и, разгорячась, хотел было его об угол головой.
— Пощадите, милостивый государь, что вы это? Ведь я не мышь какая! Чай, видите.
Оно действительно, чертенок был достоин наблюдения: во фраке, приличная пара платья, лакированные сапоги и даже в руках была шляпа, а на руках перчатки. Словом, чертенок был одет франтиком.
— Ого! — подумал я, — да это что?.. я теперь, приятель, тебя не выпущу; сейчас пролетку — и марш в Зоологический, там всякую тварь принимают. А такой скотины, как ты, там давно ждут.
— Пощадите, благодетель мой, разве я на посмешище осужден? Вы знаете, что великий Линней и Бюффон{5} нас не включили в свою классификацию.
Я сообразил, что гораздо пристойнее чертенка отправить в музей, и начал запихивать его обратно в помадную баночку. Чертенок упирался.
— Нет, приятель! Хоть ноги твои поломаю, а посажу тебя обратно. В музей можно как редкость препроводить. Большое спасибо скажут.
Чертенок взревел не своим голосом:
— Помилосердствуйте, благодетель, ведь меня там посадят в спирт, без смерти смерть! — говорит тонким сопрано пленник.
— А! Не любо?.. негодяй!.. Нет, так не расстанусь. Хоть шарманщику отдам. По крайности бедный человек хлеба кусок чрез тебя наживет. Ведь наживали деньги за Юлию Пастрану{6}; а ты будешь еще почище. Чертей мало кто видал, а кто и видал, так разве с сильного перепоя.
— Нет, уж лучше отпустите. Знаю я этих шарманщиков! Начнет еще, пожалуй, по канату плясать учить… они живодеры!.. Все косточки переломают, от них и чертям тошно будет. Лучше отпустите… я нам окажу услугу, по век не забудете.
— Какую услугу? Говори! Что за услугу можно получить от чертенка? Вот истратил задаром полтинник, купил такую мразь.
— А вы думаете — свиное сало лучше, чем я? Все одно! Ведь послали бы и банку и помадчика к черту, как не пошло бы в прок.
— Свиное? Тут не свиное, а медвежье сало, придающее растительность, развивающее деятельность волосяных корней и прочее, — говорил я чертенку словами содержателя магазина.
Чертенок так захохотал, что у меня зазвонило в ушах.
— Нечего вам делать, больше ничего… Однако я не специалист по этому делу и не буду спорить, а только скажу вам: я знаю, для какой цели вы хотите обрасти волосами… Вы хотите — жениться! Ведь это общая страстишка старых холостяков, — сказал чертенок, устремив на меня насмешливый взор.
Он угадал. Я действительно был заражен этой прихотью с юных лет. Я улыбнулся.
— Ну так что ж?
— А то, — отвечал чертенок, — что мог бы этому помочь советом.
— Как так?.. Что же, и посватал бы богатенькую?
— Богатенькую, — отвечал черт.
— И хорошенькую?
— И хорошенькую, — отвечал пленник.
Я растаял от слов лукавого беса, и он мне показался даже за это хорошеньким.
— А отпустишь ли меня?
— Теперь все же не выпущу до самого совершения свадьбы. А там — что будет.
— Хорошо и на этом. Я обделаю скоро, — сказал бес.
И чтобы удобнее мне было слушать этого фантастического гостя, я привязал его к керосиновой лампе на нитку.
— Ну-с? Начинай свой план.
— Прежде, чем план, я должен предложить условие: отпустить меня прямо после свадебного вечера. Я уверен, что вы без меня управитесь.
— Конечно… если все будет к моему счастию.
— На все, милостивый государь, должны быть глаза. Невеста есть, хотя не первой молодости, но высока, стройна, богата, полна, словом — все достоинства.
— Ну, ступай, сватай.
— Мне теперь идти нельзя — я ваш пленник. Но советую послать туда сваху Дормидоновну.
— Это какая такая Дормидоновна? — спросил я.
— Известная всему городу старушонка, такая дельная, что я многому у нее сам понаучился, — сказал чертенок.
Я узнал от беса адрес и послал тотчас к ней письмо.
Чрез полтора часа Дормидоновна сидела у меня в гостиной.
Глава III
СВАХА ДОРМИДОНОВНА
— Уж больно, батюшка, невеста хороша, по твоим летам да по солидности самую молоденькую и не след. Будет на офицериков да на всякую молодежь заглядываться.
— Так, так, Дормидоновна! Я и сам не охочусь за вертушками, мне нужна хозяйка, — говорил я свахе.
— Так, так, кормилец! Что говорить, — продолжала сваха.
— У меня — сама посуди — тоже дом, велик ли, мал ли, а своя хоромина.
— Вот и я об том же… Э, кормилец! Такая красавица, да полная, да здоровая — кровь с молоком; пара вы с ней будете, уж напредки говорю — сойдетесь. Только, кормилец, насчет головушки-то позаботься, чтобы она этого не заметила. Прикрыл бы ее чем-нибудь… есть вон у меня палихмахтер знакомый. Данилычем звать, недорогие делает, рублика за три славный парик предоставит тебе.
— Непременно, Дормидоновна, непременно куплю. Да ты, смотри, невесте-то ни гугу, — говорю я.
— Ну вот еще, кормилец! Не дура я… аль, там, не помешанная!.. Порядки знаю, у меня и не такие женихи с рук сходили. А ты что — кровь с молоком!
Правду сказать, у меня давно кровь и молоко с лица пропали, да для красного словца нельзя же и свахе не приголубить жениха.
— Так-то, Дормидоновна!.. А ты бы мне фотографический портрет доставила, я бы полюбовался ею.
— Что ты, кормилец! Да разве такая богачиха позволит потреты свахе носить по женихам. Ныне это вывелось; говорят: «Наши потреты — не вывески с цирульни, чтобы всякой на них смотрел». А ты лучше съезди со мной, ночью увидишь и мне спасибо скажешь, старухе.
— Ну так, значит, стоит посмотреть, а там и по рукам, — сказал я.
— Да, кормилец, долго нечего откладывать, послезавтра и съездим. Ты не молоденькой, сам все с ней перетолкуешь, а мне одно только сказать: дама личмяная{7}, видная, брови черные, как бобровые. А уж дорогих вещей, одеяния, денег… Ну, батюшка, только считай. На фуртопьянах так и заливается. Зубы как жемчуг. Чудо! Не красна я говорить, не так бы похвалить надоть.
Поговорив несколько времени, я дал в зубы свахе целковый, и довольная Дормидоновна поплелась восвояси.
Глава IV
СОБЕСЕДНИКИ. Я И ЧЕРТ
— Так, приятель! — сказал я черту. — На первых порах дело твое оправдывается.
— Я справедлив, как черня! — сказал черт. — Теперь я вам советую приобрести парик, да не говорить о доме, что он у вас заложен. Это первое. Если все знают, что он ваш, это уже много говорит в вашу пользу — и невеста ваша!
Потом, при свидании с невестою, будьте как можно предупредительнее и почаще говорите о ее красоте. Это льстит женскому самолюбию — и невеста ваша!
Увидя на шее ее прекрасный фермуар{8}, не спрашивайте о его ценности, а только хвалите ее вкус — и невеста ваша!
Когда она будет вас угощать, пробуйте всякое из блюд, а то, которое она будет хвалить по преимуществу, то есть или собственного ее приготовления, или очень любимое ею, то блюдо восхваляйте донельзя — и невеста ваша!
Не спрашивайте ее лет и не говорите о своих — и невеста ваша!
— Значит, я вперед утешаюсь надеждою, что невеста моя, любезный черт?
— Ваша! Ваша! Ваша! — пищал дьяволенок, и я приготовился.
Достал мой давно не троганный фрак, отдал выутюжить шляпу, приобрел парик, какой-то долговолосый и похожий на собачью шкуру болонки.
Наступил день свидания. Часа за два до прихода свахи я уже был совсем готов, и, признаюсь пред публикою, из меня вышел преопрятнейший жених; полная черная пара платья, галстук черный шелковый а-ля англес{9}, манишка была с запонками настоящими золотыми, шею украсил настоящей золотой цепочкой, в карман положил часы, напоминающие собою испанскую луковицу, которую я видел на тарелке в буфете Троицкого вокзала. Парик, бережно надетый на голову, мои собственные бакенбарды — все это, в сущности, делало из меня довольно порядочного жениха, и даже чертенок улыбался по-своему на мои приготовления.
— Что, хорош ли? — спросил я в заключение о своей личности у чертенка.
— Даже очень! — отвечал он. — Вы понравитесь своей невесте непременно.
Явилась сваха.
— Ну, батюшка, как? О, да ты и готов, ну вот и прекрасно! А уж невеста-то, невеста-то!.. Ждет не дождется вас. Расцеловала меня, старуху, как я стала про тебя рассказывать, на прощание спасибо сказала и трехцелковую{10} мне вынесла. А это, кормилец, где собачьей шкуркой раздобылся? — спросила меня старуха, указывая на парик.
— Разве это, Дормидоновна, собачья шкура? Это человеческие волосы, — сказал я, обидевшись.
— Не взыщи, родной, на мне — старой дуре, я допрежь того все думала, что это из собачьей шкурки делают. Так зевать, родной, нечего, поедем. Нанимай лихача.
— Ну, Дормидоновна, тут уже не лихача, а карету нужно нанять, шикарнее будет.
Я послал за каретой на биржу, щегольская пара подкатила к крыльцу, и мы отправились к невесте. Одно обстоятельство меня очень беспокоило. Шляпа моя оказалась очень мала, потому что парик придал голове значительную толщину, и я должен был сидеть в карете без шляпы.
Глава V
СВАТОВСТВО
— Честь имею рекомендовать! Максим Авдеич, из отставных, — сказала сваха, рекомендуя меня женщине высокого роста, довольно полной, белой, как пшеничный хлебец.
— Точно так, сударыня! Это верно-с! — доказал я. — При этом присовокупляю: поклонник вашей красоты.
— Очень рада! Покорнейше прошу садиться, — сказала дама, которую мы будем называть Авдотьей Павловной.
Она села, и я тоже, при этом расположился так, чтобы мне не спустить глаз с красавицы.
Ну и действительно, можно отдать справедливость: если ей было тридцать пять лет, то уже никак не более, и, представьте, если она не слишком полна, то была и румяна, высока, стройна без излишества, высокая грудь, глаза светлые, брови черные как смоль, и волоса точно так же. При всем этом, заметьте, брильянтовые украшения на шее, руках, в ушах. Как хотите, а она, знаете, щекотит взор и успокаивает мысли. При всем том, знаете, везде в покоях фарфор, бронза, штоф и орех… Знаете, превосходно все успокаивает насчет ее кармана.
Как начнет говорить, у ней выражения такие все деликатные; улыбнется, два ряда жемчужных зубов так в глаза и мечут. Очарование! Мы начали с погоды, а кончили тем, чтобы через неделю быть нашей свадьбе, я было начал говорить насчет капитальца, моя невеста мне прямо сказала: «что есть у меня — все ваше… Я безродна, следовательно, тут уже рассчитывайте, что никому ничего, если не вам. Я не девушка уже шестнадцати или семнадцати лет, которую отдают родители и рассчитывают себе на прожитие, следовательно, сама все рассчитываю обо всем и для себя. А потому все ваше!»
Говорила она много, но передать теперь мне все это вам не стоит, да и не помню… Скажу одно: что я, очень довольный красотою и нарядом невесты, ее обстановкою, пил у ней чай из серебряного самовара… словом, вышел из квартиры невесты без ума от радости и даже разорился, дал свахе три рубля.
Приехал домой, рассчитался с извозчиком за карету; иду в комнату, а сваха по пятам.
— Послушай, кормилец Максим Авдеич, давай-ка мы потолкуем промеж себя.
— О чем это? — спросил я.
— А вот о чем: ноне женихи-то все: знаешь, народ какой? Обдувать горазды! Пожалуй, сваха-то без башмаков останется по чужим хлопотам.
— Так, по-твоему, и я тебя обману?
— Ну, хоть теперь нельзя сказать, а после — пожалуй… Как бабочка в охапку попадет, так сваха и к черту убирайся.
— Нет, я не из таких, матушка… Я теперь, что обещал, так в нитку вытянусь, а заплачу. Хочешь, я пятьдесят рублей дам после свадьбы — согласна ли?
— Может, дашь, может, нет, а если обещаешь, так и записочку дай.
— Зачем записку? Разве честное слово хорошего человека недостаточно?
— Ноне, батюшка, и записка-то так ненадежна, а уж куда честное слово! Ведь бабочку-то тебе рекомендую за первый сорт: графиня, истовая графиня!
Делать нечего, выдал записку.
— Ну-ка, прочти, кормилец, грамотку-то, я ведь читать-то не горазда.
Привелось ей прочитать. Дормидоновна, подобрав записку в ридикюль, раскланялась и ушла.
Целая неделя прошла в приготовлениях. Каждый день шлялась ко мне сваха, наконец наступил желанный день.
Глава VI
ПЕРВАЯ НОЧЬ
Разряженные в пух, мы совершили свое бракосочетание. Попойкам и поздравлениям не было конца. То и дело жаловались на горечь водки, и мы почасту целовались. Старые холостяки товарищи даже с завистью поглядывали на меня и мою молодую половину. Как было видно, она всем понравилась. Тут нечего толковать, скажу одно, что я не делал слишком роскошной свадьбы: с моей стороны было десятка полтора гостей, а со стороны невесты две-три размалеванные барышни, да и только. Согласно условию с чертом, выпустил его на свободу, и он, вежливо поклонись моей особе, скрылся.
Часов около двенадцати некоторые из гостей уехали, остались только люди свободные, «рыцари зеленого стола» уже расположились играть в карты, как моя нежная половина подошла ко мне:
— Милый мой, у меня что-то дурна голова. Позволь мне удалиться.
Находя это весьма естественным, я подал ей руку и повел в спальню.
— Друг мой! — сказала моя половина, — я не могу выносить, когда лежу в постели, света свечи, прикажи подать лампу с самым маленьким огнем.
Рассчитывая, что это составляет маленькую экономию для кармана, я исполнил желание супруги и ушел к гостям. Там, играя по маленькой, я совершенно забыл, что я женат, и провел всю ночь до пяти часов утра. Гости стали расходиться и, пожелав мне всего, чего только в этом случае желают, оставили меня одного. Тут я вспомнил о своей половине. Кстати, я желал и сам заснуть, после ночного бдения и порядочной холостой попойки.
Прихожу в спальню — и что же? О читатель! Есть ли что гаже, что хуже и что старее на свете такой фигуры, какую я нашел на своей постели? Я протираю глаза, думаю, что у меня не вышел хмель из головы — нет, не кажется! Пощупал нос, не сплю ли я? Нет, не сплю.
Не доверяя своему собственному зрению, я побежал к кухарке.
— Фетинья, а Фетинья! — расталкивал я крепко спавшую кухарку, после таких трудов, как свадьба.
Фетинья протерла глаза и сидя глядела на меня.
— Что надоть? — едва проговорила она, опомнившись.
— Фетинья! Да где же молодая-то, куда она делась?
— Авдотья-то Павловна? Эна! Да она, поди, в спальне спит.
— Какое спит! Там не Авдотья Павловна. Там спит черт, а не Авдотья Павловна! — повторил я.
— С нами крестная сила! Вы, батюшка Максим Авдеич, видно, тово… чересчур с непривычки заморской кислятинки хватили, а оно вам, видно, с непривычки не годится.
— Полно врать, дура! А ты, стало быть, какую-нибудь знакомую сволочь водкой поила, а она, видно, искала, искала дверей, да и попала в спальню, завалилась на чужую кровать, да и думает, что у себя дома. Пошла! Выгони!
Я толкнул кухарку, и та побежала в спальню, творя молитву и крестное знамение.
Я шел за нею; вошли, кухарка отдернула занавес кровати, подошла к спящей, взглянула, покачала головою, потом тихо подошла ко мне и еще тише сказала:
— Ведь это — Авдотья Павловна, она самая и есть.
Если бы она меня ударила обухом по лбу, по затылку или по чему попало, мне было бы вынести гораздо сноснее, чем это колкое замечание; я скрипнул зубами и только мог сказать:
— Срезался, черт возьми, срезался!
Между тем как я глядел на эту фигуру жалкой своей половины, кухарка опять подошла ко мне и шепнула тихонько, чтобы не разбудить спящую:
— Пожалуйте сюда.
Я подошел к столу.
— Извольте видеть, — начала разбирать кухарка, — вот принадлежности, видите: это — зубы, это — коса, это — накладка, это — банка с румянами, это — белила, это — сюрмилы, чем брови чернят, — потом взяла бальное платье и, показывая кой-какие ватные накладки, сказала: — А это, сударь, понимаете, для чего?
— А черт их знает, для чего.
— Это, чтобы грудь у женщины была виднее.
В это время проснулась моя половина.
— Милый Максим Авдеич, ты еще не спишь? Бедненький!.. Поди ко мне, мой милый.
Но я был так далек от нежностей моей шестидесятилетней подруги, что готов был провалиться сквозь землю.
— Что вы, сударыня, делаете?! — сказал я с ожесточением. — Разве можно так обманывать? Ведь в вас, сударыня, только и есть, что одна кожа да кости, ведь краше этого в гроб кладут, а вы замуж собрались…
— Если бы на пути жизни не встретился такой милашка, как вы, — отвечала моя подруга жизни, — я бы не вышла замуж; ты взгляни на себя, мой бесценный! Как ты мил: твой взгляд, розовые щечки, твои прелестные баки, каштановые волосы — все прелесть!
Я не вытерпел и сорвал с ожесточением с головы парик.
— Каков я-то, сударыня? Каков я? ты гляди! ты погляди! ты погляди! — кричал я с ожесточением.
— Ах! — крикнула подруга и упала в обморок в постель, взглянув на мою гладкую, как у татарина, голову.
— Один хорош, другая — еще лучше! — молвила Фетинья и побежала в кухню досыпать.
В досаде я вышел в гостиную, где еще стояли остатки вчерашнего великолепия, и выпил с горя целый стакан ямайского нектара.
Глава VII
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Прошло часа четыре, а я, в жару мечтанья привалясь на диване, заснул крепким сном в кабинете, как меня разбудила моя супруга.
— Друг мой, вставай! — сказала она.
Я взглянул на нее, и та же красавица, какой я видел ее вчерашний день во время брачного пира, представилась мне.
— Ах, черт тебя возьми, Авдотья Павловна! Ты — просто волшебница! Часа четыре назад я готов был тебя раздавить, а теперь готов принять тебя в свои объятия, — и мы даже поцеловались при этом.
— Друг мой!.. И все так, неужели ты думаешь, что все на свете просто и красота не имеет подделки; всюду хитрость и обман — будь покоен. Ты сам в парике… тоже меня обманул, что на это скажешь?
Я засмеялся. И, примиренный необходимостью с своим положением, думал: хоть она и стара, все же приберу денежки и выкуплю свой домик.
Подали самовар, напились чаю и уже готовились сделать три-четыре визита, как я услышал звонок. Отперла кухарка дверь. Вошел прилично одетый мужчина.
— Здесь живет Авдотья Павловна?
— Здесь. Что вам угодно? — отвечал я.
— Нельзя ли мне их видеть? Мне их нужно.
Жены не было в комнате, и я осмелился спросить о причине его посещения.
— Их самих мне бы хотелось повидать.
— Я, как ее законный муж, вероятно, имею некоторое право на вашу откровенность?
— Дело, милостивый государь, очень просто и нисколько не секрет: они изволили взять напрокат искусственные брильянты, так я за ними пришел.
От этой новой штуки своей барыни я чуть не закричал и побежал в комнату своей престарелой супруги.
— У вас, сударыня, новые штуки. Кроме того, что с вашей молодостью вы способны только в богадельню, вы еще щеголяете в чужих брильянтах.
— Так что ж? Это потому, что я не люблю никаких драгоценностей.
Сделав кой-какие визиты, я возвратился с своей супругой домой. Не успел снять верхнего платья, как ко мне вошли б комнаты нежданные посетители.
Эти посетители были прибывшие господа для списывания моего дома.
Я должен был повиноваться постигшей меня участи и молча подчинил всю свою недвижимость тщательному осмотру.
— Это что такое, друг мой? — спросила меня жена.
— Пришли описывать мой дом, — отвечал я с убийственным хладнокровием.
— За что?
— За долги.
— Как? Разве ты столько должен, что подвергаешься опасности лишиться дома?
— Да, сударыня. Невестке на отместку! За то, что вы так обманули меня, судьба наказывает вас. Я лишаюсь и дома, как лишился женской молодости.
Жена упала в обморок.
Когда она очнулась, никого из посетителей не было.
Жена сидела с одного краю стола, я с другого.
— Обманщик! — сказала она мне.
— Обманщица! — отвечал я.
— У тебя дом заложен. Ты обманул меня!
— У тебя вставленные зубы. Ты меня надула как теленка.
— А ты гол, как татарин!
— А у тебя чужая коса и французская накладка.
— У тебя дом продадут, и ты будешь «странствующий рыцарь».
— Так выкупи! У тебя есть деньги.
— У меня ни гроша! Я бедна как мышь.
— В таком случае нам остается только и дела, что заниматься умножением нищих, — заключил я. И тут вспомнил про чертенка, сделавшего со мною такую скверную штуку, — Это все черт меня попутал!
— И меня тоже… — подтвердила супруга.
— Еще эта Дормидоновна подрезала меня… сдула с меня расписку на пятьдесят целковых, — сказал я.
— А с меня двадцать пять взяла деньгами вперед.
Я протянул руку своей бедной половине, она страдала одинаково со мною. Мы оба были виноваты, оба взаимно обмануты и оба бедны.
— Друг мой, прости меня, — сказал я своей старушке.
— Друг мой, прости и меня, — отвечала супруга.
— «Нищий на нищем не ищет», — заключил я.
— Это правда! — отвечала моя супруга.
Я на основании этих аргументов прогнал Дормидоновну, пришедшую за деньгами, и на третий день меня потащили по моей расписке к мировому{11}.
И оказал же черт услугу — по век не забыть.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ИВИН И. С. (КАССИРОВ)
АВТОБИОГРАФИЯ
Я родился 1 сентября 1858 года в семье крестьянина в деревне Старая Тяга Московской губернии Можайского уезда Пореченской волости, принадлежавшей к владениям графа Уварова{12}. Отец мой был не из числа зажиточных крестьян этого богатого землевладельца; для добывания средств на существование семьи и платежа оброка он занимал у помещика, графа Уварова, должность кассира, получая за это восемнадцать рублей в месяц. Должность эта состояла в том, чтобы получать со всех сельских старост деньги, следуемые в оброк барину, относить и сдавать их помещику. На эту должность отец выбран был потому, что тогда во всей деревне, кажется, он один был грамотным. Это было года за четыре до освобождения крестьян. Мы были крепостными, и отец занимал должность кассира до 19 февраля 1861 года{13}. По должности отца наш дом в деревне прозвали Кассировым, а настоящая наша фамилия — Ивины. Отец по должности своей жил в селе Поречье{14}, в шести верстах от нашей деревни, и, появляясь домой только изредка и на короткое время, не имел никакого влияния на мое первоначальное воспитание и нравственное развитие; я оставался всецело на попечении матери, которая управлялась по крестьянскому хозяйству одна с помощью работницы.
Мать моя была простая неграмотная крестьянка, вечно в работе и хлопотах по крестьянскому хозяйству, она ничего освежающего и согревающего душу не могла мне дать; все ее заботы обо мне заключались в том, чтобы я был сыт да не мешал ей, не вертелся на глазах…
Отец мой, по увольнении от должности кассира, поступил к тому же графу Уварову на хутор, в старосты, надсматривать над рабочими.
Я рос один… Я не помню счастливого отрадного детства… Его у меня не было… Самое раннее, самое первое, что я могу запомнить из детства — это рождение младшего брата. Это было в самый разгар сенокоса. Мать была на покосе почти в двух верстах от деревни, на лугу в «Козыре», косила траву, как и все наши деревенские мужики и бабы, и тут родила брата, положила его в фартук и принесла домой. Я бегал на улице с ребятишками, и меня работница кликнула домой; я прибежал и увидал, как моя мать сидела на приступочке, возле горницы, на дворе и держала на руках маленького красненького ребеночка, который плакал и не хотел брать тощей груди. Мне это было очень любопытно… В это время мне было около четырех лет, и я за год перед тем только что начал ходить. Говорить я начал рано, к концу первого года от рождения, но ходить не мог до трех лет, потому что был на седьмом месяце сильно простужен и на всем теле у меня были громадные чирьи, которые долго болели, я страшно кричал, не спал по ночам, и когда, бывало, проткнется чирий, то это до того мне было больно и трудно, что я весь мертвел, закатывал глаза под лоб, холодел, бился в судорогах, меня «ошибал обморок», и я едва-едва не испускал дух, и так продолжалось до трех лет. Все это время я спал или сидел в люльке, ходить не мог, и в минуты облегчения от страданий я сам качался в люльке и убаюкивал себя разными песенками, бог весть кем сложенными, может быть, отчасти и мною самим:
После рождения брата наступает период затмения, то есть я не помню, что за этим произошло в моем детстве, и все остальное затем до девяти лет я помню в отрывочных, ничем не связанных между собою картинах печального характера, веселого ничего нет.
Однажды осенью я играл с товарищами на улице: мы насаживали гнилые картошки на палочки и, держа рукою за конец палочки, махали ею по воздуху, картошки срывались с палочки и летели вдоль улицы. В это время мимо нас по улице проходил в халате старик Кирил Чекунов, бывший сотский{15}. У меня как-то нечаянно сорвалась картошка с палочки, отлетела в сторону и угодила в спину этого старика. Старик, вероятно, подумал, что это я нарочно в него пустил картошкой, бросился на меня; я от него бежать, но он догнал меня, схватил за волосы, повалил на землю и давай трепать меня за волосы что есть мочи и колотить головой об землю… Больно мне досталось в этот раз: я уже и не помню, как он меня бросил; я, разумеется, горько поплакал, но никому не жаловался и даже не пошел домой, а тут же остался на улице. Но это видели соседи и сказали моему отцу… Отец в это время уже жил в деревне и крестьянствовал. Был он человек горячий, вспыльчивый и строгий. Меня очень любил. Узнав, что меня так обидел старик понапрасну, он сейчас же отправился к нему, разыскал его у соседа в избе, схватил за волосы, нагнул и раз пять или шесть ударил его кулаком по шее и по спине. Старик пошел жаловаться в волость; отца вызвали и присудили уплатить старику за побои шесть рублей денег — по одному рублю за каждую «плюху». Отец потом долго сердился на меня за то, что из-за меня пришлось ему платить деньги.
Один раз я с товарищами забрался играть к соседу на огород. Была ранняя весна, только что посадили лук, и он еще не взошел. Мы играли на грядах, ковыряли землю палочками и вырывали червей, и при этом вырыли несколько луковиц. Сосед, молодой мужик, пришел на огород и, воображая, что мы воруем лук, пустился за нами. Ребятишки быстро разбежались, а я плохо умел бегать, и он меня скоро поймал и здорово оттрепал за волосы, да еще пожаловался отцу. Отец, любя меня и желая мне добра, так сильно отпорол меня розгами, что потекла кровь ручьями, и все приговаривал: «Не воруй!», «Будь умней!», «Впредь наука!». У меня после того долго болела спина.
Раз как-то летом играл я с ребятишками в бабки: у меня «сорвалась рука»: бабка вырвалась из руки, отлетела в сторону и попала в щеку Гришке Демину; у него показалась кровь; он заорал благим матом и побежал к своему отцу жаловаться. А отец у него был злой-презлой человек: он со зла у своей лошади отгрыз ухо и потом убил ее дугой до смерти. От него пощады не жди — убьет. Я страшно испугался и побежал домой… Отца моего в этот раз не было дома, — была одна мать. Я рассказал ей все дело, и она велела мне спрятаться; я и спрятался у себя на дворе под мост. Сижу — не дышу: от страха душа ушла в пятки. Вот, слышу, идет в калитку отец Гришки, ругается на чем свет стоит, кричит: «Где он, проклятый?! Убью мошенника!..» Я притаился, не пикнул, а сердечко так и стучит. Вот взошел он в избу, ругается пуще прежнего, пристает к матери: «Где он? говори!..» Мать говорит, что «я его и не видала и не знаю, где он, чай, на улице»; но он не верит, кричит: «Ты его спрятала! Показывай, где он, — я с ним расправлюсь!» Мать уверяет его, что ничего не знает про меня, а он не верит; схватил мать за ворот, трясет изо всей силы, кричит: «Душу вышибу! сказывай, где он?!» Мать закричала, заплакала, говорит: «Как ты смеешь меня трогать, — я мужу пожалюсь!» Он немного опешил, бросил мать и принялся искать меня по всему двору; заглядывал во все хлева и омшаник{16}, и под мост, искал и на чердаке избы, и опять по двору, но меня, к счастию, не приметил, выругался что ни на есть хуже и ушел. У меня отлегло на сердце. Я вышел и убежал в лес, и долго потом я его боялся. Мать не сказала отцу ничего, и это прошло для меня благополучно.
А как-то раз ходил я с мальчиками и девочками в лес за ягодами; там я из-за кустика спелой земляники поссорился с одной девочкой, которая была на год постарше меня и очень драчливая: она меня ударила кувшинчиком по лицу и разбила лицо до крови. Я никогда не жаловался отцу на обиду товарищей; и в этот раз я ничего никому не сказал, но отец узнал от посторонних об этом и больно-пребольно высек меня прутом за то, чтобы я не связывался с теми, кто постарше меня. Один раз мальчики в поле таскали у лошадей из хвоста волосы для «волосянок» на кнуты, и я, на них глядя, тоже хотел вытащить несколько волос у лошади, но она вскинула задними ногами и копытом ударила меня по верхней губе и рассекла губу до крови; я отлетел в сторону и упал в траву. Ребятишки побежали домой и рассказали отцу. Я долго не смел пойти домой. А когда я пришел вечером домой, весь запачканный кровью, то отец меня здорово отпорол кнутом за то, чтобы я не занимался такими пустяками. Шрам на верхней губе у меня виден и теперь, только он зарос усами.
Припоминаю и еще один печальный случай. Это было осенью, я с братом оставался один в избе: мать ушла пропавших телят или овец искать, а отец сушил овин. Для обеда нам мать оставила в печке картошки, обжаренные в сметане. Мне было лет семь от роду, а брату меньше. У нас в доме постоянно была водка в запасе, и отец с матерью каждый день перед обедом выпивали по рюмке, а нам с братом отец подносил на двоих рюмку. «Это для здоровья, — говорил он, — только много не надо пить, а полрюмочки можно». Водка эта всегда находилась в шкапу запертою и ключик висел в верхнем отделении шкапа, который не был заперт, и я знал про это и умел отпирать шкап. Вот захотелось нам с братом поесть, мы достали картошку и хотели обедать, но я вспомнил, что надо перед обедом выпить, и сказал брату: «А ведь надо нам выпить, а то как же обедать! Без этого нельзя!» Мы считали это неотложной необходимостью. Брат говорит: «Доставай вино-то, ты знаешь как!» Я живо достал ключик, отпер шкап, вынул штоф{17} водки, налил рюмку и говорю брату: «То мы пили по полрюмки с отцом, а теперь его нету, так выпьем по целой рюмке». Брат согласился. Мы выпили. Поели немного картошки: в голове у нас зашумело. А так как отец с матерью иногда выпивали еще по рюмке перед кашей, то я и предложил брату выпить по другой рюмке. Он говорит: «Давай выпьем!..» Выпили по другой, а там и по третьей, а когда нас порядком разобрало, тут уж мы стали пить без счету, и не столько, разумеется, пили, сколько лили, только помню, что брат свалился первый, а я все еще продолжал выпивать, наконец обессилел, а все еще держался на ногах. В это время дверь отворилась и вошла мать. Я едва успел взглянуть на нее и проговорить: «Мамка, мамка! Я от чего-то пьяный!..», зашатался и грохнулся на пол без чувств. Мать ужаснулась, увидев, что от полного штофа водки осталось только чуть на донышке. Она опрометью бросилась к отцу в овин и закричала ему: «Семен! Семен! Что ты наделал! Зачем приучил ребят к водке! Поди, погляди, что они наделали!..» Отец выскочил из овина, прибежал в избу и, поняв, в чем дело, схватил ведро, достал из колодца воды и давай поливать мне голову и грудь, а матери велел делать то же с братом. А потом он поднял меня и начал раскачивать, водить по избе, разжимал зубы, щекотал в горле, долго возился со мною, наконец ему удалось возбудить во мне рвоту, и меня начало рвать одной водкой; долго продолжалась рвота, а когда она окончилась, я немного успокоился и, наконец, крепко заснул. Спал долго: весь этот день, и всю ночь, и даже на другой день до обеда, а когда проснулся с головной болью и тоскливым чувством на душе, то отец, видя, что я чуть не умер, задал мне с братом такую лупцовку розгами, что мне небо с овчинку показалось… А все за то, что «не пей помногу водки».
Так шло мое невеселое детство… За всякую малейшую шалость или неосторожность я получал затрещины, потасовки или порку… Один раз я упал с полатей{18} и сильно расшиб себе нос, так что кровь лилась как из крана и если бы отец не сумел «заговорить» кровь, то я мог бы изойти кровью и умереть, и за это я опять получил порку прутьями. С товарищами я ни с кем особенно крепко не сдружился, был робок, застенчив, запуган, угрюм. Только изредка, случалось, играл с ними в бабки или в шары, а зимой катался на салазках или на «ледке» с горы и здесь нередко разбивал себе нос или затылок. По целым дням я бегал на поле, без всякого призора, один, и часто убегал в лес или в поле, на луг, и там, лежа на траве, любил смотреть, как плыли по небу белые облака. Кругом трава густая, в траве вверх и вниз по стебелькам ползают и прыгают разные букашки, мушки, жучки; над цветами вьются и жужжат шмели, пчелы, мотыльки, бабочки; в воздухе порхают и чирикают птички, высоко в небе, невидимо где, заливаются жаворонки, кричат галки, вороны, грачи, а внизу в траве несмолкаемо трещат сверчки и кузнечики… Любуясь облаками и голубым небом, прислушиваясь к концертам птичек и насекомых, я чувствовал в душе что-то такое сладко щемящее, чего я никак не мог понять и определить, но что несомненно росло и крепло в душе… Только немного я помню таких отрадных минут… Отец все строже и строже становился ко мне и за всякую долгую отлучку из дома бранил или бил меня. Горько мне было…
На девятом году от роду, великим постом, на первой неделе, отец засадил меня за церковную азбуку. «Будет баловаться! Пора разуму набираться!» — сказал он и начал учить меня читать. Сделал «указку» из лучинки, раскрыл «азы» старой истрепанной азбуки и начал называть буквы по порядку: «Аз, буки, веди, глаголь»{19} и т. д. Я, тыкая указкой в буквы, повторял за ним их названия. Так была скоро пройдена вся азбука, а затем начались двойные и тройные склады… Отец задавал мне уроки, а сам уезжал с овсом в Москву на неделю и больше, а по приезде спрашивал урок, и этак было несколько раз в продолжение поста. Когда я научился складывать буквы в слова и начал разбирать молитвы, отец дал мне Часослов, а затем и Псалтырь{20}. Потом написал мне на бумаге письменные буквы и стал учить меня выводить их карандашом. Задаст, бывало, урок и уедет, а ты тут, как знаешь, и учись сам. А цифры я учился писать с численника{21}: гляжу, бывало, на численник и вывожу крупные печатные цифры. Можно сказать, я грамоте обучился самоучкой; к Пасхе я уже умел кое-как читать и писать… После Пасхи отец вторично поступил на хутор графа Уварова в старосты, а вскоре и нас всех перевез туда же. Хутор был недалеко от села Поречье, где была сельская школа. Отец в мае месяце отвел меня в эту школу. Здесь меня начали переучивать сызнова читать и писать; учительница начала с азов: а, бе, ве и т. д. Здесь я проучился всего 8 месяцев: с мая до Рождества Христова — и выучился читать и писать порядочно и четыре правила арифметики. На третий день после поступления моего в школу, 12 мая 1868 года, наша деревня почти вся сгорела. У нас сгорели все крестьянские постройки и все земледельческие орудия и принадлежности. Придя вечером из школы на хутор, я увидел, что отец с матерью горько плачут и причитают: «Бедные вы, несчастные наши деточки, что нам теперь делать! Как быть!.. Все-то у нас дочиста пригорело, и хлебушек весь сгорел!..» И, на них глядя, тоже заплакал. Вскоре отец отправился на погорелое пепелище и меня захватил с собой. По прибытии на пожарище я не узнал нашей деревни: везде валялись только одни обгорелые бревна, чурки и груды пепла и кирпичей-обломков. Народ воет, охает, плачет, тужит, не знает, за что приняться. Долго я бродил по пожарищу с замиранием сердца. Это произвело на меня тяжелое впечатление на всю жизнь.
Затем школьные месяцы промелькнули для меня как-то смутно и неясно, не оставив в душе сильного впечатления. Помню, что с товарищами я ни с кем близко не сходился, играми занимался мало, любил больше уединение; забьюсь, бывало, куда-нибудь в угол с книжкой и читаю или рассматриваю картинки. Особенно я любил в школе одну книгу большую, с разными зверями и птицами, которую с любопытством рассматривал и читал, хотя многое не понимал в ней. Так время шло до Рождества Христова. Накануне праздника мне досталось быть дежурным: я подметал пол щеткой. В это время один мальчик все прыгал, вертелся вокруг меня и мешал мне подметать пол. Я закричал на него, чтобы он убирался прочь и не мешал мне, а он вдруг вырвал у меня из рук щетку и, размахнувшись, так хватил меня щеткой по глазу, что у меня искры из глаз посыпались. Я заплакал и бросил подметать пол. Глаз у меня быстро распух и закрылся, образовался фонарь величиною с кулак. Я отправился на хутор к родителям. Все святки глаз у меня болел: я не мог пойти на школьную елку, просидел дома. Грустно мне было. К концу святок глаз у меня стал подживать, и я мог бы ходить в школу, но тут отец, с Нового года, уволился из старост с хутора, и мы перебрались на житье в деревню; поселились в избушке у одной старушки, так как своей-то не было, и прожили с горем пополам зиму до Пасхи. После Пасхи отец кое-как построил одну только избу без двора и всего прочего, оставил мать с братом в этой избе, а сам отправился в Москву и меня взял с собой. Но в Москве ему не удалось поступить на место, и мы отправились с ним за Москву, и в трех верстах от Хотькова монастыря отец определился на суконную фабрику в ткачи, а меня засадил шпули{22} мотать. С привольных родимых полей я попал прямо в душную сферу фабрики. Горька и сурова показалась мне эта жизнь после деревенской свободы, и я с тоской вспоминал деревню и школу. Хотя и в деревне мне жилось несладко, но здесь было еще хуже: порой бывало совсем плохо, тяжело и непосильно: приходилось носить большие ведра с водой и квасом для ткачей; затрещины и потасовки случались здесь чаще и уже не от родителей, а от посторонних людей — ткачей. Но делать было нечего: мало-помалу я стал привыкать к этой жизни и даже втягиваться в нее; тут приходилось знакомиться со всеми фабричными дрязгами и обычным пьянством и безобразиями и принимать во всем этом участие: не раз меня спаивали допьяна… Но у меня в это время было одно утешение: я пристрастился к чтению. Фабричные, узнав, что я хорошо читаю, стали наперерыв друг перед другом доставать мне различные книжки, разумеется лубочных изданий, и заставляли меня читать, а сами слушали. Здесь я впервые ознакомился с Бовой Королевичем, Ерусланом Лазаревичем, Гуаком, Францылем{23} и прочими. Чтение этих книжек доставляло мне неизъяснимое удовольствие, тем более что за чтение меня фабричные хвалили и сами со мной восхищались богатырями и героями. И тут, под влиянием чтения этих книжек, в первый раз появилось во мне смутное желание написать и самому что-нибудь в этом роде. Но вот горе: «Как же я буду писать и про что? Ведь это все было, — думал я, — когда-нибудь очень давно, да еще и не в наших краях, а где-то в тридесятом царстве; может, и теперь это бывает там, за тридевять земель, а у нас никогда этого не бывает и не было, и богатырей таких нет». О писателях я тоже не имел никакого понятия: думал, что это были когда-то такие особенные люди, сочинили эти книжки и умерли, а теперь таких людей уже нет и быть не может. И желание мое — написать что-нибудь — ограничивалось пока только одними мечтами. К тому же отец мой, в молодости сам читавший эти книжки, находил их нехорошими и впоследствии читал исключительно только церковные книги, запрещал мне читать эти сказки, говоря, что мне это читать не годится, что я еще дли того мал и что их можно читать только большим, т. е. взрослым, тем более что все в них написанное — неправда, выдумка, пустая болтовня, что ничего подобного никогда на свете не было. И я с тех пор немного разочаровался в этих книжках, но все-таки с большим интересом продолжал читать их, по большей части украдкой, с замиранием сердца, где-нибудь и уголке, чтобы отец не видел. Так прошло дна года. Отец перешел с этой фабрики в Москву и меня взял с собой и определил на фабрику Носова{24} в трепальщики — на машине шерсть трепать. Здесь мне тоже жить было скверно, но я уже обтерпелся, привык ко всему. Тут я опять продолжал с фабричными читать те же и подобные лубочные книжки, в числе которых попадались мне и сказки, написанные стихами: «Конек-Горбунок», «Мальчик с пальчик», «Мужичок с ноготок», «О мельнике-колдуне»{25} и прочие. Стихов я до тех пор не читал ни разу. Мне эти стихотворные сказки понравились еще более, чем прозаические. И я стал даже покупать сам такие книжки на свои гроши, которые отец давал мне на праздник. И тут у меня снова явилось сильное желание написать и самому подобную же сказку в стихах. И я в один вечер карандашом, на клочке бумаги, начал писать подражание «Коньку-Горбунку»:
Но дальше этого у меня дело не пошло. Совершенное незнакомство с правилами стихосложения, полнейшее незнание того, что такое стих и в чем его отличие от прозы, трудность подбора рифм, а главное — неимение материала, о чем писать, и та мысль, что все это неправда, что ничего такого не было и быть не может, привели меня к тому заключению, что такую сказку, как «Конек-Горбунок», мне ни за что не написать, то есть не выдумать. И я отложил это намерение на неопределенное время.
У Носова я прожил около года и затем перешел на фабрику Котова{26}, а затем Гучкова{27}, и так я переходил с фабрики на фабрику несколько лет, перебывал на всех фабричных работах и перечитал почти все лубочные книги. Когда мне исполнилось уже четырнадцать лет, мне случайно пришлось раздобыть у одного мастера книжку стихотворений Кольцова. Прочитав его жизнь и стихотворения, я сразу почувствовал охоту написать и самому нечто подобное: такие же короткие, складные, певучие стихи, похожие на песни. Мне это показалось не так трудно, как написать большую сказку; тем более что Кольцов, будучи простым и необразованным прасолом{28}, писал же стихи. И я решил писать. Но тут опять встал вопрос: о чем писать? Как писать? Впрочем, была не была, — ведь и Кольцов не умел сначала!
Трудно было подыскать тему для первого стихотворения. В окружающей меня грязной фабричной действительности ровно ничего не было поэтического. Однако я напал на мысль описать оборванного, пропившегося рабочего, какие были в прядильной мастерской, и принялся за дело: после долгих усилий, с помарками, переделками и зачеркиваниями мне наконец удалось окончить первое стихотворение — «Рабочий». Вот оно:
После этого первого опыта я начал пописывать и еще кое-какие мелкие стихи: «Первая любовь», «Свидание», «В деревне» и прочие — и читал их своим товарищам фабричным. В это время я уже начал ходить по праздникам в трактир, попить чайку и почитать «Будильник», «Развлечение»{29} и газеты. Из них я ознакомился с различными размерами стихов, преимущественно юмористического и сатирического характера, но в то же время не имел ни малейшего понятия о правилах стихосложения и не читал, кроме Кольцова, ни одного известного поэта. Так время шло, развитие мое ни на шаг не подвигалось вперед. В это время отец поступил в артельщики на Московско-Брестскую железную дорогу, и его вскоре сделали старостой в артели. А меня отец отдал на чугунолитейный завод Гоппера{30} в ученье токарному мастерству по железу на пять лет. Переход от фабричной жизни к заводской для меня не был очень резок: я уже привык ко всему, однако жизнь здесь мне пришлась еще более не по душе. Везде машины, ремни, приводы, станки, — все это шумит, гремит, вертится — в ушах стон стоит. Я был робок, застенчив, неловок и небоек, часто о чем-то задумывался, в голове бродили какие-то неясные мысли и думы, и я боялся, как бы не попасть рукой в машину, и казался неспособным к мастерству. Здесь читать мне приходилось мало, кроме лубочных песенников, я здесь ничего не читал и изредка писал стихи: «Токарь», «Токарный ученик», «Золоторотцы»{31} и др. Мне исполнилось шестнадцать лет. Здесь же я написал и первый мой рассказ с натуры из жизни мастеровых под заглавием: «От любви до виселицы». Все свои писания я складывал в свой маленький сундучок и запирал, никому не показывая. Прожив у Гоппера всего один год и восемь месяцев, я расчелся и перешел к отцу. Он определил меня на Московско-Брестскую железную дорогу в запасные токари или в рабочие, и я стал жить с отцом на одной квартире близ Тверской заставы. Неподалеку от нас была лавочка железного старья поэта Сурикова{32}. Отец мой знал Сурикова, потому что он часто ходил к артельщику, поэту-самоучке Григорьеву{33}.
Однажды я отлучился с квартиры, а сундучок свой не запер. Отец зачем-то стал рыться в моем сундучке, отыскал мои писания и прочитал. Когда я вернулся, он притворно-строго спросил меня: «Так ты, брат, сочинительствуешь?» Я испугался и не знал, что отвечать. Но он, к удивлению моему, не стал бранить меня, а только сказал, что мои сочинения кажутся ему плохими. «А коли ты хочешь сочинять хорошо, — добавил он, — то я познакомлю тебя с настоящим сочинителем — Суриковым». Я ужасно обрадовался, хотя ничего еще не слышал о Сурикове. Я тогда уже знал, что сочинители не какие-нибудь давно умершие люди, что они есть и теперь, живут и пишут, только я ничего о них не знал и никого из них не читал. Отец сказал мне, что Суриков сочинил песню «Толокно», которую тогда пели жены артельщиков, и еще о «Садко, богатом госте новгородском». Я ничего этого не читал, но был несказанно рад, что увижу настоящего сочинителя. Это было в мае месяце 1875 года. Мы отправились с отцом в лавочку Сурикова. Дорогой я думал, что сразу узнаю сочинителя, лишь только он заговорит, по его необыкновенному красноречию. Я представлял себе писателя существом совершенно необыкновенным, возвышенным и особенно красноречивым, непохожим на обыкновенных смертных. Когда мы вошли с отцом в лавочку и отец, поздоровавшись с каким-то рыжим, сутуловатым, с длинными волосами и бородой, господином в длиннополом сюртуке, заговорил с ним о самых обыденных предметах, вроде погоды, торговли и т. п. и он стал так «обыкновенно» ему отвечать, — я никак не мог допустить, чтобы это и был сочинитель. Он говорил хотя и бойко, но картавя, неясно выговаривай букву «р» и с ярославским акцентом, упирая на букву «о». Отец пригласил его в трактир, чай пить. Он согласился, и мы все втроем пришли в трактир, уселись за столик и спросили три пары чаю. Тут отец, указывая на меня, сказал господину: «Это мой сын, — тоже сочиняет стихи и просится у меня учиться в школу». А я действительно перед тем просился у отца учиться в школу. Господин взглянул на меня и спросил у отца: «Да он хорошо ли знает грамоте?» Отец отвечал: «О, он отлично читает и пишет!» Тут-то я и догадался, что это и есть Суриков. Он взял со стола какой-то иллюстрированный журнал, раскрыл его, указал какую-то сценку и велел мне прочитать вслух. Я сконфузился и начал читать робко и плохо. Отец заметил мне: «А! Это, видно, не с мужиками, которые хуже твоего знают! Там ты боек, а тут робеешь! Знать, тут получше твоего знают?!» Суриков не настаивал дальше на чтении. Я робко признался, что «желаю учиться грамматике для того, чтобы складно сочинять и грамотно писать». Суриков на это сказал, что учиться надо, но что если есть к тому охота, то это можно и не в школе, а самоучкой. «Вот я же выучился самоучкой», — добавил он и, между прочим, сказал, что Кольцов, и не зная грамматики, писал стихи хорошо. И тут же начал толковать о логичности в сочинениях. Он говорил, что «тот предмет, о котором пишешь, должен быть ясно виден от начала и до конца и чтобы он не был загорожен и обставлен разными другими предметами, не идущими к делу. Этому можно научиться из логики, а также и посредством чтения и развития». Кое-что он еще говорил в том же роде, но я тогда плохо понимал его и настаивал на том, что если учиться, то надо учиться в школе; а то как же самоучкой? Так ничего и не поймешь. Суриков согласился с этим. Он тут же дал мне книжку своих стихотворений второго издания{34}, с краткой биографией, и сказал: «Из нее ты увидишь, как я жил и учился». Я был удивлен и спросил: «Это все ваши стихи?» Он сказал: «Да, все мои». Я очень обрадовался. Суриков сказал мне, чтобы я как-нибудь зашел к нему и принес свои стихи. Я поблагодарил его, и мы распростились. Дома я прочитал отцу стихи Сурикова, стихи его нам обоим очень понравились.
На следующий же день я принес к Сурикову четыре моих стихотворения. Он прочитал их и сказал, что «стихи мои слабы по мысли, что в них почти один набор слов», но все-таки, в общем, одобрил и советовал продолжать писать. Через несколько дней я принес Сурикову еще два моих стихотворения; но и эти стихи, по мнению Сурикова, были тоже не лучше первых. Но чем они были плохи — этого он мне не объяснил. Он, вообще, был очень скуп на объяснения: прочтет, бывало, стихи и скажет, что они или «слабы» и «невыдержаны», или «нелогичны», или же «невыработаны» и «неотделаны», и только; а не растолкует, не объяснит хорошенько, чем именно они плохи и какие в них есть наиболее слабые или наиболее хорошие места. Я решительно ничего не понимал. Мне было грустно, тяжело… Я все это приписывал единственно своему незнакомству с грамматикой; и желание учиться все более и более росло во мне. «Если бы я был образован, — думал я, — знал бы грамматику, как Суриков, я мог бы лучше писать». И я свое желание учиться тут же выразил в стихотворении «Мое стремление».
В третий мой приход к Сурикову я показал ему это стихотворение. Он прочитал и сказал, что «это стихотворение слабо и невыдержано». «Да чем же оно невыдержано? Растолкуйте ради бога!» — просил я его. Он взял карандаш и подчеркнул в нем некоторые строки и сказал, что это нужно переделать. Я потом переделывал его и исправлял, но оно от этого, кажется, не стало лучше. Я его спросил: «Нельзя ли как Вам исправить мои стихи?» Он мне сказал, что «этого нельзя, совсем неподходящее дело, — другая мысль и другой слог, — это все равно, что к черному приставить белую заплату». Затем Суриков мне говорил, что «дойти до того, чтобы писать хорошие стихи, трудно: для этого надо быть, кроме таланта, человеком вполне образованным или же много начитанным и развитым». И советовал мне как можно больше читать и читать. Но мне читать было нечего, и книг достать было негде, да и времени свободного не было… Я его спрашивал: «Да как же Вы-то дошли?» Он мне отвечал: «Так и дошел! Посмотри на меня: я прежде времени поседел и состарился!» И действительно, он в то время был уже с сильной проседью, несмотря на то что ему было всего тридцать пять лет от роду. Он мне сказал еще, что ему уже платят и «Деле»{35} 25 копеек за строку, а и «Вестнике Европы»{36} — 50 копеек. Пришедши от Сурикова к отцу, я стал убедительно просить его, чтобы он отпустил меня учиться. Я говорил ему, что и токарем быть не способен, что мне недостает только знания грамматики, чтобы писать хорошие стихи, за которые будут платить мне по 50 копеек за строку, как Сурикову. Я намерен был отправиться к графине Уваровой{37}, попросить ее, чтобы она пристроила меня куда-нибудь в школу, где бы я мог выучиться грамматике, потом поступить куда-нибудь на место, хотя бы за дешевое жалованье, лишь бы мне было посвободнее, и продолжать писать хорошие стихи и рассказы. Плохим поэтом я ни за что не хотел быть. Отец убедился моими доводами и согласился отпустить меня учиться. Я с радостью уволился с железной дороги и отправился в село Поречье к графине Уваровой. По прибытии к ней в дом я стал просить ее определить меня куда-нибудь в школу. Графиня, выслушав мою просьбу, удивилась и говорит: «Куда же тебе теперь учиться? По летам — надо в университет, а ты еще и начальной школы не окончил». Я стал просить ее, чтобы она определила меня хоть куда-нибудь, и показал ей стихотворение «Мое стремление» и другие. Она, прочитав их, одобрила и решила отправить меня в Поливановскую учительскую семинарию, откуда бы я мог через четыре года выйти учителем. Только для поступления в семинарию мне требовалось несколько подготовиться, и я, по распоряжению графини, начал подготовляться у учительницы Порецкой школы. Подготовлялся несколько месяцев. Наконец графиня с одним студентом отправила меня в учительскую семинарию в село Поливаново. Документы были отправлены раньше. Но тут постигла меня опять неудача: оказалось, что туда старше 16 лет не принимают, а мне в это время было уже 18 лет. Так и не пришлось поучиться. Горько и тяжело мне было. <...>
Итак, все мои мечты об ученье в школе рухнули. И долго потом я сокрушался об этом. С тяжелым чувством я вернулся опять в Москву к отцу. Отец рассердился на меня и стал бранить. Он был недоволен моей неудачей и тем, что я не дело задумал — учиться. Он определил меня опять на железную дорогу, только уже не в токари, а на товарную станцию в наклейщики — писать и налеплять на товар наклейки (небольшие ярлычки из бумаги). Тут жалованье положили мне 18 рублей в месяц на своих харчах. Я в это время стал думать: уж если мне не удалось поступить никуда в школу, то надо, по примеру Сурикова, хоть самоучкой как-нибудь заняться самообразованием. Я накупил кое-каких старых учебников и решил учиться всему: грамматике, теории словесности, истории русской и всеобщей, Закону Божию, арифметике и проч. Это было в сентябре 1876 года. Живя вместе с отцом в одной квартире, я изредка, по вечерам, похищая часы у отдыха от службы, украдкой от отца, начал учиться и в то же время иногда писал стихи. Так я написал тогда «Душа мрачна, как бездны дно…», «Путь к науке», «Не гимном волшебным» и другие. Я страшно мучился… И мне было действительно трудно и плохо: грамматику с историей я еще кое-как понимал, но в теории словесности, без помощи учители, я и третьей части не мог понять. Все эти архаизмы, варваризмы, неологизмы, плеоназмы, тавтологии, параллелизмы, синонимы и всякие другие «измы», и потом виды русского стихосложения, стопы: ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест, цезура, строфа и прочие — я никак не мог осилить. Но из истории литературы я понял, что все известные писатели не просто писали, как я, — не заботясь о том, что выйдет из-под их пера, — но что они преследовали известные цели, стремились к идеалу, проводили разные мысли, идеи, создавали типы и т. д. И я тогда же порешил, что и мне надо проводить какие-нибудь добрые и полезные мысли и что писать можно не только одну сущую правду с натуры, что было лишь в действительности, а что можно писать и выдуманные рассказы, и сказки, лишь бы была художественная правда, и в сказках можно проводить какие угодно хорошие мысли; а так как сказки гораздо охотнее читаются простым народом, то я решил писать и сказки.
К Сурикову я в это время не ходил — некогда было… Только как-то раз сбегал я к нему и рассказал о неудачной попытке поступить в учительскую семинарию и сказал, что теперь учусь самоучкой, да плохо понимаю. Он мне на это сказал: «И учись самоучкой, да читай побольше. Вот я же выучился, так, что в знании русского языка могу потягаться с любым филологом». Я спросил: «А что такое филолог?» Он мне ответил, что это по-русски значит «языковед». Я опять принялся учиться и читать. И тут и первый раз мне удалось прочитать Пушкина, Лермонтова, Никитина и Некрасова. Стихотворения этих поэтов произвели на меня сильное впечатление, и эти поэты сделались любимыми моими писателями, а Кольцов и Суриков давно уже были моими любимцами. Так прошла зима; наступила весна 1877 года. Отец мой уволился с железной дороги и уехал сначала за Москву, в село Котово, а потом и в свою деревню и стал крестьянствовать. Я остался один, и мне стало гораздо свободнее заниматься учением и писанием. Тут в первый раз я осмелился послать в редакцию «Будильника» три моих стихотворения. Одно из них «Где отрадный тот свет» было напечатано в июне месяце, в № 23.
Каким неизъяснимым восторгом охватило все мое существо, когда я в первый раз увидал свое стихотворение в печати! Этого и выразить невозможно. Светлые, радостные мысли и чувства волновали меня. Я давал себе торжественную клятву служить всеми силами на общую пользу: писать только одно честное, хорошее. Но радость моя была непродолжительна. Вскоре за первым стихотворением были и еще помещены в «Будильнике» в разных номерах два моих стихотворения, а затем почему-то перестали печататься. Я несколько раз ходил в редакцию, добивался толку; наконец мне удалось увидаться с редактором Н. П. Кичеевым{38}, который и объяснил мне, что мои стихи по содержанию хороши, но не отделаны по форме, поэтому и не годятся для печати… Тут я познакомился с карикатуристом «Будильника» И. Клангом{39}, а также встречал и поэта Кондратьева{40}. И для меня настало самое смутное, тяжелое, тревожное время, в которое я испытал много огорчений, мук, разочарований и сомнений в самом себе. Ко мне ни один из этих знакомых не отнесся сочувственно, никто не поддержал меня, не ободрил, не научил ничему, а, напротив, отнеслись с насмешкой и предубеждением. Я в форме стиха решительно ничего не понимал и наивно, искренне и доверчиво спрашивал у них совета, а они надо мной только глумились, — я просто терял голову, мучился и опускал руки. Кланг, например, называл мои стихотворения глупыми и смешными «стишинами», а Кондратьев при встрече со мною называл меня в насмешку крестьянином-«паетом», намекая этим на мою будто бы безграмотность. Даже Суриков, когда я однажды принес ему большое стихотворение под заглавием «Целый роман», прочитавши его, тут же написал на нем следующее:
Что было делать? Я выражал в стихах все мои лучшие, задушевные чувства и думы, писал просто обо всем, что Бог положит на сердце, как вольная птичка, которая поет, сама не зная, зачем и почему, — разумеется, без всяких правил и знания версификации, а надо мной глумились, не хотели видеть и понять, хотя бы в двадцати плохих стихах, пяти или шести хороших, и не хотели указать, растолковать, научить. Я стал отлично сознавать, что мои стихи неудовлетворительны, но чем именно? — без указания я не мог понять. Я в то время и не читал еще, кроме вышеупомянутых, ни одного из известных поэтов и писателей; и при моей полнейшей необразованности и неразвитости что же лучшее мог я сделать? Самым громадным несчастьем для меня было то обстоятельство, что в среде окружающих меня людей не было такого близкого ко мне, задушевного человека из образованных людей, с которым бы я мог поделиться своими думами, посоветоваться, отвести душу и который мог бы оценить беспристрастно мои произведения и указать их достоинства и недостатки. Оттого мое поэтическое развитие и шло так туго и медленно; конечно, время делало свое дело и клало печать обработки со стороны формы на мои стихотворения, но не то мне было нужно!
Мнение Кланга я тогда не считал еще окончательным приговором, но Сурикова я считал за непогрешимый авторитет и мнением его дорожил. Все мои лучшие сокровенные думы и чувства, «святое святых» моей души, осмеивались и топтались в грязь… Я упал духом и усомнился в себе… И только с тоскливым, разбитым чувством повторял:
И если бы в то время Суриков прямо и откровенно сказал мне, что, мол, «в твоих стихах и признака нет таланта», я бы дал себе торжественную клятву во всю мою жизнь не писать ни строки, чего бы мне это ни стоило; но он этого мне не говорил. А, напротив, однажды на мой категорический вопрос: «Есть ли у меня хоть какой-нибудь талант?» — он откровенно сказал мне: «У тебя талант есть и способность большая: пиши, вырабатывайся, читай больше, и ты овладеешь стихом, у тебя явится и образность и оригинальность, слоном, из тебя выйдет неплохой поэт». С одной стороны, эти утешительные слова, а с другой, такие: «Кто же нынче не пишет стихов? Всякий сапожник и лакей пишут! И всех бы этих поэтов надо хорошенько высечь, чтобы они бросили эти пустяки, а занялись бы каким-нибудь делом (конец фразы не поддается прочтению. — А. Р.). И я, нередко чувствуя внутренний поэтический жар, бьющий родник живой поэзии и неодолимое желание доверить свои мысли перу и бумаге, со слезами принимался писать стихи, а после с досадой и болью рвал их. Я чувствовал, что живому роднику поэзии приходилось пробиваться сквозь такую толстую кору неведения и неразвитости, что он едва-едва мог просачиваться по капельке, и никто не хотел собрать эти капли и указать на них. В то время я написал: «Тоска», «Жизнь», «Умолкший певец», «Наша песня», «Доля», «Бедняк» и другие. Мое психическое состояние в те дни отразилось почти на всех моих стихотворениях. И если читать их в хронологическом порядке, это будет живая, скорбная летопись внутренней моей жизни, и чего мне это стоило — знает только грудь да подоплека! Больно тревожить старые раны! Я всегда писал прямо, без черновика, с одного маху, без поправок, и в этом все достоинства и недостатки моих стихотворений. Я выражал в них «святые чувства», а Кланг, смеясь, говорил: «От святого чувства сапоги замолкли!» Слыша глумление над лучшими из них, я начинал или рвать их, или же переделывать и исправлять, быть может, в ущерб их достоинствам. А когда слышал насмешливые советы заняться чем-нибудь другим, я наедине сам с собою, положа руку на сердце, спрашивал себя: «Могу ли я бросить писать?» И в глубине души находил ответ, что «нет, не могу». И мне приходили тогда на ум слова Некрасова{41}:
И я после того также насмешливо отвечал моим советчикам: «Почем знать? Быть, может, я еще, со временем, и самому Данту нос утру!» <...>
Так прошло все лето. В начале осени я как-то, пробыв долго в редакции «Будильника», опоздал на свою службу, и мне отказали от должности, — я остался без куска хлеба. Деваться было некуда; есть нечего, ночевать негде. Я с горя пошел к отцу. Отец начал бранить меня за то, что я не делом занимаюсь, и вообще за мною наивность и непрактичность в жизни. Он в это время уже требовал от меня денежного заработка для уплаты податей, но, видя, что я ничего не могу заработать, он разочаровался во мне: по его мнению, из меня не вышло и не могло выйти никакого толка, и он решил наказать меня: прогнал от себя и не велел больше показываться ему на глаза и, вдобавок, не велел старшине выдавать мне паспорт… И я в осень и зиму без паспорта, голодный, без сапог и плохо одетый очутился на мостовой. Тут я, в продолжение нескольких месяцев, по два и по три дня скитался буквально не евши. Ночевал где придется: в ночлежных домах, а нередко и на бульварах или под воротами домов, но и оттуда гоняли дворники. Прозябнешь, бывало, до мозга костей, а погреться негде… Друзей у меня никого не было, а к знакомым я совестился и показаться в таком виде… Но, несмотря на такое бедствие, я все-таки, на клочках бумаги карандашом, иногда писал стихи и с горя рвал их и бросал… и много тогда погибло хороших вещей… Особенно жаль мне одно стихотворение «Дуб», которое никак не могу восстановить. Мне было невыразимо грустно, и я только мог плакать в стихах <...>
Наконец, уже в январе 1878 года, мне удалось через людей упросить мать, и она, украдкой от отца, выправила мне паспорт. И я через Кланга познакомился с Ореховым{42}, у которого была типография и книжная лавка. Он взял меня к себе составлять подписи под картины и писать для него рассказы и составлять разные сборники со стихами из событий русско-турецкой войны и положил мне жалованье 7 руб. в месяц на его харчах. Здесь я составил несколько сборников с моими стихами на события турецкой войны, несколько подписей к картинам в стихах и большой рассказ, тоже в стихах, «Приключения русского рядового солдата, возвращавшегося с войны», который Орехов и издал отдельной книжкой. В это же время я написал и еще два рассказа в прозе: «Кровавый призрак без головы, или Наказанное зверство башибузуков» и «Снежная зима», которые были тоже изданы Ореховым. В то же время я продал Сытину{43}, жившему тогда у П. Н. Шарапова{44} в приказчиках, прежние свои два рассказа: «От любви до виселицы» и «Шалишь, кума, — не с той ноги плясать пошла». Таким образом я познакомился с лубочными издателями. Но у Орехова я прожил недолго, всего 8 месяцев: паспорт у меня вышел, и я осенью опять очутился на мостовой, голодный и холодный, без хлеба, без гроша и без приюта; и так я бедствовал месяца два; наконец мне удалось выправить паспорт на полгода, и я поселился в Грузинах{45} на чердаке, за полтора рубля в месяц, на койке. Здесь я писал небольшие рассказы и сказки для никольских книжников{46}, получая гроши и чуть не умирая с голода. Наконец паспорт у меня вышел, и я снова очутился без куска хлеба и без приюта и бедствовал так, что не приведи Бог и злому татарину… Наконец, выбившись из сил, я отправился пешком в деревню к отцу. Это было зимой, в конце ноября 1879 года. Отец паспорт мне не дал, долго бранил и оставил меня в деревне работать с мужиками в лесу. Я стал ходить в лес работать: обрубать сучья у сваленных деревьев, отпиливать вершины, складывать в костры и резать их на дрова. Получал я за это 35 копеек в день. Трудна и непосильна показалась мне без привычки эта тяжелая работа. Но делать было нечего. Работал я таким образом целый месяц до Рождества Христова <...>
После Рождества отец сжалился надо мной, — дал мне паспорт опять на полгода и отпустил в Москву, с строгим наказом, чтобы я зарабатывал деньги и присылал домой, к нему, а иначе — пригрозил и в дом к себе не пускать меня. Я прибыл в Москву к новому, 1880 году. Брат мой в то время поступил в редакцию журнала «Свет и тени и Мирской толк»{47} рисовать картинки для этого журнала. Я пришел к нему и, посоветовавшись с ним, отправился к Н. Л. Пушкареву{48}, редактору этого журнала, стал его просить, чтобы он взял меня к себе и дал бы какое-нибудь занятие; при этом я показал ему свое стихотворение «К Родине». Пушкарев одобрил это стихотворение, взял его для печати и велел мне идти на занятия в контору редакции в помощники конторщице А. А. Ипатьевой. Я был бесконечно рад и от души благодарен ему. Жалованье мне он назначил 7 рублей в месяц и 6 рублей на харчи. Тут я стал заниматься в конторе вписываньем адресов подписчиков в книгу и изредка писал стихи. Так, например, после беседы с А. Ипатьевой о том, что нашему брату мужику, необразованному, без опытного руководителя, далеко не пойти в литературе, я написал стихотворение «Раздумье», которое и посвятил ей. Затем написал и еще стихотворения: «Глухой уголок», «Домик», «В часы, как скорбью и тоскою», «Летний вечер», «Летняя ночь» и другие, которые были помещены в «Мирском толке». Но так как не все написанные мною стихи помещались тогда в журнале, то я опять, как и на железной дороге, обратился с искренней просьбой за советом к самому Пушкареву, причем упомянул, что я ранее обращался за подобным же советом к Сурикову, но Пушкарев, будучи тогда не в ладу с Суриковым, сказал мне, что «Суриков сам хуже твоего пишет!» и совета мне никакого не дал. А Суриков в это время лежал уже больной, в последнем периоде чахотки, и 24 апреля скончался. В то время в «Мирском толке» сотрудничал поэт Л. Пальмин{49}, и я письменно обратился к нему, убедительно прося его помочь мне советом и высказать свое мнение о моих стихах. Пальмин — спасибо ему — отнесся ко мне вполне сочувственно и на мою покорнейшую просьбу написал мне <...> письмо{50} <...>
За <...> советы я, конечно, был от глубины души благодарен Пальмину, но он нового почти ничего не сказал мне: я уже раньше сам до всего этого додумался и при всякой малейшей возможности старался читать и учиться, только, к несчастью, у меня не было ни средств, чтобы подписаться в библиотеке, ни свободного времени, чтобы заниматься самообразованием, и я об этом горько сокрушался. А писал я всегда именно только выстраданное, пережитое и перечувствованное, что меня волновало и мучило. Читать же мне хотелось страстно и как можно больше, но я не только тогда, а даже и до сих пор не все еще прочел, что бы хотелось прочитать, особенно из иностранных поэтов, писателей и мыслителей <...>
В Пальмина я глубоко верил, как в высокий авторитет, но все-таки насчет бездарности Сурикова, который тогда только что скончался, я сильно сомневался. Я считал Сурикова по таланту нисколько не ниже самого Пальмина. Без сомнения, Пальмин был бы для меня очень полезен дальнейшими советами и указаниями, но, к сожалению, я с ним лично тогда не встречался, хотя он действительно, как обещал в письме, вскоре после того на минуту зашел в контору редакции, но мне было ужасно несвободно, и я с ним ничего не успел переговорить. Он жил тогда на даче в селе Богородском и нередко уезжал к Пушкареву в Подсолнечное и в редакцию не заходил, — я у него тоже не бывал, а вскоре потом и совсем упустил его из виду, так как у меня снова окончился срок паспорта, и я принужден был уйти от Пушкарева. Выправить новый паспорт не было никакой возможности. Денег отцу я не мог выслать уже потому, что сразу же, при поступлении, я взял у Пушкарева за 4 месяца вперед 28 рублей, на одежду и обувь, ибо я до того времени ходил оборванным и без сапог, а затем положенных мне на харчи 6 рублей хватало только на один обед, а на чай с сахаром и ужин я тратил из семи рублей жалованья. В расчет мне ничего не пришлось, и я снова принужден был скитаться по Москве не пивши, не евши и без приюта. Что было на мне одежды, я все это продал и проел; подошла осень, и я остался разут и раздет на улице. К знакомым я и носа показать не смел, а близких друзей у меня не было; был только один товарищ К. А. Соколов, но он сам был таким же бедняком, как я. К отцу в деревню я тоже не смел показаться, потому что я отлично знал, что если отец обещал не пускать меня к себе в избу, то он сдержит свое слово. И мне это скитание без приюта и ежедневное голодание, раздетому под дождем, до того надоело, до того было тяжело и невыносимо, что я решился покончить с собой… Я не жалел своей молодой, рано загубленной жизни, и только до ужаса жаль мне было того, что не допел я своих задушевных песен, не все я выплакал мечты, не все поведал миру сказки… «Что ж так и жить — маяться! — думал я, — один конец!» Но Бог спас меня для новых, еще более тяжких страданий… Видно, я был еще нужен на что-нибудь в мире… Был холод, дождь, слякоть… Я жестоко простудился. Выбившись окончательно из сил, я решился наконец отправиться пешком в деревню к отцу. Не дойдя верст 15 до своей деревни, я совсем свалился на дороге. Один проезжий мужик поднял меня и еле дышащего привез к отцу. Но отец сдержал свое слово: он совсем прогнал меня, не пустил даже и в избу и резко сказал мужику: «Он мне вовсе не нужен, — ни больной, ни здоровый!» Мужик отвез меня на хутор, к другу моему Аношенкову, у которого я и провалялся больной, при смерти около двух месяцев. Затем, когда я немного поправился, стал опять просить у отца паспорт, но он и слышать не хотел, а требовал, чтобы я непременно уплатил 15 рублей оброка… Но мне и 15 копеек взять было негде. Я ушел снова пешком в Москву без паспорта. Ходил опять несколько недель по Москве голодный и без пристанища. Тут я случайно разыскал художника Неврева{51}, который раньше сотрудничал в «Мирском толке», и рассказал ему свои безвыходные обстоятельства. Он предложил мне быть у него натурщиком — изображать шута в картине «Смерть Гвоздева» при Иване Грозном, а ночевать в ночлежном доме. Я с радостью согласился, и он платил мне за сеанс 1 рубль. Кроме того, по своим знакомым он набрал мне 15 рублей денег, которые я и поспешил послать к отцу; тогда отец выслал мне паспорт, и я с 17 декабря 1880 года поступил к литографу г. Пашкову{52} в писцы при конторе. Жалованья он положил мне 15 рублей в месяц. Живя у Пашкова, я через своего знакомого, Ф. Гурина{53}, послал три стихотворения в «Неву»{54}, которые и были помещены в разных номерах за 1881 год. У Пашкова я прожил всего только до 27 марта 1881 года, так как дела у него пошли плохо: дом его продали за долги, и я оказался ненужным. Тут я снова ходил без места и без приюта несколько недель и, после Пасхи, поступил в литографию к А. В. Морозову{55} тоже в писцы при конторе на 7 рублей в месяц жалованья при готовом столе и квартире. У Морозова я прожил с полгода; писал для него сказки и подписи под картины и собрал было тетрадь своих стихотворений для печати, но цензура некоторые из них не пропустила, и я отдумал издавать их.
Осенью, в октябре, у меня опять вышел паспорт. Новый получить без денег не было решительно никакой возможности, а денег, по обыкновению, не имелось ни гроша. И я было с горя хотел уйти добровольно в солдаты за брата и только потому удержался от этого поступка, что брату достался дальний жребий, и он сам остался. Всю эту осень и половину зимы я опять ужасно бедствовал без места и без куска хлеба — вдобавок к тому же я стал сильно пить… И мне стало еще хуже: я весь обносился, оборвался, ободрался и скитался как бесприютный странник на Хитровке{56}… Но отец, видимо, сжалился надо мной и дал мне паспорт; и я с нового, 1882 года поступил к Клангу, который тогда начал издавать журнал, сначала под названием «Москва», а потом «Волна»{57}. Я у него служил при редакции за конторщика и рассыльного вместе; жалованья же он мне назначил всего только 5 рублей в месяц на его харчах, обещаясь потом прибавить. Стихов же моих он не печатал у себя, считая их по-прежнему неудовлетворительными. Я горячо, убедительно просил его, чтобы он хоть изредка помещал мои стихи, но он упорно отказывал. Я тогда невольно и глубоко мучился сомнениями в своем таланте… «Уж полно, — думал я, — да есть ли у меня хоть какой-нибудь талант, хоть самый микроскопический? Пальмину не пришлось тогда почитать побольше моих стихов, как он хотел, чтобы определить степень моего таланта, и я до сих пор ничего не знаю! Даже «Дело» за последние десять лет не пришлось мне прочитать ни одного номера, чтобы узнать, кого Пальмин разумел под «гражданскими» певцами! Уж не принадлежу ли и я к ним? Я всегда старался проводить идеи о народе, горячо желая принести этим пользу ему; я полагал, что призвание поэта в том, чтобы «напоминать толпе, что бедствует народ, в то время, как она ликует и поет…»
На все эти и подобные сомнения мне здесь никто не мог дать ответа. Мне было очень плохо и тяжело: работы много, а жалованья мало, — на сапоги не хватает! «А там опять, — думал я, — выйдет срок паспорту… Что делать?» Прожил я у Кланга месяца три, — вижу: жалованья он мне не прибавляет, как обещал, — я с ним поссорился и ушел от него, или, вернее, он прогнал меня. Это было Великим постом. Сапоги у меня были худые; ходя по Москве, я простудился, сильно захворал и был отправлен на казенный счет на родину. Отец хоть и сердился и бранил меня сильно, но на этот раз не прогнал из дому. Видно, сердце его чуяло, что недолго ему жить на свете осталось…
Это было весной. Природа оживала после зимнего сна. После Пасхи и я оправился от болезни и ушел опять в Москву. Здесь я недолго ходил без места и поступил вторично к Пашкову, у которого дела тогда немного понравились, и жил у него до осени, а 3 сентября 1882 года отец мой скончался пятидесяти шести лет от роду. Мать писала мне с братом, чтобы мы с ним приехали в деревню на поминки отца в сороковой день, к 14 октября. Мы поехали. В этот раз я в деревне познакомился с девушкой, моей соседкой, которая была мне симпатична, и через 4 месяца, 14 феврали 1883 года, я повенчался с ней. Материальные расходы мои увеличились, а заработка не прибавлялось. Но уже в выдаче паспорта меня никто более не стеснял.
После поминок, прибыв в Москву, я уже окончательно порешил заниматься исключительно литературным трудом, преимущественно для никольских издателей. С этой целью подыскал я на Серпуховской улице, в переулке, общую квартиру с гопперовскими мастеровыми за 1 рубль 50 копеек в месяц и стал писать свои сказки и рассказы, проводя в них добрые и полезные мысли в народ. Я даже мечтал в то время, ради пользы народной, обновить, улучшить или, так сказать, реставрировать всю лубочную литературу, но это был бы гигантский, непосильный труд для одного человека. Я писал много, усиленно, спешно, неутомимо по 18 и более часов в сутки; писал упорно, до физического и умственного изнеможения, до головной боли, до тошноты… И при всем этом зарабатывал не более 20 рублей в месяц. Мне платили дешево{58} — от 2 до 3-х рублей за печатный лист, и только через несколько лет я стал получать 5 рублей и, наконец, по 10 рублей за лист. Выше этой платы мой труд у лубочных издателей никогда не оценивался. И так я продолжал работать несколько лет, с 1883 года по 1888 год. И все это время страшно бедствовал, едва не умирая с голоду, так что ни одного месяца я не был вполне гарантирован от голодной смерти. Работа не была постоянна: часто прекращалась, особенно в летнее время; но я на все лето, каждый год, уезжал в деревню и занимался крестьянством: учился косить, молотить и т. д. Случалось, что и зимой прекращались заказы от никольских книжников, и я оставался без гроша и без куска хлеба, и тогда я поступал снова куда-либо на место; так, в 1883 году я жил 5 месяцев у И. Ф. Морозова{59}, в книжной лавке за приказчика, по 10 рублей в месяц, а в другой раз, в 1885 году, 4 месяца писал адреса у Ф. Д. Гриднина{60} для рассылки его газеты «Театр и жизнь», по 20 копеек в день. В 1886 году жил несколько месяцев у Пашкова в литографии писцом при конторе, по 10 рублей и месяц. Но, как ни трудно мне было, как я ни бедствовал, я об этом не тужил. Я утешался той мыслью, что пишу для народа, для своего брата мужика. И ради этой идеи, ради глубокой любви к народу и желания ему пользы, я готов был бы и даром писать, если бы только был у меня кусок черного хлеба и кружка воды да каморка, где бы можно было работать. Мне содержание себя стоило всего 10 рублей в месяц, но у меня не было обеспечения даже и на один месяц, в который я мог бы спокойно, серьезно заняться обработкой своих произведений и написать хотя одну вполне хорошую, выдержанную повесть. Все же до того написанные мной вещи, с большой поспешностью, без черновика, конечно, меня не удовлетворяли; хотя некоторые из них, несмотря на то, сделались буквально классическими в народе{61}. Например, «Портупей-Прапорщик», «Княжья могила», «Кровавая лапа», «Страшная смерть без вины», «Жена-преступница», «Разбойник Чуркин», «Жена Чуркина» и другие, а также много божественных. Стихов я за это время писал мало, по 3—4 стихотворения в год, и изредка печатал их в 1884—1885 годах в «Новостях дня»{62}, «Развлечении» и «Родине»{63}. Никто за все это время из моих знакомых не отнесся ко мне сочувственно, никто не поддержал меня, не ободрил; почитать мне было нечего, да и некогда, — я работал как вол, а годы проходили, самые лучшие, молодые годы, — силы слабели, энергия надламливалась… Порывов молодости жизнь не могла вернуть… Бремя прожитых тяжелых лет давило душу… Воображение складывало радужные крылья… Я мучился сомнениями в своих силах и опускал руки. Все это время я, более чем когда-либо, страшно нуждался, не только материально, но и духовно, нуждался в опытном руководителе, друге-советнике, коего у меня не было… У Кольцова был друг Серебрянский{64}, Никитин{65} сам был человек довольно образованный, у Сурикова целых десять лет был другом и руководителем Плещеев{66}, а у меня — никого и ничего! Но я не пал духом, не сломился… Все это время я нередко думал о несостоявшемся моем поступлении в учительскую семинарию в 1876 году, откуда я мог бы выйти учителем, был бы обеспечен в куске хлеба, что и дало бы мне возможность в свободное каникулярное время, не спеша, как должно, обрабатывать мои произведения. В особенности крепко я стал думать об этом, когда с появлением изданий «Посредника»{67} (книг. — А. Р.) Л. Толстого и Пушкина в народе, никольские издатели принялись дружно за них и стали издавать их в громадных количествах, и моя работа почти совсем прекратилась у них. С 1886 года я стал особенно крепко думать о том, нельзя ли как-нибудь, хотя самоучкой, подготовиться в учителя? С этой целью я пошел во вновь открывшиеся вечерне-воскресные классы, недалеко от моей квартиры, при втором Серпуховском начальном училище, и посоветовался с учителем С. И., который присоветовал мне поступить на три года в Алферовскую учительскую семинарию (Смоленской губернии), где он сам учился, уверив меня, что там были в его время воспитанники 20—28 лет, и послал туда письмо. Я с радостью было начал хлопотать об этом, но тут главным препятствием поступления туда оказалось мое семенное положение, как женатого человека, и опять те же лета. И вот я начал готовиться к экзамену на учителя самоучкой, посещал вечерне-воскресные классы и главным образом готовился на квартире сам собою, учась всему, что требовалось по программе. В то же время, чтобы не умереть с голоду, я писал кое-что для никольских издателей, преимущественно для Губанова{68} и Сытина. Это было зимой 1886—1887 года. В это же время я окончательно бросил пить водку. И в это же время я познакомился с великим писателем русской земли Л. Н. Толстым{69}. Л. Н. Толстой с 1885 года выступил на литературно-народное поприще с целым рядом небольших рассказов для народа в издании фирмы «Посредник», но перед тем, чтобы ознакомиться с духовной пищей народа, он перечитал почти всю лубочную литературу, среди которой ему часто попадались мои сочинения, и он уже знал меня по псевдониму «И. Кассиров». Я решил пойти к нему в Долгохамовнический переулок, где он жил в собственном доме. Когда я пришел к нему в дом, лакей доложил обо мне, и Лев Николаевич попросил меня к себе в кабинет, принял меня очень радушно и любезно, усадил меня на стул, а сам поместился напротив, на диване, обитом черной кожей. В это время он был уже с сильной проседью в волосах и бороде. Усевшись, мы повели с ним интересную литературную беседу. Он спросил меня: чем я теперь занимаюсь, что пишу и в каком роде? Я отвечал ему, что готовлюсь в учителя и продолжаю писать по-прежнему для лубочных издателей рассказы, сказки и повести, и тут же напомнил ему содержание весьма популярной моей сказки о Портупей-Прапорщике. Лев Николаевич вспомнил эту сказку и стал говорить: «Для чего же у Вас Портупей-Прапорщик убил Нимал-человека? Убийства не должно быть: это противно учению Христа. У Вас способность большая, фантазии много, и Вы могли бы писать в другом роде». Я ему объяснил, что это написано для того, чтобы в лице злого волшебника, Нимал-человека, покарать зло и поселить в душе читателя отвращение ко всему дурному, преступному, злому и порочному, а в лице героя, Портупей-Прапорщика, вызвать сочувствие ко всему доброму и хорошему.
Лев Николаевич улыбнулся на это и сказал: «Это все не то… Нужно проводить в народ истинное учение Христа, например, о несопротивлении злу, а не борьбу со злом… Как раз наоборот. Или для чего, например, у Вас генерал дал прапорщику кошелек-самотряс, из которого можно натрясти сколько угодно денег?» Я сказал, что деньги нужны были ему для того, чтобы иметь возможность исполнить добрые и полезные намерения. Он опять добродушно улыбнулся и сказал: «Деньги зло, и ими никогда никакой пользы людям нельзя принести… Можно приносить пользу и помогать людям только личным трудом. Разве для того нам дан талант от Бога, чтобы мне писать «Анну Каренину», а Вам «Портупей-Прапорщика»? Вы помните, что сказал Христос{70}: «За всякое слово праздное, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда…» И еще в другом месте: «Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься…» Если это сказано всем людям вообще, а писателю — тем более… Писателю в особенности надо помнить это». Я сказал ему, что я пишу очень спешно и много, а зарабатываю очень мало, — едва хватает на насущный хлеб, так как платят мне гроши, и я, иногда не успев перечитать написанное, с не просохшими еще чернилами, тащу скорей рукопись к издателю, чтобы получить сколько-нибудь на хлеб или на квартиру… Тут уже некогда вырабатывать или отделывать… Он отвечал: «Это напрасно… А зачем Вы живете в Москве? Здесь содержание дорого стоит. Вот Вы, например, носите здесь пиджак, брюки, сапоги… Едите мясо, белый хлеб и прочее. А в деревне Вы бы надели армячок, лапотки, кушали бы черный хлеб с квасом, редечку, молоко… чай вприкуску… И жили бы отлично, покойно. И писали бы обдуманно, хорошенько… Вот, как Семенов{71}? Вы с ним не знакомы?» Я сказал, что нет, не знаком. «Это такой же писатель-крестьянин, как и Вы, — сказал Лев Николаевич, — хороший, скромный молодой человек, — пишет такие милые, задушевные рассказы… Он живет постоянно в деревне, летом работает, а по зимам пишет… Бывает здесь, у меня… Надо Вас как-нибудь познакомить… Вот бы и вы так…»
Я объяснил Льву Николаевичу, что мне в деревне жить постоянно нельзя по многим причинам. Во-первых, я с малолетства не жил в деревне, поэтому работать по крестьянству, как следует, не выучился… Стал учиться этому уже взрослым, а это совершенно не то, что с малолетства, а во-вторых, в деревне, кроме уплаты податей, много еще разных домашних расходов, нужны деньги, а где их взять? Хлеба наработаешь только на свое брюхо — продать нечего, оброк платить нечем и нечем справлять все крестьянские нужды… Я бы там и не прокормился, не говоря уже об уплате податей и других расходах… А здесь я живу хоть и плохо, но только по зимам и зарабатываю деньги на уплату податей и других домашних расходов, а на лето уезжаю в деревню; но и здесь я живу нисколько не лучше деревенского, а еще хуже: питаюсь том же черным хлебом впроголодь, а чай-то внакладку я даже сроду никогда не пил… И тут я рассказал ему все свои обстоятельства и как я бедствую и добавил, что потому я теперь и готовлюсь в учителя, что мне становится жрать нечего…
Лев Николаевич на это заметил: «Как Вы счастливы!» И задумался. А я сам про себя думал: «Какое уж тут счастье, когда работаешь до изнеможения, оживешь день не евши, дна дня — так… Плохое счастие!» Но, на взгляд Льва Николаевича, в этом то и заключалось счастье. После этого он со мной любезно распростился, пожал руку и просил заходить к нему. Я после того довольно часто заходил к нему и беседовал с ним преимущественно о религиозно-философских и богословских вопросах{72}. Он дал мне почитать свое «Евангелие» и «В чем моя вера» в рукописи, а затем и книгу «Жизнь». Я, прочитав его книги, нашел его учение неправильным и, приходя к нему, спорил с ним и даже оспаривал его, доказывая ему его ошибки и заблуждения; он, конечно, не соглашался с моими доводами и постоянно возражал мне, иногда даже сердился и говорил: «Только Вы одни можете рассердить меня!» А я про себя думал: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты неправ!» Он меня несколько раз рекомендовал своим знакомым как замечательного богослова и самого плодовитого писателя, которого читают миллионы русского народа, и при этом говорил, что «Вы могли бы проводить с успехом истинное христианское учение в народ, даже более, чем я сам, потому что меня меньше читают в народе». А я ему говорил, что я именно и провожу истинное православное христианское учение, а Ваше учение не истинное. По этому поводу Амфитеатров{73} в «Новом времени» справедливо заметил, что Лев Николаевич завидует мне, и зависть эта «имеет резон; ибо если Саула — Толстого читают тысячи, то Давида — Ивина читают тьмы». Таким образом, беседовали и спорили мы со Львом Николаевичем много, и из этих споров могла бы составиться целая книга. Однажды дело дошло до того, что он сказал мне: «Ваши взгляды и убеждения мне более или менее известны, а также и Вам — мои, и, очевидно, ни Вам меня, ни мне Вас убедить не удастся, а потому и оставим эти споры…»{74} Иначе сказать, — говорить нам больше не о чем и незачем. И после того мы этих вопросов больше уже не возбуждали.
Однажды я пришел к Льву Николаевичу в худых сапогах, так что у меня пальцы торчали наружу… А дело было в феврале, на улице снег мокрый, холод, вода. Я и говорю ему: «Вот, Лев Николаевич, сапоги у меня худые, — и при этом показал ему голые пальцы, — купить не на что, заработать невозможно, потому что я усиленно готовлюсь к экзамену, — экзамен скоро теперь начнется, и мне ходить не в чем, да и боюсь простудиться». На это Лев Николаевич мне и говорит: «Вот, кабы Вы умели сами шить сапоги, и хорошо бы было… взяли бы да и сшили… Купили бы себе товару рубля на полтора, да и сшили бы. Вот, как я, купил себе товару, да и сшил сам, и вот уж четвертый год ношу. Я и блузу, и брюки все делаю домашним способом: блузу вот уже восьмой год ношу, а штаны — шестой год… прочно…» Я и говорю ему: «Лев Николаевич! Да ведь полтора-то рубля у меня нет и взять негде, а если бы у меня были полтора рубля, то я, вместо того, чтобы покупать товару, так как шить я сам не умею, а сапожнику заплатить нечем, то я бы лучше отдал к этим сапогам подметки подкинуть и проходил бы до время. Но, главное, у меня опять денег ни гроша, и достать негде… Не можете ли Вы дать мне хоть рубля два-три?» Лев Николаевич отвечал: «Денег я не имею… Деньги — зло: я не люблю их, да они мне и не нужны… На что они мир? Разве на баню когда потребуется гривенник… Так жена даст мне… Я вообще ничего своего не имею: все это, что вы здесь видите, и дом принадлежат жене и детям. Я живу здесь на хлебах у жены. Если жена меня прогонит, то я пойду к Вам или еще к кому-либо из знакомых, — разве меня не покормят?» — «О, это без сомнения, Лев Николаевич! А все-таки мне ходить не в чем, мне теперь сущая смерть! Вот, едва до Вас дошел! А дальше так ходить невозможно: начнет таять, промочу все ноги, простужусь, умру… Нельзя ли как раздобыть?..» — просил я его. «Не знаю, — отвечал он, — вот пойду к жене, спрошу, нет ли у нее…» И Лев Николаевич отправился из кабинета к жене и через несколько времени вернулся, неся за уголок трехрублевую бумажку, и подал ее мне, говоря: «Вот, возьмите, — у жены, оказалось, есть». Я взял бумажку, от души поблагодарил его и распростился с ним. Я на эти деньги купил себе подержанные сапоги и продолжал подготовляться к экзаменам.
Как-то раз я сказал Льву Николаевичу, что у меня плохо подвигается дело по математике. Он мне на это и говорит: «Да Вы давно бы мне об этом сказали! Ведь я когда-то учился, и математика была моим любимым предметом. Я ее хорошо знаю. Хотите ко мне ходить? Я охотно буду давать Вам уроки по математике». И он тут же показал мне для примера решение какой задачи. Я от души поблагодарил его, но не посмел, конечно, злоупотреблять дорогим его временем. Тогда он рекомендовал меня одному студенту, И. И. Фуделю{75}, и объяснил ему, что мне нужен преподаватель по математике, и также объяснил, что я человек бедный, платить не могу. И. И., познакомившись со мной и узнав, что мне нужно, познакомил меня со своей женой, которая только что перед тем сама готовилась на учительницу, — дело это ей было знакомое, — и она охотно согласилась дать мне несколько уроков по математике. Я с ней и занимался. И знакомство мое с этим семейством до сих пор не прекратилось, хотя Иосиф Иванович теперь давно уже священник. Кроме того, Лев Николаевич познакомил меня еще с А. Д. Тиличеевым{76}, с которым мы вполне сошлись в убеждениях, и он много способствовал к укреплению меня в некоторых религиозных и философских истинах. Наконец, Лев Николаевич познакомил меня и с А. А. Александровым{77}, который жил тогда на квартире в доме Л. Н. Толстого, готовился к экзамену на магистра и сотрудничал в «Русском деле» С. Ф. Шарапова{78}. Я принес как-то к Л. Н. Толстому три моих стихотворения: «Утром», «Ночью» и «Лес и народ», Лев Николаевич прочитал их, одобрил и сказал, что он их передаст в журнал. Я глубоко был благодарен ему. И вот он действительно передал их С. Ф. Шарапову через А. Александрова; стихи были напечатаны в «Русском деле», и мне пришлось получать гонорар за них через А. Александрова, с которым меня познакомил Лев Николаевич. А через А. Александрова я познакомился и с редактором журнала, С. Ф. Шараповым. А. Александров выдержал экзамен на магистра и был впоследствии приват-доцентом Московского Императорского университета, а в 1892 году принял на себя редактирование и издание журнала «Русское обозрение». В то же время Лев Николаевич познакомил меня и с писателем-крестьянином С. Т. Семеновым, который тогда вполне разделял взгляды и убеждения Л. Н. Толстого и был его горячим поклонником и адептом его учения. С первых же шагов моего знакомства с ним мне приходилось спорить с ним так же, как и со Львом Николаевичем, и на те же религиозно-философские, богословские и нравственные темы. Но переспорить или убедить друг друга мы не могли и оставались каждый при своих убеждениях. Видались мы с ним несколько раз в Москве, а затем и в деревне. Я бывал у него в деревне Андреевской несколько раз и ночевал там. Он у меня тоже бывал и один раз ночевал. За последнее время мы с ним видались редко, в 2—3 года один раз.
Посещая Льва Николаевича, я иногда приводил к нему своих знакомых, желавших почему-либо познакомиться с ним. Так, однажды лубочный издатель, И. Ф. Морозов, купив в собственность умиравший тогда журнал «Развлечение»{79}, вздумал поправить свои делишки по изданию журнала тем, что возмечтал заручиться сотрудничеством в «Развлечении» Л. Н. Толстого. Знаком же он со Львом Николаевичем не был, но поехать лично к нему, без чьего-либо посредничества, не решался. Тогда он, узнав, что я лично знаком с Львом Николаевичем и нередко у него бываю, упросил меня поехать с ним ко Льву Николаевичу и познакомить его с ним. Я согласился познакомить его с Л. Н. Толстым, почти не подозревая его тайного умысла. Он захватил с собой несколько номеров «Развлечения», и мы с ним отправились. По прибытии к Толстому я отрекомендовал его как редактора «Развлечения». Лев Николаевич, по-видимому, и не подозревал о существовании такого журнала. Почтительно раскланявшись со Львом Николаевичем, Морозов начал хвалить свой журнал и уверять Льва Николаевича в том, что его журнал один из самых распространенных среди простого народа, так что его по трактирам, по портерным и погребкам читает самый что ни есть простой народ. «А так как Вы, Лев Николаевич, сочувствуете народу, пишете для него рассказы, которые распространены во множество в народе, и народ Вас любит и читает, то ради этой любви к народу не откажите, Бога ради, в сотрудничестве в моем журнале, дайте хоть два-три рассказа», — просил Морозов. Лев Николаевич на это заметил: «Как Вы меня задираете!» Но Морозов, не поняв значения этого выражения, сказал: «Нет, Лев Николаевич, честное слово, ведь я это серьезно! Вот, посмотрите!» — и подал Льву Николаевичу привезенные номера «Развлечения». Лев Николаевич взял, развернул два-три номера, просмотрел некоторые статейки и карикатуры, похвалил за одну статейку Дорошевича{80}, работавшего тогда в «Развлечении», улыбнулся и сказал: «Ну, хорошо, оставьте эти номера у меня, я еще посмотрю и ознакомлюсь с Вашим изданием». — «Пожалуйста, Лев Николаевич! — поспешил заявить Морозов. — Не оставьте Вашим вниманием и сотрудничеством». — «Хорошо, хорошо, — сказал Лев Николаевич, — и просмотрю и сообщу Вам». После этого мы откланялись Льву Николаевичу и уехали. Морозов, кажется, не сомневался в своем успехе. Но Лев Николаевич, ознакомившись с «Развлечением», очевидно, не нашел удобным осчастливить своим сотрудничеством ныне покойного Морозова. В описываемое время Лев Николаевич ежегодно по зимам жил в Долгохамовническом переулке в своем доме, а на лето уезжал в свое имение Ясная Поляна. В то же время я приобрел и еще несколько интересных знакомств: так, А. Д. Тиличеев познакомил меня с поэтом и писателем Н. П. Аксаковым{81}, потом с присяжным поверенным и писателем А. Орфано{82}. Наконец, я познакомился с этнографом А. С. Пругавиным{83} и переписывался с Н. А. Рубакиным{84}. А. С. Пругавин, изучая лубочную литературу и встречая много моих сочинений, пожелал познакомиться со мной. Для этого он оставил свой адрес в книжной лавке Губанова и просил меня зайти к нему. Я зашел к нему в номера «Англия», на Тверской, познакомился с ним и не раз беседовал потом о народно-лубочной литературе, сообщил ему много сведений о лубочных издателях и писателях, чем и доставил ему немало материала для его книги «Запросы народа и обязанности интеллигенции», в которой он, между прочим, поместил и мою краткую биографию, к сожалению, в искаженном виде. Н. П. Аксаков познакомил меня с А. В. Васильевым{85}, редактором и издателем «Благовеста». У А. Д. Тиличеева я как-то раз встретился и познакомился с драматургом Е. П. Карповым{86}. Приобретя в короткое время столько лестных для меня знакомств, я и мог бы тогда найти в ком-либо из этих знакомых опытного руководителя и советника на литературном поприще, но я в то время считал себя уже не молодым и не начинающим писателем, а довольно потрудившимся и немало написавшим всякого рода лубочных и нелубочных произведений; точно так же и другие считали меня уже довольно опытным в литературе, совсем не подозревая того, что меня иногда мучали и затрудняли такие вопросы в литературе, в которых каждый гимназист больше моего понимает. И мне было стыдно и неловко сознаться в этом и просить советов и указаний, и я уже ни к кому более не обращался за разъяснениями и указаниями, а старался додуматься, дочитаться и доучиться сам. Но время и средства не позволяли сделать многого. Стихов, вследствие ученья и других работ, я не мог много писать, и оттого мои стихи вырабатывались и улучшались мало.
Наконец, весною, в марте месяце 1888 года, я начал держать экзамен на сельского учителя{87} в Испытательном комитете при канцелярии попечителя Московского учебного округа. Экзамен этот продолжался восемь недель, три раза в неделю, по два часа. Вместе со мной держала также экзамен на домашнюю учительницу дочь графа Л. Н. Толстого, Марья Львовна{88}. Главным предметом у нее был английский язык. Я иногда захаживал за ней к ее отцу, Льву Николаевичу, и мы вместе с ней путешествовали до канцелярии попечителя. Дорогою разговаривали с ней о разных предметах и об учении ее отца, — она вполне разделяла все убеждения своего родителя и не хотела выходить замуж. В апреле я выдержал экзамен, и Марья Львовна тоже, а в мае я получил свидетельство на звание учителя, внеся за это три рубля в пользу экзаменаторов.
Вскоре затем я отправился к графине Уваровой просить ее об учительском месте, но графиня, зная, что я знаком со Львом Николаевичем, с которым и она была когда-то знакома, не только отказала мне в учительском месте у себя в Пореченской школе, но и не решилась рекомендовать меня в какую-либо другую школу. Знакомств в педагогическом мире у меня не было никаких, и я остался без места и принужден был снова приняться за лубочную литературу, и так, работая много, а зарабатывая мало, перебиваясь с хлеба на квас, я продолжал трудиться еще несколько лет до 1896 года.
Стихов за все это время я писал немного и изредка посылал их в журналы. Так, в 1889 году я поместил около 10 стихотворений в «Русском курьере» Н. П. Ланина{89}, а в следующем, 1890 году несколько стихотворений в «России» И. И. Пашкова{90}. В 1892 году помещал стихи в «Московской иллюстрированной газете»{91} и одно стихотворение — в «Русском обозрении» А. Александрова, — и более в толстых журналах мне не пришлось добиться помещения своих стихотворений. Так, в 1889 году, в мае, я через Е. П. Карпова послал два моих стихотворения, в народном духе, в С.-Петербург, в редакцию журнала «Русское богатство»{92} и через несколько времени получил от него следующие письмо: «К крайнему моему сожалению, я должен сообщить неутешительные новости. Л. Е. Оболенский{93} не признал возможным поместить в журнале «Русское богатство» Ваши стихотворения, находя их сильно подражательными Кольцову, мало оригинальными по замыслу и по форме. «В каждом поэте, — сказал он, — хотя бы и не первостепенном, должна быть своя физиономия», в присланных же стихотворениях она, по его мнению, не обнаруживается. Уважающий Вас Е. Карпов». После этого я уже посылать туда стихи не решался. Хотя, быть может, пошли я туда стихи в другом духе и роде, они, глядишь, и были бы напечатаны. Затем я посылал одно стихотворение в «Благовест», но А. В. Васильев не удостоил его помещения на страницах уважаемого своего журнала. Посылал я стихи через Рубакина и в «Северный вестник»{94}, но и там получил отказ. Наконец, через В. А. Гольцева{95}, я обращался со стихами и в «Русскую мысль»{96}, но и здесь не повезло. Это было в 1892 году, а в следующем, 1893 году, я поместил большую статью «О народно-лубочной литературе»{97} в «Русском обозрении». В том же году, в январе месяце, вышла отдельным изданием книга моих стихотворений, под названием «Песни Родины», в которую вошли все, написанные мною по 1893 год, стихотворения. Отзывы о моих стихах по выходе их по большей части были неблагоприятные и небеспристрастные{98}. Указывали только на одни слабые и ранние мои стихотворения, а о других, вполне выдержанных и зрелых, — ни слова, как будто их там и не было совсем.
Книгу моих стихотворений я, разумеется, не преминул вручить Л. Н. Толстому, хотя я и знал, что Лев Николаевич вообще не любит никаких стихов, все-таки мне было очень интересно знать его мнение о моих стихах. И вот, через несколько времени после вручения ему книги, я, в апреле месяце, пришел к нему и, между прочим, спросил его:
— Ну, как, Лев Николаевич, прочитали мою книгу?
— Вашу книгу я просмотрел; можно сказать, прочитал всю…
— Ну, как Вам понравились мои стихи?
— Ваши стихи отличные, не хуже многих авторов: они гладки, звучны, читаются легко, но в них, как и вообще во всех стихах, мало искренности… Я вообще не люблю стихов, потому что в них нельзя высказать так ясно всего, что можно сказать в прозе… Этому мешает размер, рифма и прочее. Это все равно, если бы я спутал себя по ногам веревкой и стал бы прыгать отсюда на Тверскую… тогда как не спутанный я могу ходить свободно… Для чего же я стану добровольно себя связывать?
— Вы, стало быть, в стихах вообще не видите никакого толку?
— Никакого… Потому что когда мы разговариваем или рассказываем о чем-нибудь в прозе, то стараемся передать нашу мысль с полнейшей точностью, раз двадцать поправимся для того, чтобы выразить ее именно так, как она есть, а в стихах этого нельзя…
— Ну, а Пушкин, как по-вашему?
— Пушкина вся заслуга состоит в том, что прежде, до него, например, Ломоносов, Державин и другие, писали торжественные оды самым высоким слогом:{99} ода «Бог», «Утреннее и вечернее размышление о Божьем величии», «Водопад» («Алмазна сыплется гора…»), «На смерть князя Мещерского», «На победы…» и прочее. Все это на самые важные и торжественные случаи и самым высокопарным слогом, — парили в облаках, и все тогда думали, что в стихах можно говорить только о таких важных вещах и таким выспренним слогом, а Пушкин — первый заговорил самым задушевным, простым и ясным языком о самых обыкновенных вещах, спустился с облаков на землю, и все это в простой красивой форме… И вот, со стороны формы, только и есть его заслуга, а содержания у него почти никакого нет… даже у Ломоносова и то горнило больше содержания. Пушкин сделал то, что после него стало каждому легко писать стихи, он дал легкую, удобную форму…
— Вот, Лев Николаевич, кабы Вашими устами да мед пить!
— Вот и у Вас все это есть… Я всегда и прежде удивлялся тому, что у Вас, без образования, такая громадная способность писать стихи…
— Но ведь и в стихах можно разные мысли проводить!
— Разумеется! И у Вас они есть; но все это, повторяю, не может быть искренно по вышесказанным причинам… Пишут, например, Фет и другие, как она задумчиво села, как у ней развился локон и красиво рассыпался по плечам и прочее, пишут и о любви к народу и выражают «гражданскую скорбь», восклицают о братских объятиях, желая обнять весь мир, тогда как им хочется не мир обнять, а пойти и портерную и выпить бутылку пива… Искренности нет! Слишком зажирели… Много жиру накопили… Едят сладко, а с жиру известно… не Вы лично, — нет, я это не к Вам говорю, а вообще… Поэтому теперь книга стихотворений не может иметь никакого успеха и пройдет незамеченной! Совсем не то теперь нужно!
— Пожалуй, это отчасти и верно… только не все же неискренни.
— Вот я недавно видел, как один сапожник, пьяненький, выбежал из трактира с книжкой стихов Ожегова{100}, — какой тут толк! — И Лев Николаевич махнул при этом рукой.
— Ах, да, кстати об Ожегове, — вот у него в стихах некоторые признают много искренности и чувства.
— Искренности у него тоже нет, только у него стихи по форме хуже других, тяжелые, дубоватые…
Поговорив и еще кое о чем, я распростился со Львом Николаевичем. В этот раз со мною был у него и В. Е. Миляев{101}, которого я в тот день познакомил со Львом Николаевичем. А Ожегова я познакомил с Л. Н. Толстым еще прежде. Сам же я с писателем-крестьянином М. И. Ожеговым познакомился еще в 1891 году, когда только что вышла в свет первая его книжка стихов под заглавием «Песни и стихотворения М. И. Ожегова», на которую мне указал лубочный издатель Губанов. Я, ознакомившись с его стихами, увидал, что Ожегов плохо владеет формой стиха и нередко употребляет неправильные выражения. Судя по портрету, помещенному на обложке его книжки, — это человек еще молодой, а следовательно, и неопытный, думал я, и, зная по себе, как трудно дается необразованному новичку форма стиха, я решил пойти к нему, познакомиться и помочь ему советом и указаниями. Но я жестоко ошибся в своих предположениях. Когда я пришел к нему, я увидел, что это действительно не старый человек, но и не первой молодости. Когда я с ним разговорился о стихах и, с целью объяснить его недостатки, указал ему на неправильные выражения в его стихах, вроде: «Солнце красное закатается», «роса на землю повалилася», «пар далеет» и т. п., и, кроме того, на неправильные ударения, то Ожегов, вместо того чтобы послушать, понять и сознаться в своих ошибках и незнании, начал волноваться, горячиться и спорить, что эти выражения и вообще его стихи очень правильны, красивы и поэтичны, что так именно и должно писать, как он пишет… Я увидал, что это человек убежденный в достоинствах своих стихов, закоснелый в своих убеждениях, упорный и стойкий, не только не понимающий своих недостатков, но и не желающий понимать их. Я потом хотя и еще несколько раз толковал с ним и спорил, но эти толки и споры ни к каким положительным результатам не привели.
М. А. Козырева я встречал раза два-три еще в первое мое знакомство с Суриковым, в 1875 году, когда он был еще безбородым юношей и приходил в лавочку к Сурикову, но я с ним в то время ни о чем не беседовал, да и впоследствии, во все время, встречался с ним редко и особенно близко никогда не сходился.
Кроме Козырева, я в лавочке Сурикова встречал раза два И. Д. Родионова и один раз встретил Д. И. Кафтырева{102}, а также И. И. Барышева{103}. И более из суриковского кружка писателей-самоучек я в то время никого не встречал.
М. И. Ожегов, с которым мы впоследствии подружились, познакомил меня со следующими писателями-самоучками: сначала с покойным ныне Лютовым{104}, а затем с М. Л. Леоновым{105}. Леонов вскоре познакомил меня с И. А. Белоусовым{106} и с И. И. Зачесовым{107}; затем я, по указанию Зачесова, познакомился с Миляевым, а после с С. Е. Захаровым{108} и Репиным. Однажды я ходил на стеклянный завод, на Бутырках, и познакомился там с Нечаевым. Это было в 1892 году. В то же время пришел ко мне на квартиру и познакомился со мною И. Н. Свето-Востоков. Позднее всех, кажется, в начале 1896 года, я познакомился с Ф. С. Шкулевым{109}, с которым сошелся ближе всех из писателей-самоучек и, впоследствии, даже подружился с ним. Все вышеупомянутые писатели-самоучки собирались в одном трактире, в городе, и я раза три-четыре посетил эти собрания, беседа на которых сосредотачивалась в то время преимущественно на литературных сборниках, издававшихся в разное время в память покойных писателей-самоучек А. Разоренова{110} и И. Д. Родионова.
Работа моя для никольских издателей все время шла не особенно блестяще в смысле заработка, хотя я и достиг уже платы по 10 рублей за печатный лист; но в 1896 году она почти совсем прекратилась, так что, бывало, и на хлеб не заработаешь, и я пробовал писать передовые статьи для газеты «Курьер торговли и промышленности»{111} на все коронационные события, но одну из статей, накануне народного гулянья на Ходынке, цензура не пропустила, и дальнейшие за тем мои статьи также не были пропущены, и работа моя в этой газете прекратилась. Мне с семейством жить стало буквально нечем. Разыскивая себе всюду работу, и как то раз у Сытина встретил инспектора В. П. Вахтерова{112}, который в то время редактировал у Сытина народные издания; меня он уже раньше знал по слухам и знал, что я уже несколько лет имею звание учителя, бедствую материально, но на место учителя почему-то не поступаю. Познакомившись со мной лично, он предложил мне поступить на учительское место и дал обо мне рекомендацию Н. В. Чехову{113} в Тульскую губернию, Богородицкий уезд. Н. В. Чехов, заведовавший хозяйственной частью земских народных училищ Богородицкого уезда, представил мне место учителя в Казанском земском училище Богородицкого уезда, куда я и отправился осенью 1896 года и прожил там учителем три года. А затем перешел в Старотяговскую церковноприходскую школу Можайского уезда Московской губернии. Но здесь, вследствие столкновения с земским начальником{114}, я прослужил всего 7 месяцев и перешел в Верейский уезд Московской губернии, в Пановскую церковноприходскую школу, где и учительствую в настоящее время{115}.
27 сентября 1901 года
КОММЕНТАРИИ
В сборник включены наиболее популярные и типичные произведения лубочной литературы. В случаях, когда имелось несколько вариантов одного произведения, для публикация отбирался наиболее полный и распространенный. При воспроизведении текстов были устранены многочисленные опечатки, свойственные лубочной книге, а орфография и пунктуация приближены к современным нормам. Исключение составляют те случаи, когда важно было сохранить особенности языка автора (архаизм, невысокий уровень грамотности и т. д.).
При комментировании не пояснялись такие слова, как, например, «аудиенц-камера», «имажинация», «обер-гофмаршал», «дофина», а также имена божеств древнеримского пантеона, поскольку они не были понятны народному читателю, что не только не отталкивало его от книги, но даже придавало ей особую привлекательность. В этой среде зачастую именно неполная ясность текста выступала в качестве показателя высоких его достоинств, мудрости и глубины. Характерны в этом плане слова, сказанные слугой И. А. Гончарову: «Коли все понимать — так и читать не нужно: что тут занятного!»[21] Показательно, что словарик мифологических персонажей, приложенный к первому изданию книги М. Комарова, в дальнейшем исчез. Сам автор нередко не совсем ясно представлял, по-видимому, значение употребляемых терминов. У М. Комарова, например, лютеранская кирка оказывается в католической Испании. Подобные слова и понятия использовались не в их прямом значении, а в качестве своеобразной «инкрустации» текста, для сохранения «придворного» и «иностранного» колорита. Поэтому прокомментированы лишь те слова и явления, которые были понятны аудитории лубка, но по тем или иным причинам могут быть неизвестны современному читателю.
История повести изложена в монографии В. Д. Кузьминой «Рыцарский роман на Руси» (М., 1964), там же приведен библиографический список изданий. Одна из рукописных редакций повести недавно опубликована (по списку конца XVII века) в книге «Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга первая» (М., Художественная литература, 1988, с. 275—300). Печатные издания выходили с 1760-х годов, в дальнейшем текст неоднократно перерабатывался. Здесь воспроизводится по изданию: Сказка о славном и сильном богатыре Бове Королевиче и о прекрасной супруге его Дружневне. М., А. Д. Сазонов, 1900.
Об истории сказки смотри в книге: Пушкарев Л. Н. Сказка о Еруслане Лазаревиче (М., 1980). Публикации различных рукописных вариантов сказки осуществлены в названной монографии (с. 162—164), а также в кн.: Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга первая (М., 1988, с. 301—322). Здесь воспроизводится по изданию: Кассиров И. Сказка о сильном и славном витязе Еруслане Лазаревиче, о его храбрости и о невообразимой красоте супруги его Анастасии Вахрамеевны. М., Товарищество И. Д. Сытина, 1900. В эпизоде с богатырской головой И. Кассиров пересказывает (местами — с текстуальными заимствованиями) поэму А. С. Пушкина «Руслан и Людмила».
В XVIII в. распространялась в рукописи под названием «Повесть об английском милорде Гереоне…», в 1782 году была впервые издана (в Петербурге) в обработке Матвея Комарова. С тех пор неоднократно переиздавалась, причем в дальнейшем текст подвергался не очень существенным изменениям. Издательство «Посредник» попыталось превратить ее в «воспитательное» и научно-популярное издание (Юрьева А. Новая повесть об английском милорде. М., 1912), однако успеха книга не имела. О повести и ее обработчике см. в книге В. Б. Шкловского «Матвей Комаров, житель города Москвы» (Л., 1929). Текст воспроизводится по изданию: «Повесть о приключениях английского милорда Георга и бранденбургской маркграфини Фридерики-Луизы…» М., Товарищество И. Д. Сытина, 1913. В 3-х частях.
Характеристику автора и повести смотри в предисловии. Впервые вышла в 1840 году и с тех пор неоднократно переиздавалась. Здесь печатается по изданию: Зряхов И. (Так! — А. Р.) Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа. Русская повесть в двух частях. Издание 17-е. М., В типографии И. Чуксина, 1866.
Текст воспроизводится по единственному изданию: Евстигнеев М. Черт в помадной банке. М., Типография газеты «Русский», 1868.
Написана в 1901 году по просьбе литературоведа А. И. Яцимирского, изучавшего творчество поэтов-самоучек и создавшего так называемый «Музей русских самоучек», материалы которого хранятся в отделе рукописей ИРЛИ, в составе фонда Яцимирского (шифр рукописи И. С. Ивина — ф. 193, № 159). Фрагменты, содержащие воспоминания о Л. Н. Толстом и И. З. Сурикове, были опубликованы (текстологически дефектно) Яцимирским в составе своих статей (см.: Русская мысль, 1902, № 11, с. 121—127; Русская старина, 1905, № 4, с. 100—105). При воспроизведении текста опущены многочисленные стихотворения Ивина и обширные письма Л. И. Пальмина, адресованные ему и опубликованные в свое время Яцимирским (см.: Русская мысль, 1903, № 4, с. 150—153), купюры обозначены отточиями в угловых скобках.
1
Шутка к масленице. — Масленица — неделя перед Великим постом, которую было принято проводить весело, заполняя различными играми и развлечениями.
2
Побыт — устаревшее наименование установившегося порядка жизни, быта.
3
Макассаровое масло — средство для выращивания волос, приготовляемое в Макассаре (город в Индонезии) из местных растении.
4
«Полицейские» — То есть «Ведомости Московской городской полиции» (1848—1917), называемые в быту «Полицейскими ведомостями».
5
…Линней и Бюффон… — К. Линней (1707—1778) и Ж. Бюффон (1707—1788) — выдающиеся естествоиспытатели, авторы систем классификации животного мира.
6
Юлия Пастрана (1834—1860) — мексиканская танцовщица, получившая всемирную известность благодаря тому, что все ее тело и лицо заросли волосами.
7
…дама личмяная… — Личмяный (областное выражение) — видный, красивый, с чистым лицом.
8
Фермуар — нарядная застежка на ожерелье.
9
…а-ля англес… — То есть в английском стиле (фр.).
10
…трехцелковую… — То есть трехрублевую бумажку.
11
…к мировому… — Мировой судья занимался мелкими уголовными и гражданскими делами.
12
Уваров Алексей Сергеевич (1825—1884) — археолог, коллекционер, основатель и первый председатель Московского археологического общества, сын министра народного просвещения С. С. Уварова.
13
…до 19 февраля 1861 года. — То есть до освобождения крестьян от крепостной зависимости.
14
…в селе Поречье… — Помещичья усадьба села Поречье (в 54 км от Можайска) является ценным архитектурным и культурным памятником. Созданная во второй половине XVIII в. на средства графа Разумовского, она около 1822 г. перешла к С. С. Уварову. Здесь находился археологический музей, большая библиотека. В 1840-х годах сюда на «академические беседы» съезжались к С. С. Уварову известные писатели и ученые, а впоследствии здесь гостили у его сына видные русские историки и археологи (см.: Памятники архитектуры Московской области. М., 1975, т. 2, с. 18—21).
15
Сотский — низшее должностное лицо сельской полиции, избиравшееся на сельском сходе.
16
Омшаник — небольшая изба с пазами, забитыми мхом. Обычно не имела печи и использовалась для хозяйственных нужд.
17
Штоф — стеклянная посуда объемом 1,2 литра.
18
…упал с полатей… — Полати — широкие нары в избе под потолком между печью и противоположной стеной, предназначенные для спанья.
19
Аз, буки, веди, глаголь — названия первых букв церковнославянского алфавита.
20
Часослов — православная церковная книга, содержащая тексты песнопений и молитв для ежедневных церковных служб (часов). Псалтырь — отдельно издающаяся часть Ветхого завета, включающая псалмы царя Давида. Обе книги в средневековой Руси, а в сельской среде и позднее (по вторую половину XIX в.) использовались как учебные пособия при обучении чтению.
21
Численник — в просторечии календарь.
22
Шпуля — трубка с намотанной на нее нитью, вставляемая в ткацкий челн.
23
…Гуаком, Францылем… — То есть героями переводных рыцарских повестей «Гуак, или Непреоборимая верность» и «История о храбром рыцаре Францыле Венциане и о прекрасной королеве Ренцывене», впервые опубликованных в 1780-х годах и неоднократно выходивших впоследствии в лубочных изданиях.
24
…фабрику Носова… — Суконная фабрика принадлежала купцам первой гильдии Александру Дмитриевичу и Василию Дмитриевичу Носовым.
25
…«Конек-Горбунок», «Мальчик с пальчик», «Мужичок с ноготок», «О мельнике-колдуне»… — Имеются в виду неоднократно переиздававшиеся «Сказка о мельнике-колдуне Федоте, хлопотливой старухе, о двух жидках и о двух батраках» (СПб., 1837) Е. И. Алипанова и книги В. Ф. Потапова «Мальчик с пальчик, или Мал золотник, да дорог», «Мужичок с ноготок, борода с локоток», вышедшие впервые в 1840-х годах, а также знаменитая сказка П. П. Ершова «Конек-горбунок» (1834) и многочисленные одноименные подражания ей, часто переиздававшиеся во второй половине XIX в. (см. о них в кн. Лупанова И. П. Русская народная сказка в творчестве писателей первой половины XIX века. Петрозаводск, 1959, с. 228—231, 241—243, 252—256, 277—278).
26
…фабрику Котова… — Фабрика суконных изделий принадлежала купцу первой гильдии Николаю Федоровичу Котову.
27
Фабрика Гучкова. — В это время в Москве существовали фабрика шерстяных изделий купцов первой гильдии Ивана и Николая Ефимовичей Гучковых и фабрика шерстяных изделий купца второй гильдии Павла Ивановича Гучкова.
28
Прасол — купец, занимавшийся скупкой скота, холста, щетины и ряда других товаров в деревнях и последующей их продажей.
29
«Будильник» (1865—1917) и «Развлечение» (1859—1918) — московские иллюстрированные юмористические журналы.
30
…чугунолитейный завод Гоппера… — Завод принадлежал купцу первой гильдии, великобританскому подданному Вильгельму Гопперу.
31
Золоторотцы — устаревшее просторечное наименование оборванцев, бродяг, босяков.
32
Суриков Иван Захарович (1841—1880) — известный поэт-самоучка, создатель кружка «писателей из народа».
33
Григорьев Степан Алексеевич (1839—1874) — поэт, член Суриковского кружка.
34
…своих стихотворений второго издания… — Второе издание «Стихотворений» И. З. Сурикова вышло в Москве в 1875 г. с вступительной статьей Н. А. Соловьева-Несмелова.
35
«Дело» (1866—1888) — популярный у учащейся молодежи петербургский литературно-политический журнал, стоявший на радикально-демократических позициях.
36
«Вестник Европы» (1866—1918) — петербургский «журнал истории, политики и литературы», либеральное «профессорское» издание.
37
Уварова Прасковья Сергеевна (1840—1924), жена А. С. Уварова, археолог, возглавила после его смерти Московское археологическое общество.
38
Кичеев Николай Петрович (1848—1890) — фельетонист, театральный критик, в 1877—1881 гг. редактировал журнал «Будильник».
39
Кланг Иван Иванович (?—1919) — художник-иллюстратор, иногда печатавший в иллюстрированных журналах свои стихи и сценки, фактический редактор журналов «Москва» и «Волна».
40
Кондратьев Иван Кузьмич (1849—1904) — поэт, прозаик и драматург, сотрудник московской «малой» прессы.
41
…слова Некрасова… — Ивин цитирует стихотворение «В больнице».
42
Орехов П. И. — издатель лубочных книг и картин.
43
Сытин Иван Дмитриевич (1851—1934) — один из крупнейших русских издателей. Работая у книготорговца П. Н. Шарапова, одновременно открыл в 1876 г. собственную типографию, где печатал лубочные картинки, а в 1883 г. основал издательское товарищество «И. Д. Сытин и К°».
44
Шарапов Петр Николаевич — московский купец, торговавший мехом и лубочными книгами (1850—1880-е годы XIX в.).
45
Грузины — местность на северо-западе Москвы.
46
…для никольских книжников… — То есть книготорговцев, продававших (обычно и издавших) лубочные книги, чьи лавки находились на Никольской улице (ныне — улица 25 Октября).
47
«Свет и тени» (1878—1884) и «Мирской толк» (1879—1884) — московские иллюстрированные еженедельные журналы (издатель-редактор — Н. Л. Пушкарев), имевшие общую редакцию.
48
Пушкарев Николай Лукич (1842—1906) — поэт, драматург, переводчик.
49
Пальмин Лиодор (Илиодор) Иванович (1841—1891) — поэт, активно печатавшийся в московской и петербургской «малой» прессе.
50
Пальмин… написал мне… письмо. — В посланных Ивину двух письмах Пальмин советовал избегать «умышленной подделки под модный современный лад», быть искренним в своем творчестве, утверждая, что «поэт должен писать только о том, что его волнует, мучает или радует, о чем болит его сердце». Он рекомендовал Ивину внимательно читать произведения Шекспира, Данте, Гете, Пушкина, Жуковского, Лермонтова, Мея, Майкова и учиться у этих поэтов. И. З. Сурикова и некоторых других авторов он называл «не поэтами, а подражателями, не отмеченными печатью таланта».
51
Неврев Николай Васильевич (1830—1904), художник-передвижник, с 1870-х годов работал преимущественно в историческом жанре.
52
Пашков И. И. — владелец литографии в Москве, выпускавшей лубочные издания.
53
Гурин Федор Сергеевич — сотрудник «малой» прессы 1880-х годов, поэт и журналист.
54
«Нева» (1879—1887) — иллюстрированный петербургский еженедельник.
55
Морозов А. В. (?—1889) — московский лубочный издатель.
56
Хитровка — район Хитрова рынка, окруженного многочисленными ночлежными домами, где находили пристанище нищие, бездомные, воры и мошенники.
57
«Москва» (1882—1883) и «Волна» (1884—1886) — московские иллюстрированные журналы.
58
Мне платили дешево… — Средняя гонорарная ставка за прозу составляла в 1880-х годах в толстых журналах 50—100 р. за печатный лист, то есть в десять раз превышала ставку лубочных издателей.
59
Морозов Иван Федорович — московский лубочный издатель.
60
Гриднин Федор Дмитриевич (1846—1916) — драматург, историк театра, издатель-редактор ежедневной газеты «Театр и жизнь» (1884—1893).
61
…сделались буквально классическими в народе. — Обследования земских статистиков зафиксировали широкую распространенность книг Ивина в крестьянской среде (см., напр.: Сборник статистических сведений по начальному народному образованию в Орловской губернии за 1900—1901 учебный год. — Орел, 1902, с. 106; Статистический ежегодник Полтавского губернского земства на 1903 г. — Полтава, 1903, с. 122—123.
62
«Новости дня» (1883—1906) — московская газета, чью аудиторию в этот период составляли городские низы.
63
«Родина» (1879—1917) — иллюстрированный петербургский еженедельник, пользовавшийся популярностью у маловзыскательных читателей.
64
Серебрянский Андрей Порфирьевич (1809 или 1810—1838) — поэт, друг А. В. Кольцова.
65
Никитин Иван Саввич (1824—1861) — поэт, мещанин по происхождению, учился в духовной семинарии, но не окончил ее.
66
Плещеев Алексей Николаевич (1825—1893), поэт, представитель революционно-демократической линии в русской поэзии. Познакомившись с И. З. Суриковым, давал ему советы в работе над стихотворениями и способствовал дебюту в печати.
67
«Посредник» — просветительское издательство (1884—1935), созданное по инициативе Л. Н. Толстого. Выпускало преимущественно «книги для народа» и ставило своей целью вытеснить лубочную литературу из круга народного чтения.
68
Губанов Ефим Александрович — лубочный издатель с Никольской улицы.
69
…я познакомился с… Л. Н. Толстым. — Вскоре после знакомства с Ивиным Л. Н. Толстой писал В. Г. Черткову (24—25 апреля 1887 г.): «В этот приезд в Москву вошел в сношение с двумя писателями крестьянами: один молоканин, другой фабричный Кассиров, написавший для Никольской более 400 печат‹ных› листов, расходящихся в миллионах (экземпляров. — А. Р.). Очень радостно было сойтись. Очень может быть, что я ему мог быть полезен. Я ему внушил, что надо, и он, нетронутый дикий человек, живо понял и принял, как мне кажется, мои слова» (Толстой Л. Н. Полн. собр. соч. М., 1937, т. 86, с. 49).
70
…сказал Христос… — Ивин цитирует Евангелие от Матфея (12:36—37).
71
Семенов Сергей Терентьевич (1868—1922) — крестьянин-писатель.
72
…беседовал с ним… о религиозно-философских и богословских вопросах. — Свои беседы с Л. Н. Толстым на религиозные темы Ивин подробно изложил в воспоминаниях «Мое знакомство с гр. Л. Толстым» (Московские церковные ведомости, 1908, № 7… 46; 1909, № 7… 47).
73
Амфитеатров Александр Валентинович (1862—1938), известный фельетонист и прозаик. Об И. С. Ивине он писал (под псевдонимом Old Gentleman) в заметках «Москва. Типы и картинки» (Новое время, 1893, 15 мая).
74
…оставим эти споры… — К тому времени Толстой пришел к выводу, что Ивин — «тяжелый человек» и в дальнейшем его «органически не выносил» (см.: Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников, т. 1. М., 1960, с. 329).
75
Фудель Иосиф Иванович (1864—1918) — священник, автор многочисленных публикаций по церковным вопросам в журналах и газетах.
76
Тиличеев Александр Дмитриевич (1865—?) — переводчик, педагог.
77
Александров Анатолий Александрович (1861—1930) — журналист, поэт. В 1888 году был приглашен репетитором к сыну Л. Н. Толстого Андрею.
78
Шарапов Сергей Федорович (1855—1911) — публицист неославянофильского направления. «Русское дело» (1886—1890, 1905—1910) — еженедельная московская газета.
79
…И. Ф. Морозов, купив… «Развлечение»… — И. Ф. Морозов стал издателем журнала «Развлечение» в 1887 г., а уже в следующем году передал его в другие руки.
80
Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922) — журналист, «король фельетона».
81
Аксаков Николай Петрович (1848—1909) — религиозный мыслитель, поэт и публицист неославянофильской ориентации.
82
Орфано Александр Герасимович (1834—1902) — публицист.
83
Пругавин Александр Степанович (1850—1920) — публицист, этнограф, автор книги «Запросы народа и обязанности интеллигенции в области просвещения и воспитания» (СПб., 1895), где ряд разделов посвящен лубочной литературе и изложена биография Ивина (с. 401—404).
84
Рубакин Николай Александрович (1862—1946) — известный книговед и библиограф.
85
Васильев Афанасий Васильевич (1851— после 1917), публицист неославянофильского направления, в 1890—1894 гг. был фактическим (неофициальным) редактором и издателем духовного журнала «Благовест».
86
Карпов Ефтихий Павлович (1857—1926) — драматург и прозаик.
87
…экзамен на сельского учителя… — Экзамены проходили в феврале и марте 1888 г., а в мае того же года Ивин получил свидетельство на звание «учителя сельского приходского или сельского начального народного училища» (ЦГИА г. Москвы, ф. 459, оп. 10, д. 7099).
88
Толстая (в замужестве Оболенская) Мария Львовна (1871—1906) — дочь Л. Н. Толстого.
89
«Русский курьер» (1879—1889, 1891) — либеральная московская газета. Ланин Николай Петрович (1830—1896) — владелец завода шипучих вин, издатель газеты «Русский курьер».
90
«Россия» (1883—1890) — иллюстрированный еженедельник; в 1887—1890 гг. редактор-издатель — И. И. Пашков.
91
«Московская иллюстрированная газета» (1890—1893) — издание, рассчитанное на низового читателя.
92
«Русское богатство» (1876—1918) — петербургский журнал народнического направления.
93
Оболенский Леонид Егорович (1845—1906) — прозаик, критик и публицист.
94
«Северный вестник» (1885—1898) — петербургский журнал, в эти годы придерживался либерально-народнического направления.
95
Гольцев Виктор Александрович (1850—1906) — публицист, литературный критик, редактор журнала «Русская мысль».
96
«Русская мысль» (1880—1918) — московский либеральный журнал.
97
…статью «О народно-лубочной литературе…» — в названной статье (Русское обозрение, 1893, № 9, 10) Ивин, охарактеризовав историю и поэтику этого вида словесности, утверждал, что он гораздо больше соответствует вкусам и представлениям народа, чем литература «образованных классов» в большинстве ее образцов.
98
Отзывы… были неблагоприятные и небеспристрастные. — Рецензенты отмечали «отсутствие истинной поэзии» (Русское богатство, 1893, № 3, с. 29) и таких ее условий, как «ясная мысль и грамотная форма» (Русские ведомости, 1893, 7 июня). Сочувственно отнесясь к поэту из народа и выделяя отдельные удачные произведения, они отрицательно оценили многочисленные «патриотические» стихотворения, в бравурной манере прославлявшие победы русской армии.
99
…оды самым высоким слогом… — Ивин называет оды М. В. Ломоносова («Утреннее размышление о божием величестве», «Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого северного сияния») и Г. Р. Державина («Бог», «Водопад», «На смерть князя Мещерского», «На победы в Италии»).
100
Ожегов Матвей Иванович (1860—1934) — поэт-песенник крестьянского происхождения, член Суриковского литературно-музыкального кружка. В работе о народном чтении «Характеристика моего народа» обвинял Ивина в плагиате и в искажении высказываний Л. Толстого (ОР ГБЛ, ф. 358, к. 5, д. 13, л. 41—44).
101
Миляев Василий Евгеньевич (1874—1919) — поэт-самоучка, описал упоминаемый Ивиным визит в очерке «У Льва Толстого» (Орловский вестник, 1893, 27 апреля).
102
Козырев Матвей Александрович (1852—1912), Родионов Иван Дмитриевич (1852—1881), Кафтырев Дмитрий Никанорович (1847—1877) — писатели-самоучки, входившие в Суриковский кружок.
103
Барышев (псевдоним — Мясницкий) Иван Ильич (1854—1911) — юморист-прозаик и драматург, сотрудник московской «малой» прессы, друг И. З. Сурикова.
104
Лютов Сергей Васильевич (1866—1897) — поэт-самоучка, суриковец.
105
Леонов Максим Леонович (1872—1929), писатель-самоучка, член Суриковского литературно-музыкального кружка, отец советского прозаика Леонида Леонова.
106
Белоусов Иван Алексеевич (1863—1930) — поэт, член Суриковского литературно-музыкального кружка.
107
Зачесов Иван Иванович (1870—1910) — писатель-самоучка, прозаик.
108
Захаров С. Е. — Речь идет, по-видимому, о Михаиле Егоровиче Захарове, поэте, члене Суриковского литературно-музыкального кружка.
109
Репин Иван Васильевич (1874—1936), Шкулев Филипп Степанович (1868—1930), Нечаев Егор Ефимович (1859—1925) — поэты-самоучки, члены Суриковского литературно-музыкального кружка.
110
Разоренов Алексей Ермилович (1819—1891) — поэт-самоучка, член Суриковского кружка, автор песни «Не брани меня, родная…».
111
«Курьер торговли и промышленности» (1894—1897) — московская газета.
112
Вахтеров Василий Порфирьевич (1853—1924) — педагог и публицист.
113
Чехов Николай Владимирович (1865—1947) — педагог. В 1896—1897 гг. заведовал хозяйственной частью земских училищ Богородского уезда Тульской губернии, позднее стал видным специалистом по педагогике, истории народного образования и детской литературы в России.
114
Земский начальник — по указу 1889 г. участковый земский начальник, назначаемый верховной властью из числа дворян, соединял в своем лице административную и судебную власть над сельским населением по широкому кругу вопросов.
115
…учительствую в настоящее время. — В 1907 г. Ивин бросил учительство и вернулся в Москву. Позднее он постригся в священники, и жил в селе Кайданово Клинского уезда Московской губернии. Умер в первые годы революции.