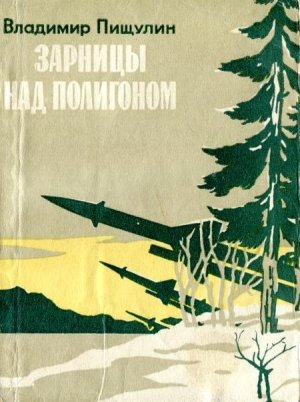
ЗАРНИЦЫ НАД ПОЛИГОНОМ
Жилой городок дивизиона взобрался на крутой берег речушки. И как бы ни петляла по лозняку лыжня, подполковник Назаров отовсюду видел то замершую над станцией наведения антенну, то шиферные крыши домиков и почти всегда вершины двух сосен. Глядя на них, Александр Кириллович частенько вспоминал пору своего детства. Иногда ему мерещились среди ветвей то куница, то белка. И тогда в нем просыпался охотник: перед глазами вставала тайга, слышался хруст веток и глуховатый голос деда:
— Стреляй же, разбойник!
Александр, затаив дыхание и еле удерживая тяжелое ружье в руках, старательно сажал зверька на мушку и бил без промаха. Дед не без гордости говорил всем, что у его внука твердая рука и меткий глаз. Осенью Александр ушел в тайгу на первую зимовку. И в колхозе о нем заговорили, как об опытном охотнике. И когда грянула война, он в числе первых был зачислен в состав стрелкового батальона. Однако сходить в атаку не пришлось: дорогой самолеты разбомбили состав, и Назаров получил ранение. Об этом стыдился рассказывать в госпитале и все рвался на фронт. Но получив назначение, он совсем огорчился. Только в пехоте, казалось ему, можно было ходить в атаку и сводить счеты с фашистами.
Бои на Львовщине, в Карпатах сделали из него опытного солдата. Он получил орден Красной Звезды и медаль «За отвагу». Но вскоре был тяжело контужен. Долго в ушах стояла тишина, и только во сне он слышал пальбу пушек, рев танков и вой падающих снарядов. Он просыпался в холодном поту, и сразу все обрывалось. Видел, как ходили люди, подкатывали к госпиталю машины, о чем-то разговаривали между собой нянюшки, но все это Назаров воспринимал словно кадры немого фильма. Слух к нему возвращался постепенно. А когда Александр выздоровел, то занял свое место у орудия. Это было к началу Берлинской операции. Двенадцать тысяч выстрелов из одной пушки сделал гвардии старший сержант Назаров за годы войны, а последний выстрел он произвел по Берлину. С Запада в тот же год перебросили Назарова на Восток. И хотя довелось служить еще год, здесь он уже чувствовал себя как дома. А затем Назаров две зимы белковал в тайге, собирался на третью, да тут вызвал военком, усадил на стул и начал расспрашивать о жизни.
— Если говорить откровенно, не могу привыкнуть к тишине, — сознался Александр. — Выйду иной раз: кругом тихо, стрелять даже не хочется. Так и брожу по тайге.
Подполковник слушал фронтовика, понимал его и вполне разделял такие чувства.
— Что и говорить, Александр Кириллович, каждый по тишине соскучился, и все же, — тут он встал из-за стола, сдернул очки, задумался. — И все же, не везде зачехлили пушки. Газеты читаете, радио слушаете, так что обстановку представляете.
— Хорошо представляю, — ответил Назаров.
— Тогда долго и говорить не о чем. Мы — коммунисты и будем откровенны, армии нужны грамотные и опытные офицерские кадры. У вас есть время, подумайте.
Назаров встал, попрощался с подполковником и вышел. Вдали синела тайга, кое-где на деревьях появились желтые листья. Назаров зашел на вокзал, взял билет, но передумал ехать. До самого вечера он бродил по поселку, зачем-то приценивался к ружью в магазине, договорился взять щенка породистой лайки, побывал в заготконторе, но что бы ни делал он, все его мысли возвращались к разговору с военкомом.
«Если говорят надо, значит, надо, — рассуждал он. — Откажусь я, другой, третий, что же из этого будет?».
Уже поздно вечером он добрался домой, а утром явился к военкому во всей форме.
— Вот вам предписание, проездные, поедете в артиллерийское училище, — сказал подполковник.
Но судьба сложилась так, что Назарову уже в звании старшего лейтенанта вновь пришлось садиться за учебники, только теперь он изучал ракетную технику. С тех пор он связал с нею всю свою службу. Первые годы его перебрасывали с места на место, но потом, на удивление многим офицерам, он жил оседло.
Каждая яблонька и не попавшая под топор березка выросли на глазах Александра Кирилловича. Как-то, обходя дивизион и хозяйски прикидывая запланированные и еще не выполненные к зиме работы, он остановился у гаража, окинул взглядом легкую под шифером постройку и вспомнил стоявшие на этом месте палатки. В ту осень он еле добрался сюда на вездеходе. Люди сутками не выходили из кабин и вовремя подняли над дивизионом флаг боевого дежурства. Потом были стрельбы. Не раз дивизион получал призы, дипломы и кубки, в Ленинской комнате хранится осколок сбитой в первом бою мишени. Все это доставалось трудом. Да еще каким! Александр Кириллович не раз просыпался ночью от боли в сердце, долго скрывал от врачей, а когда встретился с ними, они прописали лекарства и прежде всего сказали:
— Вам нужен покой.
Возвращаясь домой, Назаров только улыбался и повторял: «Скажут ведь, покой». А потом понял, что врачи были правы: весной попал в госпиталь, летом провел впервые отпуск в санатории и чувствовал, что годы берут свое.
«Что же, Александр Кириллович, ты послужил, — как-то подумал Назаров. — Совесть твоя чиста: что имел, то отдал армии, людям. А уйти вовремя тоже уметь надо. Чего доброго, начнут жалеть, фронтовик, мол, перед другими ругать неудобно. Нет уж, пора. Год послужу, а там и рапорт подам».
…Не разгибая спины и размашисто работая палками, он шел широким накатистым шагом. Лыжня спускалась в овраги, петляла вдоль ручья и замыкалась у Дикого озера. Назаров посмотрел на часы. До развода оставалось минут тридцать.
«Как раз успею», — подумал он и скатился в низину с пригорка. Лыжня пересекала поляну. И тут он увидел, как с другой ее стороны, навстречу выскочил солдат. Он был в шапке и тужурке. Назаров остановился. Вскоре к нему подъехал рядовой Уразов. Он раскраснелся, вспотел, Дышал тяжело. Видно, торопился.
— Разрешите обратиться? — спросил он басовитым голосом.
— Я вас слушаю, Уразов. В чем дело?
— Капитан Фролов передал: пришла телефонограмма.
— Содержание не знаете? — спросил Назаров.
— Никак нет. Срочная, говорит.
«Значит, полигон, — подумал Александр Кириллович. — Ну, что ж, чем раньше, тем лучше». А вслух произнес:
— Держитесь за мной, Уразов.
Назаров у веранды снял лыжи, быстро переоделся и пришел в казарму. Но, кроме дневального, никого здесь не было. Ракетчики готовили технику. Подполковник включился в работу. Он давал распоряжения и наблюдал, как идут дела у стартовиков, операторов, заглядывал к шоферам, на продовольственный склад к прапорщику Морину. По опыту он знал, что перед отъездом нельзя забывать ни о каких мелочах. В дороге и на полигоне все пригодится и все потребуется. А просчитаешься, не возьмешь какую-нибудь шайбу, прокладку или еще что-то, потом искать ее будет некогда. А бегать к соседям стыдно. Не привык он к этому. И уже заранее имел целый список, в котором, кроме инструмента, запасных аккумуляторных лампочек, значились и свечи, и таблетки сухого спирта. Такие же требования он предъявлял и ко всем офицерам, прапорщикам.
Около станции он остановил лейтенанта Анисина, спросил:
— Переноску взяли?
Анисин был среднего роста, чернобровый, волосы у него слегка курчавились и выбивались на висках. В дивизион он прибыл прямо из училища, отгулял отпуск и с огоньком взялся за дело. Молодой лейтенант понравился солдатам своим отношением к спорту. Он вместе с ними играл в баскетбол, смастерил стол для тенниса, взялся тренировать секцию лыжников. Анисин был готов взяться за все, и он брался, но руки до всего у него не доходили, тогда секретарь партийной организации капитан Маркелов говорил:
— Анисин, активистов подключите, иначе ничего не получится.
Подполковник Назаров уважительно относился к лейтенанту, поддерживал и ценил в нем то, что Анисин сам рвался к делу, искал себе работу, все делал с радостью и увлечением. На этот раз Александр Кириллович не заметил в его глазах прежнего блеска. В них, скорее всего, было огорчение. И по голосу командир понял, что с офицером что-то произошло.
— Лейтенант Анисин, что с вами? — спросил Назаров.
Анисин отвел глаза в сторону. Потупился.
— И все же, в чем дело? Я вас спрашиваю.
— Капитан Фролов не желает, чтобы я ехал на полигон, — ответил Анисин низким голосом. Теперь и он не хотел быть в положении человека, который всем своим видом вызывает сочувствие.
— Почему не хочет брать?
— Не знаю, товарищ подполковник. Он решил включить в расчет старшего лейтенанта Силина.
Подполковник Назаров подумал: «Не доверяет он, что ли, Анисину? А может, опять решил показать свою принципиальность?»
— Вот что, лейтенант Анисин, вы собирайтесь. Нужно оставить, скажем, — и, развернувшись, пошел к стартовикам.
Отгорело вечернее зарево, погасли испепеленные края облаков и наступила темнота. Светлячками по всей позиции вспыхивали ручные фонарики, хлопали двери кабин, призрачными тенями передвигались тягачи с ракетами. Назаров, вернувшись от стартовиков, поднялся в кабину, где находился капитан-инженер Фролов.
Он сидел на вращающемся операторском стульчике и, разложив перед собой сумку с инструментом, проверял ее содержимое по описи. О его пунктуальности знали в дивизионе. Каждой отвертке должно быть свое место, говорил он, и любил сам возиться с трансформаторами, конденсаторами и сопротивлениями. К радиодеталям у него была слабость. Он накопил их столько, что члены радиокружка собирали приемники, усилители, различные приставки, а рационализаторы первым делом бежали к нему за советом и помощью.
Фролов не скупился на идеи. Он, порою, под хорошее настроение, раздавал их направо и налево. Сам подходил и говорил:
— Да что тут делать! Сюда нужно поставить усилитель, сюда реле, — и делу конец.
Но другой раз, бывало, по пустякам взрывался и всех тогда считал неучами. Люди тоже относились к нему по-разному: уважали как инженера и обходили его стороной, если касалось чего-то личного. Это видел подполковник Назаров, делал капитану замечания, но и другим выговаривал:
— У вас есть начальник, капитан Фролов, обратитесь сначала к нему, как положено по уставу. Не решит он вопрос, приходите…
И еще Назаров не мог примириться с тем, что Фролов делил людей на плохих и хороших.
— Как можно, Николай Яковлевич, — говорил Назаров. — Да у каждого человека плохое уживается с хорошим. Задача наша, командиров, замечать хорошее, помогать другим избавляться от ошибок. Мы же воспитатели…
Капитан Фролов с ним соглашался, так, мол, говорится и в учебнике по педагогике, но в самой жизни бывает порой иначе.
— Мы привыкли, товарищ подполковник, быть няньками. Нос платком иным специалистам вытираем, а того не допускаем, что каждый за себя думать должен. Да и своего ума другому не вложишь, коль не постаралась сделать это природа.
— Значит, отрицаете процесс воспитания?
— Нет, почему… Я просто высказываю свое мнение.
— …Сидите, сидите, Фролов, — остановил рукой подполковник вставшего со стула инженера. — Капитан Маркелов сюда не заходил?
— Здесь я, — отозвался капитан из-за спины подполковника, и, схватившись за дверную ручку, со ступеньки лесенки шагнул в кабину. Глаза у него горели, на лоб выбилась из-под шапки да так и прилипла черная прядь волос.
— Переведите дух, секретарь, — сказал Назаров. — Садитесь. Поговорить надо. Я так думаю: отзывать из отпуска замполита пока не будем. Как вы исполняли его обязанности, капитан Маркелов, так и исполняйте. Теперь нужно прикинуть расчеты.
Комплектовать их заново никто не думал, стартовики уже научились понимать друг друга, новички на последних проверках показывали стабильные результаты по нормативам. Когда же вопрос коснулся операторов и техников, мнения разошлись. Капитан Фролов уже подготовил список и подал его командиру. Александр Кириллович прочитал каждую фамилию.
— Не то, капитан Фролов. Эдак мы стрельбы выполним, а готовность дивизиона подорвем.
— Я вас не понял, товарищ подполковник.
— Вы упор делаете на сержантов и опытных специалистов. А как быть с новичками? Преемственности, Николай Яковлевич, не вижу…
— Товарищ подполковник, в этом году, как известно, требования к боевым стрельбам значительно повышены, — встал Фролов. Широкие белесые брови нахмурились, у губ появились складки, резко обозначился широкий подбородок. — А это налагает на нас дополнительную ответственность. К тому же надо учитывать и то, что учебный год только начался. Не все номера расчетов подготовлены одинаково.
Александр Кириллович выслушал его, сказал:
— И все же странно. Вы говорите так, будто бы мы о полигоне только услышали. Обсуждали этот вопрос на партийном собрании, готовились… Так или нет, секретарь?
— Так точно, товарищ подполковник, — ответил капитан Маркелов.
Назаров еще раз заглянул в список. Фамилии лейтенанта Анисина в нем не было.
— А что с Анисиным, Николай Яковлевич? — спросил он.
Капитан Фролов ждал этого вопроса и был готов отстоять свое мнение. Он хорошо запомнил случай с лейтенантом Кирпиковым. Было это в прошлом году, когда Фролов служил в другой части. Тогда Кирпиков, выпускник училища, сам пришел к Фролову и упросил замолвить перед командиром словечко, а он-то, мол, доверие оправдает, не подведет. И Фролов ходил к командиру, а потом, на полигоне, ругал себя последними словами. Уверенный в себе Кирпиков так растерялся, что его сняли со стрельб, Фролов получил взыскание и не раз выслушивал упреки в свой адрес.
— То, что вы сказали о расстановке специалистов в расчетах, я согласен, — произнес Фролов. — Тут я действительно не подумал о преемственности… Но что касается лейтенанта Анисина, то я категорически против…
— Почему, Николай Яковлевич? Человек, можно сказать, спит и во сне полигоном бредит! — не выдержал капитан Маркелов.
— Это еще не основание. Он может ехать дублером, запасным, да кем угодно, но я лично не хочу брать его под свою ответственность.
— Не понимаю! Он несет боевое дежурство, на последней проверке показал неплохие теоретические знания. Есть, конечно, у него и недостатки. Мало, например, опыта. А где же он наберется его, как не на полигоне, — спокойно высказал свое мнение капитан Маркелов.
Александр Кириллович тоже не понимал предубежденности инженера, его ничем не обоснованное требование. В чем-то он, может, и прав. Задача перед дивизионом сложная и ответственная, к тому же он первым в этом году будет начинать стрельбы, и всем, от солдата до командира части, хочется получить только пятерку. Она будет и флагом для других, и ориентиром в соревновании. И тут, конечно, надо положиться на каждого, как на самого себя. Но Анисин… Анисин и теряется, и суетится. Нет в нем еще хватки опытного техника. Да, но настоящие ракетчики не появляются сами по себе. Их надо растить годами. Лучше, когда сразу человек попадает в сложную обстановку. И Анисин тоже должен когда-то вступить в свой первый бой. Однако капитан Фролов не отступал от своего. Он говорил, обращаясь к подполковнику:
— Не место там и не сейчас проводить эксперименты. Пойдут реальные цели, ни я, ни вы не можем ручаться за таких, как Анисин. Что может произойти с ним, я не знаю. Возможно, и ничего, возможно, он будет героем, но я не хочу и не намерен рисковать. И вам, товарищ подполковник, известно: в случае провала не он, а мы с вами будем отвечать. Вы да я. А я, знаете, уже однажды поплатился из-за такого, как Анисин.
— Верно, Николай Яковлевич, поплатились. И должны были сделать выводы. Но, видно, так и ничего не поняли, — сказал Александр Кириллович. — Боевую задачу мы должны решать всем составом. Как в бою. В атаку идут все, и никто не остается в окопах.
— К чему, Александр Кириллович, сравнивать то и наше время. И техника, и оружие — все, все было иное. Не надо старые истины под новые условия подгонять…
— Без прошлого нет и настоящего. А потом, капитан Фролов, вы говорите не то и не о том, о чем думаете, чего хотите. А хотите вы, чтобы не было у вас неприятностей. Да, я знаю, вы получили строгое взыскание за ошибку подчиненного. Молодой офицер растерялся, его сняли со стрельб, а вас наказали. Ну и что? Разве это закономерность? Нет, конечно. Вы, Фролов, боитесь риска. Так без риска в бою тоже не бывает…
Капитан Фролов понял, что все его доводы были отвергнуты командиром, но отступать он все же не хотел. И потому пошел на крайность, выдавил из себя то, что должно было отрезвить подполковника:
— Вам-то, Александр Кириллович, терять больше нечего. Последний год едете.
Александр Кириллович не ожидал этого, лицо загорелось, на секунду, как после удара, помутилось в глазах, рука скомкала листок бумаги. Он встал и, не глядя на инженера, сказал:
— Капитан Фролов, для меня честь дивизиона была и есть моей честью. И прежде всего я думаю не о себе, а о боевой готовности. Вас я выслушал. Анисин едет. Все…
Дивизион спешно грузился на товарной станции. Лейтенант Анисин раскраснелся, брал что попадало под руку и — в вагон. Но вскоре суматоха улеглась, состав тронулся. Анисин подумал, что теперь уже ничего не вернешь и не изменишь: он едет на полигон! Как, что будет там, боялся об этом думать. Весь день он был занят делами. Помогал солдатам наводить порядок, а когда освободился, не вытерпел, приоткрыл тяжелую дверь.
Солнце катилось к горизонту. В окнах домов играло зарево, над стожками сена держались ореолы. Дул слабый ветерок, белогривой конницей стелилась по сугробам поземка. А где-то вдали стояли маленькие, с карандаш, телефонные столбы и шагали по степи, утопая в снегу, опоры высоковольтной линии. От степи веяло и ширью, и богатырской силой, и суровостью.
«А если бы поехать в Сибирь, куда-нибудь на Север», — подумал он и попытался представить тайгу, тундру, но понял, что его воображение бессильно вместить все то, что входит в понимание одного короткого слова — Русь. Какая это огромная, широкая и все новая и новая страна!
«Я должен, должен доказать Фролову, себе, что не зря прошли годы в училище, — подумал Виктор. — И почему не может понять этого Фролов? На станции, когда грузились, хмурился и будто не видел меня. Не доволен, что еду.
И все же ты, Витька, везучий. Помнишь, как ребята тебе завидовали на экзаменах? Самый легкий билет — твой. Легких-то не было. Старался, учил все. Но в лотерею везло. На вечерах призы выигрывал. А кто из выпускников первым на полигон едет? Ты, Анисин. Ох, Витька, если бы не командир! Ну как можно подвести такого человека! Нет, ни о чем больше не хочу думать, не хочу загадывать».
Анисин прикрыл дверь. Солдаты все еще устраивались на нарах, ходили по вагону, человек семь-восемь сидели вокруг «буржуйки», словно у ночного костра. Среди всех выделялся широкоплечий Уразов. Он был сибиряк, руки короткие, крепкие и мозолистые, точно корни столетнего дерева. Ходил вразвалку, медленно, но никого не было проворнее его при заряжании пусковой установки. Тут он преображался, входил в азарт, один за двоих с установкой справлялся, а потом весь расчет помогал ему собирать отлетевшие с одежды пуговицы. По натуре это был человек добрый, жалел слабых и помогал им, и солдаты любили его.
Вот и сейчас они слушали басовитый голос Уразова. Анисин сел рядом с ним.
— Мне бы, знаете, братцы, — продолжал он, — на тайгу разок взглянуть. Я ведь, как зверь, где родился, туда и тянет.
О чем, казалось, вести тут разговор: каждому домой хочется. Однако рядовой Зюзин был иного мнения. Он открыл дверцу и бросил в «буржуйку» березовое полено, сказал так, чтобы всем было слышно.
— Чалдон ты, Уразов.
— Что, что? — переспросил тот.
— Да не баси, слышу. Я говорю, чалдон. А чтоб было яснее, растолкую. Таких, как ты, я, знаешь, не первый раз встречаю. Еще когда в райкоме комсомола работал. Прибежит иной за путевкой, — дайте на север. Душа, мол, романтики просит. А хватит романтики — и домой. «Чего?» — спрашиваешь. Да вот, понимаешь, домой тянет. Где родился…
— Ты сам-то где был? — насупился Уразов.
— На Ямале, слышал?
— Грамотный, знаю. Но одно с другим все равно не путай. Можно и строить и жить где угодно. Родина для всех одна. Но там, где ты родился, где вырос, и каждый куст дорог. Оттуда она, Родина, начинается. С отчего дома. Так я говорю, товарищ лейтенант?
— Не спорю. И все же, если брать наши планы, интересы страны, то и Зюзин тоже прав.
Рядовой Зюзин вскочил, рукой махнул по ершистому чубчику, ноги расставил циркулем и уставился на Уразова очками.
— Ты говоришь, люблю тайгу. Там родился и вырос. А я родился в Рязанской области. И про Ямал только на уроках географии слышал. В моем представлении он был обижен судьбой и постоянно жаловался на свой малый рост. А вот теперь я знаю что такое Ямал. Летунам там делать нечего. Надо приехать туда и повкалывать. Не ради рубля, а так, чтоб от души, ради будущего. И вот тогда кое о чем начинаешь думать иначе. И чувства меняются. Я там не родился, а скучаю. Скажи, почему?
— Да что ты ко мне пристал! — взмолился Уразов. — Надо, поеду, куда угодно. Разве я против…
И тут он хотел было встать на ноги, но вагон так дернуло, что Уразов взмахнул руками и с удивленным выражением на лице плюхнулся на свое место. Солдаты рассмеялись. А он, опомнившись, принялся ругать машиниста.
— Как дрова везет! Ноги поломать можно, — басил Уразов. И вдруг спохватился. — Братцы, верхнюю полку меняю на нижнюю.
— Э-э, нет, рвался туда, теперь спи.
— Да грохнусь, придавлю кого-нибудь. Ну что вы за народ, порцию масла отдаю! Никто не хочет, да? Ну и ладно! — он махнул рукой и направился к двери.
Вскоре состав начал сбавлять скорость. Буфера звенели, и звон их передавался по цепочке от вагона к вагону вдоль состава. Наконец проскрипели тормоза, стало тихо. Уразов открыл дверь.
— Как вы тут, живы? — появился в белой куртке со свертками в руках повар.
— Живы. А ты чего выскочил, ужин, что ли, приготовил?
— Бедной куме одно на уме. Свечи есть?
— Есть, есть. Лучше скажи машинисту, пусть не дергает.
— Что-нибудь случилось? — обеспокоенно спросил подполковник Назаров, подойдя к вагону.
— Все в порядке, товарищ подполковник, — ответил лейтенант Анисин.
— Дайте руку, я к вам взберусь. Посмотрю, как вы тут устроились.
В вагоне было чисто и уютно. Дневалил рядовой Зюзин. А у него — бумажку не бросишь. Да и к тому же солдаты привыкли к порядку. Подполковник Назаров не уставал повторять:
— Взялся полы мыть, так мой как следует, нечего грязь развозить. Окурок валяется, подними, в урну брось. Будь как дома.
Так и велось из года в год. Солдаты в казарме ходили в войлочных тапочках, сами растили цветы и ревниво оберегали порядок. Не беспокоился за него и теперь Александр Кириллович. Его волновало другое. Большинство солдат ехало на полигон впервые. И он знал, что иному новичку будет трудно совладеть с самим собою. Разные мысли приходят в голову. Донимают сомнения. По ночам снятся кошмарные сны, и тогда человек постепенно теряет веру в себя. Потом от него трудно добиться того, чтобы он исполнял свое дело так, как прежде на тренировках и занятиях.
А ведь такое происходит не только с новичками. Ожидание стрельб может доконать кого угодно. Особенно дорога. Трудная вещь. Медленно тянется время, и чем ближе к полигону, тем тревожнее на душе. Люди меняются: в вагонах затихают остроты, шутки. И каждый думает: «Ну все, началось!», — хотя еще ничего не «началось», надо опять считать часы, минуты и ждать, ждать…
Александр Кириллович знал все это и как мог старался размагнитить людей, снять вредное для них напряжение. Вместе с тем готовил ракетчиков ко всяким психологическим нагрузкам заранее. И волю, и память, и чувства подчинял одному — выполнению задачи. Не скупился на «вводные». У операторов ручного сопровождения в разгар «боя» стрелял хлопушкой над ухом, хлопал дверью кабины, устраивал на позиции «пожары», рукопашные схватки с десантом «противника».
И в дороге он не мог сидеть спокойно. Его тянуло к людям. Он хотел сам видеть их лица, по глазам читать мысли, знать настроение. К тому же сегодня у рядового Уразова был день рождения.
— Вас, значит, Алексей Константинович, можно поздравить? — спросил он солдата и протянул руку. Уразов смутился. — А вообще-то вам не везет: прошлый год вы, помню, в увольнение просились, да начались учения. Теперь в дороге день рождения встречаете.
Уразов только развел руками, дескать, что сделаешь — служба.
— Смотря как к этому подходить, товарищ подполковник. За праздничным столом еще успеет насидеться, а такое не всегда бывает, — высказал свое мнение лейтенант Анисин.
— И то правда… Кажется, тронулись.
— А вы-то как? — встревожился Зюзин.
— Как? Да вместе с вами и поеду. Мне не привыкать. Тем более и служба начиналась с теплушки. Что же мы стоим, садитесь к печке.
Солдаты принялись устраиваться кто где. Поезд набрал скорость и покатил в ночь. Подполковник снял шапку, расстегнул черную куртку, пригладил рукой волосы, которые хотя и были редкие, но лишь кое-где пересыпаны сединой. Хуже у него было с глазами: после контузии их заливало слезами. И поэтому он жмурился и отворачивался от ветра.
— Вам, выходит, девятнадцать, Уразов? — спросил командир.
— Так точно.
— Я был тогда на годок помоложе. Помню — еду, а куда, зачем, ничего не знаю… На фронт и на фронт. Один у нас из верующих был, так он всю дорогу молитвы шептал. Спаси, господи, да, спаси, господи. Надоел… Мы его чуть из вагона не выбросили. Честное слово… Зло брало: куда ни глянь, все вымерло, трубы из-под земли торчат, а он — господи! Теперь, конечно, от всего, что видишь, душа радуется. Я сегодня весь день у окна простоял. Ах, в какое прекрасное время вы родились, Уразов! Вы даже себе не представляете!
— Нет, представляю, товарищ подполковник. Войну, правда, только по книжкам да по картинам представляю. А мой батя про нашу жизнь так говорит: «Надо бы лучше, да некуда».
Зюзин снял очки, протер стекла носовым платком и, выждав момент, спросил:
— Товарищ подполковник, вопрос можно?
— Да, я вас слушаю, рядовой Зюзин.
— Вы, наверное, уже забыли, но, может, помните, что вы чувствовали перед первым боем? Переживали или нет? А может, страшно было. В общем, я не знаю…
— Я вас понял. Не вру, переживал. Но страшно не было. Потом, уже под конец войны, было страшнее. Там и опыт был, и жить хотелось. Бесстрашных людей нет. Нужно только уметь владеть собою. И вот тот, кто собой владеет, тот и побеждает. Тем более мы-то знали, за что дрались. Да и в душе кипело. Теперь перед нами одна цель — привезти отличную оценку. И мы привезем ее. Так или нет, Уразов? — заключил Александр Кириллович и весело посмотрел на солдата.
— Так точно, товарищ подполковник, — басовито отозвался Уразов. — Столько готовились, как можно. Да и слабонервных у нас нету. Артишкин только по ночам что-то бормочет.
Рядовой Артишкин, сидевший у него под боком, точно грибок у мшистого пня, сердито толкнул локтем Уразова, обиделся, солдаты рассмеялись.
— Да ты чего, чего сердишься! — басил и скалил белые крепкие зубы Уразов. — Ну что такого я сказал: никто же ведь не знает, что ты инструкцию во сне повторяешь…
— Да? А ты не повторяешь? — взвился Артишкин, вскочил и уставился на своего друга по расчету блестевшими от огня печи глазами. — Начнешь бубнить, не остановишь.
Александр Кириллович смеялся со всеми, подтрунивал то над одним, то над другим солдатом, а сам думал, что хорошо, здорово все получилось: у этого проклятого и томительного ожидания отняты минуты на хорошее настроение и его хватит еще надолго. И Анисин тоже смеялся, и видно было по всему, что он смеялся от души, забыв обо всем на свете.
— Артишкин, Петр Петрович, садитесь со мной рядом, — предложил Александр Кириллович. — Что вам дался Уразов. Садитесь, да давайте споем.
Артишкин с нескрываемым удовольствием сел рядом с командиром, взглянул на него серыми, ясными глазами, спросил:
— А что петь будем, товарищ подполковник?
— «Рушничок» давайте. Только чур… Уразов, сразу не вступать, иначе со своим отменным слухом всю обедню испортите.
— Товарищ подполковник, — в удивлении широко развел руками солдат. — Понял… Я только басить буду.
— Во, во… Это у вас получается. Начали, Петр Петрович, — кивнул головой подполковник.
Артишкин тихо и медленно запел. Александр Кириллович вступил за ним следом. Солдаты любили слушать этот дуэт и знали, что командир понимает толк в песнях.
Анисин глядел на пламя в гудевшей и раскаленной докрасна печке, тихо подпевал и чувствовал во всем этом какую-то необычность. Ему было хорошо и спокойно на душе. Давным-давно он, казалось, знал всех этих людей, чувствовал их, как самого себя, ни о чем уже не волновался.
Пение длилось долго. У Зюзина, игравшего на гитаре, горели кончики пальцев, а рядовой Рыков, баянист, исчерпал свой репертуар. Вскоре замедлился и утих стук колес, подполковник Назаров встал.
— Все эти песни, дорогие товарищи, разрешите подарить нашему имениннику и пожелать ему отличных успехов в службе и во всей жизни, — сказал он.
Солдаты окружили Уразова, наперебой поздравляли его, шутили, в вагоне было тепло и весело.
Капитан Фролов не мог успокоиться от нанесенного ему поражения. Именно так он расценивал решение командира взять на полигон лейтенанта Анисина. Фролов думал, что вместо Анисина надо бы ехать старшему лейтенанту Силину. Он человек опытный, не раз бывал на стрельбах и волноваться за него нечего.
«Была бы пятерка. А победителей, говорят, не судят», — подумал он. Словом, Анисин не давал Фролову покоя. Он то стоял у окна, то ходил вдоль вагона. Ходил долго, заложив руки за спину и ссутулившись. Он хрустел пальцами, кусал губы и не хотел смириться с тем, что уже случилось. Он обвинял командира, который, по его мнению, мог бы напоследок и не придерживаться своих принципов.
«Кому, собственно, они нужны, — рассуждал Фролов. — Нет же, настоял на своем. На энтузиазме далеко не уйдешь. А попробуй докажи человеку? Да ему что, терять нечего. Сказал — не понравилось».
Он остановился у окна, закурил. Поле было и слева, и справа, из-под снега у дороги виднелся кустарник. Иногда по белой и искристой целине бежал санный след. По Фролов ничего этого не видел. Все казалось ему однообразным, скучным и давно знакомым. Было тяжело на сердце. На какой-то миг его утешили воспоминания. Как все начиналось хорошо в его жизни! Учитель физики говорил, что Фролов талантлив и был рад, когда узнал, что он поступил в академию. Радовался этому и сам Николай. И все годы слышал в свой адрес похвалы. Но когда он оказался в войсках, где надо было отвечать не только за себя, а и за других, учить, воспитывать и заботиться о подчиненных, он почувствовал тяжесть командирского дела. Работу с людьми он находил чуждой его призванию и вынашивал мысль стать «чистым» инженером. Взвешивая события прошлых лет, он заключал, что источником всех неприятностей он не был. Их приносили другие, его подчиненные, а он, как начальник, успевал только расплачиваться. Последний случай с лейтенантом Кирпиковым еще больше убеждал его в этом. Сразу же нагрянули представители из политотдела, целую неделю работали в подразделении и пришли к выводу, что Фролов воспитанием людей не занимается, слабо опирается на партийный и комсомольский активы. И пошло, поехало. С должности не сняли, а перевести — перевели. И теперь, чувствовал Фролов, вновь назревала опасность. В случае провала он терял надежду получить вовремя звание, восстановить свою репутацию и возможность перевестись на должность в штаб.
«Расчеты ослаблены, — думал он. — Кто-то обязательно сорвется. Солдат можно оградить. А если офицер, тогда что?»
Фролов лихорадочно искал выход из создавшегося положения, но, кроме примирения с самим собой и с тем, что уже сделано, он ничего не мог придумать. И у него болела душа, было такое предчувствие, что его насильно затолкнули в вагон.
Стоя у окна, он услышал разговор в купе. Капитан Маркелов обращался к старшему лейтенанту Обручеву.
— Ты не ломайся, расскажи принцип работы этого узла и можешь заниматься самостоятельно.
— Ну, Маркелыч, я же еще не разобрался, дай почитаю, — умолял Обручев.
— Не хитри, знаешь.
— Нет, пусть Анисин расскажет. У него свежие знания.
Виктор, собственно, ничего не имел против. Ему даже нравилось «запускать» мысленно каскады, блоки, следить за эпюрами, всплесками напряжения, открывать одни и закрывать другие реле. И рассказывая о прохождении сигналов, он весь погружался в мир бегущих электронов, их мгновенных действий. Маркелов слушал его, не перебивал и не останавливал. И Виктору было приятно сознавать, что все у него выходило просто, ясно, что в эти минуты он представляет, как нарастают сеточные токи, как они медленно тают и вновь обрушиваются лавиной на анод лампы, а в это время вокруг дросселя держится электромагнитное поле.
Голубые глаза Анисина горели восторгом, щеки румянились. Капитан Маркелов одобрительно кивал головой и с ним соглашался. Однако по-другому воспринимал ответ лейтенанта капитан Фролов. Он слышал голос Анисина и раздражался тем, что он говорил и говорил без умолку, на вопросы отвечал сразу, точно перед ним лежала шпаргалка, пытался даже спорить.
«Так разошелся, что и не остановишь», — подумал Фролов. Вошел в купе, окинул взглядом схему и решил спросить то, над чем сам не раз ломал голову, да и теперь, среди специалистов ходило разное толкование по работе этого важного узла. Они спорили и доказывали друг другу свои обоснования, но не могли прийти к единому мнению. И Фролов был уверен, что Анисин наверняка засыплется. Это было ясно, как день. И все же спросил:
— Как, по-вашему, Анисин, будет вести себя этот контур, вот эта лампа, если здесь, на управляющей сетке, уменьшится напряжение? И наоборот, если оно увеличится.
Лейтенант Анисин ничего не находил особенного в работе этого каскада и рассказал так, как он отвечал на экзаменах в училище.
— Это все? — спросил Фролов.
— Все. Если сомневаетесь, я, как приедем, покажу конспект.
— Мне, товарищ лейтенант, ваш конспект не нужен. И на полигоне о нем никто не спросит. Там потребуют знания, а они у вас, извините, школярские. Вы меня поняли? — холодно взглянул Фролов на смутившегося лейтенанта и, не дожидаясь его ответа, вновь вышел в тамбур. Анисин сел и опустил голову. Какой он, оказывается, еще слабый техник. Зачем же тогда он едет? Может, сказать сразу: не могу, верните назад, пока не поздно? Чего же тогда я хотел, зачем рвался? Он сидел, сцепив руки и глядя в одну точку немигающими глазами. Как тень, кто-то прошел мимо него и вновь вернулся. Чья-то рука коснулась его плеча и сильно пожала. Это был капитан Маркелов.
— Ты вот что, нос не вешай, — сказал он. — Как говорят: цыплят по осени считают.
В тамбуре Маркелов подошел к капитану Фролову, закурил. Минут пять они стояли молча, оба друг перед другом испытывали неловкость, Маркелов наконец сказал:
— Зачем же вы так, Николай Яковлевич, делаете? Обиделись на Анисина? Он здесь не при чем. А веру у человека подорвете.
Фролов не стерпел выговора, вспылил:
— Я не психолог и не замполит, Геннадий Иванович. Электроника любит знания, точность. Этого я и хотел услышать. Резко? Другим быть не собираюсь.
В вагоне было полутемно, по углам и на потолке выступил иней, он таял, и вода капала на нары. К полудню состав прибыл на полустанок.
Капитан Маркелов и лейтенант Анисин ходили вдоль вагонов, солдаты покупали ситро, конфеты, а когда увидели верблюда у магазина, сбежались к нему. Он был огромный, на боках клоками висела рыжая шерсть, глаза были закрыты. Маленькие сани, словно в насмешку над этим огромным животным, стояли у задних ног, пристегнутые к постромкам.
— Уразов, не подходи, плюнет! — толкнул Зюзин.
— Ну да, плюнет, он своих знает.
— Хозяин пустынь. Глаза закрыл и смотреть ни на кого не хочет.
— Вот у кого нервы! — острили солдаты.
Из магазина вышел низенький черноглазый мужичок, чмокнул губами, прыгнул в сани, и верблюд тронулся, задрав вверх голову.
Анисин и Маркелов подошли к вагону, продолжая начатый разговор.
— Нет, ты напрасно так думаешь, — говорил Маркелов. — Не спорю, Фролов с характером человек, но инженер он толковый.
— Мне от этого не легче. Ведь мог бы он сказать: «Анисин, ты этого не знаешь, садись, расскажу». Так нет, он сразу: «Ты школяр!» Причем тут школяр. У меня действительно по этому блоку есть конспект…
— Верю, верю, Виктор. И принцип работы ты рассказал правильно, но на уровне специалиста третьего класса. Да и пока от тебя большего и не требуется. А этот вопрос обычно задают первоклассникам, когда сдают на мастера, или, как говорят, на засыпку. Так что забудь все, успокойся.
Вдоль состава навстречу офицерам приближался мужчина в черном полушубке и валенках. Он стучал молоточком по колесам, заглядывал под вагоны, а когда поравнялся с солдатами, попросил закурить и тут же о чем-то заговорил с ними. Подошел и Назаров. Пожилой с морщинистым лицом железнодорожник вдруг перед офицером вытянулся и, как положено солдату, представился:
— Рядовой запаса артиллерийского полка Ефим Петрович Козельский.
— Здравствуйте, Ефим Петрович. Подполковник Назаров.
— Вот солдатам говорю, товарищ подполковник, что места эти исторические. Какие тут бои гремели! А впереди, когда через реку поедете, наши переправлялись… Сколько полегло! Машинист, услышите, сигнал даст. А я вот сюда из-под Ростова приехал. Тут меня ранило, кровь пролилась, значит, и жизнь с этой землей решил связать.
Со стороны вагона-кухни раздался голос:
— Самарин, воды, воды, давай!
Солдаты замахали руками на кричавшего ефрейтора: «Чего, мол, ты глотку дерешь, дай человека послушать». А Ефим Петрович, закрыв глаза, потянул носом воздух:
— Макаронами, кажется, пахнет. Ах, жизнь солдатская! И трудная и беспокойная. А не забудешь ее. Не забудешь. Частенько вот так приходится встречаться, остановлюсь, не пройду мимо. И всегда говорю: «Куда и зачем вы едете — не знаю и знать не хочу. Это дело ваше. Но, говорю, ваш черед пришел держать в руках оружие. Вот и не посрамите нас. Ни в учебе, ни в деле». Так я говорю, товарищ подполковник?
— Спасибо, Ефим Петрович, за хорошие слова. Мы не подведем. Каждый, смотрите, орел!
— Да уж солдаты-то наши молодцы. Люблю я их. А вот идти надо. За папиросу спасибо.
Молоточек Ефима Петровича застучал по колесам. Вскоре его фигура скрылась из виду.
…Вечером рядовой Зюзин принес ужин. Старший лейтенант Обручев заглянул в бачок, спросил:
— Зюзин, гречневая?
— Никак нет, товарищ старший лейтенант, макароны по-флотски.
— А я-то думал, гречневая, — обиженным голосом и с недовольной гримасой произнес Обручев. — Эти повара другого придумать не могут.
— Обручев, вы чем-то недовольны? — спросил из своего купе подполковник Назаров.
— Конечно, товарищ подполковник… Я считаю наш пищеблок отстает от уровня развития техники. Как можно: в армии произошла техническая революция, все изменилось, появились ракеты и мы, ракетчики. А уважаемый пищеблок кормит нас с флотского стола, — говорил нарочито обидчивым тоном Обручев, глядя масляными глазами на вкусные макароны. Он любил поесть, и об этом все знали.
— Замечание, я думаю, вполне справедливо, — поддержал его Александр Кириллович в том же шутливом тоне. — Рядовой Зюзин, передайте повару, когда получим отличную оценку, а в этом я нисколько не сомневаюсь, пусть он в честь великого торжества, — тут подполковник задумался и, словно вспомнив что-то, сказал, — пусть приготовит гигроскопическую кашу. Павел Петрович, вас это устраивает?
— А что это такое, товарищ подполковник?
— Что? Каша, как каша… вроде гречневой будет. Такие же зернышки, дробные, кругленькие. Из силикагеля, короче говоря, что на просушку лючков выдают.
— Вот это как раз для меня! — поддержал шутку Обручев. Со всех сторон офицеры предлагали свои рецепты приготовления «гигроскопической» каши. В вагоне минут пять стоял смех. Над Обручевым подтрунивали, он же сидел у окна и спокойно доканчивал вторую порцию макаронов.
…Рядовой Зюзин принялся собирать посуду. Офицеры разошлись по купе. Назаров хотя и казался веселым, на самом деле, встретившись с этим человеком на станции, до сих пор не мог успокоиться. Кто он, этот Ефим Козельский? Не тот, конечно, Ефим. Да разве не узнал бы он своего друга! Он был повыше. И глаза не такие. Он хорошо его помнит. И помнит то майское утро. Ложбины были укрыты туманом, разведчики возвращались с «языком» в расположение своих позиций. «Язык», молоденький офицер, сначала трепыхался воробьем, а затем сник, вытянулся, сильно потяжелел, точно чурбан. Ефим все время ругался и злился на него.
— Сволочь, притворился… вот гад, ползти не может. Ух, ты! — замахивался он кулаком.
— Ефим, не тронь! — предупреждал того Назаров. — Метров двести осталось.
Но эти двести метров показались адом. Туман таял на глазах, и далеко было видно, как в нем барахтались люди. Немцы открыли пальбу. Все ближе ложились мины, и одна из них разорвалась совсем рядом. Назаров ткнулся лицом в землю, а когда поднял голову, увидел на виске немца кровь. Ефим лежал на нем неподвижно. Назаров схватил его и, что было сил, пополз к окопам. Туман разносило клочьями, лежать на месте было невозможно.
С перебитыми руками Ефима отправили в госпиталь, а Назарова увела война дальше. И эпизод этот в майское утро затерялся среди десятка таких же, случавшихся в жизни Александра Кирилловича. Спасали его, спасал и он, а сердце и теперь нет-нет да и воспламенялось огнем благодарности к людям. Хотелось разыскать однополчан, собраться всем вместе, посидеть, вспомнить то суровое время, но жизнь ракетчика так закрутила его, что он все эти годы собирался, собирался да до сих пор ни с кем из фронтовых друзей не встретился.
…Капитан Маркелов заглянул в купе. Александр Кириллович лежал на нижней полке с закрытыми глазами. Маркелов осторожно прикрыл дверь, кивнул Анисину:
— В тамбур пошли.
Обручев стоял у окна.
— Иди, место освободили, — сказал Маркелов.
— Маркелыч, ты Афонина помнишь? В другом дивизионе был? Ну да? Шахматист. На той неделе ко мне заезжал, уже майор, академию закончил, дивизионом командует. А ведь что он, что я, по первому разряду выпускались. Вот так-то бывает, Анисин. Живешь будто ничего не замечаешь. А когда начнешь подбивать бабки — пшик получается. Одному почет, звания, а другому… У другого вся жизнь малина: как ни поверни, со всех сторон красная.
Капитан Маркелов хорошо изучил характер Обручева. Он относился к числу тех, кто по поводу и без повода должен буркнуть, выказать якобы недовольство, а потом пойти и основательно все сделать. За это любили в дивизионе Обручева и знали, что там, где он, всегда будет порядок.
— Интересно, чем твоя жизнь плоха? — спросил капитан Маркелов. — Уважением и почетом тебя не обошли: твой портрет лет пять в клубе висит.
Обручев так и взъерошился. Ах, ты вот как, подковыриваешь. Ну, погоди! И обрушился на капитана.
— Знаешь, что. Ты хоть и секретарь партийной организации и сам мог бы понять, что к чему, но коль пошло на откровение, скажу. Да, почет есть, не обижаюсь, и портрет висит, и часики от начальства имею, а все равно не то… может, я на большее рассчитывал.
— Но жил-то честно? — спросил Маркелов.
— Честно…
— Так какого черта панихиду служишь? Живи и радуйся, работай. Идешь в ногу с людьми, ну и иди.
— Не поймешь ты, Маркелыч. В проблемах ты разбираешься. А в человеке, извини, не тянешь…
— В тебе, значит? — переспросил Маркелов. — Ты думаешь я тебя, лиса старая, не вижу, не знаю, почему слезу пустил? В жилетку захотел поплакаться. Рассчитывал, посочувствую, с тобой повздыхаю. Великолепно, лучше не придумаешь. Твоя заслуга, Обручев, в том, что ты сам себя хоть разок высек. Совершенно правильно, как гоголевская вдова. И тебе это, возможно, на пользу пойдет. Люди не с твоей лысиной за парты садились, буквари брали. А он, видите ли, постарел, в академию ему поступать поздно. Я, например, не могу себе представить, как ты, человек с такими способностями, до сих пор не учишься?..
Обручев стоял у окна, хмурился, недовольно сопел и, хотя на Маркелова сердился, винил во всем себя. Мог бы ведь учиться раньше, да почему-то не захотел, ходил и раздумывал. А теперь, выходит, надо было браться вновь за науку. «Ну да, конечно, — рассудил он. — У него сила воли есть… И служит, и учится заочно… А куда я, уже поздно, не потяну…» А вслух спросил:
— Маркелыч, ты в высших кругах вращаешься, что насчет стрельб слышно?
— То же, что и тебе.
— Шарахнут низколетящую. Туго тебе, Анисин, придется, — как бы между делом сказал Обручев.
— Тебе не легче будет. А в Виктора я верю. Виктор свое покажет, — и Маркелов обнял его, потискал сильными руками. — Ну все, идемте спать. Пора.
Состав у платформы остановился рано утром. Первым вышел подполковник Назаров. Мороз ожег лицо, защипал уши. «Градусов тридцать будет, — решил подполковник. — Никого почему-то нет». Но, повернувшись влево, он увидел офицера, подошел к нему, представился:
— Подполковник Назаров.
Встретивший его офицер был в куртке, такого же, как и он, среднего роста, но лица и погон Александр Кириллович в темноте не различил, а осветить фонарем не решался.
— Назаров? — с удивлением переспросил офицер.
— Так точно, Назаров.
— С приездом вас, Александр Кириллович. Майор Михайлов, не узнаете?
— Виталий Петрович! А я слышу голос знакомый. Встречаете или как?
— Опять проверяющим.
— Уже хорошая примета, Виталий Петрович. Я в приметы стал верить. Сейчас ведь как, не предупредят, кто, когда поедет. А «пятерку» все равно привези. С «противником» никто считаться не хочет.
— Он и сейчас не дремлет, Александр Кириллович. Тревога!
— Понял, — ответил Назаров и, повернувшись к составу, подал команду: — Дивизион, тревога!
Платформа загудела под ногами людей, загремели на железных дверях вагонов замки, морозный воздух наполнился звуками и разнес их далеко по степи. Паровоз выпускал клубы белого пара. Лейтенант Анисин быстро вспотел, расстегнул куртку, все время был занят и лишь иногда украдкой бросал взгляд в сторону горизонта. Но ни справа, ни слева, ни впереди он ничего не видел. Черное небо сливалось со степью и скрывало ее под мрачным покровом.
Капитан Фролов, служивший одно время с майором Михайловым, подошел к нему, поздоровался.
— А ты чего все в капитанах ходишь? — спросил Михайлов.
— У тебя подчиненные есть? Нет. А у меня, видишь, их сколько. За каждого шапку подставь. Хотел вырваться, да как?
— На этот раз, полагаю, все обойдется, — уже в другую сторону направил разговор Михайлов.
— Надеюсь… По крайней мере, рассчитываю, — ответил разочарованно Фролов.
— Чего так? Середняков привез?
— Есть и такие. Да у кого их нет. Иные, правда, научились таких маскировать: то дома забудут, то в госпиталь отправят. А мы смелые, вот так, как есть, прямо в бой и — без всяких.
— Не пойму что-то…
— Я тоже, Виталий. Поживем, как говорится, — увидим.
— А ваши, смотри, погрузились, — прервал Фролова майор. — Александр Кириллович знает свое дело. На уход готовится?
— Пора, — вздохнул Фролов.
— Пора-то, пора, да на его место не каждый созрел. Убывают фронтовики, на глазах убывают. Я не надеялся его тут встретить. Пошли в машину, за колонной пойдем.
А когда они тронулись, Фролов, наклонившись к Михайлову, сказал:
— Ты так, Виталий, говоришь о стариках, будто им замены нет.
— Нет, Николай, я о фронтовиках говорю, а не о стариках… Ну да, я тебя понял. Есть замена, почему. Самоотдача не та. Ты посмотри на Назарова. Он за годы командования дивизионом в землю врос. Раза три его вышибали с первого места, и все… А стреляющий? В десятку лучших входит. Хотя войну пушкарем закончил. Но парадокс знаешь в чем? Они, фронтовики, не от науки, как мы с тобой, а от самой жизни идут. Мы формулами напичканы. У меня макушка уже в темноте светится, — и он поднял шапку. — Кандидатскую защищу, совсем лысым стану. Жена говорит: мне идет.
Ехали осторожно. Предрассветное небо с каждой минутой становилось бледнее и мягче, и степь, которая, как показалось Анисину, будто бы лежавшая где-то внизу, теперь поднялась и была рядом, приняв свой обычный бесконечно пустынный вид. Анисин нетерпеливо смотрел вперед, по сторонам, и от приближения чего-то необыкновенного, тайного у него колотилось и замирало временами сердце. «Тут, тут и все решится, — думал он, — Не сегодня, так завтра, послезавтра, но решится. Я все увижу и приму первый бой», — продолжал он говорить с собой и смотреть из кабины то вперед, то вправо, замечая на снегу следы ворон.
Но как и когда Анисин потерял все это из вида, он не помнил: перед глазами встала совсем другая картина. Он видел себя дома, на даче у деда. Утром, вернувшись с рыбалки, он настоял, чтоб к столу все явились «при параде». Отец Виктора вышел в черном костюме, на нем ордена. Сам дед причесался, надел с накладными карманами гимнастерку, баба Настя и мать явились в новых платьях, а Виктор в лейтенантской форме. Мать смотрела на него счастливыми глазами и все летала по дому.
— Ну хватит вам, разбегались. Садитесь, чествовать выпускника будем, — ворчливо заметил дед и первым занял место во главе стола.
Справа он зачем-то положил мастерок, налил всем по первой и встал. За ним последовали все.
— С выпуском, значит, тебя, Виктор. Рады мы, что ты стал офицером. Отцу и матери радость принес. Ну, ну, потекло, — увидев слезы у дочери, прервал он.
— Я все, пап, я так…
— Слава богу, что не за деньги. И вот что я хочу сказать тебе, Виктор. Должность офицерская тяжелая, но уважаемая. Отец знает, вон, видал, сколько орденов имеет. Мне, правда, не пришлось много служить, дома все строил. Но горжусь, горжусь, что этим самым мастерком в твои годы довелось стены в Кремле латать. Не я один, бригада там целая была. Лучших нас, комсомольцев, отобрали. Думал я, и ты в меня пойдешь. Помнишь, учил. Я даже на тебя вначале обиделся. Ишь, думаю, хлыщ какой, известки испугался. Обиды теперь не таю. Время такое: одним надо строить, другим защищать. Вот и будь настоящим защитником. Чтоб фамилия Анисиных гремела, чтоб на любом посту тебя добрым словом вспоминали. Чтоб знали: мы, Анисины, свою марку держим.
Дед подошел, поцеловал Виктора в лоб и тряхнул за плечи. Анисин даже теперь в кабине вздрогнул, мельком взглянул на шофера — не заметил ли он чего-то. Но шофер не спускал глаз с дороги.
События развернулись так, что они выбили дивизион из ранее намеченного и разработанного графика. Майор Михайлов позволил лишь расставить в укрытиях машины, включить дизель, а дальше, вопреки всякой логике, вдруг объявил, что в пути на их эшелон напал «противник», кабина лейтенанта Анисина вышла из строя, несколько человек, в том числе капитан Фролов, «погибли». Это известие сразу вызвало недоумение у людей. Они не могли поверить в случившееся, так как «убитые» стояли рядом, а в вышедшей из строя кабине уже были включены блоки.
Однако для Назарова эта вводная не была неожиданностью, он заранее подготовился ко всему и даже подумал, что, ежели на этом все кончится, нет ничего страшного: дивизион с задачей справится. И уверенно, с твердостью в голосе, объявил:
— Лейтенанту Анисину принять новую кабину и приступить к проведению регламентов. Остальным расчетам продолжать выполнение боевой задачи сокращенным составом.
Анисину майор Михайлов показал кабину. Она сиротливо стояла в стороне, до колес заметенная снегом. Анисин вошел в нее. С минуту ему казалось, что он стоит в чужом, необжитом доме; хозяева будто бы спешили, все бросили и уехали. На крышках приборов, резиновых ковриках лежала пыль. Но времени на знакомство не было. Анисин и Зюзин принялись за работу.
Майор Михайлов пристроился на ящике и долго ничем не выдавал своего присутствия. Только иногда Анисин замечал в его руках блокнот, встречался с пристальным взглядом, но тут же отворачивался и продолжал работу. Лейтенант снимал показания с разных точек, менял лампы. И все это он делал с увлечением и не заметил, как к нему подошел Михайлов.
— Ничего, ничего, продолжайте работать. — И тут же спросил: — А почему здесь напряжение не увеличили?
Лейтенант еще раз посмотрел на шкалу прибора.
— Параметр в допуске, товарищ майор.
— Понял. Стоп. Эту операцию повторите заново.
Анисин легко и просто делал то, что говорил майор. И проверяющий, который прежде из рассказов других рисовался каким-то жестким, холодным человеком, теперь выглядел иначе. Он то одобрительно кивал головой, то вдруг задумывался или же с болью морщился, когда Виктор давал «петуха».
— Не то, Анисин. Понимаете, не то. Подумайте.
Опрос длился долго. Анисин устал, в голове шумело, а майор убедился, что из молодого лейтенанта со временем вырастет настоящий ракетчик. И еще о «школе Назарова».
«Может людей растить. Маркеловым и Обручевым не нахвалится. В ком же Фролов усомнился? Упрямый человек, скажет — зарубит, не переубедишь. Ладно, посмотрим, время еще есть», — с этими мыслями он и вышел из кабины.
…Пришедшие на позицию проверяющие имели задание досконально проверить слаженную подготовку к стрельбам и уже затем, ежели все пройдет нормально, поставить его в самые невыгодные условия. Станцию забить помехами, а цель пустить так, чтобы она могла легко и беспрепятственно спрятаться.
Подполковник Назаров никого и ни о чем не спрашивал, но по всему видел, что на его дивизион выпала сложная задача.
— Они хотят подавить нас, — сказал он Маркелову. — Ну что ж, посмотрим. Вы, Геннадий Иванович, пройдите к людям. Поддержите их. Они знают свое дело.
— Понял, товарищ подполковник, — ответил Маркелов.
— Я уже боевой листок выпустил. Посвятил дизелистам.
— Правильно, хорошо они сработали. Да, вот что, Анисина из вида не упускайте. Что за кабина, никто не знает. Кота в мешке ему подсунули, вот и работай. Правда, он идет пока в графике, молчит.
Офицеры-проверяющие собрались вместе, о чем-то посовещались в палатке, перекурили и опять разошлись. Капитан Маркелов, вернувшись, доложил, что люди работают, как дома.
— Вот это и хорошо, — ответил Назаров.
— Стартовиков подполковник Сергеев проверяет. Глянул на пусковую установку и говорит: «Ну, Уразов, она у тебя, как тульский самовар, горит. Молодец».
Подполковник Назаров распорядился:
— Расчету от моего имени объявите благодарность. Идите, капитан Маркелов.
— Есть! — ответил Маркелов и вышел.
…Капитан Фролов осунулся, потемнел лицом, он беспрестанно курил, ходил из кабины в кабину, понимал, что тут надо бы кому-то помочь, но ничего поделать не мог. На нем лежало клеймо «убитого» человека, и по всем правилам боя он должен все видеть, слышать, знать, но не вмешиваться.
«Глупо, глупо, — думал он. — Столько готовиться, и вдруг — погибнуть. И почему я, черт возьми? Мог бы Маркелова вывести, того же Анисина, Обручева! Нет, меня. Он просто решил насолить… И все тут…». А потом Фролов стал думать о том, какие могут быть последствия. И одна картина рисовалась ему хуже другой. И во всем, что бы ни делали люди, видел только ошибки, они его раздражали, и вот-вот, казалось, у него лопнут нервы, он на все махнет рукой и ринется сам в работу.
Сидеть на одном месте Фролов уже не мог, он встал и вышел из кабины. День был тихий, солнечный, по степи волнами катились к горизонту сугробы снега, и степь казалась живой, словно море. Там же, где прошли тягачи, лежали глыбы снега. Фролов направился к стартовикам. Лица солдат раскраснелись. Холод им был нипочем. Ракета, словно на карусели, то и дело описывала над полуприцепом дугу. Все это солдаты делали быстро, ловко, со стороны казалось, что происходило заряжание и разряжание пусковой установки само собой, будто бы по волшебству.
Постояв с минуту, Фролов вернулся в кабину. Подполковник Назаров, не отрываясь от экрана, спросил:
— А вы догадываетесь, почему вас из строя вывели?
— Блажь в голову Михайлову пришла.
— Вы уверены? Боюсь, что не так. Их задача не вас, не меня, а расчеты проверить. Заранее все продумано. Не переживайте.
Регламентные работы подходили к концу, и подполковник Назаров с нетерпением посматривал на часы: не опоздать бы сообщить на КП о готовности дивизиона к бою. Двое проверяющих, закончив свои дела, пошли в палатку. Мимо них пробежал капитан Маркелов. Он еще по дороге составил текст боевого листка и в палатке, отведенной под Ленинскую комнату, сбросив ремень, шапку, из планшетки выхватил красный карандаш и торопливо начал писать. «В условиях, приближенных к боевым, рядовой Зюзин и лейтенант Анисин сумели подготовить боевую технику». Тут он остановился. Нет, не такие, казалось ему, нужны были слова. Хотелось о Викторе сказать тепло и так, чтобы все поняли, в каком трудном положении оказался человек.
А между тем в эти минуты произошло то, чего никто не предвидел. Вначале лейтенант Анисин подумал, что он забыл включить тумблер, щелкнул им, стрелка на приборе упала и чуть вздрогнула. Виктор повернул до отказа потенциометр, но это не помогло. Он изменил режим питания блока, однако едва ожившая стрелка прибора не хотела подниматься по шкале к красной риске. Она, точно усталый путник, теряла силы, а Анисин, глядя на нее, изменился в лице и почувствовал, что по рукам и ногам поднимается холод и перехватывает дыхание.
«Спокойно, Анисин, — приказал он себе и, протянув руку, как делают хирурги во время операции, коротко бросил Зюзину: — Лампу. Не ту. Усилитель».
В мягких, словно ладошка, наушниках послышался хриплый и тревожный голос Обручева.
— Анисин, дай выход. У меня нет выхода.
— Даю, ну чего ты, даю!
— Пятый, в чем дело? — вмешался в разговор Назаров.
— Нет выходного, товарищ подполковник, — ответил Анисин.
— Вскрой блок и проверь лампы.
— Понял.
Анисин выдвинул блок, проверил на работоспособность лампы, прочистил еще раз контакты, но стрелка прибора вновь отклонилась всего лишь на несколько делений. Цепь, значит, была. Схема работала. Но вот в ней бегущие потоком электроны будто натыкались на что-то, скапливались и искали другой выход, однако, обреченные на строгое исполнение только одного, предписанного им природой закона прямолинейного движения, не могли найти его. Где-то путь перед ними сужался, и потому прорывались только «счастливчики», о которых слабо и неуверенно извещала стрелка прибора. И Анисин, глядя на нее, прикидывал то, что, вероятнее всего, могло быть этому причиной.
Он не предполагал даже, что простейшая на вид неисправность была следствием чьей-то грубой ошибки. Ибо все шло вопреки здравой логике, утвержденным инструкциям и уже проверенным на практике аналогичным случаям. Стоявший за спиной Зюзин смотрел растерянно на лейтенанта, готов был в любую минуту помочь ему, ждал указаний и зачем-то держал в руке совсем ненужную лампу. Перевернув блок, Анисин осмотрел схему, но ничто не вызывало сомнений: каждая деталь и уложенная в жгуты проводка были новыми. Снимать же параметры с каскадов он пока не решался. Это был крайний случай, да и не позволяло время. А оно подходило к концу, но Виктор верил в себя и не терял надежды устранить неисправность. Однако что случилось дальше, он не сразу понял. Кто-то влетел в кабину и оттолкнул его от пульта. Оглянувшись, Анисин увидел капитана Фролова. Он зло и сердито смотрел на него сверху.
— Вы что делаете, мальчишка! — хрипло произнес он. — Дивизион из-за вас снимут. Что смотрите на меня. Где, что произошло, говорите!
«Ну, все, дождался я своего!» — с ужасом подумал Анисин. И перед лицом этого человека он почувствовал себя ничтожным, беспомощным и раздавленным. Все вмиг куда-то удалилось. Фролова окутал и скрыл с глаз хлынувший в двери морозный воздух, а сам Виктор, как это было с ним однажды, в детстве, словно оказался на дне глубокого песчаного оврага. Он полз вверх, карабкался, а песок осыпался, и он по нему сползал вниз, точно на санках.
Дверь кабины вдруг открылась. Вошел майор Михайлов, сказал тихо, но твердо:
— Капитан Фролов, прошу покинуть кабину. Вы «убиты»!
Фролов недовольно взглянул на него, втянул в себя всей грудью воздух, устало сгорбившись, покорно вышел.
— Лейтенант Анисин, продолжайте работать. Возьмите ларингофон, — сказал Михайлов.
Виктор исполнил его команду, но на блок все еще боялся глянуть и только для вида щелкнул одним, затем другим тумблером.
— Анисин, слушайте меня, соберитесь с мыслями. Не спешите, — услышал он спокойный и знакомый голос командира. Говорил он тихо и так, что с каждым его словом Виктору становилось легче. Он начал соображать. — Снимите параметры, Анисин. Вспомните, может, встречали подобное. Если нет, загляните в инструкцию. Действуйте порядком исключения. Вы же знаете, знаете эту методику. И не волнуйтесь. Поняли, Анисин?!
Лейтенант взглянул на майора Михайлова, тот одобрительно кивнул головой и встал с ним рядом. Иногда он помогал Анисину подключать приборы, считывал показания, а затем и сам принялся искать неисправность.
— Это уже интересно, — рассуждал он вслух. — И знаете чем, Анисин? Своей нелогичностью. Неисправность может быть здесь и здесь… А в чем же дело?
— Товарищ майор, здесь… Что-то здесь.
— Ну, ну и что? Рассуждайте, думайте. Хотя, я вижу, все тут будто бы исправно.
— Внешне, товарищ майор. Смотрите, здесь должно стоять сопротивление на тридцать ом, а это, видите, в десять раз больше!
Выйдя из кабины, капитан Фролов решительно не знал, что теперь ему делать. В таком глупом положении он оказался впервые, был на всех зол и бессилен. К тому же во всем случившемся он находил страшную несправедливость: кто-то совершает ошибки, показывает свою беспомощность, а он должен расплачиваться.
«И правильно, — усмехнулся он. — Не сумел настоять на своем, нечего искать виновников».
Но этим он сам себя не успокоил. И не хотел возвращаться в кабину. Там делать ему нечего. Проверяющие не посмотрят на неопытность лейтенанта Анисина и никого не допустят к стрельбам. При этой мысли Фролов даже остановился, закрыл глаза и будто лишился сил идти дальше. Так он простоял с минуту, заем медленно и устало вошел в пустую палатку. Кто-то в ней растопил печь, бросил рядом дровишек и ушел. Фролов пододвинул табуретку, сел и принялся растирать покрасневшие на холоде руки.
«Хорошо, я виноват, проявил беспринципность. Но что скажет в свое оправдание Назаров? Решил провезти психологический эксперимент. Вот и провел. Как же, он смелый! Почему бы и не быть смелым, когда нет позади мостов? Видите ли, моральная ответственность, честь дивизиона. А вот теперь что? На прошлые заслуги никто не посмотрит… И шишки раздавать будут каждому. Нет, во что играем, во что играем? А этот Михайлов. Властью решил воспользоваться: «Товарищ капитан, вы «убиты»! На «вы» перешел. Ах, дело-то и не в этом! Столько готовиться и срезаться из-за одного».
Николай Яковлевич сидел, не замечая времени и того, что происходило рядом. В палатку раза два заглядывал кто-то из солдат, доносился скрип снега, громкие команды. Не заметил он и подполковника Назарова, который вошел в палатку и принялся перчаткой растирать щеку. Но когда увидел его, спросил:
— Как, допустили к стрельбам?
— Допустили.
— Пока не поздно, прошу вас, товарищ подполковник, отстраните Анисина. Найдите повод…
— А вы почему, Фролов, ушли?
— «Убитым» там делать нечего. А потом, как можно быть там и видеть, что ты в чьих-то руках просто игрушка! Не так, что ли? Теперь вы молчите. Спасибо, еще раз меня научили, но уж еще раз я свою спину не подставлю. Риск? Вот вам и риск. Вы, Александр Кириллович, как я и говорил, вскоре все это забудете, да и ни к чему оно вам, а нам здесь расхлебывать да расхлебывать придется. Лет пять вспоминать будут…
Назаров терпеливо ждал и не перебивал подчиненного. Иногда он только качал сокрушенно головой и позволял себе улыбнуться. Но это было только иногда, на самом же деле он еле сдерживал себя, чтобы не оборвать столь обидные и несправедливые суждения Фролова.
— Теперь я вижу, вы, Николай Яковлевич, не просто ошибались до сих пор, а вы придерживались своей линии. И это страшно. Я уже говорил вам — во всем есть риск. Вы не хотите рисковать, боитесь рисковать, а я буду. И не потому, что смелый. Потому что я против таких, как вы, — заговорил Александр Кириллович. — Жаль, что говорю я это только вам, а хотелось бы сказать на собрании коммунистов, и я имел в виду такую мысль после сегодняшнего случая. Но вы опередили, как говорится, события, теперь, что ж, все уж до конца и выслушайте. А дело в том, Николай Яковлевич, что такие, как вы, опасны тем, что живут среди людей, а людей будто бы и не видят. Они поверх голов смотрят и на две половины их делят: хорошие и плохие. А рассуждают приблизительно так: хорошо солдат служит, все знает, все выполняет, значит, мой. Похуже — с ним повозиться да поработать надо, — нет, не мой. Я такому лучше отличную биографию сочиню, только возьмите у меня. Или, скажем, солдат ушел в самоволку. Каждый об этом доложит? Как бы не так. И все это ради того, чтоб самому жилось спокойнее да поменьше было неприятностей. А я, Фролов, не по этой мерке живу. С войны взял за правило — верить в человека. Партия верит в народ, народ в партию. И победили. А наша задача — верить в каждого. Потому что в каждом есть свое «я», своя искорка, которая может разгореться или погаснуть. Погаснет, тяжко тому человеку будет. Так я рассуждаю, Фролов. А теперь насчет Анисина. Вот, видите, сопротивление? Я его Анисину перед всем строем вручу. Пусть на память сохранит, — подержал в руке, затем передал Фролову зелененький столбик сопротивления. — И знаете почему? Анисин сегодня превзошел себя. На этой станции, оказывается, после капитального ремонта никто не работал, а когда проверяли, недосмотрели, что номиналы сопротивлений перепутаны. Да и кто мог подумать! Нет, тут нужно особое чутье. Анисин будет ракетчиком. А вот вы, Фролов, своим поведением могли бы и сорвать человека. Кричать мы мастера, а на помощь прийти не каждый сможет. Но об этом поговорим на партсобрании… Идемте ужинать, стрельбы и в ночь могут назначить…
Утром за тридцать минут до подъема дивизион подняли по тревоге. Лейтенант Анисин в числе первых влетел в кабину. Фыркнул и заработал дизель. Солдаты стартовой батареи установили ракету и притаились в укрытии. Антенны шарили по черному небу. Экраны вспыхивали от помех. Со стороны казалось, что они вот-вот станут белыми. Операторы и старший лейтенант Обручев искали цель. Но ее пока никто не видел. А, может, ее и не было. Но могла она вынырнуть в любой миг и тут же скрыться в помехах, точно иголка в стогу сена.
— Есть цель!
— Азимут… — давали отсчеты операторы.
Обручев не спускал глаз с экрана. И вдруг срыв: цель будто провалилась. Назаров понял, что тут не обошлось без маневра, и если не перехватит ее Обручев, она уйдет безнаказанно. Догадка его была только частью прогноза, все остальное завершил Обручев. Где-то на самом срезе экрана он уловил едва заметную точку. Она уходила все ниже и ниже. И Обручев выдохнул:
— Пуск!
За кабиной раздался грохот. Лизнув пламенем морозный воздух, ракета вскоре превратилась в точку, а там, где она встретилась с целью, вспыхнуло зарницей темное небо.
В СЕДЬМУЮ ДАВЫДОВКУ
Полковник Николай Васильевич Давыдов вошел в комнату и стал у порога: перед ним, словно близнецы, стояли чемоданы.
Из кухни вышла жена, Вера Петровна.
— Что, сдал часть? — спросила она и добавила: — Может, на новом месте спокойнее будет.
Николай Васильевич сел на диван, думая: «Рисуется, безразличной показаться хочет», — но тут же встал и заходил из угла в угол.
…Он вспомнил, как в свое время принимал это хозяйство. Вспомнил, как тогда не хотелось, расставаться с дивизионом и людьми, с уже обжитыми местами и теми успехами, во имя которых он не жалел себя. В дивизионе он имел авторитет, уважение и чувствовал себя человеком на своем месте. Последнее, между прочим, для него значило многое, если не самое главное.
Два осенних месяца ушло на наведение внешнего порядка, солдаты отводили болотную воду, делали укрытия для машин и несли боевое дежурство. То была жаркая пора в жизни Николая Васильевича. Он не замечал дней. Утренние зори наступали медленно, вечерние приходили быстро.
А теперь вспоминал это прошлое. В комнате ему не сиделось. Он вышел на крыльцо. И будто впервые увидел чистую короткую улицу. В палисадниках вытянулись до самых крыш тополя, а к верандам тянулись узкие, с отбеленными обочинами асфальтовые дорожки. По здешним дождливым местам они были необходимостью.
Асфальт в те дни достать было трудно. Но он достал. И тогда к нему пришли женщины с благодарностью, а он расчувствовался, пообещал построить к лету детскую площадку, овощной ларек и выделить для поездки в город автобус. Потом спохватился, что наобещал слишком много, но слово пришлось сдержать. Жены офицеров стали приглашать его на заседания женсовета. Он, в свою очередь, посоветовал им создать самодеятельность к октябрьским праздникам.
Вера Петровна работала в соседнем селе учительницей. Она решила, что солдаты должны взять над школой шефство.
— Надо подумать, — заикнулся было Николай Васильевич, но жена пригрозила пойти в партком, и он согласился.
…У магазина, прыгая через кювет, играли в ожидании мамаш ребятишки. Выскочивший из штаба дежурный, капитан, командир одного из подразделений на ходу одернул гимнастерку, весь вытянулся, пошел навстречу строевым шагом.
— Товарищ полковник, — щелкнул он каблуками и вскинул к козырьку фуражки большую красную ладонь…
— Все в порядке? — перебил его вопросом полковник, глядя на детвору и не трогаясь с места.
— Так точно, — ответил капитан и, перехватив взгляд командира, продолжал возмущенно: — Гонял целый день детвору, товарищ полковник. Балуются…
— Детвора, так и гонять нечего, — недовольно ответил Николай Васильевич. И подумал об этом офицере: «Перед начальником в струнку тянется, а в казарме гоголем ходит, бывает, на крик срывается».
Капитан привык к подчеркнуто суховатому отношению командира части и его требовательности, но так и не мог понять, за что в немилости? Строг, требователен, подразделение на хорошем счету. Командир же не его, а Сорокина, где можно, выделяет.
Дежурный проводил командира к машине, открыл предупредительно дверцу, отдал честь, всем своим видом выражая уважение, даже почтительность.
Шофер Урузбаев с полным комплектом солдатских знаков на груди, привыкший за годы службы к командирскому маршруту, без лишних вопросов мягко повел машину мимо казарм, столовой, складов, свернул налево к котельной и лишь потом выехал за проходную. Николай Васильевич вдруг подумал, что это был последний, завершающий круг почета, молчаливое прощание с тем, что составляло его жизнь, ежедневную хозяйскую заботу, что лежало на его плечах большой ответственностью и требовало от него полной бескорыстной отдачи. За эти годы он, признаться, просто устал, порой, казалось, сдавали нервы. Уж больно плотна была жизнь: выезды на полигон, учения, проверки, осенью ко всем заботам добавлялись хозяйственные, наступала пора расставания с доброй четвертью опытных и подготовленных солдат, приходила молодежь, с нею новые хлопоты, новые заботы.
Годы, казалось, были похожи друг на друга, менялись лишь люди, события, само время. Всегда только главным делом оставалась боевая готовность. Все, что ни делалось, было для нее и ради нее. И думалось всегда о ней. Она была высшим мерилом всей деятельности Николая Васильевича. Каждое утро он вставал с одной мыслью: «Как там на позиции?». И первый телефонный звонок раздавался на столе оперативного дежурного.
Теперь Николай Васильевич мог бы вздохнуть облегченно. На самом деле так не получалось. Был дом, стены, к которым так привык. И вот поднимайся, уезжай. И на душе, как бы ни старался, лежала грусть, и во всем слышалась печальная песня.
Справа тянулся тронутый осенью лес, слева пашня, среди нее стога сена. А город жил рядом. Николай Васильевич вспомнил, как ему вручали знамя машиностроители, и он, пожимая натруженные рабочие руки, чувствовал их силу, твердость. В глазах поднявшегося тогда зала видел восторг, радость, тепло.
— На первый или второй поедем? — Урузбаев вывел его из раздумья.
— На второй катите.
Николая Васильевича тянуло к майору Сорокину, с которым он проработал рука об руку все эти годы. Помнится, пять лет назад они вот так же мчались по этому асфальту, а когда свернули на проселочную дорогу, под колесами шипела галька, веером разлеталась вода, грязные капли осыпали ветровое стекло. До самого городка тянулся густой лес, и только у проходной он расступился: показались маленькие домики, палатки, деревянная казарма.
Николай Васильевич свернул за угол казармы, увидел Сорокина, командира подразделения. Он и сейчас стоит перед глазами. В высоких резиновых сапогах с подтянутыми под ремень полами шинели. Ходит он прямо по болоту, командует и сам вместе с солдатами подсовывает бревна под трактор, кабина которого оседает все ниже.
— Вот, — развел руками Сорокин. — Пни корчевали…
Не раз выезжал майор Сорокин с подразделением на полигон и, как правило, привозил отличные оценки. Здесь всегда можно было столкнуться с чем-то новым. Вот и сейчас, приняв рапорт и идя рядом с Сорокиным, Николай Васильевич мысленно отмечал: площадку для мойки и чистки техники закончили, пешеходные дорожки заасфальтировали. Идет жизнь…
— Полосу препятствий обновили?
— Так точно. Посмотрите?
— Верю. Земли у вас много пустует.
— Разделаем, товарищ полковник. Весной.
«Ну да, весной, — подумал Николай Васильевич, — когда меня здесь уже не будет. А что если взять с собой Сорокина? Приехать и его вызвать. Вместе работать будем».
— Новый командир был, товарищ полковник. Учебный класс ему понравился.
— И все?
Майор отвел глаза в сторону.
— Договаривайте.
— Перегородку, говорит, в кладовой сломать нужно.
— Ломать — не строить, — вдруг вскипел полковник. — Все мастера ломать.
И хотя ничего еще не произошло, он почему-то не мог успокоиться. Ему казалось, что все пойдет прахом, хотя он тут же «осаживал» себя. Назначенный командир молод, человек с огоньком, Слава о нем хорошая. «Нет, Сорокина не возьму, — подумал он. — Потом, может, со временем. Без такого помощника не обойтись новому человеку».
— Федотыч, а ты характер свой, смотри, не вздумай показывать, — сказал Николай Васильевич, переходя на «ты». — Не любишь, когда против шерсти гладят.
— Кто же любит? На всех добреньким не будешь.
— Вот-вот, об этом и говорю. Тебе лишь дай… Нам, Федотыч, еще бы годика два поработать. Хвалили нас, правда. Знамена давали, но мы, как говорится, только площадку для старта подготовили. Работать и работать. Не так уж хороши у нас учебные классы, сейчас бы я их не так делал. А впрочем, что теперь сетовать: людей учили, готовили не хуже других. Был энтузиазм, и была отдача…
Николай Васильевич остановился. За насыпью слышались чьи-то голоса. Глядя в небо, вращались антенны станции наведения, перемещались острые носы ракет. Шла обычная боевая учеба. Майор Сорокин не нарушал молчания, он знал привычку своего командира — внезапно обрывать мысли. Недосказанное Николай Васильевич предлагал на суд собеседника.
…А потом было прощание со всей частью. Николай Васильевич, обращаясь ко всем, наказывал беречь и умножать лучшие традиции, честно служить Родине. И он верил, что так и будет. Какие здесь служат прекрасные люди! Домой он возвратился в приподнятом настроении. Вера Петровна ходила по комнате, как-то странно размахивала руками и будто бы ничего не видела и не слышала.
— Вера, что с тобой? — спросил Николай Васильевич.
— А? Ты пришел? Пройдет. Не исключено, что я устала. Понимаешь, как-то все вдруг… Руки деть некуда. Были книги, тетради, а теперь пусто. Ребятишки цветы принесли. Я чуть не разревелась. Машина пришла, пора грузиться.
За проходной они оказались уже при свете фар, но не отъехали и километра, как на обочине появилась женщина с поднятой рукой. Урузбаев остановился.
— Мил человек, — сказала она. — Где тут Давыдовка?
— Давыдовка? — переспросил Николай Васильевич. — Вы ошиблись. Давыдовки здесь нет.
— Как же, мил человек, сынок-солдат писал: приедешь, спроси Давыдовку, каждый скажет. Вот номер части.
И она протянула письмо.
— Все правильно, — сказал Урузбаев, — пойдете прямо и прямо. До ворот со звездой. — И, повернувшись к полковнику, он пояснил: — По вашей фамилии, товарищ полковник, наш город называют.
Дальше они ехали молча, каждый погруженный в свои думы. И только уже после поворота на асфальт Вера Петровна вдруг, вздохнув, спросила:
— Коля, какой раз переезжаем?
— Седьмой, кажется…
СРОЧНЫЙ ВЫЗОВ
В третьем часу ночи посыльный осторожно постучал в дверь. Никто не отозвался. Он постучал сильнее, и где-то за стеной послышался скрип кровати.
— Лейтенанта Лигистанова можно? — спросил солдат.
— Олег, тебя, — сказал сонный женский голос.
— Да, слушаю. — Лейтенант Лигистанов показался в дверях.
— Вас вызывают на службу, звонил дежурный.
Лигистанов подошел к телефону, стоявшему коридоре на тумбочке.
— Олег Петрович, ты не спишь? — спросил дежурный.
— Как видите, не сплю.
— Вот и хорошо.
— Я тоже так думаю.
— Олег Петрович, есть работенка срочная. Тут «больная» ракета обнаружилась. Что с ней — не в курсе.
— Сейчас нужно?
— Сам знаешь — боеготовность.
— Иду.
— Возьми напарника.
Лейтенант положил трубку и задумался: кого же взять? Поднять техника — завтра некому будет проводить занятия. Придется кого-нибудь из солдат.
«Что, если Гаврилова?» — лейтенант, одеваясь, вспомнил вчерашний инцидент с солдатом из-за двойки по технической подготовке. Лигистанов задавал вопросы, а Гаврилов, глядя на него карими, точно поржавевшими глазами, не задумываясь, отвечал:
— Не знаю.
— И это не знаете?
— И это не знаю.
Лейтенант досадливо махнул рукой и ушел в свой кабинет, не просто сердитый, а взвинченный. Потом его мучила совесть: он как-никак начальник этого солдата, значит, сам виноват во всем. «Ну ладно, терзаться нечего, возьму с собой, а там видно будет», — решил наконец лейтенант.
Только Лигистанов вышел из дому, сразу обратил внимание на звезды: большие, яркие и близкие, совсем близкие звезды. Медведица, перевернувшись ковшом, горела особенно ярко. А небо в просветах звезд чернело без каких бы то ни было красок и подсветов. Но больше всего Олега удивила луна. И какая луна! Она висела чистым большим обрезком над лесом, и казалось, что этот обрезок не резали, а ломали надвое, потому что края были рваные, неровные. А горела луна так ясно, так четко, что было похоже, будто ее влепили в черное небо.
Олег вздрогнул от прохлады и тут же застегнул шинель — осень давала о себе знать сырыми туманами и первыми холодами. В казарме он приказал дежурному по подразделению разбудить Гаврилова.
— Он что, с вами пойдет? — удивленно переспросил дежурный и пошел в темную половину казармы, стуча сапогами.
Лигистанов бесцельно ходил по коридору, прислушиваясь к голосам за дверью. Дневальный переминался с ноги на ногу у тумбочки, потихоньку наблюдал за лейтенантом. Он, видимо, хотел спросить его о чем-то. Но лейтенант остановился у стенда и стал рассматривать надписи. Перед ним на большом листе ватманской бумаги кем-то из солдат была нарисована карта, а по ней расставлены тушью самолетики. Они лепились на островах, на кусочках чужой земли, их было много и все они смотрели в одну сторону — в нашу.
Наконец двери раскрылись и вышел Гаврилов — широкий, высокий, с белым припухшим лицом. Вдоль щеки пролегла красная полоса — от подушки. Видно, спал парень крепко. Лейтенант посоветовал растереть щеку.
— Почему я, товарищ лейтенант? — спросил Гаврилов, шагая следом за Лигистановым. — У меня двойка по технической подготовке.
— Ну и что?
— Пусть идет тот, кто технику знает. Сколько я просил — переведите в другое подразделение. А то насмешка какая-то получается, — говорил Гаврилов недовольным тоном.
— Какая насмешка, Гаврилов?
— Конечно… Вам-то что!..
В темных глазах Гаврилова застыло огорчение: то ли он сердился на лейтенанта за то, что тот поднял его ночью работать, то ли парень сетовал на технику, на ее сложность.
Больше не говорили. Лигистанов шел впереди широкими журавлиными шагами, ссутулившись, наклонив вперед голову. Думал о чем-то. Те, кто знали его, считали, что Лигистанов странный, с причудами офицер, но одаренный и технически грамотный. Многие находили в нем даже струнку исследователя.
Каждый раз, как только лейтенанту приходилось сталкиваться с неисправностями в технике, он на глазах менялся: начинал петь, балагурить, смеяться. В другое время он был молчалив и сосредоточен, постоянно чем-то озабочен. Должно быть, именно это мешало ему порой чистить сапоги, тщательно следить за своей внешностью. Но зато в тетрадях Лигистанова всегда был полный порядок. Каждый лист он исписывал ровным круглым почерком, чертеж делал с особой тщательностью. По вечерам лейтенант занимался английским языком и кибернетикой — страшно не любил попусту тратить время.
Гаврилов вяло тянул ноги, однако старался не отставать от лейтенанта. Будь его воля, он никогда бы не пошел в эту черную ночь. Но на то его воли не было. Да и у лейтенанта, наверное, не было на то своей воли. И это как-то успокоило Гаврилова, даже, чуть расположило к Лигистанову.
Сапоги глухо стучали по бетонке, над головой чисто светила луна.
— Тьфу ты. Смотреть не хочется, — сказал вслух Гаврилов.
Офицер свернул в лес, на тропинку. Под ногами зашуршала сухая листва. Запахло сосной и травой. Вдруг впереди, где-то в темноте, зашумели кусты и что-то тяжело ухнуло — лейтенант споткнулся.
— «Чебурахнулся», — прыснул со смеху Гаврилов.
— Гаврилов, где вы? Осторожнее, тут кто-то дерево свалил, — голос лейтенанта был спокоен.
— Вижу, — отозвался Гаврилов и переступил через ствол осины. Лейтенант шел теперь прихрамывая, и Гаврилову было неловко за свое недавнее злорадство.
Ракета лежала на низких козелках действительно словно больная. Лигистанов обошел ее по-хозяйски, сдвинув на затылок фуражку и что-то прикидывая в уме. Гаврилов смотрел на него издали с удивлением. Полуосвещенное лицо лейтенанта казалось несколько старше, чем обычно, скулы и широкий лоб выделялись резкими, темными полосами.
— Гаврилов, несите инструмент. Займемся.
Сам лейтенант пошел куда-то, долго возился там и, вернувшись, расстелил на двух сдвинутых столах схемы.
— Люки открывать можете? — спросил Лигистанов.
— Могу, конечно. Руками я хоть что могу. А вот схемы изучи попробуй…
— Если взяться, изучить можно. Так с чего начнем?.
— Не знаю, — Гаврилов пожал плечами с явным безразличием.
— «Не знаю» — не выход, — спокойно ответил лейтенант.
Лигистанов не понимал этого человека и, откровенно говоря, презирал его за равнодушие. К чему? К ракетам! Даже простое любопытство чуждо было Гаврилову, точно ему все давным-давно известно. Другие солдаты спорили, носили под гимнастерками книги и читали их в любую выдавшуюся минутку. У них был интерес, и любопытство, и гордость за доверенное им дело. И Лигистанов торжествовал — он не терпел, когда рядом с ним работали скучные и безразличные наблюдатели. А вот Гаврилов… Гаврилов считал себя человеком лишним, попавшим в подразделение Лигистанова по ошибке. Его пытались убедить в обратном, доказывали, что рядовой Костин тоже имеет неполное среднее, но, однако, он первоклассный специалист. Ничто не помогало. На боевой работе Гаврилов мог лишь снимать и надевать чехлы. После этого он обычно ходил со щеткой и наводил порядок.
А может, в том-то и ошибка, что своего дела не знал солдат?
Изредка лейтенант посматривал на Гаврилова и морщился: до чего человек неуклюже обращается с отверткой! Она глухо стучала, пока наконец солдат не высыпал в мешочки болты и не отошел в сторону.
— Открыли? — спросил лейтенант.
— Открыл.
Лигистанов стоял перед схемами и что-то искал в густой паутине линий. Неожиданно он заговорил, соглашаясь с Гавриловым.
— Такую технику сразу не изучишь, это вы правильно говорите. Ведь ракета что твой организм. Смотрите, сколько в ней проводов-артерий. Как у человека. Если, скажем, перерезать человеку артерию, то он погибнет. Согласны? А ведь с нашей ракетой может произойти то же самое. Ей бы надо подняться вверх, догнать цель и уничтожить ее, а она не поднимется. Умрет тут вот, на столе. И цель пройдет. А цель — это противник. У него на борту страшное оружие. Вот сейчас наша ракета «заболела». Кто ее должен вылечить? Мы. Мы подлечим ее, и она снова займет свое боевое место. Ну, а что «заболела», так это и с нами бывает. Правда, ведь?
Гаврилов улыбнулся, умилившись: ему нравилось, что лейтенант его, молодого солдата, равняет с собой.
— Можно к этому делу и с другой стороны подойти, — взглянув на смущенного Гаврилова, продолжал лейтенант. — С моральной. Ракета, она действительно как человек. Цель жизни имеет. Вот у меня и у вас — у каждого своя цель есть. Иначе зачем же нам жить, если без цели? Во-первых, скучно. А во-вторых… Если человек поставил перед собой задачу, то какие бы трудности ни встречались, он с ними справится. Переборет их. А это же интересно. Еще как интересно! — Лигистанов взглянул на солдата веселыми глазами.
Это ничего, что на груди у лейтенанта инженерный ромб. Это ничего. Он, оказывается, такой же неугомонный, как и его солдаты — «академики». И простой. И говорит складно. А ракеты свои любит — страсть. И работать с ним куда интересней, чем полы мести.
Гаврилов охотно открывал люки, стоял с переноской в руках и смотрел, как лейтенант ловко перебирал разноцветные провода, напевая веселую песенку:
— Капитан, капитан, улыбнитесь…
— А вы, Гаврилов, любите песни? — спросил лейтенант.
— Я? Люблю. Народные. Ребята все о морском дьяволе распевают: «Я тебя успела позабыть…» Это не то. У меня мать много хороших песен знала. В хоре выступала.
— И теперь поет?
— Нет, теперь она домохозяйка, а отец — инвалид. На коляске ездит. С войны это у него. Две сестренки у меня есть. Большая в третий класс пошла. Больно учится плохо. Я ее гонял как сидорову козу. Сейчас некому.
— А вы почему не учились?
— Работал. Кому-то надо было работать.
— Это правильно, — вздохнул лейтенант. — Берите тестер, попробуем прозвонить цепи.
Гаврилов взял тестер — ящик с измерительным прибором и двумя проводками: желтым и красным. Желтый лейтенант воткнул в верхнее гнездо, красный — в нижнее. И пояснил:
— Это корпус, а это жила кабеля. Как стрелка отклонится, так скажите. — Он запустил руки в открытый люк и стал что-то там исправлять. Время от времени спрашивал: — Есть?
— Есть, — отвечал Гаврилов, как только стрелка металась вверх по шкале.
— А вы учиться хотите?
— Конечно.
Гаврилов, глядя на лейтенанта, вспомнил, как он споткнулся в темноте. …Профессор! Чудной он.
— Вы что, Гаврилов?
— Да так. Вспомнил, как вы громыхнулись, — Гаврилов отвернулся, чтобы лейтенант не увидел его улыбки.
— Это еще ничего. На той неделе я чуть было шею не свернул. Иду, расчет один вспоминаю, а дорогу перекопали. Тоже ночью. Бултых…
Теперь Гаврилов хохотал откровенно и безудержно.
— Длинному, не то что короткому, все мешает, — поддержал веселье лейтенант и рассмеялся сам.
Аппаратура была включена на проверку, красные лампочки горели, точно рассыпанные звезды. Гаврилов с любопытством наблюдал, как лейтенант вращал ручки и от этого на экране осциллографа появлялись всевозможные кривые. Они то рассеивались, то набегали друг на друга, и это походило на волшебство. Казалось, там, внутри прибора, сидел кто-то и плел из ярких нитей причудливые узоры.
— А спать не хочется?
— Не-ет! Я привыкший. Бывало, в колхозе ездишь, ездишь. А полежишь чуток, услышишь — девчата запели, и сон как рукой сняло. Тут тоже интересно. Диву даешься!
— А ну-ка, подстыкуйте контрольный штекер, — сказал лейтенант, не отрываясь от аппаратуры.
— Кто, я? — удивился Гаврилов.
— Вы, кому же еще?
Гаврилов сначала растерялся, а потом приободрился и даже усмехнулся в душе над Дехтяревым. Тот никогда не допускал Гаврилова к приборам, только на словах учил. Однажды, правда, тоже дал штекер и сразу же закричал: «Ты, что, ослеп, Гаврилов? Не видишь, куда суешь? Прислали на мою шею. Бери тряпку да пыль вытирай. Я сам год целый этим занимался. Соня…» Но то был Дехтярев — старший расчета, а тут лейтенант…
Гаврилов присел на карточки так же, как это делал Дехтярев. Взвесил в руках тяжелый штекер, взглянул в него: штырьков уйма. И примерился, чтобы вогнать до щелчка. Правую руку отвел назад и, крякнув, толкнул штекер ладонью.
«Ишь ты, капризничает, — подумал Гаврилов. — Еще разок нажму».
Но и на этот раз штекер не поддался. Гаврилову стало не по себе, даже уши загорелись. У каждого человека свои особенности: у одного, например, в подобных случаях щеки пылают, а у Гаврилова вот уши горят. Он посмотрел в сторону лейтенанта, но тот был занят.
«Того быть не может, — подумал Гаврилов. — Такую ерунду и не вставлю. Хорошо, хоть Олег Петрович не видит».
Гаврилов повернулся спиной к Лигистанову, увлекшемуся своей работой.
— Скоро, Гаврилов?
— Сейчас, товарищ лейтенант, — отозвался Гаврилов нарочито бодрым голосом. На душе у него скребли кошки.
Вставить штекер трудно. Не думайте, что механизм с сотней контактов, да еще на пружине, сразу подчинится вам. Для этого надо иметь и опыт, и сноровку. У Гаврилова не было ни того, ни другого. И теперь он не знал, что делать. Пот катился со лба, а руки устали от напряжения. От долгого сидения на карточках онемели ноги.
Досада и обида душили Гаврилова. Он собрал последние силы и сделал решительный толчок, но штекер опять ткнулся во что-то твердое и отошел вниз. Солдат от обиды на себя вдруг вскочил и выбежал в коридор.
— Гаврилов, где вы? — услышал он голос лейтенанта. — Гаврилов!
Гаврилов стоял, прислонившись к холодной стене. Он слышал, как лейтенант потянул кабели, как в тишине раздался тот самый щелчок штекера, который был нужен Гаврилову. Солдат заправил тужурку, напился воды из крана и как ни в чем не бывало вышел к лейтенанту.
— Вы что, пить-захотели? — спросил Лигистанов.
— Да там, — ответил Гаврилов неопределенно и поспешил отвернуться: он боялся встретиться взглядом с лейтенантом.
— Ну, а теперь уберем все — и домой. Совесть у нас спокойна, — поднялся Лигистанов и с наслаждением потянулся, раскинув руки в стороны.
Осенний день только начинался. Судя по чистому небу да безветрию, он предвещал быть тихим, солнечным, теплым. Лес полыхал всеми красками. Желтела береза, а рядом стояла старая ель, темная, точно цыганка в широкой юбке. Кусты бузины горели ярче костра, а осины давным-давно растрясли листву и теперь стояли голые, серые.
Гаврилов несколько раз пытался заговорить с лейтенантом и наконец, поравнявшись с ним, сказал:
— Хитро все же, товарищ лейтенант, получается. Хитро. Сюда шел одним человеком, отсюда — другим. Ох, а что раньше со мной было! Взгляну, бывало, на ракету, а у самого мурашки по спине посыпятся. Попробовал я кое-что понять, а потом вижу — не получается, и рукой махнул, И Дехтярев на мне крест поставил… А вы быстро неполадку-то нашли. И мне интересно почему-то было. Интересно, да и все!
Они дошли до городка и разошлись в разные стороны. Лейтенант пожал руку своему напарнику и зашагал к дому. Поселок еще спал. Спала и Наташа. Лигистанов тихонько забрался под хрустящие простыни и взял книгу. Он знал, что не уснет, пока не согреются ноги.
НА ПЕРВОМ ГОДУ
— Бей, бей левой! — кричали солдаты, сидевшие на скамейках вокруг боксерского ринга. Бой вели рядовой Карпов, прослуживший всего лишь неделю, и его командир отделения сержант Шишмарев.
Карпов был высокий и длиннорукий боксер, он все время легко и быстро перемещался по рингу, делал обманные движения головой, корпусом и наносил точные удары сержанту. Это раздражало болельщиков. Шишмарев чемпион части. Но что с ним? Он, собравшись весь и укрывшись перчатками, медленно передвигался по рингу, наступал на Карпова, но удары не достигали цели. Все ждали третьего раунда. И точно: Шишмарев пошел в атаку. Вот-вот, казалось, он нанесет свой излюбленный удар левой, и Карпов — в нокауте. Развязка, однако, наступила для всех неожиданно. Сержант Шишмарев, и это видели все, выбросил наконец левую руку, раскрылся, и тут же Карпов ударил снизу, сержант покачнулся, опустил руки, попятился к канатам, и — судья открыл счет. Стихли болельщики. Шишмарев стоял в углу ринга и мотал на короткой и сильной шее русой головой.
Вот он увидел судью, Карпова и опять пошел в бой, но боксировал вяло, кое-как, лишь бы продержаться до гонга. Карпов тоже не шел на обострение.
В подразделение Карпов вернулся чемпионом части, сдал каптенармусу перчатки, вымылся в душе и с хорошим после боя настроением вышел на веранду. Солдаты, не обращая на него внимания, продолжали обсуждать между собой события на ринге.
День был солнечный. Пахло травой, цветами. Над кустами акации жужжали пчелы. За городком, где была видна излучина речки, висело голубоватое марево. «Хорошо тут», — подумал Карпов и вспомнил свой дом рядом с заводом, на котором работал слесарем, закопченную под облаками трубу, порадовался тому, что все у него начинается здорово. К нему подошел незнакомый солдат и с упреком сказал:
— Мог бы и не бить. Сержант есть сержант. Он командир!
И Карпов, посмотрев на него, вдруг подумал, что, наверное, надо бы действительно проиграть бой.. Каким теперь смотреть глазами на командира?
— О чем спор, молодежь? Где ваш чемпион, показывайте, — как бы между прочим сказал появившийся на веранде рослый солдат. По всему было видно, что служит он не первый год. Обмундирование на нем, хотя побывало уже в стирке, выглажено, ремень с царапинами у бляхи сидел ниже положенного, выгоревшая пилотка сползла на рыжеватую бровь, брюки каким-то образом были натянуты так, что стрелка убегала прямо в голенища сапог. Так что все на нем сидело как-то по-своему, на свой манер, вроде бы с шиком, и это отметили сразу новички, которые смотрели на него с уважением и нескрываемой завистью.
Карпов сделал шаг вперед, руки вытянул, как в строю по команде «смирно».
— Ах, вот он. Лисин я, — и Лисин протянул руку. — Держи, от нас, ото всех старичков. Молодец. — Он повернулся ко всем солдатам. — Учитесь, чемпиона не испугался. Шишмарев чей командир?
— Мой, — ответил Карпов.
— Что ты говоришь! — удивился Лисин. — Мы с тобой, значит, родня. Был мой, теперь твой. Ну, что ж, в таком случае у нас с тобой разговор особый, — и он взял Карпова под руку, повел его в сторону, солдаты перед ними расступились, а Лисин говорил. — Мое собственное дело, уж коль так получилось, предупредить тебя, посоветовать. Приготовься теперь ко всему. Шишмарев не прощает, если кто-то ему хоть раз перебежал дорожку. Есть, есть такие люди. Любят, чтоб перед ними шапку ломили, власть любят. Год ты, скажем, прослужил, два, для него все равно. Всех под одну гребенку стрижет. Ну да шут с ним. Он по себе, а мы по себе. И ты особенно-то не расстраивайся. Присягу примете и кто куда. Шишмарев в дивизион, ты в другой. Так что не горюй, не вешай носа. Спорт есть спорт. Как звать?
— Николай.
— Ты меня понял, Николай? Пилотка твоя какого размера?
— Пятьдесят восьмого.
Лисин, не дожидаясь согласия Карпова, снял его пилотку, померил.
— Моя, видишь, на седьмой срок пошла. В увольнение пойти, и не в чем.
Карпов был польщен вниманием старослужащего солдата и благодарил его в душе за то, что он не посчитался, пришел сюда и предупредил, как надо вести себя дальше. Он готов был Лисину уступить пилотку, ремень, все, что угодно, потому что сам он, новичок, одет с иголочки, а Лисин прослужил столько, но выглядел хуже его.
— Бери, — сказал Карпов.
— Чудак ты, — ответил Лисин. — Простачок. Мы потом договоримся, ты все равно через годик себе достанешь, — сказал он полушепотом, приблизившись к Карпову и приложив к губам палец. Его глаза на миг прояснились, заулыбались.
Сержант Шишмарев стоял перед зеркалом и, глядя на синее пятно под глазом, качал головой и над собой посмеивался. Затем он достал зубной порошок, свернул из ваты тампон и принялся пудрить под глазом и у носа ушибленное место. А когда постучали в дверь, торопливо сунул в стол и порошок, и вату. Вошел командир взвода лейтенант Пантелеев и улыбнулся.
— Сознайтесь, здорово он дерется?
— Еще бы, у него школа, товарищ лейтенант. Надо бы, знаете, в наш взвод его взять. Образование среднее, работал на заводе слесарем, да и рост, смотрите, для первого номера. Цены ему не будет.
— За ним уже началась погоня. С КП спрашивали. Надо бы, конечно. В этом призыве стартовиков подобрать трудно: грамотные ребята, а ростом не удались.
— И все же попробуйте, товарищ лейтенант. Попросите капитана Марченко. Он списки составлять будет.
— Не знаю, не знаю. Поживем, увидим. Старшине передайте — завтра кросс.
Оставшись один, Шишмарев вновь достал порошок, но, глянув на себя в зеркало, с досадой хлопнул ящиком стола. «Тоже мне девочка. Застыдился». И перестал о синяке думать. Его занимал сам Карпов. Теперь на занятиях он все ближе и ближе к нему присматривался. Спрашивал больше, чем с других, ставил, туда, где труднее и убеждался, что Карпову все по плечу. Все-то у него горит в руках, работы не боится, настойчив и умен. Шишмарев находил в нем поддержку, рассчитывал на нее и в будущем. Он уже строил планы и видел Карпова в роли тренера боксеров дивизиона, комсгрупоргом взвода. Он не хотел с ним расставаться, искал сближения.
Однажды после занятий солдаты чистили и смазывали учебные карабины. Карпов стоял у окна и что-то мурлыкал себе под нос. Шишмарев подошел к нему, взял в руки затвор, осмотрел со всех сторон, сказал:
— Сдадите карабин, зайдите в канцелярию. Разговор есть.
Однако Карпов не сразу решился зайти к сержанту. Его охватило волнение, он пытался, но никак не мог понять причину этого вызова. Перебирал в памяти все, что было в эти дни, и не мог понять, за что бы можно было вот так, ни с того ни с сего попасть в канцелярию. И тут он вспомнил Лисина. «Ах, вот в чем дело. Он прав. Шишмарев начинает мстить!» — промелькнула у него настораживающая мысль. Карпов стал вспоминать то одно событие, то другое. Все это были мелочи, но и мелочи теперь получали уже другую окраску. И в канцелярию Николай вошел, готовый к придиркам сержанта, но с чувством своей правоты и собственного достоинства.
Шишмарев стоял перед шкафом и листал какую-то книжку. Увидев Карпова, он тотчас же положил ее, предложил Николаю сесть и сам сел на стул против него.
В форме он не казался таким мощным, как на ринге. Лицо у него было приятное. Густые волосы зачесаны набок, слегка курчавились, в карих глазах бегали смешинки. Под бровью до сих пор держалась синяя тень.
— Как думаете, еще с неделю ваша заметка под глазом продержится? — спросил он шутя, лишь бы с чего-то начать разговор, но Карпов вопрос этот расценил как хитрый ход сержанта, как напоминание того, о чем он должен был молчать, хотя бы из уважения к противнику. И тут Карпов встал.
— Извините, товарищ сержант. Я не хотел… я не буду с вами больше драться.
Сержант Шишмарев не рассчитывал на это. В словах Карпова он почувствовал унижение. Как и тогда на ринге, он, казалось, ощутил сильный удар, только теперь было больнее и обиднее, у него даже загорелось лицо.
— Вы что же, Карпов, и за противника меня не считаете? Это уже обидно, честное слово. А я был о вас другого мнения.
Карпов понял, что сказал не то и смутился.
— У вас школа, вы, наверное, работали с тренером. А я, представьте, только тут, в армии, надел перчатки. И никаких тренеров. И то, что вы сказали, не делает вам, как спортсмену, чести. Все, вы свободны.
Сержант Шишмарев отодвинул стул, отошел к окну. Однако Карпов не решался выходить. Он теперь не знал, что делать. Ведь не хотел и не думал оскорблять человека.
— Товарищ сержант, честное слово, я не хотел вас обидеть. Я, поверьте, ничего не могу понять. Тут какое-то недоразумение. Я думал, что вы меня преследуете. Был какой-то Лисин, он говорил…
— Лисин? Когда?
— В тот же день.
— Ясно. Ему лишь бы ущипнуть. И вы его послушали? А впрочем, я даже рад, все прояснилось. Поговорим лучше о деле.
Настроение сержанта изменилось, и он начал делиться с Карповым своими планами на будущее.
— Дивизион наш отличный, люди хорошие. Вы, честное слово, не будете сожалеть.
— Я, товарищ сержант, не ищу, где лучше. Куда пошлют, там и служить буду.
— Конечно, конечно, но мне бы хотелось с вами поработать. И других бы втянули. Но не буду загадывать. У меня примета такая, что загадаю — обязательно не сбудется. Так что идемте, будем ждать решения.
В дивизион новичков привезли под вечер. В их честь всех построили и каждого, кто приехал, представили, затем сам командир повел показывать технику. Солдаты обошли кабины, были на командном пункте, в дизельной.
— А теперь, — сказал подполковник, — пойдем смотреть главное.
Обогнув поросшую травой насыпь, солдаты прошли по усыпанной гравием дороге и внезапно оказались перед ракетой. Она лежала на пусковой установке под зеленой маскировочной сеткой, нос ее, острый и длинный, был приподнят и смотрел в голубое небо. Она, казалось, слышала, как вошли и остановились люди, понимала, что о ней говорит подполковник. Офицер рассказывал молодым солдатам о назначении ракеты, привел ее характеристики и разрешил всем подойти поближе. Карпов не удержался и стал трогать крылья рукой. Руки Карпова, привыкшие к деталям, гладили ее белое, холодное тело.
Лисин, оказавшийся рядом, с иронией заметил.
— Ты что, влюбился? — и тут же засмеялся.
Были они в одном расчете, спали рядом, и тумбочка у них была одна на двоих. Лисин на своей полке держал стопку чистых в клеточку тетрадей, да старый с потрепанной обложкой детектив. Других книжек он не читал.
— В наш век, — говорил Лисин, — надо иметь глаза и уши. А остальное по телевизору покажут. А ты, вижу, Карпов, умнее других стать хочешь. Натаскал романов. Хотя, конечно, ты не дурак. К сержанту пристроился. Тренером заделался.
— Ну и что, и ты можешь заниматься боксом.
— Нет уж, уволь. Слышал, уже в увольнение записался? Нас, старичков, не пускают, а молодежь… Придется тебя воспитывать.
Но что он хотел сказать этим, Карпов так и не понял. Правда, на душе остался неприятный осадок, даже в увольнении Николай не мог забыть этот разговор. Двое солдат, уволенные с ним вместе, сразу куда-то ушли, а он, оставшись один, шел по улице с явным ко всему безразличием. Почти что у каждого дома стояли перед окнами яблони, росли кусты сирени, над заборами висели красные вишни. Карпов увидел речку и обрадовался. Тут можно было побыть, наконец, одному. Он шел вдоль берега, смотрел, как купались люди, и вспоминал о доме. Представлял отца в своей клетчатой рубахе и с очками на кончике носа. Он примостился с напильником у тисков, а мать трясет во дворе половики. Мать то и дело спрашивает его о чем-нибудь. Старик сердится. Он не любит, когда говорят ему под руку. Вспомнил о Василии. Почему-то не пишет. Обрадовался — квартиру получил. Борис, может, и не знает, что я в армии. Болтается братуха где-нибудь в океане. Рыбак…
К вечеру, когда от домов и деревьев легли длинные тени, опустела речка. Карпов вышел в центр поселка к клубу. Около него собирались ребята, ходили парочками девчонки. В открытую дверь было видно, как на сцене настраивали инструменты музыканты.
— Ты чего один стоишь? — подошел и спросил Карпова солдат. — Хочешь познакомлю?
— Спасибо, не думал об этом. Здесь, говорят, есть музей?
— Сегодня туда идти поздно. Музей ничего. Для такого поселка просто здорово. А может, пойдем вместе? — он взглядом показал на солдата, идущего с тремя девушками. — Как раз лишняя. Хорошая девушка.
— Меня есть кому ждать, — сознался Карпов.
— Любовь?.. Сдаюсь, сдаюсь.
Карпов сидел на скамейке и смотрел на все, что происходило вокруг. Но тут прямо на него выскочил из темноты Лисин. Он вдруг попятился назад, его лицо вытянулось и наконец испуг сменила подобострастная, заискивающая улыбка. Лисин как-то боком подошел к Николаю, взял его под руку, торопливо заговорил:
— Ты вот что, на меня не сердись, человек я, понимаешь, горяч. Наговорю, наговорю, а потом сам страдаю. К чему я тогда разговор про книжки затеял и сам не пойму. Читай ты все что хочешь! Конечно, меня задело другое, я тебе желал добра, помнишь, тогда на веранде насчет Шишмарева? Но ты, вижу, этого не оценил и меня не понял. Да и ладно. Но в другом мы должны понять друг друга, как солдат солдата. Чего тут говорить, на одной кровати, можно сказать, спим. Правда же?
— Конечно, — пожал плечами Карпов.
— А теперь ты посуди по себе, служишь тут каких-нибудь два-три месяца, а уже потянуло в клуб…
Карпов хотел возразить и объяснить ему, что пошел он в увольнение ради того, что хотелось посмотреть, как тут люди живут, что есть интересного в этих краях. Но Лисин перебил его.
— Понимаю, понимаю. Кому только не хочется хотя бы одним глазком посмотреть на людей, на всю эту жизнь… Обидно, одни танцуют, веселятся, а тут Шишмареву не угодил, и вот… Не хочу даже говорить об этом. Хочешь, пойдем вместе. Тут рядом общежитие…
— Ты в самоволке? — спросил Карпов.
— Это не столь важно. Но уговор: ты не видел меня, я не встречал тебя. В общем, рассчитываю на твою порядочность. Все. Лечу.
Выгоревшая гимнастерка Лисина скрылась в кустах, а Николай, оставшись один, не знал, что делать. Он чувствовал свою причастность к чему-то дурному и нехорошему, будто бы его обвели вокруг пальца и выставили за дверь чужого дома.
«Лисин, конечно же, в самоволке, — подумал Николай. — С ним никто меня не видел. Но почему я должен молчать? Почему должен идти против своей совести? Как же так, я присягал, давал слово… И не остановил Лисина…»
Николай хорошо присмотрелся к темноте и видел все, что происходило рядом, у клуба. Вот дружинники вывели под руки какого-то парня, подскочил прямо к веранде мотоцикл, кто-то из военных взбежал по ее ступенькам. Через минуту этот военный вновь вышел и только теперь Карпов узнал в нем сержанта Шишмарева. Подошел к нему, отдал честь.
— Что же вы здесь, не на танцах? — спросил сержант.
— Случилось что-нибудь? — в свою очередь задал вопрос Карпов.
— Лисин ушел в самоволку. Вы его не видели?
— Он только что был здесь. Пошел в какое-то общежитие.
— Так и знал. Идемте вместе.
Общежитие располагалось на краю поселка в двухэтажном кирпичном здании. Весь дом будто вымер. Лишь два угловых окна светились голубым светом. Кто-то бренчал на гитаре.
— Он здесь, — сказал Шишмарев и постучал в дверь. В квартире засуетились, смолкла гитара. Наконец открылась дверь. На пороге стояла с завитыми короткими волосами девушка. Она явно волновалась. И заговорила притворно-ласковым голосом.
— Клавочка, иди встречать гостей. Ну что же вы, проходите, проходите.
Шишмарев осмотрел девушку и в тон ей ласково сказал:
— Здравствуйте, девчата!
— Здравствуйте, здравствуйте, ну что же вы стесняетесь. Музыка у нас есть. — Девушка пыталась изобразить на своем круглом лице и радость, и почтение к гостям.
— Вот что, девушки, Лисин у вас? — спросил вдруг строго Шишмарев и повел глазами по вешалке.
— Лисин? Кто такой Лисин?
— Ну что ты в самом деле людям голову морочишь, — вышла высокая и черноглазая девушка, — Ищут его, значит, надо. Выходи! — крикнула она в другую комнату. Лисин увидел в дверях сержанта вместе с Карповым, осуждающе посмотрел на него и направился к выходу.
В обваловке, где стояла ракета, было душно, как в бане. Изредка сюда забегал горячий ветерок, поднимал на дороге бурунчики пыли, шаловливо пробегал у ног Карпова и, обессилев, затихал в горячей воронке капонира. Трава тут почти вся выгорела, а та, что осталась, высохла и шуршала под ногами, точно бумага. Ракета и пусковая установка накалились, брызни на них водой и они, наверное, зашипят.
Лисин изнывал от жары, ничего ему не хотелось делать, опускались руки, все его раздражало, выводило из себя. Он, расстегнувшись, сидел в тенечке, пытался лежать, но ничто в этой духоте ему не помогало. Тогда, чтобы хоть как-то убить время, он решил проверить все, что сделал Карпов.
Целый час до этого Карпов молчаливо, забыв обо всем, возился у пусковой установки. На лице его было такое выражение, какое бывает только у людей сосредоточенных, увлеченных работой.
Лисин осматривал установку, замечал, что лучше этой работы он никогда не видел. Карпов забирался туда, куда он сам никогда не заглядывал, а смазку он наносил как-то по-своему, тоненькой кисточкой, точно писал легкий весенний пейзаж. И все же в одном месте Лисин заметил недостаток, посмотрел на Карпова и подозвал его к себе пальцем. Николай с банкой и тонкой заструганной палочкой в руке подошел к Лисину.
— Это ты видишь? — спросил Лисин и тут же ковырнул пальцем смазку. — В инструкции как сказано?
— Читал, знаю… металл горячий, получаются подтеки.
— Ты мне брось голову морочить. Вот тут, где нужно, тебя нету. Работать нужно, понял. Это тебе не самовольщиков искать! — повернувшись спиной к Карпову, сказал Лисин, но сказал так, будто бы последние слова не относились к делу.
— Я никого не искал, — ответил Карпов. — Ты виноват сам. Об этом тебе сказали и на комсомольском собрании.
— Для тебя, вижу, не существует солдатской дружбы…
— Это как ее понимать.
— А вот так и понимай!
— Вот что, Лисин, думал я, у тебя есть совесть. А выходит… На вот банку, концы, становись и работай.
Лисин от удивления округлил глаза, что ты, мол, парень, с луны свалился. Ты думаешь, кому это говоришь! И он рассмеялся, даже схватился за живот, присел на траву.
— Да ты что?
— Что же ты… что же ты, Карпов, если не подчинюсь тебе, не возьмусь за банку, опять побежишь к сержанту? — спрашивал Лисин сквозь смех, вытирая глаза платком, будто у него действительно были слезы.
— Да! Доложу сержанту. Честное комсомольское. На бюро вместе пойдем, — говорил Карпов в тон ему, ставя перед Лисиным банку со смазкой. Тот вскочил, но тут же за капониром услышал чьи-то голоса и смех, блеснул на Карпова глазами и направился к установке.
В капонир вошли сержант Шишмарев, рядовой Балябин и редактор сатирической газеты «Шприц», широкоскулый, с вечной улыбкой на лице рядовой Абдурахманов. Все «прожектористы».
— Так, хвалитесь, что вы тут сделали, — сказал сержант Шишмарев. — А впрочем, сами проверим.
Регламентные работы на установке были оценены на «хорошо». Абдурахманов, глядя на Лисина, спросил:
— А «Шприц», видать, помог тебе, Лисин, а?
— Помог, помог, видишь, цвету. Меня теперь даже салажата воспитывают, — шепнул он на ухо Абдурахманову и засмеялся.
Сержант Шишмарев напомнил Карпову, что сегодня тренировка.
— Грушу надо бы сделать, товарищ сержант.
— Коль надо, сделаем. Пошли дальше, товарищи.
А вечером, раздетые до пояса, в спортивных трико Карпов и Шишмарев за хозяйственным складом старательно набивали тряпками, старой ватой и клоками сена боксерскую грушу. Карпов держал за края сшитый из брезента мешок, Шишмарев запускал в него до самого плеча руку, трамбовал содержимое этого мешка широким кулаком.
— Все это блажь, — говорил он. — Год прослужил, и уже «старичок». А между тем старикомания не такая уж безобидная штука. Прошлый год двоих пришлось на бюро разбирать.
— Я не пойму, что людям надо, — сказал Карпов. — Прослужил больше, ну и гордись. Батя мой на заводе сорок лет отработал. И честь ему, и уважение. Директор идет с Семенычем за руку, посоветуется.
Шишмарев встал, взял в руки мешок и несколько раз, подняв его, опустил на землю, помял коленом и сел на траву, вытянув ноги.
— Я первое время тоже по заводу скучал. А теперь рапорт на прапорщика подал, — сказал сержант. — Вот так-то… Еду учиться.
У Карпова чуть ли не вырвалось: «Значит, на сверхсрочную, товарищ сержант? А как же мы здесь?»…
Они привязали веревку, взяли грушу и подвесили ее рядом с кольцами на высокой пирамиде. Тут же нашлись охотники и принялись молотить грушу кулаками. Карпов остановил их, велел всем раздеться до пояса и бежать за ним следом.
На почерневшем кресте старой церкви сидела ворона и с любопытством смотрела туда, где на свалке дрались воробьи и лениво прохаживались голуби. Было туманно, безлюдно, в лужах лежали первые опавшие листья. Вдалеке тревожно и прощально вскрикнул гудок паровоза. За кустами тихо заржала лошадь. Над головой просвистели крылья пролетающих птиц.
Карпов не мог смириться с тем, что с ним нет рядом Шишмарева. Не будет его сегодня, завтра, может, год и больше. А может, они никогда не встретятся. Николай держал в руках его подарок — книгу и грустно улыбался. «Был Шишмарев и нету, — думал он. — Забудет. Казалось бы, не дружили. Хороших людей всегда жалко. И все же хватит сидеть. Здесь был где-то музей».
Карпов без труда разыскал небольшое кирпичное здание, вошел в тихие прохладные залы. Здесь в стеклянных шкафах стояла фаянсовая и хрустальная посуда, были собраны ржавые мечи, пики, шлемы, кольчуги, в другом зале — косы, бороны, лежал кнут, которым барин порол непослушных крестьян, кандальные цепи. Людей в музее было мало, они ходили тихо о чем-то перешептывались, с фотоаппаратами, в беретах, должно быть, туристы.
Карпов остановился у стенда, где под стеклом лежал автомат ППШ с разбитым прикладом, рядом с ним комсомольский билет. Карпов посмотрел на фотокарточку и встретился глазами с молоденьким пареньком, он в застегнутой на все пуговицы ситцевой рубашке, волосы у него были, видно, непослушные, растрепанные.
— Ваня мой, — услышал Николай сзади чей-то голос и повернул голову. С ним рядом в черном платке стояла пожилая женщина. Склонив голову набок, она печально и грустно смотрела на сына. Ее мягкое в морщинах лицо, брови и руки мелко дрожали. Она, сдерживая слезы, смотрела на сына и о чем-то, так казалось Карпову, разговаривала с ним.
— Ты-то, сынок, давно служишь? — снова повернулась она к Николаю.
— Нет, совсем мало.
— Мало — не беда, лишь бы служил хорошо, — сказала женщина.
Больше Карпов от нее ничего не услышал, он вышел из музея и зашагал по тропинке к дороге. У моста через речку остановился. По реке плавали лодки, на одной из них кто-то включил транзистор и над тихими туманными берегами разлилась музыка.
Неожиданно Карпов увидел Лисина.
Он шел с двумя солдатами, что-то им рассказывал и обращался то к одному, то к другому. Солдат этих Карпов не встречал раньше. Лисин, увидев Карпова, приостановился, но тут же опередил своих дружков и подошел к нему.
— Напарничек-то твой уехал. Перед кем выслуживаться будешь?
— Конечно же, не перед тобой.
— А ты не храбрись…
Карпов с улыбкой посмотрел на Лисина, потом на его товарищей. Они были такие же, как и он, рослые. Один, который стоял справа, был блондин с совершенно безбровым лицом. Другой смотрел на Карпова с нескрываемым любопытством и не спешил вмешиваться в разговор. Карпов подошел к Лисину.
— Жалкий ты человек, Лисин. Мне стыдно за тебя. — И вдруг повернувшись к стоявшему за спиной солдату, резко спросил: — А ты не с Урала будешь?
— Нет. Из-под Минска я.
— Земляки, значит. — Сказал он и подумав: — Там мой батя партизанил. — И, не сказав больше ни слова, медленно зашагал от них в сторону городка.
ВТОРЖЕНИЕ
Майор Шамиков вошел в нашу жизнь как-то сразу. Уже в первые дни после прихода в подразделение он удивил всех своим поступком. А было так.
В воскресенье в плавательном бассейне шли соревнования. Одного пловца в нашей команде не хватало. Солдат Волков, руководитель команды, то и дело подбегал к политработнику:
— Снимут нас, товарищ майор.
Окинув взглядом столпившихся болельщиков, Шамиков попытался разыскать среди них своих офицеров, но никого не увидел. Судья вторично вызывал пловцов. И вот тогда майор не выдержал, поднял руку.
— Я плыву. Минутку! — отозвался он.
Болельщики с удивлением переглянулись, а майор — наш новый заместитель командира по политчасти — начал торопливо раздеваться. Откровенно говоря, многим тогда было не по себе — в подразделении нас, молодых офицеров, немало, а на плавание никто не вышел.
После этого случая политработник стал нас тормошить, подбадривать. А мы ему высказывали то, что нас беспокоило. Разве это дело, что за последние два года подразделение растеряло кубки, призовые места, что о спорте мало кто думает, а о молодых офицерах будто бы забыли вовсе?
— Что было, то прошло, — в раздумье ответил Гиса Ажакович Шамиков, — давайте начинать все сначала. Только дружно. В следующий выходной проведем спортивный утренник.
— А получится? — спросил кто-то с сомнением.
— Получится.
— Спорткомитет на то есть, с него и спросим.
Работу майор Шамиков повел по-новому. На заседании партийного бюро как-то он предложил план лекций по искусству, литературе, достижениям техники.
— А кто читать будет? Где взять специалистов?
— У нас они есть, — ответил майор. — Удивляетесь? Напрасно. Коммунист Лемаев учился в художественном училище. Любит живопись, посещает выставки. Для лекций на технические темы инженеры найдутся. Да и техники многие в академиях учатся заочно.
Так у нас появились свои лекторы. На один час в неделю мы собирались в спецклассе и спорили об искусстве. Сначала это было непривычно: макеты ракет, радиотехнические схемы, в рамках алгебраические формулы, кривые синусоид и тут же репродукции шедевров мировой культуры. Начали с Репина. Мы встречались с задумчивым взглядом вернувшегося в свою семью изможденного арестанта. Нас поражал человек, отказавшийся от исповеди. Мы каждый раз уносили отсюда что-то новое.
Потом мы выезжали в театр, опять же по инициативе заместителя командира по политчасти, провели свой «Огонек». Все будто ожили, потянулись к новому человеку.
И все же то, о чем я хочу рассказать дальше, было неожиданностью. Когда точно это началось, пожалуй, никто не заметил. Новый политработник стал ходить на занятия почти что ежедневно. На время он, казалось, отложил все другие свои дела в сторону и взялся за изучение сложного и многообразного процесса обслуживания техники. И не случайно. В качестве организации этой работы мы хромали на обе ноги. Каждый месяц с трудом выполняли задания.
Сказать, что мы примирились со всем этим, опустили руки, было нельзя. Наоборот, не раз обсуждали ход регламентных работ на партийном собрании, на заседании бюро заслушивали коммунистов-специалистов. Но дело, получив толчок, постепенно почему-то вновь хирело.
Однако учения проходили успешно. Солдаты и офицеры работали дружно, расчеты показывали безупречную слаженность, перевыполняли задания.
— Вот бы, — говорили мы, — работать каждый день с огоньком, без заторов.
Но так не получалось. То у нас в расчетах не хватало людей, то диспетчеры напутали в графике, то не вовремя приходили тягачи. Время шло, а этим будто бы зависящим и не зависящим от нас причинам не было конца и края.
Майор Шамиков присматривался ко всему долго, советовался со своим командиром, интересовался мнением коммунистов. И слышал одно: так дальше, без душевного огонька, энтузиазма работать нельзя. Все чаще речь об этом заходила на заседании партийного бюро. Гиса Ажакович припирал молодых специалистов доводами:
— Прежде чем ссылаться на других, давайте разберемся у себя. Поднимем свои резервы. А они у нас есть. Если, скажем, не хватает одного номера в каком-то расчете, то почему бы не перебросить с другого? У нас специалисты широкого профиля, если не все, то большинство. И к тому же вы забыли о составлении графиков, взаимозаменяемости.
— А что планы? Лишь бы написать? — отозвался офицер Бондарев.
— Бумага все вытерпит, — поддержали его другие.
Однако майор стоял на своем. Он знал, что работа вслепую, не продуманная заранее, приводит не только к задержкам, но и к срыву.
Недостатки в работе Гиса Ажакович теперь видел как на ладони. Многие из них можно бы устранить, но как быть с теми, которые тянутся корнями к людям других подразделений — к шоферам, например, на диспетчерский пункт?
Ночью объявили учение. Прошло оно обычно, и потому, видно, многие офицеры были в то утро спокойны. Не ожидали, что в дверь постучится посыльный, что придется краснеть перед командиром и отвечать за ночную работу.
Собравшиеся заняли места на диване и на стульях у окон. Командир сообщил всем, что разбор учений проведет майор Шамиков.
Некоторые офицеры переглянулись между собой с недоумением.
Майор вздумал их учить работе с техникой? Будто бы они не разбираются сами. Да нет, надо же! Он, кажется, перепутал свои обязанности? Ну что ж, посмотрим, чем он будет потчевать? Это даже интересно.
Шамиков спокойно встал, отложил в сторону прозрачный карандаш с плавающей в нем рыбкой и начал:
— Мы вчера провели очередное учение. Что оно показало?
И вот то, что оно показало, он выразил в процентах. И сделал вывод:
— Если рассчитывать на будущее, то мы должны с каждым учением повышать боевую готовность. Для этого все подразделения должны работать по единому плану.
Офицеры оставались пока безучастными к его словам: то, что говорил он, не было открытием.
Майор подошел к графику. Начал спокойно, обстоятельно:
— Квадратами я обозначил расчеты, они все участвуют в боевой работе. Под номером один — штаб, наш мозг. Он думает, планирует, от него зависит весь ход работы. Если ошиблись в штабе, то ошибаются все. Под номером два — водители, наши ноги и руки. Они подают технику, они обеспечивают ее вывоз. Кто, как не они, должны получать задание от штаба и заранее планировать свою работу? Расчет КИС я определяю сердцем. Но без тесного взаимодействия друг с другом мы жить не можем. И вот я считаю нужным остановиться на ошибках каждого расчета…
Кое-кто недовольно заворочался на месте, послышалось редкое покашливание: началось самое неприятное. Каждый теперь прикидывал в уме свои просчеты, отыскивал ошибки. Кто знает, за что придется держать ответ?
Уже после первых замечаний майора командир поднял капитана Бондарева, и тот, краснея, стал отчитываться за свои упущения. Надо было отвечать прямо: почему, скажем, расчет приступил к работе, не имея необходимых инструментов? Что скажете вы, товарищ Тарасов? Кто за это будет спрашивать, может, комиссию ждете?
И клубок постепенно разматывался; там, где натыкались на камень, сдвигали его, шли за ниткой.
Офицеры теперь вставали один за другим, отчитывались; на майора посматривали искоса. Иные не хотели сдаваться сразу, пытались уколоть политработника необъективностью, но он спокойно выкладывал факты, а факты — вещь убедительная.
Уже на выходе из кабинета кто-то сказал:
— Ну и майор, хотя бы предупредил, а то как снег на голову.
В общем, взбаламутил он кое-кого. Мы, правда, никому не сочувствовали. Взбаламутил? Может быть, и да, но зато дела у нас пошли лучше. На первом же партийном собрании состоялся принципиальный разговор об улучшении хода регламентных работ. Коммунисты потом с большим одобрением говорили о заместителе командира по политчасти:
— Не отступил, не побоялся трудностей.
А майор Шамиков по-прежнему каждый раз бывал с нами на регламентах, так же, как и мы, не досыпал ночей, и возвращался под утро с покрасневшими глазами. Он видел все сам, где нужно — вмешивался, на одних напирал, к другим обращался с просьбой. Он болел душой за боевую готовность, за четкую организацию регламентных работ. Он по-партийному вторгался в нашу жизнь.
Бывали и у него ошибки, промахи, да и мы не хотели делать из него безошибочного человека. Но, имея с ним дело, мы готовы были ему помочь в любое время. А главное — он преподнес коммунистам, в особенности нам, молодым, хороший урок партийной принципиальности и непримиримости к недостаткам. Многие ведь и раньше видели их, знали свои слабости, не хуже его разбирались во всех тонкостях работы. Но никто не решался обнажить ошибки с такой прямотой и откровенностью.
ПОЧЕМУ НЕ ЗАЖГЛИСЬ ОКНА
День наступал жаркий и тихий, раскаленное солнце уже стояло над садом и начинало припекать спину. Петр выкупался, смотал ольховую удочку, достал из воды пойманного карпа и пошел домой.
За этот год многое здесь изменилось. Ему казалось, что лощины расползлись, избы стали ниже, зато новые кирпичные постройки в центре села выделялись своими высокими крышами.
Поднявшись на взгорок, Петр пересек пыльную дорогу, и, войдя в прохладные сени, отдал матери карпа, а сам пошел в дом.
Вскоре пришла Дарья Петровна, высокая худая женщина лет сорока восьми, с большими сильными руками. Подойдя к Петру, она молча поцеловала его чуть дрогнувшими губами.
— Садись, свашенька, гостюшкой будешь, чайком угощу, — сказала мать.
Дарья Петровна села против Петра, а мать стала накрывать на стол.
— Спасибо, сваха, да я ведь не чай пить пришла, — ответила Дарья Петровна. — Как там мой Васятка живет, служит? Что же это он не приехал. Может, что напроказничал, так ты уж расскажи без утайки.
— Да нет, ничего у него. Я в другом подразделении служил… Вот и приехал…
Дарья Петровна сидела недолго, но за это время успела расспросить обо всем: как их кормят и как они спят, как живут и чему их обучают, если не секрет. Не настаивала только она, чтобы Петр рассказывал про сына, больше всего она боялась услышать о нем что-нибудь плохое.
— Спасибо за все, извиняюсь. Чужой радости не нарадуешься. Ты уж приходи ко мне, посмотри, как живу, — пригласила она Петра на прощание.
Служить в армию Петра Грушицкого, рослого худощавого парня, призвали вместе с Василием Воронюком. Их направили в одну часть.
Воронюк, сын Дарьи Петровны, был сначала зачислен номером расчета. Но это длилось недолго: у него появилась какая-то болезнь и его перевели в хозяйственное подразделение. Там он выдал себя за плотника, потом устроился штукатуром.
Петр встречал Воронюка редко, но зато каждый раз находил в нем перемены: низкорослый, узкоплечий Васька Воронюк становился пухлым и краснощеким, грузнел и раздавался во все стороны.
— А ты, земляк, худеешь, — шутливо замечал Петр.
— Уметь надо, — улыбался тот, показывая мелкие зубы.
Они расходились чужими, будто между ними не было того, что так часто объединяет солдат-земляков.
Ефрейтор Грушицкий работал в ремонтной мастерской. В ту зиму морозы стояли крепкие, по всему лесу будто бы шла стрельба: трещали деревья, и даже звезды в ночной синеве, казалось, разбрасывали искры.
Больше всего боялись в это время аварий в котельной. Ведь тогда вышла бы из строя вся система отопления, трубы могли лопнуть.
И вот однажды, в конце февраля, Петр был в это время в клубе и танцевал с бойкой черноглазой телефонисткой, его вызвали.
Вся смена собралась у погашенной топки. На одном котле тянуть долго нельзя, рискованно: в случае его аварии промерзнет и выйдет из строя теплотрасса.
Петр подошел к открытой тяжелой дверке, похожей на люк, и, сунув руку вовнутрь, недовольно поморщился.
— Хватает, нелегко придется.
— Колосники слишком далеко, почти что в зоне догорания, на четвереньках надо добираться, — заметил Куликов, скуластый, чуть рябоватый солдат, лучший слесарь ремонтной бригады.
— Что же делать, товарищ ефрейтор, ждать пока остынет топка?
— Да вы что, на улице тридцать градусов, а он — ждать? На это часов восемь надо, а то и больше, — горячо возразил Петр.
Об аварии узнали в городке, и понеслись телефонные звонки, люди спрашивали, просили, требовали тепла.
Петр собрал свою смену и приказал готовить колосники, противогаз и сырые доски.
— Я полезу первым, Куликов сменит. Рядовой Ванин будет стоять наготове, в случае чего. Ясно?
Петр Грушицкий надел противогаз, старую прогоревшую телогрейку, набросал в топку досок и полез через люк.
Сухой раскаленный воздух сразу охватил его. Резина быстро накалилась и обожгла щеки. Он не выдержал — сорвал противогаз. Через каждую минуту он высовывал в люк голову и жадно глотал воздух. Лицо заливало потом. Первый колосник засел так, что Петр долго не мог его вытянуть. Кто-то, заглянув в топку, прокричал:
— Бросайте, чего там! Ждать будем.
Петр понимал, что бросить нельзя, нужно торопиться. И, подавая в люк колосник, прокричал:
— Вытаскивайте.
Солдаты приняли колосник, а затем подхватили под мышки Грушицкого.
Придя в санчасть на перевязку, Петр заглянул в стационар. Навстречу по узкому коридору торопливо шел Василий Воронюк. Он переваливался с ноги на ногу и что-то напевал.
— А, земляк припожаловал! — воскликнул он.
— Ты-то как сюда попал? — удивился Петр.
— Уметь надо! В руках, говорю, ревматизм, — так они меня из штукатуров к себе приблизили. На побегушках тут, вроде сбоку припека. Не за освобожденьицем ли пришел? — спросил Воронюк, хитро скосив глаза, и улыбнулся. Две складки подрезали его пухлые щеки. Петр коротко бросил:
— Нет, не за «освобожденьицем».
С тех пор они не встречались, лишь издали Петр видел, как Воронюк часто по вечерам важно сидел на скамейке возле санчасти и самодовольно улыбался. Он, видно, считал себя счастливым.
По дороге к Дарье Петровне Грушицкий вспомнил про это и не знал, как ему поступить: опять, как в прошлый раз, врать, бояться сказать лишнее слово или же раскрыть перед ней всю правду.
Дарья Петровна была во дворе, оттуда доносились редкие и слабые удары топора.
— А, это ты пришел, — увидев его, сказала она, тяжело разгибая спину. — Умаялась я, Петя. Наколоть не наколола, а пот градом. Что ж это я стою, гостя ведь речами не кормят.
— Спасибо, Дарья Петровна, разрешите мне топор.
— Еще что ты надумал, да нечто у меня руки отсохли. Не смотри, что пальцы скрючились, я привыкла. Васятка у меня никогда полена не расколол: все сама.
— Вот и плохо, Дарья Петровна, только топор дайте.
Петр снял тужурку и принялся колоть нарезанные чурки. Дарья Петровна ушла в избу. Вскоре она все же настояла на своем и усадила его за стол перед сковородой с яичницей.
— Садись и не обижай, чем богата, тем и рада. Ты у меня вроде за сыночка посидишь, — губы Дарьи Петровны задрожали и она спрятала их в конец платка. — Третий месяц, как не пишет. Что с ним и почему? Хоть бы словечко. Рос он у меня один, все я его поваживала. Что, бывало, захочет, то для него и было. Вырос он — тут я и спохватилась: какой-то не такой сын стал — и на работу его гоню, и учиться посылаю, а он заартачился — и ни в какую. Одна надежда у меня была, пойдет в армию — опомнится, к труду его приучат. Женщина я, Петр, неграмотная, сама бы начальникам об этом написала, да я не могу. К людям идти стыдно. Так ты уж приедешь и скажи, кто там над Васяткой командует, так, мол, и так, мать просит, чтоб помогли. Боюсь шалопаем вырастет.
Петр понимал беспокойство матери и был удивлен тем, что она, ничего не зная о службе своего сына, так верно угадала неладное. Растет же Васька шалопаем, скрывается за спины товарищей, выдумывает болезни и хитрит. Но рассказать Дарье Петровне всю правду он все же не решился: уж очень не хотелось наносить новую боль огорченной матери.
— Ну что вы, Дарья Петровна, — возразил он.
— Ох, Петя, чует мое сердце, не доглядела за ним, уж больно он хитрый. Мне вот стыдно признаться, да что сделаешь. А это вот гостинцы ему повези. — Она достала из стола зашитый маленький мешочек, вроде посылки, и когда вышли за калитку, подала ему. — Мать, скажи, жива, здорова, пусть не беспокоится.
Они встретились взглядами, и Петр виновато опустил глаза. Да, он был виноват, виноват потому, что молчал, хотя видел проделки Воронюка, знал его мысли.
«Эх, Васька, Васька, все равно не проживешь боком — не удастся. Только вот Дарью Петровну жаль», — думал он, возвращаясь домой.
Словно по команде, осветилась деревня, — зажглись окна. Яркий электрический свет разбил темноту, улица ожила, повеселела. Оглянувшись, Петр сразу не мог найти знакомой избы Воронюка, и только потом понял, что в этот вечер она смотрела ему вслед темными, опечаленными окнами.
НЕ ИЗМЕНИТЬ СЕБЕ
Часы показывали за полночь. Настольная лампа освещала чертежи. Осталось совсем немного, и можно вздохнуть облегченно: все, диплом закончен, кричи «Ура!» и готовься к защите. Но работа не клеилась. Сергей Иванович задумывался, отгонял одну и ту же набегавшую мысль, спрашивал себя:
«А что дальше? Инженером будешь? Значит, прощай прежняя должность. Замполитом остаться? Диплом инженера зачем?»
Ни то, ни другое он не мог вычеркнуть из своей жизни. Вспоминались ночное бдение у чертежей, зачеты, сессии. Вспоминались люди, события, радости и огорчения, все то, чему учился он, за что боролся, чего хотел все эти десять лет работы заместителем командира по политической части.
…Николай Александрович Нагибин, инженер по образованию, практик, специалист и командир вверенного ему хозяйства, каждой клеткой души чувствовал, где и что нужно сделать. Боевая готовность для него была прежде всего — суть службы, а значит, и смысл жизни. Техника, может, потому порой и заслоняла другое. Людей, партийную работу с ними. И тут пришел заместителем по политической части капитан Малышев. Тот самый Малышев, который несколько лет назад был в его подчинении техником. В ту пору Николай Александрович частенько отмечал его лучшие качества — требовательность, настойчивость. Знал и характер. Прямо надо сказать — непокладистый. Но не упрекал Нагибин, не корил за это: Малышев показывал тогда другим, как надо ценить технику, не жалея сил, содержал ее в боевой готовности. Да, этому офицеру он помог добиться разрешения учиться заочно в академии, но с сожалением отпустил на комсомольскую работу в соседнее подразделение.
Прошли годы, и вот они вновь встретились. Он — командир подразделения, Малышев — политработник.
— Николай Александрович, за что болеете вы, болею и я. У нас одна цель — боевая готовность. Но почему при всем этом мы должны забывать о политической работе с людьми? — говорил Малышев. — Сегодня политинформацию не провели, на той неделе комсомольское собрание пришлось переносить.
— Нельзя, товарищ Малышев, объять необъятное. По стрельбам о нас судить будут.
— Согласен, но, Николай Александрович, боевую задачу выполняют прежде всего люди…
На первый взгляд казалось, что и командир и его заместитель попали в тот самый заколдованный круг, из которого нельзя было выйти без конфликта, расхождения во взглядах и мнениях. Солдаты уже спали, переговаривались за стеной дневальные, а они сидели и приходили к общему согласию.
Николай Александрович все понимал ясно и знал цену политической работе, силу ее воздействия. Но так ли твердо и решительно поведет ее Малышев, как хочет? Вот вопрос.
«Покажет делом, рад буду. А пока, что ж, посмотрим», — рассуждал подполковник Нагибин про себя с расчетливостью практика.
…Сергей Иванович прочистил рейсфедер, тонкая линия легла по карандашному следу и вновь оборвалась. Воспоминание о минувших годах теплом наполнило сердце. С Николаем Александровичем работать было интересно: какой бы вопрос ни возникал, решали вместе. В подразделениях обновили одну, потом другую Ленинскую комнату, хотя и не сразу, но все же создали в других местах уголки агитаторов, в коридорах и где только можно, вывешивали огромные, во всю стену фотомонтажи, бюллетени. Правилом стало: ведение социалистического соревнования, подсчет баллов, временных показателей по боевым нормативам и — что самое главное — исполнение каждого намеченного мероприятия.
Солдаты и офицеры уже знали точно: намечено — значит будет сделано, надо готовиться, составлять план. Офицеры теперь по выходным дням чаще приходили в подразделение, имея с собой доклад или разработанный план диспута, беседы. Жаль только — Николай Александрович уходит в запас.
Шло время. Подразделение набирало силы и по всем показателям имело шанс выйти в число отличных. А слава о здешних Ленинских комнатах уже вышла за пределы части. Политработники приезжали смотреть их, что-то писали в записные книжки, делали рисунки.
— Товарищ майор, как же так получается, — с улыбкой как-то заметил прапорщик Нарыжный. — Они у нас все перерисуют и лучше сделают. А мы, что ж, в хвосте останемся?
— Не останемся, Владимир Ионович. Придумаем новое. Вы же первый начнете что-нибудь предлагать.
Знал Сергей Иванович, что Нарыжный — человек беспокойный, полный оптимизма. Но однажды майор Малышев, увидев прапорщика, не узнал его. Он был взволнован. Политработник понял: что-то неладное.
— Владимир Ионович, что с вами? — спросил он.
Прапорщик отвернулся:
— Так, ничего, товарищ майор.
— А все же, Владимир Ионович? Что случилось?
— Жену положили в больницу. Просил у командира подразделения разрешения приходить не каждый раз, а хотя бы через день на подъем. У меня две дочки, — и губы у него дрогнули.
— Вам сейчас нужно? Идите… — Анатолий Николаевич вернется, обговорим.
Перед уходом прапорщик сказал:
— Товарищ майор, письмо тут любопытное нашел… Сам хотел разобраться, — и подал письмо.
«Здравствуй, сын, — читал Малышев. — Сообщаю тебе, что твое письмо получили и рады, что ты нас не забываешь. Вчера резали поросенка. Завтра мать пошлет тебе посылку к празднику. Положил кое-что спиртного. Будь в курсе. Твой отец».
— Что делать будем? Вдруг и другим пришлют? — спросил прапорщик.
— Что ж, войну объявим «зеленому змию».
Перед обедом все подразделение было в строю. По лицу офицера солдаты поняли: что-то случилось. Многие к нему уже привыкли и знали, что напрасно он сердиться не будет.
— Товарищи солдаты и сержанты, приближается большой праздник, кое-кому пришлют посылки. Дело хорошее, но предупреждаю — спиртного чтоб не было. Спросим по всей строгости. И с вас, и с родителей. Пишите об этом домой. Поняли?
Но принятое решение не вселяло спокойствия. Проводил ли он занятия, бывал ли в боевых расчетах, беседовал ли с солдатами, обговаривал что-то с офицерами, а в голове невольно, точно искра, проскакивала мысль: «Пришлют или не пришлют?».
Прапорщик Нарыжный чуть ли не ворвался в канцелярию.
— Прислали, товарищ майор. В грелке. Сержанту Сачаве.
Не хотелось Сергею Ивановичу говорить об этом перед строем. Сачава — командир. Что подумают подчиненные. А что делать? Сказано было всем.
Пришел с повинной сам сержант. Сознался: надеялся на родителей, не предупредил их, и вот прислали. Малышев сказал:
— Я не могу бросать слов на ветер. Предупреждал, пусть теперь отцу будет стыдно. Он у вас фронтовик, знать должен.
Письмо Малышев написал, а через неделю пришел ответ, отец сержанта просил извинить его, ругал себя, что по родительской мягкосердечности хотел сыну в этот день сделать что-то приятное.
Малышев встал из-за стола, размял ноги. А сам подумал: тут был непоследователен. Принять решение еще полдела. Надо было всколыхнуть людей, коллектив, обговорить на комсомольских собраниях. Разве разуверился в их силе, сплоченности? Нет, конечно. Вспомнил полигон.
Расчеты работали старательно, изо всех сил, а когда заболел офицер, стало трудно. Майор Савин, ероша волосы, только крякал.
— Что, туго?
— Не говори, Сергей Иванович.
— Выкрутимся, я за него стану.
Так вот и работал в боевом расчете Сергей Иванович. Был и внештатным консультантом. К нему, как к инженеру, шли солдаты, обращались за помощью и техники. На обратном пути, уже в поезде, тот же майор Савин с присущей ему словоохотливостью говорил:
— Давай, Сергей Иванович, пока не поздно, переходи в нашу инженерную когорту. Опыт есть, и видели твою работу.
— Решить надо, подумать, — рассуждал Малышев.
Но армейский темп жизни не позволял долго думать. Вокруг были люди. Встречались всякие: пылкие и по-юношески радостные, честные и хитрые, попадались и «неисправимые», но и тут он до последнего дня держал их в поле зрения. Чаще было другое. Человек изменялся на глазах, становился совершенно другим. И тогда Малышев испытывал в душе радость. Как, например, было с рядовым Корольковым.
…А случилось вот что. Как-то дневальный вошел в канцелярию и доложил майору, что к рядовому Королькову приехали родители.
— Где он сейчас? — спросил замполит сидевшего тут же за столом прапорщика Нарыжного.
— На занятиях, товарищ майор.
— Надо его вызвать.
Корольков не спешил идти на встречу с родителями, он то забегал в бытовую комнату и оглядывал себя в зеркало, то чистил сапоги, а пробегая мимо канцелярии, замедлял шаги: не о нем ли идет речь. «Ну надо же, хоть бы написали — приедут. А теперь что? Со стыда сгоришь, — думал он. — Попрошу майора… поверит, простит. Не трепач я, дам слово…»
— Ну что, готовы? — спросил майор.
Корольков быстро сунул в тумбочку сапожную щетку, поправил ремень, пилотку, ответил:
— Так точно, готов.
К проходной они пошли вместе.
И чем ближе к ней подходили, тем тревожнее становилось на душе Королькова. Не было бы замечаний, упреков, летел бы на крыльях, майор, конечно, не умолчит, обо всем расскажет. Лучше бы они не приезжали. Напрасно тратились на дорогу. Он заранее чувствовал недовольный взгляд отца и слышал тяжкий вздох матери: «Ах, сыночек, сыночек, а мы-то на тебя надеялись! Дурному мы тебя не учили, служи хорошо и нам не о чем волноваться, переживать».
И тут он приостановился, взглянул на майора, сказал:
— Товарищ майор, прошу, ни о чем не говорите. Я все понял, даю честное слово.
Малышев посмотрел в глаза Королькова. В них была мольба, сознание своей вины, раскаяние. Но Сергей Иванович не спешил принимать решение. Умолчать о плохом поведении Королькова, значило заведомо пойти самому на явную ложь, обнадежить родителей, избавить Королькова от переживаний за свои ошибки. «Но почему я не должен верить? — спрашивал себя Малышев. — Просит человек, значит, все обдумал, решил. Обманет? Написать родителям всегда не поздно. Служить Королькову еще год, многое можно сделать».
Родители Королькова были простые люди. И одеты они были просто. На отце серый костюмчик, лицо загоревшее, в складках морщин, большие руки, привыкшие к постоянному физическому труду. Так же просто выглядела мать. Она все время прижималась к сыну, что-то ему говорила, ластилась, однако на виду мужчин будто бы стеснялась проявить все, что хотело бы сказать ее материнское сердце. Она смотрела на сына влюбленными глазами, искала в нем перемены и отмечала, как он повзрослел, как изменился! Он и не он. Нос батин, его походка. Но что с ним? Отводит взгляд в сторону, говорит так, будто и не рад, что приехали родители.
«Ох, набедокурил парень, провинился. И майор все об урожае спрашивает. Мой-то чего разговорился. Обрадовался, что ли… Сынок ты сынок, думала, в армию пойдешь, ума наберешься, самостоятельным станешь. Мы ведь заботой не обходили… все тебе да тебе. Сами-то ладно…»
И вот тут она услышала голос мужа.
— Что же, сын, скажи, как служишь? — спросил он. Мать замерла, и сердце у нее, казалось, совсем затихло, перестало биться. Майор Малышев решил пока молчать и не вмешиваться в их семейный разговор. Он даже собирался уйти, но теперь не мог этого сделать. Корольков-младший опустил голову. Какая-то птаха пискнула в кустах, зазудел комар у самого уха. И лес, где они сидели, будто бы насторожился.
— Плохо, отец, — сознался Корольков.
Майор Малышев не ожидал этого. Дал слово служить хорошо, чего же расстраивать родителей.
— Корольков, что вы? — спросил его Сергей Иванович.
— Нет, товарищ майор, я все расскажу. Служить легче будет.
…Дипломный проект Малышеву предстояло защищать перед государственной комиссией, но, странное дело, в душе почему-то он не испытывал особого волнения. Раздражали недоделки и то, что нет времени. Посмотрев на часы, он и на этот раз чертежи решил отложить на завтра. Утром снова промелькнула мысль:
«А что дальше? Кто я — инженер или политработник?».
Секретарь партийной организации выкладывал перед ним тетрадь с планом работы. Он останавливался на каждом пункте, спрашивал:
— Николай Герасимович, партийное собрание, вижу, намечено на завтра, а где объявление?
— Напишем, но, может, еще не состоится?
— Никаких «может». Давайте рассуждать по-партийному: наметили, надо готовиться и проводить. С лейтенантом Шкрупинским беседовали? Он думает вступать в партию.
— Не рано?
— Рано, не рано, Николай Герасимович, но поговорить с человеком надо.
— За делами не все успеваешь, — как бы в оправдание сознался прапорщик. А в дверях уже стоял сержант Тюрин. Комсгрупорги собрались в Ленинской комнате на семинар по подведению итогов Ленинского урока. Люди ждали, и Малышев пошел к ним. Это его работа.
ХОЗЯИН «МАЛЕНЬКОГО СОЛНЦА»
Беда на птицеферму грянула внезапно. Под угрозой оказалось несколько тысяч яиц, в которых бились маленькие существа — цыплята. Они вот-вот должны были появиться на свет, потом вырасти и принести сотни тысяч рублей дохода. Но этого могло и не случиться: бульдозерист, копая траншею, перерезал кабель, по которому подавался ток. Нагревательные приборы погасли, в инкубаторе падала температура, нависла угроза.
И вот туда по команде командира части выехал на передвижной подстанции сержант Хлебников. Цыплята были спасены, птицефабрика не потеряла и копейки, а Хлебников, вспоминая этот случай, говорил:
— Помните, в картине «Волга-Волга» поется, что без воды и ни туды и ни сюды. В наш век без электроэнергии человеку тоже не обойтись. Она дает тепло, свет, жизнь и, как видите, ей обязаны даже цыплята, — и он улыбнулся.
Люди, влюбленные в свою профессию, — романтики. Сержант Хлебников не составляет исключения. Будучи еще школьником, он занимался в физическом кружке и помогал оборудовать стенды, собирать электрические схемы, а летом, бывало, вместе с отцом пропадал в поле. На его глазах поднимались вверх высокие высоковольтные опоры. Пересекая овраги, дороги, через сады и перелески шагали они прямо к городу, извещая гулом проводов о своем приближении.
Потом был техникум, работа помощником машиниста по электрической части на роторном экскаваторе. В армии он сдал экзамен на второй класс и имеет четвертую квалификационную группу. Сержант Хлебников — отличник боевой и политической подготовки, кандидат в члены КПСС. И все же я спросил его, были ли у него трудности.
— Естественно, были, — ответил, не задумываясь, сержант. — Я хотя и закончил техникум, но не сразу освоил свои обязанности. Надо было многое начинать заново, хотя бы работу на дизеле. Тем более встал вопрос о взаимозаменяемости. Я, как и все мои товарищи, взял социалистическое обязательство освоить смежную специальность. Без этого трудно сократить время на выполнение боевых нормативов.
Упоминание сержантом Хлебниковым о нормативах для меня, признаться, было неожиданностью. Чаще говорить о них приходится с номерами стартовых расчетов, операторами радиолокационных станций, воинами других специальностей. Привыкшие к тому, что в любое время над головой горит лампочка, прогревается аппаратура, а ракетный комплекс выполняет боевую задачу, мы порой забываем о людях этой специальности. Хлебников же без всякого труда на конкретных примерах доказал, что энергетики, соревнуясь, только за счет освоения смежной специальности время на выполнение нормативов сократили в полтора-два раза. Большую пользу принесли рационализаторские предложения, повышение классности.
— У нас сейчас среди специалистов нет такого, кто бы не владел двумя специальностями. Эту проблему, например, я решал с ефрейтором Шидловским. Он грамотный специалист, за плечами техникум, работает отлично. Я учил его, он меня, чаще по вечерам, в выходные дни.
— Разве стать дизелистом трудно? — спросил я.
— Очень. Можно иметь за плечами институт, техникум, но так и не научиться работать на щите. Эта операция ответственная, серьезная. Ошибка — и сработает защитное устройство, может отключиться питание на технике… Тогда что? Помню, рядовой Алиев не давал покоя своему начальнику. Уберите меня, не могу быть дизелистом, да и только. А ведь у него среднее техническое образование.
Тонкостей в службе электрика необычайно много. И требуют они быстрого разрешения.
Сержант Хлебников рассказал такой случай из своей практики. Как-то на водопроводной скважине вышел из строя электродвигатель. Работал он в самых тяжелых условиях при высокой влажности. А некоторые концы электропроводки находились прямо в воде. И, кроме самого Хлебникова, изолировать их никто не мог. Вот он и прихватил с собой на выучку рядовых Суслова и Дехтяря.
При первом же замере оказалось, что обмотки двигателя замокли, сопротивление изоляции упало ниже нормы. Неисправность была устранена. Но вот тут-то «консилиум» из трех человек пришел в нерешительность. При полной исправности пускателя, защитных реле двигатель все же не включался. Неисправность лежала на поверхности. Но где?
— Оказывается, на контакты кнопки «пуск» всего-навсего капнула вода. Но мы не могли догадаться сразу, — заключил сержант.
Вечером энергетики на комсомольском собрании сдавали Ленинский зачет. Проходил он с высокой требовательностью друг к другу и бескомпромиссно. Каждый комсомолец показывал свой билет, на стол выкладывал две тетради с конспектами трудов В. И. Ленина, по политической подготовке и начинал свой отчет о достигнутых успехах.
Когда зачет был принят от всех, разговорились о романтике в службе.
Офицер Виговский сказал:
— Энергетик должен быть человеком смелым, решительным и находчивым. Его долг, если потребуется, спасти человека от беды, а потом уж думать о себе.
— Электрик — тот же сапер, он ошибается только один раз, — высказал свое мнение кто-то из присутствующих при этом разговоре.
— Ничего подобного, — возразил Игорь Владимирович. — Сошлюсь на свой пример. Работаю с высоким напряжением вот уже двадцать с лишним лет и не помню ни одного несчастного случая. Надо быть профаном, чтоб попасть под напряжение. А такого специалиста, извините, я не приемлю.
Электрик, независимо от стажа работы, занимаемой должности, накопленного опыта, знаний ежегодно обязан сдавать экзамен квалификационной комиссии по технике безопасности, знанию машин, приборов. Вызывается это тем, что темпы развития нашей энергетики значительно выросли. Специальность электрика стала специальностью самой современной. Каждый отдающий ей свои знания, свой ум, сердце не имеет права отставать от развития электротехники ни на один шаг. В армии тем более. Здесь, как нигде, сосредоточены новейшие приборы, агрегаты, призванные обеспечивать высокую боевую готовность ракетного оружия.
— За это мы гордимся своей специальностью и ее любим, — подвел итог Игорь Владимирович.
У самых дверей в коридоре висел большой, во всю стену, график. И мы около него остановились. В лабиринте цифр мне, несведущему человеку, вначале трудно было разобраться. Сержант Хлебников вновь стал моим гидом и с присущей ему увлеченностью начал давать пояснения. Цифры оживали. Я представил, какой экономии добились электрики части в соревновании. Она исчислялась в несколько тысяч киловатт-часов.
— Один киловатт-час, например, — говорил сержант Хлебников, — позволяет добыть 40 килограммов нефти, выплавить 100 килограммов чугуна, выпечь 90 килограммов хлеба, вывести в инкубаторе 30 цыплят. Да, да, тех самых цыплят, которых мы спасли. Но вот беда… — В глазах разговорчивого и влюбленного в свою специальность человека я заметил недовольство. — Сколько мы говорим, боремся, но некоторые солдаты еще не понимают, что лампочка горит днем над твоей головой — деньги, спираль на самодельной печке — тоже деньги.
Через минуту он вновь подобрел и говорил уже о том, что электрика, так же как и врача, многие знают в лицо в части, обращаются к нему за советом, а многие за помощью. Они убеждены, что человек этот способен оживить машины, дать тепло и свет.
Недаром электрики говорят: в наших руках «маленькое солнце».
СМЕЖНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
Рядовой Ермишин второй год служил в хозяйственном взводе. На первом году, как только пришел во взвод, получил он в свое распоряжение гнедого мерина, сани, бричку и разный инвентарь. Ермишин — низкорослый, круглый, безбровый, точно ему еще в детстве забыли подрисовать брови. Белые непослушные волосы топорщатся, и никто до сих пор не знает, на какую сторону он зачесывает чуб. Сегодня — на правую, завтра — на левую. Кашлянет кто-нибудь сзади, а у него все волосы так и вспорхнут, поднимутся. Гребнет тогда он по ним пятерней и уложит набок.
По характеру Ермишин — тонкой души человек, заботливый и внимательный. Выходил своего мерина, откормил его так, что он стал гнуть дугой шею и пританцовывать на месте. Домой Ермишин не писал, что он служит на такой должности, да и к чему: пойдет по деревне слух, что Микола служит конюхом. Да и здесь на эту должность он попал случайно. Еще тогда, в карантине, к ним прибежал прапорщик Свирин, хозяйственник, и взмолился:
— Выручайте, товарищи! Кто может мерина выходить, совсем загнал один друг, чтоб ему ни дна ни покрышки. А? Ну?
Солдаты в недоумении попятились: ехали служить в ракетное подразделение, а тут — на, иди конюхом! Прапорщик, однако, не уходил, сдвинул на затылок фуражку и досадно крякнул:
— Да нет, вы понимаете, картошку на кухню и то привезти надо. Так? А завтра что я буду делать? В колхоз за молоком надо ехать, детвора ждет. Ну, молодцы, кто отважится? А? Кто из вас с лошадьми дело имел?
Ермишин представил, что мерин тот стоит теперь голодный, без корма, в нечищеном стойле или хуже того: грызет ясли. Жалко стало мерина, дрогнуло у него сердце, а тут сзади кто-то подтолкнул под локоть.
Так он и остался в хозвзводе. Целыми днями Ермишин разъезжал на гнедом трудяге Васильке от столовой к складам, от складов к сараям. Подвозил дрова, продукты и даже работал «налево». Эта работа заключалась в том, что он по просьбе кого-нибудь из жителей городка подбрасывал дровишки. На обратном пути, проезжая мимо детворы, он сажал ребятишек в сани и с шиком прокатывал по всему городку. Исполнял он свои обязанности с полной ответственностью, так, как это и должно быть в хорошем хозяйстве.
Утром, как только вставал, спешил к Васильку, скоблил его, чистил. Отовсюду шли с заявками, во-первых, приходил дежурный по кухне и просил подбросить продукты со склада, потом кто-нибудь из хозяйственников, так что рядовой Ермишин чувствовал себя всегда на видном месте.
— Не все разом, поперва на кухню отвезу, а потом и до вас приеду.
— Может, по дороге прихватишь заодно?
— Не могу, сказал, не могу, значит, не могу, губить мерина не дозволю.
— Совсем обюрократился Ермишин, — незлобиво говорили вслед.
Василек шел мелкой рысью, довольный тем, что ему удалось размять толстые ноги. Он гнул под грудь голову и водил темными сливовыми глазами, как настоящий рысак. Ермишин сидел в передке важно, все время тпрукая и натягивая ременные вожжи. Солдаты встречали его появление веселыми криками. Он же либо принимал важный, независимый вид, либо отшучивался, стараясь не уступать в злословии. Увидев своего прапорщика, он натянул вожжи и произнес:
— Тпрууу, Василек! Здравия желаю, товарищ прапорщик. Сидайте, трохи подвезу.
Прапорщик хотел было отказаться, однако взглянул на Ермишина, на его умоляющий вид и прыгнул в передок через оглобли.
— Не брыкается он у тебя? — спросил прапорщик, отодвигаясь назад.
— Ни-и, он смирный. Можно, сказать, ученый. Все понимает. Каждая скотиняка и та душу имеет. Вот у меня и кнут есть, а я ведь ни в жизнь коня не трону. Покажу — и порядок.
— С полуслова понимает?
— Это уж точно так. А если бы овсеца ему… Ого-го! Я бы вас прокатил.
Ехали они кружной дорогой мимо складов, вдоль сосновой опушки. Ермишин то торопил вожжой мерина, то чинно придерживал его, натягивая вожжи. Прапорщик не ездил вот так на лошади лет десять и теперь вспомнил свою деревню. Она, конечно, стала другой, но все же родной край с его зеленым раздольем, со знакомым топотом табуна, мычанием коров и бог весть какими еще звуками и запахами, словно приблизился.
— Вот ведь какое дело, товарищ прапорщик, — обратился к нему Ермишин. — Давно я вам собираюсь сказать, да все как-то боюсь.
— Не доверяете, значит? — переспросил прапорщик.
— Вам-то? Вам мы все доверяем и, если можно так сказать, уважаем. Это точно. Просто мне как-то неудобно. Подумаете, Ермишин — человек несерьезных подходов.
Он снял пилотку и для чего-то стал ее очищать от невидимых пушинок.
— В городе вы часто бываете, так вот, купите мне учебник по радио.
— По радио? Зачем он? — удивился прапорщик.
— Знаете, оно как-то сразу не объяснишь. Но сами подумайте, что ж это я при современной технике так и буду на Васильке ездить? А время-то, видите, какое.
В голосе Ермишина было меньше просьбы, чем горечи. Он говорил с наболевшей грустинкой и затаенной болью. Глядя на него, прапорщик понял, что Ермишин прав, но все же не хотел упускать такого старательного и исполнительного солдата.
— Это, конечно, можно. Я куплю. Но чтоб свое дело: ни, ни. У нас ведь как, выучился и нос в сторону. А за то, что подвез, благодарю. А теперь пора и на тренировку.
— Есть, я мигом.
Хотя и сказал Ермишин, что он справится мигом, а у самого екнуло под ложечкой. Он вспомнил прошлые тренировки и теперь настороженно, с похолодевшим сердцем ожидал предстоящих минут. Распрягая мерина, он думал о том, что опять, как и тогда, Гурьев заставит его натирать пол, крутить болты, таскать кабели. Он, пожалуй, не раз ему крикнет:
— Как ты кабели тянешь? Это тебе не кобылу запрягать!
Однако Ермишин пришел со взводом. Зенитная ракета лежала на полуприцепе, обвешанная кабелями, шлангами, какими-то приборами, и напоминала ему фантастическую упряжку. Рядовой Гурьев стоял с прибором. Взглянув на Ермишина, он лениво воскликнул:
— А, это вы припожаловали! Так, так, учиться, значит.
Он положил прибор, пошарил в карманах комбинезона, потом, взглянув на Ермишина, сказал:
— Значит, так, пойдешь в каптерку и возьмешь бидон. Только не забудь бидон! Понял? Карасев тебе даст. Спросит зачем, скажи, что нужно. Сегодня будет боевая учеба: импульсы будем складывать. Так и разъясни ему. Усек?
— Вроде, — пожал плечами Ермишин, а по дороге подумал:
«Опять на побегушках. Так с меня толку не будет».
— Вы что, недовольны? — услышал он голос офицера.
— Да вот бидон хотел взять.
— Бидон? Зачем вам бидон?
— Гурьев послал собирать импульсы. Сегодня учебно-боевая работа будет, — спокойно разъяснил Ермишин. Лейтенант понял, в чем дело, и незаметно улыбнулся.
— Идемте к Гурьеву.
Но как только они появились, Гурьев отвернулся, принял безразличный вид и стал протирать кабели.
— Гурьев! — окликнул его лейтенант.
— Я вас слушаю, товарищ лейтенант.
— Полы натерли?
— Не успел, товарищ лейтенант. Щетки нету, ходил, искал. Где ее возьмешь.
— А контрольные проверки провели?
— Товарищ лейтенант, сами подумайте — один. До сих пор напарника нет. И так с утра до ночи. Я же просил…
— Это что, не напарник? — сказал лейтенант и показал на Ермишина.
Сам Ермишин еще не понимал, в чем дело, смотрел на Гурьева и недоумевал, почему он бросает на него сердитые и недовольные взгляды.
— А-а, напарник…
— Не акайте. Научите, расскажите. Спрошу. На первый раз объявляю замечание.
— Товарищ лейтенант, за что?
— Вы знаете. Как вам не стыдно человека разыгрывать.
Ермишин тоже понял, в чем дело, побледнел, укоризненно взглянул на Гурьева.
«Опять свое», — подумал с обидой.
Ермишин достал щетку, разбросал желтую мастику и стал натирать пол. Он делал это забывшись, механически, правая нога двигалась, точно маятник. Серые задумчивые глаза смотрели прямо перед собой грустно и неопределенно. Но с этого дня при каждом удобном случае Ермишин старался побольше узнать о действиях ракетчиков, об их работе. Уж очень хотелось получить специальность.
Как-то Ермишин распряг Василька, потрепал его по холке, — тот фыркнул и гулко переступил ногами.
— Ладно тебе, дурак? — сказал Ермишин. — Ты думаешь, мне рай с тобой. Люди как люди, а я кто? Конюх…
Городок был пустынен. По нему свободно носился холодный осенний ветер, гнал серые вялые листья, клеил их к холодным стенам казарм и крутился в ногах. Ермишин шел нагнувшись, опираясь всей грудью на ветер. Уши горели, а лицо пощипывало.
— Ермишин, иди, прапорщик вызывает, — сказал ему дневальный, как только он вошел в казарму. Прапорщик был в каптерке.
— Вы где пропадали? — спросил он строго.
— Там, в сарае.
— Да?.. И ни с кем не разговаривали?
— Нет, не разговаривал.
Прапорщик откашлялся и почему-то изменил тон. Продолжал он более мягко:
— Завтра учения начинаются. Вам работка тоже будет.
— Ну? — удивился Ермишин.
— Вы не радуйтесь особенно. Думаете, там бублики давать будут? Вкалывать придется.
— Так это же интересно. Душа стосковалась.
— Ох, Ермишин, посмотрю я на вас, много еще не понимаете. Да разве вам плохо тут? Нет. К весне, смотришь, отпуск схлопочу. Так что имейте в виду. Учтите, оттуда не так просто вырваться…
Учения начались не утром, а в обед. Ермишин выскочил из-за стола с куском хлеба.
А когда построили расчеты, Ермишин стал в сторонке и завистливо смотрел на солдат. Он опять подумал, что над ним подшутили. Но техник разыскал его глазами и поставил рядом с собой. Ермишин получил задание, принес ящик с инструментом и, помогая Гурьеву, включился в работу. Сначала он делал подготовительные операции, но постепенно освоился и стал работать сам, без подсказок.
На улице стемнело, тягачи то пятились назад под полуприцеп, то с ревом увозили их вместе с ракетами. Ермишин чувствовал, что темпы усиливаются. Поступила вводная: «Убит рядовой Гурьев». Он снял шлемофон, техник приказал: «Ермишин, наденьте!»
Гурьев сердито сунул ему в руки шлемофон:
— Бери, чего смотришь.
Теперь Ермишин принимал и передавал все команды: сначала тихо, боязливо, но постепенно его голос изменился и зазвучал. Он выкрикивал команды, а солдаты послушно выполняли их. Ермишин чувствовал себя будто бы в центре самой жизни: все двигалось и гудело. Солдаты подчинялись его голосу, а он с наслаждением смотрел на них. Нет, он не был просто рупором, он тоже выполнял свои обязанности. А ракеты одна за другой уходили в темноту. Он провожал их и радовался.
За всю смену Ермишин успел только раз хлебнуть из-под крана воды и, вытирая рукавом губы, вспомнил своего прапорщика. Может, он и прав — трудно, но все же как это хорошо и приятно. Еще никогда Ермишин не испытывал такой радости от своего труда и никогда не думал, что он так нужен людям. Душу согревала теплая, скрытая радость. Даже в казарме, снимая сапоги, он не переставал улыбаться. А лег — и словно куда-то провалился. Глаза устало закрылись, и он не то во сне, не то сквозь дремоту слышал рядом с кроватью чьи-то осторожные шаги. Он было хотел открыть глаза, но они не открывались. Прапорщик вздохнул, положил на его тумбочку книгу по радиотехнике и сердито сказал дневальному:
— Проснется, пусть переходит. Он теперь не наш… Опять ездового искать придется.
В ЕГО РУКАХ ТЕПЛО
В тот год зима начала лютовать рано. По всему лесу то тут, то там трещали деревья и казалось, что кругом стреляют. На окнах мороз нарисовал тростниковые заросли, воробьи забивались под крыши и все равно мерзли, истопники не отходили от топок, следили в оба за показаниями в теплотрассе. Она, как живая артерия, уложенная в земле, тянулась от здания к зданию, под домами, к школе и детским яслям. Она давала тепло туда, где стояла боевая техника. Ежечасно на стол оперативного дежурного ложилась сводка, а если сообщали о понижении тепла, тут же принимались срочные меры. И на этот раз телефонный звонок заставил вздрогнуть майора Баранова. Дневальный сообщил, что в помещениях падает температура, стынут батареи.
В чем дело? Никто не знал. Быть может, где-то на глубине двух-трех метров не выдержала напора воды труба и дала течь? А может, вылетела заглушка? Могло случиться и что-то другое, но что именно, догадаться было трудно. Поэтому из здания раздавались тревожные звонки. Каждый докладывал и тут же добавлял:
— Поймите, товарищ майор, у меня люди.
Майор Баранов все понимал прекрасно. Но и понимал он другое, что ночью трудно найти неисправность. На улице темно, мороз с ветром, где тут копать прорыв и заделывать течь. «А может, что-то другое? — подумал Владимир Иванович. — Нужно вызвать лейтенанта Нефедова. Уж он-то разберется». Он набрал номер телефона дежурного по части и приказал:
— Лейтенанта Нефедова на трассу.
…Солдаты, как показалось лейтенанту Нефедову, одевались медленно. Он смотрел на часы и ходил взад-вперед мимо дневального, словно маятник. А сам думал: «Прорыв, видно, у проходной. Не может быть, чтобы он случился еще где-то. Место там болотистое, трубы поржавели. Теперь на всю ночь работы хватит».
За спиной он услышал, как скрипнула дверь, оглянулся. Полусонные солдаты, надевая на ходу бушлаты, выбегали друг за другом, строились. Пробивать мерзлую землю, чеканить трубы они уже привыкли. Случалось так, что они сидели сутками на прорывах, работали в дождь, в холод, по колено в воде, в вязкой глине. Сержант тихо, чтобы не будить остальных, подал команду «смирно», направился к лейтенанту Нефедову с рапортом.
— Вольно, вольно, — остановил его офицер и обратился ко всем. — Товарищи, на трассе прорыв, падает температура в зданиях. В жилом городке. Все остальное зависит от нас. Ясно? Ясно. Командуйте, товарищ сержант.
На проходной дневальный открыл дверь, спросил с удивлением:
— Куда же вы, товарищ лейтенант, такой мороз!
Кто-то вместо лейтенанта ответил:
— Кому мороз, а нам жарко…
Вскоре за проходной команда растворилась в темноте. Дневальный с минуту постоял на пороге, а когда совсем удалился скрип снега под ногами, солдат нырнул в тепло и присел ближе к батарее.
Лейтенант Нефедов шел рядом со строем и не обращал внимания ни на темноту, ни на холод. Он был занят тем, что уже в который раз пытался привести в систему причину этих прорывов. Одни случались потому, что ржавели в иных местах трубы, другие из-за нарушения режима подачи воды, пара; возникали гидравлические удары, не выдерживали заглушки. Подземные артерии теплотрассы выходили из строя. Такое случалось и раньше. Но лейтенант Нефедов, призванный на два года из запаса, не мог пока установить точный диагноз «болезни» всего теплового хозяйства. А предшественники занимались этим вопросом слабо. Иные были просто случайными людьми и в сантехнике не разбирались. Сам же Нефедов одно время работал техником теплоснабжения и был доволен тем, что в части именно ему поручили обучать специалистов, следить за состоянием всего подземного хозяйства. А оно в общей сложности составляло не одну сотню метров. Как-то Нефедов взял все схемы, разложил на столах и с удивлением заметил, что ими никто никогда не пользовался. Майор Баранов тоже впервые глянул на них, признался, что раньше тоже не придавал значения тепловой магистрали.
— Кроме вас, Виктор Тимофеевич, никто в ней не разбирается. Так что вам и карты в руки. Когда надо, обращайтесь, помогу.
— Беда в том, Владимир Иванович, что некоторые колодцы числятся только на схеме, а на самом деле их нет.
— Как нет? — с удивлением спросил инженер.
— Да так и нет. Их просто посчитали лишними и закопали.
— Берите людей, Виктор Тимофеевич, и за работу.
…Лейтенант Нефедов остановился у гаража, осмотрелся, прикинул в уме и, отмерив еще несколько шагов, сказал своим солдатам:
— Вот тут копайте.
Кто-то из водителей, глядя, как во все стороны летит шлак, не выдержал, воскликнул:
— Товарищи, что вы делаете? Тут полтора метра шлаку насыпано. Сколько мы трудились.
— Вы зарыли колодец.
Лопаты вскоре застучали о чугунные плиты.
— Один нашли, где-то и другой закопан, — сделав пометку на схеме, произнес лейтенант Нефедов.
Для него каждый рабочий день начинался с того, что утром, переодевшись в комбинезон, с солдатами шел на «стратегическую разведку»: восстанавливал по схеме теплотрассу, отыскивал залитые водой колодцы, осматривал вентили, заглушки, составлял новую схему, изучал участок уложенных под землею труб. Без того, знал он, не обеспечить, как положено, теплом здания, не избежать частых прорывов. Они замучают всех, издергают сантехников, истопников, они станут бедой среди зимы в пору лютых морозов и холодов. И уже через какой-нибудь месяц лейтенант Нефедов мысленно мог представить всю схему теплотрассы. Его комбинезон поистрепался, на руках появились ссадины, солдаты, глядя на него, работали с охотой и увлеченно.
Но этого, оказывается, для успеха было мало. Как-то, надев резиновые сапоги, лейтенант Нефедов спустился на дно глубокого колодца. Мокрая глина скользила под ногами. Рядовой Гугнин покрасневшими руками молчаливо делал чеканку трубы. Специалист он был хороший, но пользовался устаревшим методом чеканки труб.
— Кто вас учил? — спросил лейтенант Нефедов.
Гугнин поднял на него удивленные глаза.
— Мастер… Что-нибудь не так?
— Конечно, при такой чеканке, Гугнин, через пять-шесть месяцев тут снова будет прорыв. Так что начнем учиться.
Вскоре в спецклассе началась работа. Сержанты Давыдов, Евсиков, ефрейтор Ануфриев разрезали старые краны, вентили и укрепляли их на стендах в качестве макетов. Тут же на стеллажах разложили разнокалиберные трубы, инструмент. Сварщики, сантехники, механики работали днем, по вечерам, распиливали одни и сваривали другие детали.
Заглянув в спецкласс, майор Баранов осмотрел макеты, схемы, с минуту постоял молча, потом заговорил:
— Вы молодец, Виктор Тимофеевич. Честное слово молодец. Не было такого класса, и никто не думал. А может, и не придавали значения. Есть вода, тепло — ну и ладно. При современной технике это ошибка. Нам нужны грамотные операторы, двигателисты и сантехники. Второстепенных специалистов не должно быть. И все, что вы сделали, здорово.
Труд лейтенанта Нефедова был замечен командиром части. О взводе сантехников пошла добрая слава. Коммунисты избрали Виктора членом партийного бюро. О нем заговорили теперь как об одном из лучших специалистов. Но сам лейтенант Нефедов к славе относился осторожно. Она придавала ему силы, но вместе с тем обязывала работать лучше, да и к тому же не все было сделано так, как самому хотелось.
Прорывы на трассе стали случаться реже: чеканка, предложенная Нефедовым, обеспечивала высокую надежность. И все же прорывы были. В чем причина? Лейтенант Нефедов провел измерения давления в различных точках теплотрассы, сделал вычисления и установил: виновниками многих бед являются гидравлические удары. Лейтенант Нефедов не раз останавливался у водонапорной башни и подолгу смотрел на нее. Вот уже несколько лет она стояла без дела. Причина неполадки, как догадывался Нефедов, была в эрлифтовой установке. Но как к ней добраться?
В тот же вечер он собрал всех сантехников. Взял в руки мел и для наглядности начертил на доске водонапорную башню.
— Высота ее, — говорил он солдатам, — пять метров. А нам нужно с глубины поднять трубы. Как это сделать, давайте вместе подумаем.
Солдаты предлагали разные варианты, но они выглядели нереально, либо требовали больших средств доставки и сложных расчетов.
— Бесполезная затея, — сказал кто-то. — Стояла и пусть стоит.
— Стояла, потому что не знали, как это сделать. А мы можем, — ответил сержант Давыдов. — Тут должно быть простое решение….
— Значит, гениальное? — с улыбкой переспросил сержант Евсиков. — А мы люди простые. Как же быть?
Лейтенант Нефедов на бумаге, пока солдаты обсуждали свои предложения, чертил схему за схемой. И у него тоже пока ничего не получалось. Напрашивался один вывод: нужен башенный кран. Нет, это сложно. И Нефедов начертил на листе бумаги рисунок. Прислушался к солдатам, но в общем говоре не уловил ничего интересного. Некоторые и не пытались искать нужного решения, считая затею лейтенанта невыполнимой. Лишь рядовой Сиваков ни на кого не обращал внимания. Он пристально смотрел на доску и мысленно представлял план своих действий. Все у него получалось просто, но это как раз его и настораживало. Он поэтому не рисковал выносить свою идею на обсуждение. Лейтенант Нефедов обратил на него внимание, спросил.
— Рядовой Сиваков, а каково ваше мнение? Вы сварщик.
Рядовой Сиваков встал. В подразделении он слыл лучшим специалистом: сварку вел различными методами, был дисциплинированным и исполнительным солдатом. На его счету имелось несколько рационализаторских предложений. В классе стало тихо.
— Вышку, товарищ лейтенант, если разрешите, я сварю прямо на крыше.
— Ну, хватил парень, — раздался чей-то голос.
— Тихо! — предупредительно произнес лейтенант Нефедов. — Продолжайте, рядовой Сиваков, мы слушаем.
Это как бы подстегнуло солдата, он подробно начал излагать план своих действий.
— Вопрос заключается в том, чтобы каждую часть балки заранее приготовить и доставить на крышу. Как? Пусть подумают другие. Тут я не специалист.
Лейтенант Нефедов разрешил сесть солдату, посмотрел еще раз на схему вышки, улыбнулся: действительно, проблема решалась просто. И нет никакой нужды обращаться за помощью к командиру части.
— На этом технический совет считаю законченным, — сказал он всем. — Остаться ефрейтору Ануфриеву и сержанту Евсикову. Встать! Выходи строиться.
С Ануфриевым и Евсиковым они разработали методику подъема каждой балки, а вскоре рядовой Сиваков вышку сварил так, как он предлагал: часть на земле, а часть прямо на крыше водонапорной башни. И началась работа. Три дня солдаты доставали с большой глубины трубы, меняли их и снова ставили. В день пуска эрлифтовой установки почти все сантехники взвода собрались у башни. Лейтенант Нефедов проверил готовность всей системы, приборы, включил установку. На манометре вздрогнула стрелка прибора, пошла вверх по шкале. Молчавшая до сих пор скважина вновь стала давать воду. Это было радостно. Но те минуты уже забылись, и Нефедов находил во всем сделанном лишь рациональное зерно. Помогло делу, значит, хорошо, а нет — куда смотрел раньше. Может быть, не случилось бы аварии сегодня.
И он, прежде чем идти на линию, зашел к майору Баранову узнать все, что случилось. А через каких-нибудь десяток минут он шел по трассе.
На другой день мы с ним встретились. Передо мной сидел лейтенант, у которого прежде всего бросались в глаза руки. Они были трудовые и, мне казалось, пахнут они не то машинным маслом, не то еще какой-то другой смазкой. А может быть, этот специфический запах исходил не только от рук. Он весь был пропитан запахами мастерских, подземных колодцев. И это выделяло его среди других офицеров, своих сверстников, которые пришли, как и он, служить всего лишь на два года, но имели дело с радио, в руки только брали отвертку да шариковую ручку. Я не раз с ними встречался в частях. А может, он завидует им, думал я.
— Нет, не завидую, — сказал он. — Человек только тогда будет счастлив, когда убедится, что его работа приносит людям радость. Вот так и у меня… Я сам лично не обслуживаю технику, ракеты, установки, но мне приятно, что мой труд нужен сослуживцам, всему коллективу. Порой, правда, заедает тщеславие: хотелось за эти годы сделать больше. Не успею, видно.
— А зима не волнует?
— Нет, тепло и в домах, и в зданиях будет.
Он улыбнулся, и черные глаза его озарились нескрываемой радостью.
РАСКАЯНИЕ
— Эй, Панков, ты где? Строиться пошли! — крикнул в сложенные у губ ладони рядовой Шамсулвараев, которого солдаты между собой во взводе и батарее просто называли Шамсул. Ростом он был невысокий, крутоплечий и, несмотря на свою принадлежность к древнему роду татар, лицом походил на русского.
Рядовой Панков на вид еще совсем юный, с мальчишескими чертами лица, черноглазый, со сбитой на затылок шапкой. Он шел по складу, не торопясь, глядя по сторонам на ящики с ЗИПом.
— Чего ты тянешься… Мало тебе от сержанта Титова влетело, — упрекнул его Шамсулвараев, снимая комбинезон.
— А-а, все равно. Семь бед — один ответ.
— Ну, завел. Полгода только служишь.
— Зато наслышался уже. Панков то, Панков другое. А ну вас, — вспылил он и, скомкав комбинезон, бросил его в ящик.
— По головке, думал, за плохую дисциплину погладят. Меняй свой характер, Панков… На репетицию пойдешь?
— Нет, не пойду. Раз Панков такой-сякой — пусть сами, без него…
Солдаты их взвода уже стояли в строю, и сержант Титов взглянул на часы, а потом на Шамсулвараева и Панкова, крикнул:
— Бегом в строй!
Снег под сапогами скрипел и рассыпался, дорога тянулась лесом, круто впереди поднималась на взгорье и полого опускалась к городку. Шамсулвараев затянул песню, солдаты подхватили. Панков для приличия открывал рот, шевелил губами и искоса поглядывал на шагавшего сержанта. «Пусть, — думал он, — видит, что я пою. Лишь бы не придирался».
Вечером Панков решил написать письмо. Письмо, однако, не клеилось, и о чем писать домой матери, он не знал. О том, что получил два наряда вне очереди за пререкание с сержантом, ей не напишешь, иное дело — Стасу. Друг, до армии играли в одном оркестре. Попробовал ему написать, но тоже не смог сосредоточиться: за стеной в Ленинской комнате сержант Титов репетировал с эстрадным оркестром концертную программу.
Звуки в стенах резонировали, искажались, и Панков досадно морщился, улавливая в игре оркестра фальшивые ноты, нестройность. Сержант Титов кого-то отчитывал, а Шамсулвараев, показавшись после репетиции со вздутыми от мундштука трубы губами, был задумчив.
— Тра-та-та, тра-та-та, — сидел он на стуле, подшивал воротничок и отстукивал ногой такты.
— Тут реже надо… ко-нар-мейская тачанка. Слышишь? — подсказал Панков.
— Спасибо. К сожалению, платить нечем за советы. А ты ведь просто так расточать талант не будешь. Выгоды нет.
Панков вспылил, одернул гимнастерку и ушел курить. По вечерам теперь он искал для себя занятия: со стулом в числе первых спешил устроиться у телевизора, играл в домино, шашки. Но удовольствия в этом не находил. Сначала у него появилась не то жалость, не то сочувствие к самому себе, потом — недовольство собой.
А оркестр между тем набирал силы и с каждой репетицией играл лучше. Шамсулвараев повеселел и, расхаживая по хранилищу, пел во весь голос «Тачанку».
«Откуда только у него настроение берется, — недоумевал Панков. — Все поет». Для него же, Панкова, все здесь было каким-то отчужденным. Ни к службе, ни к самому себе не лежала душа. Чего-то хотелось, о чем-то думалось, но спроси, о чем, он бы не сказал точно. А в требованиях сержанта и прапорщика видел только придирки: не вовремя стал в строй, самовольно ушел в клуб, не прибрал за собой рабочее место. Даже Шамсул — и тот чуть что делал замечания:
— Не отвертка у тебя — зубило… Мог бы поточить.
И все это скребло до неприятности, точно наждаком по сердцу. Трубу Панков спрятал в чехол и дал себе слово никогда, ни при каком случае не играть здесь, в батарее. Уединение, на его взгляд, теперь было единственным спасением от всех неприятностей и строгого командирского глаза. Но однажды он услышал за спиной знакомый голос:
— Что, Панков, в демоническом одиночестве страдаем?
Повернувшись, он увидел командира взвода старшего лейтенанта Анохина. В темных глазах его прочитал не то упрек, не то ироническую насмешку.
— Да так уж, как умею, — промолвил Панков вставая.
— Жаль, очень жаль. Между прочим, — задумавшись и глядя в глаза подчиненного, старший лейтенант продолжал, — говорят, когда-то одаренных природой людей, но бездарно прожигающих время, секли розгами. Как думаете, правильно поступали древние?
— Может, и правильно. Только человеку видней, что делать, — ответил Панков с категоричностью.
— Я не согласен. Что отпущено природой человеку, то должно служить людям, всему обществу… У вас, например, тоже есть призвание! — сказал он вдруг в упор Панкову. — Так чего же его от других прятать?..
Несколько солдат подошло к ним. Анохин за разговором их не заметил. Он продолжал:
— Обида, видите ли, душу бередит. Его не понимают командиры, товарищи! Еще как понимают! И то, что службу вы плохо начали, и то, что способности имеете… А что касается искусства… Почему, скажем, наши советские солдаты стояли часовыми при Мадонне Сикстинской? И именно наши, советские!
— Ценность, вот и берегли, — ответил из-за спины рядовой Савичев.
— Не спорю, ценность. А искусство? Творение рук художника? Это уже идет не от ценности, как товара, а гораздо от большего. От сознания людей.
Беседа длилась долго и была не очень-то приятной для Панкова. Но, странное дело, в тот вечер и потом он чувствовал какую-то облегченность. Беспокоило одно: что за мадонна, о которой говорил командир, и где можно ее увидеть? В библиотеке опасливо, чтобы не высмеяли, спросил:
— Вера Петровна, нельзя ли, допустим, взглянуть на мадонну?
— Рафаэля? Минутку, если не на руках. Вот пожалуйста, — и подала репродукции с картин Дрезденской галереи.
Он смотрел и читал. «Меркурий и Аргус», «Семейство молочницы», «Святая Инесса»… И тут на него глянула женщина и от нее повеяло каким-то душевным, глубоким спокойствием. «Ах, вон она какая!» — подумал он.
Под нею облака, на руках ребенок, старик показывает дорогу. Иди, будто говорит он, иди к людям. Ты величие и начало всей жизни. Ты мать. Панков представил рядом с нею солдат с автоматами, их лица, выгоревшие гимнастерки, пыльные сапоги, руки землепашцев. В том, что ему виделось, было действительно что-то великое, непостижимое, сразу не укладывавшееся в его голову. Вдруг сравнил: он и они. Они и он… «А ведь может случиться?.. Нет, глупости, — оборвал он себя, оглянулся, словно со стороны кто-то мог прочитать его мысли. — И что? Стал бы… и не хуже стоял!» — подумал он о себе и о товарищах не без гордости. Но, вспомнив упреки сержанта, свое по-детски капризное поведение с этой трубой, сразу сник, устыдился самого себя, только что обуревавших его возвышенных мыслей. И они завладели им, он не смог уже не думать о том, что служба-то ведь только начинается. Все еще впереди.
— Спасибо, возьмите, Вера Петровна, — сказал Панков с облегчением.
…Когда на смотре художественной самодеятельности рядовой Панков исполнил соло на трубе, многие говорили, что труба плакала. Может быть, они и ошиблись. Но в его игре действительно было что-то такое, что выражало и человеческую боль, и радость, и вопрошание к людям, похожее на раскаяние.
НЕУЧТЕННЫЙ ФАКТОР
Вертолет с двумя пассажирами — приехавшим из Москвы генералом Прокофьевым и представителем местного штаба полковником Ольховским, поднявшись над сопками, шел в район учений. День был весенний, но холодный и пасмурный. По балкам все еще держался снег.
Генерал вспомнил о низовом пронизывающем ветре и зябко пожал плечами.
Полковник сидел рядом с ним на подставной скамеечке и потирал заледеневшие ладони. Было ему лет сорок пять, не более.
Генерал встретился с Ольховским на заслушивании замысла учения и сразу почувствовал в нем ум незаурядного командира. Но перед общим подъемом подразделений по тревоге генерал все же сделал в его адрес критическое замечание:
— Не знаю, не знаю, к чему вы привыкли, однако темп наступления намечен заниженным. Вряд ли вы добьетесь успеха…
— Товарищ генерал, при разработке решения мы взяли во внимание не только передовой опыт, но и погоду, состояние дорог. По данным метеосводок, с завтрашнего дня начнутся дожди и возможен снегопад, — возразил полковник Ольховский, стоя перед развернутой на столе картой. — А эти речушки? Летом — по щиколотку, а весной и осенью — ни пройти, не проехать. Без понтонеров не обойтись. И это приходится учитывать.
Полковник обстоятельно обосновал выведенные им цифры. Генерал вынужден был согласиться с его выкладками.
«Да и что возражать? — думал он. — Теоретически все правильно».
— Что ж, посмотрим, посмотрим, Николай Петрович, — заметил он вслух.
Полковник Ольховский сделал руками жест, который как бы говорил: «Конечно, вам виднее, но за свои цифры я головой ручаюсь».
Да и на самом деле: всю ночь в штаб руководства поступали тревожные донесения о продвижении колонн. Они сталкивались с препятствиями, искали обходные пути, маневрировали. Танковая колонна двинулась кратчайшим путем через речушку по понтонному мосту, но мост вскоре утонул, понтонов не хватило, колонна разорвалась, и остаток ее пошел запасным маршрутом. Ночью беспрерывно лил дождь. Потом начала сыпать снежная крупка.
— Дайте, пожалуйста, карту, — сказал генерал, приблизившись к полковнику.
Развернув карту, он сверил ее с местностью. Да, все было правильно. Они уже над исходным районом. Впереди — хребет и перевал; в стороне — долина, поселок и полевые дороги, взрытые гусеницами танков. На дорогах виднелись засевшие грузовики и свежие настилы переправ. Десятки примет говорили о борьбе людей с грязью, дождем и холодом.
И, приглядываясь к этой карте, генерал мысленно дорисовывал то, что было им увидено и пережито в Карпатах во время войны. В долинах горели поселки, на обочинах дорог стояли подбитые танки и автомашины. И вот такой же хребет, окутанный дымом, маячил впереди.
Генерал был тогда артиллерийским офицером. Вместе с солдатами он перетаскивал пушки. Вспомнив об этом, он и сейчас как бы ощутил тяжесть на своих плечах. Сто километров по горным дорогам и бездорожью. И все же прошли, взяли!
…Вертолет трясло. Лопасти винта, казалось, захлебывались сырым воздухом. Внизу хорошо просматривалась деревня. Были видны даже куры, разбегавшиеся от рева двигателя.
Войска были укрыты в окопах. Но генерал без особого труда определял, где кто находится.
— А это что? — вдруг спросил он.
Тут вертолет качнуло, земля накренилась и пропала из виду. Генерал приказал сделать круг над заинтересовавшим его местом.
С небольшой высоты он отчетливо увидел танк, который стоял в неглубокой, но залитой водой балке, а потом разглядел еще один… Но тот, второй, завяз так, что снаружи остались лишь ствол да люк башни. Около него стояло несколько танкистов в выжидательных позах.
Генерал приказал приземлиться. К нему подбежал парень в черном комбинезоне и представился:
— Товарищ генерал, командир взвода старший лейтенант Трофимчук.
— Что случилось, товарищ Трофимчук?
— Цепляем трос, товарищ генерал. Засели… Здорово засасывает.
— А может, время зря тратите? — спросил командира взвода полковник Ольховский. — Скоро атака.
— Успеем, товарищ полковник. Успеем!
Генерал и полковник приблизились к застрявшему в грязи танку. Вдоль балки со стороны сопок дул холодный ветер. Болотная топь, схваченная морозцем, с хрустом проминалась под ногами. Губы танкистов посинели. Но то, что генерал увидел возле танка, поразило его. Два совершенно голых человека, до плеч погрузившись в мутную жижу, торопились прицепить к машине трос. Один из них дергал и дергал его, а другой, задрав голову, шумно отдувался. Жидкая грязь, покрытая соляркой, перекатывалась волнами и доставала до самых затылков солдат. Наконец им удалось прицепить трос. Ребята выскочили из хляби. Товарищи обмыли их заранее припасенной чистой водой и начали растирать. Зубы героев стучали от дрожи. Но они улыбались и одежду надевали без спешки. Старший лейтенант подал команду, трос натянулся и выволок боевую машину на сухое место. На башне висели корни выдранного камыша, по броне сползала болотная грязь. И вид у танка был совсем не боевой. Генерал даже отвернулся от него и приказал танкистам построиться.
— Молодцы! — сказал он, поглядывая на подрагивающих «водолазов». — Благодарю за службу!
Последние слова комом прошли через его горло. Генерал был явно растроган. Чтобы не выказать перед людьми своей слабости, он круто повернулся и пошел к вертолету.
Когда началась атака и войска устремились на штурм перевала, он ревниво разыскивал в бинокль знакомый ему танк и, когда нашел его, долго не выпускал из виду.
Танк медленно взбирался вверх, стрелял, маневрировал. И генерал Прокофьев, наблюдая за ним, вновь вспомнил свою дорогу через Карпаты…
— Уже прошли через перевал! — внезапно услышал он совсем рядом голос полковника Ольховского.
— Что? Прошли, говорите? — все еще находясь во власти нахлынувших воспоминаний, переспросил генерал и, отложив бинокль, повернулся к ветру.
Полковник Ольховский взволнованно переминался с ноги на ногу, и по лицу его было видно, что, просчитавшись, он был рад за людей и в то же время винил себя за то, что занизил в своих планах темп наступления.
— Что ж расстраиваться, Николай Петрович? Вашей вины тут нет, вы учли все факторы. Вот только о моральном забыли. — Генерал, взглянул на полковника, снисходительно улыбнулся. — А с ним, как видите, тоже считаться надо.
ПЕРЕМЕНЫ ПРИХОДЯТ НЕ СРАЗУ
И командир, и начальник политотдела год тому назад говорили капитану Жбакову, что рота связи отстает.
— Не скрываем, Жбаков, будет трудно. Но в любое время поможем. Звоните, приезжайте, — сказал начальник политотдела. А командир спросил:
— Как, справитесь?
Капитан Жбаков решительно встал.
— Так точно.
Вскоре после этого разговора капитан Жбаков появился в роте. Он бывал в казарме, заходил на станцию, прислушивался к солдатам, сержантам и молчаливо раскуривал трубку. Никто не догадывался, что офицер, не догуляв еще отпуска и, по сути дела, не приняв по-настоящему роту связи, уже приступил к работе.
Сказать «так точно» еще мало. Надо уметь оправдать эти слова. Но Жбаков был уверен: оправдает. За годы службы привык ко многому. У старших учился мудрости. Как зарок, повторял фразу одного своего наставника: «Главное, Сергей Семенович, захотеть. А сделать все можно».
Капитан Жбаков запомнил эти слова, а потом не раз убеждался, что в каждом деле прежде всего должно быть желание. А вот его-то, как понял Жбаков со временем, некоторые коммунисты роты подменили иждивенческим настроением. Выяснилось это на первом же партийном собрании.
Капитан каждого слушал внимательно, делал пометки в блокноте. Ведь коммунисты — его опора. С ними придется решать вопросы повышения боевой готовности, укрепления воинской дисциплины, наведения уставного порядка.
Коммунисты, в свою очередь, возлагали надежды на нового командира. И чтобы облегчить его вступление в должность, яснее разобраться в причинах отставания, говорили о недостатках прямо, открыто. Жбаков едва успевал записывать их мысли. А они касались воинской дисциплины, социалистического соревнования, работы с сержантским составом, несения расчетами боевого дежурства. Каждый такой пункт был практическим руководством к действию. И все же в этой справедливой критике он уловил другое. Некоторые так и говорили: подкачал прежний командир, не обеспечивал их работой, не проявлял инициативы, а они смирились с положением отстающих. Вот тогда-то и взял слово капитан Жбаков.
— Давайте, товарищи коммунисты, говорить откровенно. Большую роль играет командир? Да, большую. Но у каждого есть свои обязанности, свое рабочее место, своя партийная совесть. Вот и спросите себя: все ли сделал я, чтоб нас не ругали? Перед нами стоит одна задача — роту вывести в число передовых. И мы добьемся этого!..
Никто не возражал, но Жбаков видел по глазам — не каждый в это верит твердо. Командира тут же поддержал секретарь партийной организации старший лейтенант Баранников. И потом, в течение всего года, они работали рука об руку. Посещали командир части, начальник политотдела и находили, что новый ротный не бросает слов на ветер. В течение каких-нибудь двух месяцев неузнаваемо изменился внутренний порядок: кругом чисто, дневальные несут службу исправно, совсем другой вид приобрела Ленинская комната. На стендах — соцобязательства, боевые листки. Ожила стенная газета.
Холода застали солдат в теплом и уютном помещении. А потом появились и заново переоборудованные спецклассы. В них — макеты блоков, узлов, планшет для тренировки новичков, таблицы оценок несения боевого дежурства.
И все же трудностей еще хватало. Некоторые солдаты, сержанты после периода слабой требовательности с трудом привыкали к соблюдению строгих уставных положений. Так называемые «старички» претендовали на какую-то особую привилегию. Были и другие пороки, которые, хотя и не бросались в глаза, но изнутри подтачивали уставные порядки.
Вопрос укрепления воинской дисциплины капитан решил предложить обсудить на собрании офицеров. А чтобы разговор был конкретным, просмотрел все служебные карточки, выписал поощрения и взыскания личного состава, кто и когда их объявил, и стало ясно — на обе ноги, как говорится, хромает дисциплинарная практика.
Слабее всех работал в этом направлении лейтенант Критинин. Он никого не поощрял и никого не наказывал.
— Как же так, товарищ лейтенант? — спросил капитан Жбаков. — Неужели у вас некого поощрить? И нарушители вроде имеются…
Лейтенант не знал, что ответить. Потом сознался: не задумывался об этом раньше.
— Товарищи офицеры, так дальше не пойдет. Воспитание — процесс творческий. Главную роль должен играть командир. Если же он остается в стороне, значит, теряет в собственном авторитете, вольно или невольно проявляет безразличие к интересам своего коллектива. Вам это горько слышать, а мне еще горше говорить. Но мы, коммунисты, не имеем права мириться с недостатками, допускать отступления от уставов.
На другой день такой же разговор командир роты повел с сержантами.
В коллективе постепенно налаживались уставные взаимоотношения. У людей появилась уверенность в своих силах. Прослужившие более года солдаты поняли, что не может быть и речи о каких-то привилегиях перед новичками, что задача их — учить своих младших сослуживцев мастерскому владению техникой, передавать опыт, показывать пример в службе.
Так говорил им командир в беседах, на комсомольских собраниях, на подведении итогов социалистического соревнования. Да и в ходе Всесоюзного Ленинского зачета с них спрашивали вдвойне — и за себя и за товарища, находящегося рядом.
Повысилась также активность коммунистов. На партийных собраниях в решении основного вопроса — обеспечения надежной связью обслуживаемых подразделений — они вскрывали недостатки, вносили свои предложения. Кандидат в члены КПСС ефрейтор Солоха как-то принес и показал капитану Жбакову альбом. В нем активист разместил фотографии солдат, под которыми были выписаны взятые ими обязательства. Теперь заполнена и последняя, тогда пустующая графа. Она свидетельствует о том, что слово у военных связистов не разошлось с делом.
А секретарь партийной организации старший лейтенант Баранников предложил, чтобы в конце каждого месяца командиры взводов проверяли личный состав друг у друга. Это поднимало роль оценки, ее значение. После первой такой проверки солдаты толпились у оценочных листов, вывешенных в Ленинской комнате.
Приходившие в роту командир части, начальник политотдела не скупились на похвалу. По заслугам поощряли солдат, сержантов, офицеров. Говорили и Жбакову добрые слова.
Но сам-то он испытывал волнение. Предстояла всесторонняя проверка, сдача на классность. А когда нагрянула комиссия, Сергей Семенович понял, что теперь не столько от него, сколько от каждого зависит оценка роты по боевой работе, внутреннему порядку, дисциплине.
В те дни солдаты вновь увидели в руках командира курительную трубку. Поняли, достал он не случайно. Волнуется.
Но когда отвечали в спецклассе, несли боевое дежурство, выступали на политических занятиях, рвали финишную ленточку на кроссе, он оставался в стороне, и только огоньки в его черных глазах выдавали большую радость. Он радовался за сержанта Голодинского, ефрейтора Солоху, младшего сержанта Ширанса, сержанта Минибаева и многих других воинов разных национальностей, коммунистов и комсомольцев. Это они завоевали роте высокое звание отличной. А то, что в этом был и его труд, нелегкий, упорный, преодолевший у людей неверие в свои силы, он в эту минуту просто-напросто забыл. Он привык славу делить на всех.
ЕСЬКА
Весь день с тополей летел пух, теперь он осел, запутался в траве, ветер согнал его к обочине дороги, и в темноте казалось, что это лежит спет. Над городком висела сумрачная тишина. Слышно было лишь, как за лесом, точно на краю земли, тревожно вскрикнула электричка и, плавно перестукивая колесами, покатилась, будто под гору.
Еська Ерошин сидел на перилах веранды, а я мыл пол. У моих ног стоял помятый тазик. В нем плавала тряпка — кусок старой гимнастерки, должно быть, рукав. В темной и густой воде играли лунные отблески, и она казалась черной, как нефть.
Еська — так мы звали его между собой — о чем-то думал, наверное, о доме. Мы оба прослужили всего лишь полгода, так что до конца было далеко. Мысленно я попытался представить этот конец, и у меня сжалось в комок сердце. Видно, от предчувствия — ведь окажусь же я когда-нибудь в своей деревне; а может, и оттого, что этот конец был еще так далек и так туманен. Я выхватил из тазика тряпку и быстро стал домывать веранду. Тряпка билась в моих руках, рассыпая брызги. А Еська сидел, молчал и покуривал. Потом он встал, по-хозяйски обошел веранду, ткнул носком сапога в угол и сказал:
— Сухой угол-то. Кто так моет!
Он опять сел на перила, обхватил руками колено и положил на него голову. Я домывал углы. Постепенно у меня заныла поясница. Я с трудом выпрямился и, выжимая тряпку, спросил Еську.
— Слушай, Еська, почему ты не хочешь соревноваться?
Еська, как говорят, и ухом не повел. Я знал, что он не ответит. В тишине было слышно, как капли одна за другой звучно срывались с тряпки в темную воду. Еська вздохнул и повернул недовольное лицо в мою сторону.
— Ох, до чего же вы мне надоели. Ну сам подумай: какое твое дело?
— Да нет, почему? Все соревнуются, — ответил я смущенно и, точно боясь своих слов, добавил: — На гражданке все так.
— На гражданке! Что ты понимаешь в этой гражданке. — Еська посмотрел на меня. — Вот скажи, ты в ресторане был? Ну хотя бы разок!
— Нет, не был. У нас есть клуб, столовая. Да зачем нам ресторан, — пытался оправдаться я. По моему убеждению Еська был в чем-то выше меня. Всю жизнь он прожил в городе, хорошо знал автомашину и не раз говорил, что у его «предка», это отца, значит, есть «Волга». Многое он делал не так, как мы. На занятиях Еська либо спал, либо чистил ногти и тайно от начальников носил перстень. Даже шинель, нашу солдатскую шинель, он надевал без ремня, поднимал воротник и бродил сгорбившись, пока не попадался на глаза офицеру. В нашем взводе он появился совсем недавно, с месяц. Я знал, что его сняли с транспортной машины, объявили выговор и перевели на боевой тягач. Вина его была в том, что он подвез до станции женщин и собрал с них деньги. Там, в транспортном взводе, было свободнее. Почти каждый день Еська бывал в рейсах. У нас он капризничал, был недоволен. Ему не нравилось быть на дежурстве: постоянно заботиться о тягачах и целыми днями торчать в автопарке.
— Я устал от машин, — небрежно говорил он нам.
Я спустился с веранды и стал домывать ступеньки. В коридоре кто-то протопал тяжелыми сапогами. Дверь слабо взвизгнула и открылась, из темноты показалась чья-то голова. Присмотревшись, я узнал солдата Самохина, нашего комсгрупорга. Его белая голова даже в темноте светилась. Еська взглянул на Самохина, но тут же отвернулся. Самохин был раздет до пояса, вышел лишь в шароварах и сапогах. Он скрестил на груди толстые руки и долго смотрел то на меня, то на Еську.
— Что, за него моешь? — спросил Самохин.
Еська, конечно, понимал, что сейчас дело дойдет до него, но не подал вида, продолжал сидеть.
— Как тебе, Кирилов, не стыдно. Ты моешь, а этот лоботряс сидит.
Еську это, видно, задело: он соскочил с перил и в два прыжка оказался против Самохина. Я не видел его лица, его глаз и его подбородка, но я знал, что они заострились: и лицо, и нос, и подбородок. В первые минуты Еська молчал, должно быть, от гнева, но потом самоуверенно и гордо заявил:
— Слушай, Самохин, не твое дело. Понял?
— Не ерепенься… Нечего на паровоз с палкой бросаться.
— Это кто. Ты паровоз?
— Не я, а мы. И ты всякие свои замашки брось. Привык баклуши бить, учти, тут этот номер не пройдет. Ты такой же солдат, как и он. Бери тряпку и мой пол.
— Мой, мой… — пробубнил Еська.
Они почти что столкнулись, Еська развернулся острым плечом, Самохин — всей грудью, широкой, крепкой. Я знал, что Еська не бросится в драку, да и куда ему против Самохина. И тот не думал его трогать. А говорил он то, что хотел бы сказать я. Вернее, это жило во мне смутно, но жило. И хотя я подчинялся Еське, но все же внутренне бунтовал. Бунт, правда, был скрытый. Я, видно, не мог говорить в глаза правду.
— Воспитывать, значит, меня будете, — стал высказывать свои мысли Еська с пренебрежением. — Питать духовно. А я как-нибудь сам, без духовных отцов обойдусь. Ну, не взял соцобязательства, не взял. Судить будут?
— Да никто тебя судить не будет.
— Тогда воспитывай! — выкрикнул Еська.
— Глупо это, Еська. Очень глупо.
— Однако ушел, — заключил Еська, когда Самохин закрыл за собой дверь.
Я вылил грязную воду. Луна подплыла к темному облаку и вползла в него, словно в тенистый омут. Вокруг стало темно и печально. Мне хотелось почему-то извиниться перед Самохиным не то за себя, не то за Еську.
Самохин в нашем взводе был в почете. В Ленинской комнате на одном из стендов висела большая фотография. На ней он был сфотографирован со всей бригадой, на заводе. Их было шесть человек, добились звания бригады коммунистического труда. Самохин не походил на себя, его вытянутое скуластое лицо казалось моложе, глаза смотрели просто и доверчиво. Сначала во взводе мы его не замечали, был он как и все, но постепенно стал выделяться. Он отличался исполнительностью и службу нес так, будто бы давно был в армии.
Жизнь наша, казалось, шла однообразно. Днем мы уходили в автопарк, готовили тягачи, проводили регламентные работы и тренировались. Мы должны всегда быть в боевой готовности. Будь то зимой, летом, утром или ночью — тягач обязан заводиться с пол-оборота. В том, пожалуй, была соль нашей службы.
Мы жили дружно, и только Еська, неизвестно, почему, но в каждом из нас он видел своего противника. Интересы взвода, которыми мы жили, были ему, как он говорил, непонятны.
Однажды, когда готовили тягачи, походная кухня привезла обед. Мы побежали к бачкам, подставили алюминиевые котелки и, пристроившись кто где, начали есть. Еська недовольно фыркнул, ткнул в густые щи ложкой.
Солдат-повар положил большой черпак, размером с шапку, и, вытирая о фартук покрасневшие руки, уверенно подошел к Еське. Еська дал ложку. Повар взглянул на него, попробовал щи.
— Ешь, лучше не сварю.
— Правильно, щи как щи, — поддержали ребята, — Он думал, в ресторан попал. У тебя, случайно, цыпленка там нет?
Под дружный перезвон ложек смеялись солдаты, ели щи и поглядывали на Еську. Попов, сибиряк, сказал довольно громко:
— Конечно, в транспортном он на вольных харчах был. С женщин по двугривенному соберет, вот тебе и обед. Слушай, друг, добавь-ка. Я, например, люблю щи.
Еська вскипел, бросил ложку и рванулся к Попову, но Самохин успел схватить его за руку.
— Сядь, Ерошин. Правда-то небось глаза режет.
Еська сердито блеснул глазами, но покорился. Понимал, что здесь, перед всем коллективом, он бессилен. Солдаты продолжали спокойно есть. Попов прошел мимо Еськи с горячими щами. Повар принялся раскладывать макароны, а Самохин каждому подкладывал по куску мяса. Еська с презрением сказал:
— Ну и что — брал, брал деньги. А вас заело. Ничего, Еська не пропадет.
— Замолчи, парень, — перебил его кто-то. — Аппетит портишь! И кто его нам во взвод подсунул?
Еська вздрогнул, повернулся, я видел, как побледнело его лицо, глаза сощурились и застыли.
Солдаты пообедали и разошлись к тягачам.
В колонну Еську взяли, но условно. Ежедневно он тренировался, выезжал на специальную площадку, ставил учебный полуприцеп и делал состыковку. Для этого нужен был меткий глаз, твердая рука и расчетливость водителя.
— Тоже мне, придумали, — говорил недовольно Еська, — да я один больше вашего наездил.
— Езда езде — рознь. На шарабане тоже можно ездить. Ты в рейс сходи, — говорил ему Самохин.
Как-то вся авторота в субботний день отправилась полоть кукурузу. Из городка вышли строем. Еська шагал в последней шеренге рядом со мной. Он наступал на пятки Абдурахманову и, как гусь, шипел:
— У, салага, ходить не может.
Рота прошла деревню, свернула за крайними избами в поле и остановилась на меже. Еська, как только распустили строй, повалился на траву.
— Выдумали, глотай тут пыль.
— Что ты все скрипишь, — не выдержал я. — Ты хоть раз держал тяпку в руках?
— Я и без нее проживу. Дай докурить.
Кукурузное поле было разбито на участки. Приехал на машине бригадир в кирзовых сапогах и зеленых выгоревших шароварах. Он вскочил в кузов и стал раздавать нам тяпки.
— Берите, берите — это тоже оружие. А я думал, товарищ капитан, не придете. Рук у нас не хватает. Корма готовить надо, ферму заложили, хотя бы перекрытия до осени поставить. С утра до ночи крутимся. Спасибо вам заранее, вы уж постарайтесь.
Наш капитан, худой и высокий, заверил:
— Пришли, бригадир, значит, сделаем.
Он первый снял с себя гимнастерку, сложил ее и, поплевав на руки, стал на борозду.
— А ну, орлы, вперед! — весело крикнул капитан.
По всему полю раздался хруст, зашаркали в сухой рассыпчатой земле тяпки, падала подрезанная трава, а лопушистые стебельки кукурузы торжественно тут же расправляли свои плечи. Мы гнали по две борозды, и там, где не успевал один, помогали другие. Мимо, совсем рядом, проходили электрички, люди с любопытством смотрели на нас из окон. Мы, раздетые до пояса, работали не разгибаясь. Самохин перескакивал со своей борозды на Еськину и, повернувшись назад, кричал:
— Ерошин, веселей руби!
Еська изнывал от жары, ему хотелось пить, устали руки. Он приседал на корточки и проклинал все на свете.
— Давай, давай, жми! — приостанавливался и кричал наш комбат. — Самохин, что там у тебя? Подтянись!
Мне казалось, что мы бежим длинную и бесконечную дистанцию. Стоило одному вырваться вперед, как другой тут же настигал его. Конец поля, где стояли кусты, был еще далеко. Он мне казался спасательным берегом. Там мы приляжем, переведем дыхание, а потом с таким же азартом пустимся в обратное «плавание». Рядом с нами работало второе отделение — вечные наши соперники. Наконец, ребята достигли кустов и бросились в траву. Она была пахучей и мягкой, чуть холодноватой. Не отдыхал лишь Самохин, он повернул обратно и стал полоть Еськину борозду. Я тоже пошел помогать. А когда мы встретились с Еськой, он взглянул на меня и виновато улыбнулся.
Весь день мы работали с азартом, несколько раз обгоняли второе отделение, правда, отставали и сами. Еська тоже увлекся, ему, видно, передалось наше волнение. Когда мы прогнали последнюю борозду, второе отделение было позади. Мы, стоя на меже, принялись кричать, подбадривать их. Капитан тоже стоял с нами и смеялся. Солнце склонялось, утопало за лесом, а небо над нами было чистое, голубое. Вся рота выстроилась, и капитан объявил нам благодарность. Еська стоял рядом со мной. Я видел, как его тонкое белое лицо вспыхнуло краской. Он толкнул меня в бок локтем.
— Смотри, — сказал он, — как гребешком прочесали. Бригадир не узнает!
Мы сложили затупевшие тяпки и пошли через поле, поднимая пыль. Еська впервые запел вместе с ротой.
Служба ракетчика полна неожиданностей. Как говорил капитан, мы должны спать, а во сне тягач видеть. Правда, мы приняли это в шутку, но сами-то знали, что в этом есть большая доля правды.
Однажды мы готовились к отбою, старшина привел роту с прогулки, еще раз назвал боевые расчеты и распустил нас. В казарму никто не пошел. Курили на улице, весело светились огоньки папирос, в сухом воздухе стоял дым. Весь день припекало солнце, к вечеру появились тучи, они взмыли лохматой горой на горизонте и лишь изредка освещались слабой молнией. Она вспыхивала бледно внутри туч, которые незаметно ползли все выше и выше. Теперь они накрыли полнеба и застыли. Мы поднимали головы и ждали грозы. Но вместо грозы взвыла сирена. И-эх, понеслась! Противогазы, карабины, подсумки, стук, толкотня, топот ног на веранде. Мы мчались к своим тягачам. На этот раз выходила наша колонна.
Еська шел вторым, за «козликом» комбата. Темнота густела, красные стоп-сигналы перемигивались, тягачи надрывались, гудели. Первая вспышка молнии озарила лес голубым огнем, колонна словно выпрыгнула из черноты и застыла на месте, но уже через секунду опять рухнула в темноту. Стоп-сигналы будто налились кровью, они стали ярче, отчетливее, а мрачная стена леса приблизилась.
Дорога поднималась в гору. Я выглянул из кабины, темнота обрывалась пропастью совсем рядом, свет фар прижимался к земле, раскосо бил вдоль дороги. Деревни спали. Спелые, тяжелоголовые подсолнухи отдавали поклоны из-за высоких изгородей, старая церковь поднималась ввысь и исчезала колокольней во мраке. Мы въехали в полосу дождя. Теперь он бил в стекло кабины, вода стекала прозрачной пленкой, видимость ухудшилась. Я снимал пилотку и протирал стекло. Колонна сбавила скорость, а когда стала спускаться вниз, под гору, мне показалось, что тягачи вместе с ракетами проваливаются куда-то в пропасть. Красные точки стоп-сигналов да усы дальнего света ползли внизу, на дне пропасти, и гасли за поворотом.
Дождь вскоре перестал, я опустил стекло, свежий травянистый запах ворвался в кабину. Мотор нагрелся, ногам было жарко. Тягач дрожал, опять карабкаясь на подъем. Ведущий «козлик» сделал левый поворот и покатился в темноту ночи. Однако с Еськой что-то произошло, он развернулся, тягач глянул в поле и вдруг застыл. Я видел, как ракета покачнулась и медленно поползла набок. Казалось, Еськин тягач схватила тяжелая рука и потянула его, стараясь опрокинуть. Первым выскочил Самохин. Еська было открыл кабину, но Самохин сунул его назад. Тягач взревел и уперся. Левое колесо полуприцепа поднялось над дорогой, а правое скользило по глинистой обочине в темную пропасть кювета. Я схватился за брезент и повис на ракете, со мной рядом повисли ребята. Капитан крикнул из темноты:
— Лебедку, давайте лебедку!
А ракета все ползла, оставались сантиметры, и, если она рухнет, то, пожалуй, ни Самохин, ни Еська не выскочат. Мы висели как груз, как противовес, стараясь предотвратить катастрофу. Подошла лебедка, капитан набросил трос и махнул рукой. Трос натянулся, полуприцеп застыл на месте. А мы все еще висели над землей, схватившись за чехол.
Лебедка осторожно потянула трос, полуприцеп тронулся, колесо стало опускаться на дорогу. Капитан приказал нам отойти, Самохин отвел тягач в сторону. Еське капитан приказал сесть в «козлик», а сам повел тягач дальше.
На вышке, точно маятник, раскачивается часовой, иногда лезвие штыка вспыхивает светом. Мы сидим на боевом дежурстве. Городок покинули еще в субботу и теперь каждый день спрашиваем у повара:
— Как там, что нового на Большой земле?
— Да что, деревья вверх растут. Проходную перенесли. Не знали об этом? А где же ваш «интеллигент»?
Мы промолчали. Уткнувшись носом в чашку, кто-то чертыхнулся: чего, мол, привез картошку недосоленную.
— Возьми да посоли!
— Возьми, возьми!
— Что-то вы нервными стали? Одичали тут? — не унимался повар, разливая по тяжелым чайникам густой чай. — Это вы бросьте, у вас боевое дежурство, а вы злитесь.
— Слушай, парень, не тяни душу! — отозвался за всех Попов. — Давай я тебе помогу, только убывай поскорей. Повар, ты хороший, но, если уедешь, будет лучше.
Повар, конечно, был ни при чем. Он просто не знал, что сегодня в политотделе рассматривали дело Еськи. И мы с утра были злые. На кого? Пожалуй, трудно было ответить. Но в душе каждого из нас что-то происходило. Я все же не выдержал и начал разговор первым.
— Вы думаете, Еська тогда испугался? Нет! Ведь он не бросил машину. Так что, ежели разобраться, зря исключили из комсомола.
Ребята сидели молча. Попов бросил окурок в урну и пошел в дежурку. С порога он мне сказал:
— Запомни: в чем человек виноват, за то и отвечает.
— Да, но кто не ошибается! Нельзя же лежачего бить.
— Зачем говоришь, чего тогда молчал? — вскочил Абдурахманов и, взмахнув руками, пошел на меня. Его черные узкие глаза яростно блестели в темноте. — Я все понимай. Зачем, скажи, он руль крутил? Кювет был. Башка работал, чего вез? Ракету вез, оружие вез. В кювет упал, кто отвечай? А стрелять чем? Самохин учил, кому говорил: смотри, Еська, поворот делай! В башку толкал. А он — не хочу. Моя все знал! Кому плохо делал? Себе? Нам! Такой не нужен комсомолец. Пусть поймет. Поймет, сам скажу, ты, Еська, наш! Вот какой человек. Я правду люблю.
— Ладно, Ильяс, чего после драки толковать. — Самохин потянул Абдурахманова за рукав. Тот вырвался.
— Вот разошелся. Ты хорошо говорил. Только мне непонятно, чего Кирилов защищает Еську? Жалко стало?
— Ну да, жалко! Еська, если ты хочешь знать, кое-что понял. А мы помогать должны. Ты думаешь, он совсем конченый?
— Не конченый, но с душком.
— Ну, знаешь, мы тоже не святые.
Спор продолжался даже на вечерней поверке. Самохин шипел мне в ухо до тех пор, пока сержант не повел в нашу сторону недовольным взглядом.
Еська не пришел ни в тот вечер, ни на другой день. Но в сумерках, когда вся колонна стояла на марше и мы ждали очередной команды, на дороге показался Еська. Он хотел было пройти мимо, но раздумал и свернул в нашу сторону. Лицо у него было бледное, уставшее. И взгляд был какой-то чужой, не Еськин. Обычно такой взгляд бывает у людей после долгой болезни. Я взглянул на его тужурку: комсомольский значок был на месте. Поздравлять, конечно, Еську было нельзя, и мы глядели друг на друга, не зная, что делать. Еська помялся, хотел что-то спросить, но его окликнул капитан. Еська подбежал к нему. И они долго о чем-то разговаривали.
Еська вернулся, когда я уже сидел в кабине. Его глаза повеселели.
— Все, сказал тягач готовить. Ты тормоза проверил? — спросил он меня.
— Проверил, но посмотри еще.
Еська сбегал за полуприцеп, проверил тормоза.
— Норма. Работают.
Капитан подал команду. Он стоял рядом с «козликом», затянутый ремнями, с планшеткой через плечо, в пропахшей бензином гимнастерке. Еська на ходу вскочил ко мне на крыло и сжал локоть.
— Витька, ты забудь. Помнишь, на веранде?
— Да брось ты. Чего там…
— Бывай, Витька. Счастливо доехать.
Тягачи выползли один за другим в широкие ворота. Ракеты спокойно лежали под чехлами, слегка раскачиваясь из стороны в сторону. Когда колонна развернулась, я выглянул из кабины. Еська стоял на пригорке и махал нам пилоткой.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
Ровно в шесть динамик разнес по комнате бой кремлевских курантов. А следом Владимир услышал громкую команду:
— Взвод, подъем!
Заходили половицы, послышался стук сапог.
Бокарев вскочил и, как бывало в училище, отбросил одеяло на спинку кровати. Перед ним стоял уже одетый капитан Калямин и улыбался.
— Поздравляю, лейтенант Бокарев, с первым днем на боевом дежурстве.
— Спасибо.
— Вот что, стройте всех на зарядку. А я с дневальными займусь.
Первое время на боевом дежурстве лейтенант Бокарев привыкал к обстановке, к людям, проводил занятия под контролем капитана Калямина, который был приставлен к нему для передачи опыта, следовал за ним по пятам и знал, что в следующий раз дублером уже не пошлют, и вся ответственность за боевую готовность целиком ляжет на его плечи.
— Выдумывать вам нечего, — говорил наставительно и дружески капитан. — Есть распорядок, расписание, — вот и стремитесь по ним жить.
Владимир слушал своего наставника и понимал, что первое время не избежать ему трудностей. Каких? Он и сам не мог точно сказать. Но когда принял взвод, понял, что вместе с ракетами, пирамидами с оружием, противогазами и шинелями он принял под свою ответственность каждого человека, а кроме того, большой, хоть и незримый довесок — славу взвода, его традиции. Вот уже несколько лет коллектив этот в социалистическом соревновании удерживал первое место, завоевывал призы, вымпелы, доказывал свое право быть первым отличными результатами на полигоне. Каждый воин считал себя мастером своего дела. По существу, так оно и было.
Вечерами Владимир видел, как солдаты старательно и любовно чистили знаки специалистов второго и первого класса спортсменов-разрядников. А иногда в своем кругу на перекуре, словно на зависть молодому лейтенанту, заводили разговоры о полигоне. Тут уж они не жалели красок, восторженных похвал ракетному оружию, друг перед другом старались блеснуть знаниями, искоса поглядывая на необстрелянного командира взвода.
А однажды, будто бы по тайному сговору, перешли в открытую «атаку». Ефрейтор Алимов, слывший знатоком техники, на одном из занятий расчета с глубокомысленным видом спросил:
— Товарищ лейтенант, мне, например, понятно, чем, скажем, смазывать трос, подшипники. Спросите — отвечу. И состав смазки скажу. А что делать, если, допустим, скрипит клиренс?
Глаза лейтенанта и солдата встретились.
— К полуприцепу, Алимов, подойдем или так объяснить? — спросил лейтенант, сдерживая улыбку.
— Все ясно, — махнул рукой Алимов.
Со временем солдаты поняли, что «подловить» командира взвода им не удастся, а когда узнали, что училище он закончил по первому разряду, стали опасаться выглядеть в глазах лейтенанта неучами.
И все же лейтенант чувствовал какое-то тайное и непонятное для него течение в коллективе. Оно бурлило. Кто-то с кем-то не соглашался, кто-то наступал, кто-то не хотел сдавать своих позиций. Эта разноголосица, нет-нет да и выплескивалась наружу.
Как-то лейтенант Бокарев замер от неожиданности. Дисциплинированный и застенчивый до сих пор рядовой Новиков был неузнаваем. Он шел мимо лейтенанта, расстегнув воротничок и заложив руки в карманы.
— Рядовой Новиков, застегнитесь. И руки в карманы не прячьте, — строго сказал Бокарев.
Новиков выполнил требование, однако проворчал:
— Зря, товарищ лейтенант, старичков обижаете… Да и не на плацу я, регламенты провожу.
— Есть порядок, рядовой Новиков. Он определен уставами. И нарушать его не дозволено никому. Даже «старичкам»! — сказал лейтенант твердо, так, чтобы и другим было слышно.
…В залах ЦДСА горел свет. Играла музыка. Встречались на этом вечере приехавшие молодые лейтенанты. Владимир первым увидел своего однокашника Юрия Большакова, потом уж к ним бросился в объятия Александр Спиричев. Друзья были рады. Боялись — не успеют наговориться. Вспомнили своих однокурсников, преподавателей, фронтовика Виктора Федоровича, который говорил не раз:
— Любите солдат, уважайте их, и они вам добром заплатят.
— И он был прав, — сказал лейтенант Спиричев. — Беда только наша: не всегда можем мы находить подход к людям.
Владимир в тот вечер молчал. Не стал рассказывать о выходке рядового Новикова. Уже обратно по дороге в часть он вспомнил отчетно-выборное комсомольское собрание, тогда его кандидатуру выдвинули в состав бюро.
— Не пойму, за какие заслуги, — говорил он капитану Лобаткину. — Я ничего не успел сделать. Взвод отличный, но не моя в этом заслуга.
— Владимир Иванович, вы коммунист и считайте свою работу в комсомоле как постоянное партийное получение. А взвод у вас скоро обновится, вот и развернетесь… Глядишь, и на полигон придется ехать…
К стрельбам действительно начали готовиться с начала учебного года. Социалистическое соревнование, учеба, тренировки — все было подчинено им. Лейтенант Бокарев, глядя на молодых солдат, почти физически ощущал беспомощность некоторых из них. Солдаты старались, потели на тренировках, сам лейтенант не жалел сил, но порой чувствовал, что возглавлять комсомольскую организацию и растить взвод трудно, что надо менять стиль работы. А поводом, так уж случилось, послужило одно комсомольское собрание.
Докладчик говорил о самом, казалось, важном и животрепещущем вопросе: воинской дисциплине. Но когда начались прения, комсомольцы будто стеснялись поднять руку.
— Прошу, товарищи, выступать, время идет, — обращался лейтенант Бокарев к молчавшему залу.
Солдаты смолчали. И вот тогда подали пример молодые коммунисты. Первым взял слово ефрейтор Борякин, затем Захария. Оживились и комсомольцы. И все же после собрания капитан Лобаткин пригласил к себе лейтенанта.
— Владимир Иванович, как вы готовили собрание? — спросил он.
— Объявление написали, докладчика назначили…
— А с комсомольцами беседовали?
— Нет, не смог, — сознался Владимир.
— Плохо. Сами не успели, а где же активисты были?
Как-то раньше он мало думал о них, хотя теперь начинал понимать, почему во взводе шло тайное кипение страстей, почему Алимов и Новиков, словно выброшенные на поверхность щепы, искали своего берега. Да и не только они.
Приход молодого лейтенанта некоторыми расценивался как начало легкой службы, поблажек и установления каких-либо новых и неясных им порядков. Молодой командир думал о другом: удержать в дивизионе прежнюю марку отличного взвода, репутацию передового коллектива. Нужна была ведущая сила. И он нашел ее в активистах. Вначале перечислил их мысленно: комсгрупорг, агитатор, редактор боевого листка, отличники, потом уж конкретно назвал каждого.
По выгоревшей от зноя степи вихрилась, словно поземка, желтая пыль. Пусковая установка после старта ракеты напоминала обгоревшую головешку. На нее и указал посредник.
— В порядок приведите. А там посмотрим, на что вы способны.
Лейтенант Бокарев назначил троих: ефрейтора: Бастрыкина, рядовых Проскурякова и Радионова. Поставил задачу и другим расчетам, а вечером, когда регламенты были закончены, лейтенант собрал активистов. За долгие месяцы несения боевого дежурства и подготовки к полигону он изучил каждого. С ним рядом сидел уважаемый во взводе человек — комсгрупорг рядовой Радионов, чуть поодаль — редактор боевого листка рядовой Гасишвили, умница и заводила агитатор ефрейтор Черников и всегда спокойный на вид младший сержант Сазонов.
— Завтра, товарищи, первые зачеты. Давайте наметим, кому что сделать надо, — сказал лейтенант Бокарев.
И все дни, пока шли стрельбы, он чувствовал рядом с собой надежных и верных помощников — активистов. А когда стартовала последняя ракета, Владимир понял, что в своей жизни он одержал первую важную победу. Говорилось об этом и на подведении итогов, взвод, как и прежде, был признан отличным.
РОЛЬ, КОТОРУЮ НЕ ВЫБИРАЮТ
День был жаркий, солнце держалось в зените. Сержант Журов проводил тренировку. Низкорослый, на пружинистых ногах, рядовой Бахадир Ахмадалиев подбежал к позиции, где стояла пусковая установка, резво вскочил на полуприцеп, чтобы помочь молодому солдату Андрею Сергиенко. Но на него недовольно посмотрел сержант Журов.
— Так дальше не пойдет, — сказал он и опустил руку с секундомером. — Ахмадалиев и может, и старается. А с вами что, рядовой Сергиенко?
«Что, что… Жара такая, а он гоняет», — подумал Сергиенко, а вслух сказал:
— Неспособен, значит.
Сержант Журов, тяжело вздохнув, покачал головой.
— Не то говорите… Ладно, потом разберемся.
В тот же вечер они остались вдвоем на стадионе. Солдат, волнуясь, говорил, что из него не получится стартовик, что для этого у него нет призвания.
Журов слушал его и улыбался.
— Как вы быстро в своем бессилии расписались. Впрочем, я тоже так думал первое время. Дружок говорил: чего, мол, мучаешься, иди к нам, у тебя техникум за плечами. Ну хорошо, думаю, может, возьмут, и там легче будет. А кто на мое место станет? Как я этому человеку в глаза смотреть буду? И почему он, а не я должен быть там, где труднее?.. В армии, понимаете, где легче не выбирают. Тут четко роли определены каждому…
Андрей не мог возразить ничего сержанту. По-своему Журов прав. Однако, какое ему, Сергиенко, дело до всех, у него — голос. Ребята, с которыми он выступал по вечерам на эстраде в санаториях, советовали не быть «лопухом», а сразу устроиться кем-нибудь при клубе, там служить можно. Надо, дескать, понимать: не у каждого такие данные.
В общем, Сергиенко уверовал в свое особое предназначение и до сих пор не мог примириться с своим положением. Другие рвутся на тренировку, а ему — нож острый. Говорить об этом он никому не говорил, но и с сержантом не хотел во всем соглашаться.
— Какие уж тут роли! — продолжал он разговор. — Чтобы сыграть роль, надо в нее вжиться. Как актер на сцене. А это уже искусство. Но зарядить, разрядить пусковую установку — разве это искусство?
— Вот что, Сергиенко, не будем философствовать. Я тоже кое-что слышал о системе Станиславского. Не спорю, в роль надо вжиться. Давайте и начнем вживаться. Завтра кросс, вот и покажите себя.
Андрей ожидал все, что угодно: и упреков, и наказаний, но только не этого. От такого предложения его даже покоробило. Но, когда стоял вместе со всеми на старте, подумал: «На слове поймал, ну, что ж, посмотрим…»
Сержант Журов бежал легко, под ногами шуршал шлак, за спиной кто-то сопел. Оглянувшись и увидев совсем отставшего Сергиенко, Журов сбавил темп, поравнялся с ним.
— Четыре круга прошли… Руками, руками работай.
— Го-орит внутри!
— Пройдет, мертвая точка.
Сергиенко бежал трудно. На пятом круге у него пересохло в горле, хотелось остановиться и перевести дыхание. Но Журов утверждал:
— Не сдавайсь, не сдавайсь, Сергиенко.
Потом он схватил Андрея за руку и потащил к финишу. Сергиенко еле успевал перебирать ногами, пытался вырваться, однако силы были неравны: его несло боком вперед, точно лодку бурным течением.
После этого кросса у Андрея болели ноги, и он не разделял радость Ахмадалиева, когда их расчету поставили «зачет».
— Молодец, Андрей. Я думал, опять плохо. Молодец, выдержал! — говорил Бахадир и сиял, как солнце. Но Сергиенко остался при своем мнении: бегать кроссы, заряжать пусковую установку — не его занятие. Очень уж уставал он к концу дня.
А время летело быстро. Осень безжалостно оголила лес, начались метели. Весь январь стартовики расчищали установки, ладони горели от набитых мозолей. Наконец-то небо очистилось, и ракетчики по вечерам занимались в спецклассе.
Как-то сержант Журов разыграл целый воздушный бой на доске. С пусковых установок стартовали ракеты, маневрировали за облаками и гибли самолеты «противника», а внизу, у самого леса, дымили заводские трубы. Ахмадалиев и Сергиенко тоже втянулись в эту игру. Журов усложнял ее. На доске появились новые формулы. И вдруг Журов спросил Сергиенко:
— Как, по-вашему, о чем думает человек в минуту смертельной опасности?
Андрей пожал плечами:
— Наверное, как пишут в романах, обо всем сразу… О любви.
— Может, и о любви, — сказал Журов, отойдя к окну. — Но я восхищаюсь силой духа людей, которые перед смертью верят в свою цель. Тот же революционер, ученый Кибальчич. Он знал: ночью за ним придут стражники и он в последний раз увидит клочок неба. И все же в последние часы жизни он рисовал ракету.
Минуты две в классе стояла тишина, только взволнованный Бахадир что-то шептал на своем языке и с ожесточением тер доску. А когда они ложились спать, сказал Андрею:
— Отец пишет: «Хорошо, сынок, служи, не позорь меня». Он артиллеристом был… Эх, жаль, не напишешь, что я — ракетчик. Он всех бы друзей обошел, всем рассказал…
Перед днем Советской Армии и Военно-Морского Флота в дивизион приехала рыжеволосая, в очках девушка. Члены комсомольского бюро долго совещались с ней. Потом сержант Журов пришел на кухню, где Сергиенко мыл пол, и посмотрел на него так, что Андрей подумал: «Письмо, кажется, несет». Но сержант сел на табуретку, обвел взглядом столовую, сказал:
— Бюро сейчас было. И о вас шел разговор. Дело вот в чем. В соседнем совхозе будут открывать памятник погибшим в этих краях воинам. Здесь фронт проходил. Имена погибших комсомольцы установили. Так вот, концерт нам нужно дать. Как, споете?
Андрей отжал тряпку, улыбнулся.
— Конечно, спою!
В праздничный февральский день солдатский строй промаршировал по широкой улице поселка. У монумента уже стояла грузовая, обитая кумачом машина. К ней со всего поселка стекались люди. Ребятишки крутились вокруг солдат.
Митинг открыл директор, затем говорила учительница. От имени ракетчиков выступил Журов. И вот ударил барабан, с монумента упало покрывало. Он, точно граненый штык, вознесся в небо. На сером граните были высечены имена тех, кто погиб в этих местах. Принесли живые цветы, мужчины обнажили головы, стало тихо. Но вдруг одинокий, как стон, вырвался женский голос.
— Родненький мой, сыночек!..
Солдаты прошли строем, затем разошлись у клуба. Бахадир потянул Андрея за руку.
— Пошли еще раз посмотрим.
— Бахадир, потом… Мне выступать.
— Успеешь. Пошли, а?..
Бахадир остановился у монумента и почти что по буквам начал читать имена погибших.
— Фе-еро-опонтов А. С., Смирнов К. Д. Видишь, русские. Ка-аучкавичус П. П. Это латыш, да? А может, литовец, Андрей? Куда ты смотришь?
— Читай, читай, я все слышу.
— Ба-ала-санян К. П. Ма-агара-швили К. С. Армяне, да? Нет, нет, Магарашвили — грузин.
Пока он читал и рассуждал с собой, Сергиенко смотрел туда, где у клуба стайкой стояли розовощекие девчонки. И потом он не сразу понял, что говорил и чего от него хотел Бахадир.
— Ты читай, Андрей. Твоя фамилия тут есть. Видишь, Сергиенко.
Андрей подошел поближе, прочитал. «Наверное, — подумал он, — тот солдат был просто однофамильцем. Едва ли, что здесь, за этот поселок, погиб дядя… Инициалов нет. Однофамилец. А если все-таки дядя?». Андрей вспоминал его фотографию, которая помещена в рамку и висит у них в доме, на стене в передней. Дядя был молод, как он. На плечах тоже, как у него, солдатские погоны.
— Пошли, зовут, — ткнул в бок Бахадир.
Андрей пришел в клуб и, дождавшись своего номера, вышел на сцену. Темный зал вспыхнул блеском орденов и медалей. И опять подумалось о дяде. Андрей от волнения сжал кулаки и запел «Землянку». Его вызывали на «бис», но, схватив шинель, он выскочил на улицу. Душили слезы.
Дворовые собаки набросились на него и, кувыркаясь в снегу под ногами, с лаем проводили до самой околицы. Он шел по санному следу и все время видел землянку, над головой слышал рев снарядов. Они, казалось, рвались совсем рядом, и он ежился. Потом успокоился, начал вспоминать то одно, то другое из своей жизни. Ему было всегда хорошо, так хорошо, что он не чувствовал никогда чужой боли. До сих пор жил и особенно не задумывался, что к чему.
Он спустился в ложбину, где совсем стало темно, тихо, впереди на взгорке был виден лес, синело небо. Андрей представил, что дядя его, может, погиб в этой балке. Он, может, шел вот тут, и каждый куст смотрел на него дулом автомата, а потом хлестнул свинец. И боль потушила глаза.
Андрей пришел в себя у проходной, постоял с минуту и пошел в городок. Дневальный с удивлением спросил:
— Ты что, не заболел? Бледный.
— Мороз же… На постах теперь холодно.
— В тулупах ничего. Нет, точно, ты не заболел?
— Посижу и пройдет.
Курганная степь изнывала жарой под куполом белесого неба. По вечерам на горизонте просматривались горбины холмов и заводили скрипучую песню цикады. В палатках держалась банная духота, к утру прилипали к телу влажные и холодные простыни. Но об этом меньше всего говорили ракетчики. Второй день после предстрельбовой подготовки они нетерпеливо ожидали боевых пусков.
В день стрельб дивизион подняли чуть свет. Затарахтел движок, антенны станции шарили по небу, точно болотной ряской покрылись экраны помехами.
Майор, из проверяющих, окинул взглядом стартовый расчет, коротко бросил:
— Вы, сержант, выбыли из строя. Всем в укрытие. Расчет, к бою!
Андрей Сергиенко смекнул, что теперь кто-то должен взять всю ответственность на себя, и крикнул:
— Расчет, слушай мою команду!
Оказавшись у ракеты, он теперь и работал и принимал решения. И, как никогда прежде, чувствовал близость «противника», роковой бег секунд, важность того, что делал он и другие солдаты. Руки опережали глаза, мысли, он едва успевал улавливать команды, а когда ракета легла на установку, Сергиенко вместе со всеми нырнул в укрытие, прижался к холодной стене, подумал: «Ну, милая, давай!».
Ракета вела себя на установке точно живая. Она опускалась вниз, поднималась вверх, к небу, и чего-то ждала. Наконец плеснула огнем и сразу оказалась в небе. Дрогнула под ногами земля. Ракета сделала «горку». Больше, кроме операторов, никто ее не видел. Эхо взрыва донесло о ее первой и последней схватке с целью.
Весь день солдаты с подробностями и восторгом рассказывали об этом друг другу. Андрей слушал их и чувствовал, что его тоже охватила радость. Он сидел у окна и вспоминал первые тренировки, тот самый кросс, когда Журов тащил его к финишу, свой спецкласс, мрачную ложбину, где в него, казалось, стрелял каждый куст. Он даже не заметил, как подошел к нему сержант Журов.
— Ну, как самочувствие после стрельб? — спросил он.
— Отличное! — откровенно признался Андрей.
— Вижу, Андрей, в тебе заговорил настоящий солдат. Этого я и добивался от тебя. А ты мне о какой-то роли доказывал. Мол, сам грамотный.
— Все мы грамотные. Вот тут, в голове, может, и есть что, а в сердце — не у каждого… Смешно вспомнить. А ведь считал: стартовик не мое призвание. Искал, где полегче. Нет, брат, в армии так не бывает. Кем бы ни был, будь прежде всего хорошим солдатом. Вот главная роль. Роль, которую не выбирают.
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
Прежде чем идти домой, Владимир Синельников прямо со станции с чемоданом в руке направился к промтоварному магазину. У прилавка знакомая женщина, заглянув в глаза, спросила:
— Чей будешь-то, не сын ли Федора Потаповича Синельникова? Надо же, какая ему радость. Как раз ко дню рождения отца приехал.
Этому чисто случайному совпадению был рад и Владимир. До армии то учился в профтехучилище, то в педтехникуме на мастера производственного обучения и все домой заглянуть было некогда. А теперь, видно, постарел отец. Годы. Да и война не прошла бесследно. Командиром орудийного расчета прошел Федор Потапович поля сражений России, Польши, Чехословакии и по праздникам не без гордости выходил на улицу с орденами и медалями на лацкане черного пиджака.
А теперь вот сын, продолжая традиции отца, служит честно, по долгу, по совести. Иначе сейчас на первом году службы не летел бы он, как на крыльях, домой в краткосрочный отпуск.
Отцу купил рубашку, носовой платок, галстук, тихо прошел в сени, открыл дверь родного дома, замер на пороге.
Первой стрельнула глазами сестренка Антонина, сжалась вся и бросилась навстречу. В доме поселилась радость. Набились гости. Мать весь вечер не отходила от сына, лишь на второй день утром спросил отец:
— Рассказал бы, как служишь?
В ответ Владимир только улыбнулся.
— Понимаю, нельзя. Ну, а вообще-то.
— Если вообще-то — хорошо, батя. Недавно кандидатом в члены партии приняли.
Отец кашлянул в кулак: что-то вроде запершило в горле, отвернулся, скрыл от сына волнение и заговорил о делах дома, в колхозе.
Служить в дивизион рядовой Синельников прибыл осенью.
— Будете планшетистом, — сказал ему старший лейтенант Леськив.
Освоившись со своими обязанностями, Синельников все чаще стал задерживаться у пульта оператора, за которым сидел ефрейтор Бобко. Опытный специалист с охотой согласился быть наставником любопытного и дотошного солдата. Вместе проводили регламенты, тренировались, разбирали принципиальные схемы на занятиях, а то и, случалось, вечерами сидели над учебниками по радиотехнике.
Войти в мир электроники — значит понять его также, как, скажем, музыкант понимает музыку, архитектор — тайну линий, летчик — свой самолет, когда он сливается с ним и за каждым движением руки чувствует поведение машины. В этом, собственно, заключается суть подхода человека к тому, что он делает. И рядовой Синельников преследовал именно такую цель. Сдавая на классность, он отвечал по двум специальностям: планшетиста и оператора, хотя этого, как молодой солдат, мог и не делать. Командиры приняли решение назначить его старшим оператором, а потом включили в состав полигонного расчета.
…Не в первый раз прибыл сюда дивизион, в котором начал свою службу Синельников. За прошлые стрельбы коллектив ракетчиков неизменно получал «пятерки», держал призовые места в полку. Все коммунисты имели только первый класс. Они люди грамотные, болеющие за свое дело.
Начальник радиолокационной станции сержант Моргун говорил своему подчиненному рядовому Синельникову:
— Знания у вас надежные. И ничего, что первый раз на полигоне. Доверили, значит, не теряйтесь.
Эти слова Владимир припомнил, когда в кабину станции вошел полковник из проверяющих. Моргун представил расчет.
— Так, с кого начнем? Давайте с новичков. Есть такие? Фамилия?
Владимир незаметно вытер вспотевшую ладонь.
— Представьте: идет бой, летят самолеты «противника», а у вас вдруг прекратилось вращение антенн, В чем дело? Ваши действия? — спросил полковник.
Этот наводящий вопрос был всего лишь началом проверки того, как расчет выполнил регламентные работы. Владимир показал офицеру аппаратуру. Тот тщательно замерил параметры, одобрительно сказал:
— Так, молодец! Параметры выставлены точно. Что же, посмотрим, как отстреляетесь.
…Имитированные цели муравьями поползли в разные стороны экрана. Где-то среди них спряталась реальная. Владимир увидел ее и начал выдавать данные.
Подпустив цель к зоне огня, ракетчики произвели пуск. На землю посыпались осколки от мишени.
Осенью в жизни рядового Синельникова произошло еще одно важное событие. Его приняли кандидатом в члены КПСС, а на отчетно-выборном собрании избрали комсгрупоргом взвода. На место одних пришли другие солдаты. Некоторые, так называемые «старички», поднаторевшие в службе, почувствовали себя как бы на особом положении. Какой, мол, теперь с нас спрос, когда есть молодые. В особенности рядовые В. Бардин и А. Посельский. Один — шофер, другой — повар. Владимир предупредил их. Но замечание комсгрупорга они восприняли по-своему.
Как-то вечером Синельников встретил лицом к лицу Посельского.
— Как думаешь служить? — спросил он Посельского.
— А что? Я ничего…
— Ладно, иди, на комсомольском собрании будешь оправдываться.
А сам, чтобы не откладывать дела в долгий ящик, пошел на станцию к сержанту Моргуну посоветоваться.
— Давай соберем комсомольскую группу. Решим, что с ними делать, — сказал сержант.
…Ночью над казармой висел серпообразный месяц. Солдаты безмятежно спали. «Как дома, — подумал Владимир. — А если, кроме меня, никто не выступит? Тогда что? Посельский прав?».
Утром первым делом разыскал коммуниста старшего лейтенанта Леськива.
— Поговорите с активистами, — посоветовал офицер.
Посельский, а вместе с ним и рядовой Бардин на том собрании убедились, что молодой коммунист слов на ветер не бросает. Взбудоражил весь взвод. Выступали даже те, кто раньше не желал подавать свой голос.
А спустя день Синельников собрал актив, наметили, кто что должен делать, какие организовать во взводе мероприятия, чтобы поднять активность комсомольцев. Одни предложили провести состязание на лучший расчет, ефрейтор Струков — учредить специальный вымпел, рядовой Печеневский — заглянуть в план каждого комсомольца, убедиться, готовится ли человек к Ленинскому зачету. С тех пор иная жизнь потекла во взводе, и у самого Виктора будто появилось второе дыхание, стало легче работать.
Взвод вскоре добился звания отличного. Повысил свою классность Синельников, а когда проводили в запас сержанта Моргуна, получил в свое распоряжение радиолокационную станцию. И, наконец, ему присвоили звание младшего сержанта.
Обо всем этом рассказать тогда отцу Владимир не мог: был еще сам на полпути, многого просто не успел сделать. Вот теперь бы — другое дело. В полную меру он отвечал за себя и других, как положено коммунисту.
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Солдатская кровать всеми пружинами издала скрип под тяжелым телом Богачева. Не то от сильной жары, не то от напряжения этого дня, когда пришлось переживать и за людей, и за технику, у него раскалывалась голова от боли. Лейтенант Захаров уже притих на соседней кровати, над подушкой был виден его курчавый чуб.
«Молодец, нервы крепкие», — подумал Анатолий Михайлович.
Впрочем, головные боли он испытывал не впервые. Особенно при утомлении. И возраст будто цветущий — тридцать лет, и сам сложен крепко, натренирован, привык ко всему, а вот поди же, в висках так и стучат молоточки. Конечно, человек — не машина, да ведь и ее, как положено, время от времени выключают, не допускают перегрева. Он же перед полигоном не жалел себя. Душа болела за людей, за технику.
Пришел Захаров в дивизион осенью. Капитан Богачев днем проводил тренировки со своими операторами, а вечером вместо того, чтобы идти домой, частенько оставался с лейтенантом. Часам к двенадцати ночи, как шутил Богачев, они начинали «обалдевать».
В кабине повсюду висели схемы, к выдвинутым из стоек блокам были прицеплены «крокодильчики», тут же рядом стояли приборы, текли замысловатые фигуры на экране осциллографа. Лейтенант Захаров вдруг замирал, прижимал пинцет к губам и, озаренный пришедшей в голову идеей, с торжественным блеском в глазах всматривался в Богачева. Анатолий Михайлович поспешно спрашивал:
— Что, прояснилось?
— Кажется… Ох, нет, не то, — и в глазах Захарова затухал блеск, он успокаивался с надеждой на то, что капитан отыщет правильное решение. А как-то сказал:
— Анатолий Михайлович, вы почему домой не идете? У вас семья, Ленка. К тому же за меня с вас не спросят. Идите, Анатолий Михайлович. Я один справлюсь.
— Саша, у тебя, вижу, нервы сдают. Знаешь что, перед большим делом надо устроить маленький перекур. Пошли на морозец.
Ясная луна в окружении звезд висела над дивизионом. Искрился снег на обочине дороги, на крышах построек, на вершинах вековых сосен.
— Куинджи! Правда, Анатолий Михайлович?
— Да, Куинджи. Но мне бы сейчас на санках, как бывало в деревне. Я, понимаешь, в Ленинграде рос, а вот деревня помнится больше.
— И блокаду захватили?
— Нет, мы позже переехали. Жизнь все равно после войны не мед была. Отец погиб, я его не помню, мать уборщицей работала: какие по тем временам заработки. Семь классов все же я закончил, потом токарем на «Электросиле» работал… Вечером учился.
В кустах трепыхнулась полусонная птица, вспыхнуло белое облачко снега, и все опять замерло. Богачев зябко на холоде вздрогнул, заговорил о другом:
— Вот ты говоришь спать иди. Не могу. Прошлый год на полигоне как было? Тренировались, надо сказать, не меньше. Теоретически подготовились здорово. Поставили и соревнование на хорошую основу, а вот результат мог бы быть лучше. Причина? Была слабинка, она и проявилась. А надо делать так, чтобы во всем был запас прочности. Не выполнять, скажем, на «отлично» нормативы, а перекрывать их, не просто знать аппаратуру и уметь на ней работать, а чувствовать ее. Такие, например, люди, как командир наш, особым чутьем обладают. Управляя боем, он прогнозирует обстановку, а это уже искусство. Иные же у нас, даже некоторые коммунисты, рассуждают так: сделал свое дело — и ладно. Так не пойдет, Саша. Не пойдет, понял?
— Чего же не понимать. Я вида только не подаю, а душа болит. Да и совесть не на месте.
— Казниться рано, пошли в кабину.
С тех пор между ними установилось согласие, перешедшее в дружбу. Впрочем, Анатолий Михайлович дружил не только с Захаровым. В маленьком гарнизоне, каким является дивизион, дружба — не последнее звено в успехе всего коллектива. Люди прокладывают здесь друг к другу тропку самым кратчайшим путем — на службе, при несении боевого дежурства. Здесь они проводят большую часть времени и здесь по конкретным делам, по тому, какой вклад в общую копилку вносит человек, судят о нем и познают его ценность. Если же говорить о капитане Богачеве, то вся его деятельность и он сам не раз подвергались пробе на качество. В одной из аттестаций записано, что он «выдержан и тактичен. По характеру спокоен и общителен. Пользуется авторитетом среди товарищей. Избран секретарем первичной партийной организации». К этому следует добавить мнение командира дивизиона, который говорил так:
— Анатолий Михайлович хорошо подготовлен технически, толково и четко руководит расчетом, обладает незаурядным спокойствием. На него можно положиться в бою, он быстро схватывает обстановку и оценивает ее грамотно, правильно. Коммунист прямой и откровенный.
Но сам капитан Богачев о себе таких слов не слышал. Познавший в детстве нужду, он понял смысл самой жизни в армии. В нелегком труде приходило к нему призвание, а честь дивизиона стала и его честью.
И потому все, что бы ни делал он, первоначальное измерение поступков начиналось с боевой готовности, ради которой жил здесь и трудился каждый. Даже на рыбалке Анатолий Михайлович вдруг улавливал тревожный стук сердца, собирал снасти и спешил в казарму. Оказывалось, причин для беспокойства не было, но вот выработанная годами службы заботливость о людях сама вела к ним. Для подчиненных его приход был закономерным явлением. Они всегда его ждали. Первым не выдерживал ефрейтор Морозов, к нему подключался ефрейтор Мещанов, младший сержант Тугай. Беседа начиналась с небольшого вопроса, а заканчивалась не раз дискуссией. Они выдвигали свои «теории» перехвата целей на малых высотах, ниспровергали с пьедесталов некоторых поэтов, художников, утверждали любовь как высший дар природы, с презрением и ненавистью относились к империалистам. В эти минуты они были радостными парнями, которых любил и порой строго отчитывал капитан Богачев. В каждом он хотел видеть воина с богатством духовных сил, мастерства, физической выносливости, идейной убежденности, наследника отцовских традиций. Чтобы однажды, если потребуется, пойти в бой смело и без оглядки.
И он верил в людей. Они, правда, все время менялись. Но сколько бы раз он ни был на полигоне, убеждался, что каждый трудится здесь в поте лица, волнуется и переживает. Это видел капитан Богачев и по поведению операторов, двух ефрейторов Морозова и Мещанова. Оба они первоклассные специалисты, в любой обстановке работают уверенно, и все же ожидание стрельб сказывается на их поведении. Капитан Богачев хорошо понимал их и всячески старался оградить от излишней нервной нагрузки. В последний день он сам проверил всю аппаратуру, обговорил с операторами различные варианты боя и только потом разрешил отдых.
Сам же пошел на партийное собрание. Коммунисты собрались в палатке. Совсем почернели лица стартовиков, у иных выгорели брови, облупились носы. Совсем иначе выглядят техники кабин. Они бледнее и рады-радешеньки, что, наконец-то, скатилось за горизонт солнце, спала жара и банная духотища.
Собрание началось с выступления командира, который обрисовал обстановку, доложил о стоящих перед коммунистами задачах.
— Товарищи, кто имеет слово? — обратился ко всем председатель собрания.
Высказываться коммунисты не спешили: встать за трибуну — дело нехитрое, главное, что сказать перед столь ответственным и важным моментом — стрельбами? К тому же каждый сидящий здесь человек не за себя ведь только, а и за свой коллектив должен был отчитаться перед партийным собранием. Первым решился Анатолий Михайлович Богачев. Он медленно подошел к столу, помолчал и произнес:
— Товарищи коммунисты, у нас все готово. Операторы работают по целям уверенно, с поставленной задачей справимся успешно.
И лед, что называется, тронулся. Уверенность и решительность коммуниста зажгла других. Выступающие были кратки, придавали каждому слову особый вес и значение, а когда закончилось собрание и начали расходиться, капитана Богачева остановил командир.
— Правильно сказали, Анатолий Михайлович, без уверенности в бой идти нельзя.
— Поймите меня правильно… Я не ради красного словца. Сказал то, что есть на самом деле.
— Я так и понял вас. Впрочем, идемте спать, выспаться перед стрельбами надо.
Сигнал сирены поднял ракетчиков на ноги. А вскоре ожил весь ракетный комплекс. Ефрейторы Морозов и Мещанов вели поиск. И вдруг на экранах заплясали белые пятна и полосы помех. В кабине сразу посветлело. С командного пункта сообщили, что цель — в воздухе. Но где точно находилась она, пока было неизвестно.
— Поиск! — подал команду капитан Богачев.
Ефрейтор Морозов на долю секунды увидел на экране цель, крикнул:
— Есть цель!
Цель захватили и другие операторы. Теперь, как бы она ни скрывалась в помехах, ракетчики вели ее, и капитан Богачев приготовился к пуску. Расстояние с каждой секундой сокращалось, «противник» подходил все ближе. Богачев медлил. Наконец он вдавил кнопку. И тут же, словно волной, ударило кабину. Она закачалась. Но на это никто не обратил внимания. Операторы, командир, посредник не сводили глаз с экранов. Они видели то, как ракета все выше и выше забиралась в небо. За нею смотрели выскочившие из укрытия стартовики. Они то теряли ее из виду, то находили по серебристому всплеску корпуса. И тогда кто-нибудь кричал:
— Вот она!
Капитан Богачев не отрывал глаз с экрана. Маленькая яркая меточка пробивалась среди помех к своей цели. Иногда, правда, Богачев терял отметку за белым шлепком помехи, но ракета тут же выныривала из-за нее уже на чистом, голубом поле экрана. Цель старалась уйти. Ее спасением были высота и скорость. И она лезла вверх, должно быть, чувствовала за собой погоню, и еще на что-то надеялась, искала шансы на спасение.
Бросаться вниз ей теперь не было никакого резона. Это означало идти на сближение с ракетой, то есть на верную смерть. Маневрировать? Поздно. Что же тогда делать? И цель, обреченная на погибель, загнанная ракетой на высоту, спасалась бегством. Она уходила быстро, надеясь, что у ракеты не хватит сил и скорости догнать ее. Однако эти расчеты были напрасны.
Капитан Богачев весь напрягся, он видел только цель и настигающую ее ракету. А потом всплеск, белое облачко на месте взрыва и серебристый дождик. Это уже падали обломки…
В кабине было тихо, тихо.
— Чисто сработано, — первым произнес посредник. — Молодцы, ничего не скажешь, — и вышел.
Все, кто был в кабине, принялись поздравлять друг друга. Они обнимались и жали руки. На улице стартовики прокричали «ура», кто-то подкинул вверх пилотку.
Капитан Богачев вышел из кабины. С восточной стороны над барханами собирались и мрачнели тучки. Они, как чернильное пятно, все больше и больше заливали небо, но тучки эти были пока слабые, тонкие, словно марлевые, основные силы были где-то далеко, за барханами, и там, наверное, был гром, сверкала молния. Здесь же ракетчики видели только зарницы.
Капитан Богачев услышал:
— Я сам видел… она прямо над землей, ну, думаю, сорвется, аж все замерло. А потам… вверх!
Анатолий Михайлович улыбнулся, он знал, что рассказчик в чем-то неправ и что в пылу разгоревшихся страстей он не жалеет красок. Но разве в этом была суть дела? Главное — бой выигран.