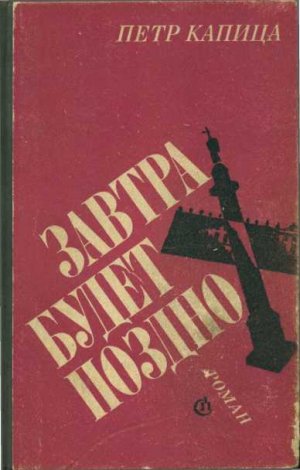
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СНЕГ ПАХНЕТ РОССИЕЙ
Каждый день, надев горные сапоги, Ульяновы уходили после завтрака вверх по каменистой тропе в сторону белевших вершин и пропадали там до обеда.
Прежде в этих местах русских никто не видел, поэтому хозяин пансионата, старый горец Чудивизе, внимательно к ним приглядывался.
Ульяновы были уже не молодыми людьми: обоим явно перевалило за сорок. Прибыли они усталыми и бледными, словно долгое время не бывали на свежем воздухе.
Гладкое и круглое лицо Ульяновой порой розовело, точно от внутреннего жара, чуть выпуклые глаза привлекали внимание пристальным взглядом и каким-то неестественным блеском.
Ульянов ничем особым не выделялся, разве лишь огромным выпуклым лбом и большой лысиной. На его скуластом и подвижном лице виднелись глубокие морщины. От карих и очень живых глаз морщины разбегались наподобие лучей и делали их лукаво-веселыми.
Ульянов носил небольшие усы и бородку. Они у него были не русыми и не рыжими, а скорей светло-коричневыми и придавали всему лицу золотистый оттенок.
Одевались русские просто, видно было, что за модой они не гонятся.
В конце первой недели Ульянова пришла к хозяину с просьбой.
— Нельзя ли хоть немного разнообразить стол, а то утром все молочное, обед почти весь на молоке и на ужин — сыр, простокваша, творог. Мы привыкли к мясным блюдам, — сказала она, — а они у вас редкость.
— Так и должно быть, — ответил хозяин. — Если вам кто-либо сказал, что здесь питание иное, то, вас обманули. Чудивизе славится молочным столом! Здесь легочники поправляются и толстеют. У меня все хозяйство приспособлено для этого. Но я не упрямец, если господа захотят, то за дополнительную плату на кухне мы приготовим все, что можно достать во Флюмсе.
Больше русская не говорила о еде. Видно, лишних денег у нее не оказалось.
Ульянов ждал каких-то важных сообщений. Стоило на ослике привезти почту, как он первым направлялся к сумке, быстро просматривал телеграммы, письма, посылки и забирал газеты. И вот однажды, прочитав телеграмму, Ульянов сильно побледнел и молча опустился на ступеньки крыльца.
— Что случилось, Володя? — встревожилась его жена.
— Умерла мама, — сдавленным голосом ответил он. Сразу же Ульянов ушел к себе. В комнате он повалился ничком на постель и не двигался.
Надежда Константиновна села у окна в сторонке. Она знала: утешать его не следует. Чуждый всяким сентиментальным излияниям, он не переносил банальных, пустых слов.
В этот день они не пошли ни обедать, ни ужинать.
Одна беда, как говорят, не появляется, жди другую. Едва Владимир Ильич стал приходить в себя, как обрушилась на него неприятная весть. Рукопись брошюры «Империализм, как новейший этап капитализма», над которой он трудился с утра до вечера, пропала, не дошла до редактора. Видимо, задержана военной цензурой.
А ведь из-за нее они оставили друзей в Берне, перебрались в Цюрих и поселились в не очень удобной комнате у сапожника, чтобы жить поближе к библиотеке. Легальная брошюра, написанная по заказу горьковского издательства «Парус», далась Ленину нелегко: пришлось не только прочитать уйму книг, но еще и хитрить, изощряться, ограничивать себя лишь теоретическим анализом, а замечания о политике делать намеками, чтобы обмануть цензуру.
Напряженная многомесячная работа изнурила его, вызвала бессонницу. Надо было дать хотя бы короткий отдых мозгу. А тут и Надежду Константиновну в городской духоте стала одолевать старая болезнь, которую она небрежно называла «базедкой». Унимал и успокаивал базедову болезнь только горный воздух. Но где взять денег хотя бы на пансион без лечения? В Швейцарии трудно было заработать франки, особенно эмигрантам.
Один из цюрихских друзей вспомнил, что в кантоне Сан-Гален есть недорогой пансионат, но тут же предупредил:
— Туда, обеспеченная публика не едет. У Чудивизе нет никаких услуг, даже комнату надо убирать самим. Но что вы хотите за два с половиной франка в день? Небогатого человека такой дом в диких горах устраивает. С развлечениями там неважно. Верней — их вовсе нет.
— Спасибо, это нас, кажется, устроит, — поблагодарила Надежда Константиновна.
Отослав рукопись об империализме во Францию, они быстро собрались в путь. Уложив в два саквояжа белье, рукописи и книги, они поездом доехали до горного местечка Флюмс, а там, погрузив вещи на ослика, пешком зашагали вверх по горной тропе.
Пансионат Чудивизе прилепился к скалам почти у заснеженной вершины. Публика в нем отдыхала самая простая: ремесленники, служащие кантона, телеграфисты и конторщики железной дороги, старые девы — учительницы, солдат и две девицы без определенных занятий. Из эмигрантов никого не было.
— Архирасчудесно! — обрадовался Владимир Ильич. — Похоже, что мы здесь действительно отдохнем.
В первый же день Надежда Константиновна предложила:
— Володя, давай условимся: в горах ни читать, ни писать, только бродить и набираться сил.
— Полностью подчиняюсь, — согласился он. — Ты права, надо дать отдых мозгу и нервам.
Первые дни он действительно, кроме писем, ничего не читал и не писал. Они вдвоем забирались по кручам почти до самых вершин. Там, среди дикой природы, начиналась полоса иного климата. А главное — веяло чем-то неуловимо родным.
— Что за колдовство? — не могла понять Надежда Константиновна. — Почему здесь так необыкновенно хорошо? Словно в России. Может, это благодаря северным растениям? Смотри, Володя, сколько черничника! И ягоды уже синеют.
— Нет, не черничник и не малина. Виноват снег, — определил Владимир Ильич, — я давно заметил: снег в горах пахнет Россией.
Как далека была од этих мест родина! Почти за тридевять земель. С первых же дней войны нейтральная Швейцария оказалась в мешке среди враждующих стран. Простейшие вести, посланные из России кружными путями, часто застревали в сетях военной цензуры. Тоненькие ниточки связи то и дело обрывались, их все труднее и труднее стало восстанавливать.
Как там товарищи? Кто из них уцелел в подполье?
Жизнь в пансионате Чудивизе первые недели протекала спокойно. Убирать небольшую комнату оказалось нетрудно. Половицы были аккуратно выкрашены, а простая деревянная мебель легко передвигалась. На время уборки Владимир Ильич, как истый швейцарец, засучивал рукава рубашки, брал обе пары горных сапог и шел под навес, где находились мазь и сапожные щетки.
Ему полюбился этот утренний час, когда под. навесом собирались чистильщики сапог. Здесь можно было узнать новости, уловить настроение швейцарцев, пошутить и посмеяться.
Самым ловким и умелым чистильщиком сапог оказался солдат, приехавший подлечить легкие. Он охотно показывал русскому, как надо смазывать горную обувь.
— У господина, наверное, очень строгая жена?
— Да, чрезвычайно требовательная особа, — расхохотавшись, согласился Владимир Ильич.
Так они разговорились. Парень охотно отвечал ему на вопросы. В Швейцарии не существовало регулярного войска, а лишь милиция. Служба была легче, нежели в русской армии, и начальство не распускало рук. Оно даже порой заботилось о рядовых: послало солдата в пансионат. Он жил здесь на казенный счет.
Грамотный и покладистый швейцарец пришелся Владимиру Ильичу по душе. Он исподволь стал наводить солдата на мысль, что империалистическая война простым людям не нужна, что парням, одетым в военную форму, незачем убивать друг друга. Оружие следовало бы повернуть против тех, кто затевает войны и гонит рабочих и крестьян на смерть.
Солдат внимательно слушал, даже кивал головой в знак согласия, но Владимир Ильич видел: в душе швейцарец равнодушен, глаза его пусты, они не загорались от мятежных мыслей, как это бывало у питерских парней.
А стоило заговорить о том, что следовало бы сделать в Швейцарии, если она вдруг будет втянута в войну, как солдат начинал обеспокоенно вертеть головой и, приметив какую-нибудь вышедшую девицу, смущенно перебивал:
— Прошу прощения… меня ждут. Очень приятно было разговаривать… Мы еще встретимся.
Он вежливо раскланивался и уходил.
— Не-ет, со швейцарцами каши не сваришь, — жаловался Владимир Ильич Надежде Константиновне. — Слишком они вежливы, боятся дерзнуть, нарушить мещанское благополучие.
— Ну, зачем тебе понадобился этот солдат? — не без упрека спрашивала она. — Мы ведь приехали сюда отдыхать.
Пропажа рукописи хотя и потрясла Владимира Ильича, но не выбила из колеи. Ведь остался черновик, его можно переписать.
Добыв тонкую бумагу, он принялся писать на ней мельчайшим почерком, не оставляя полей.
Черновой вариант собственной рукописи механически переписывать не будешь. Ленин то улучшал фразы, то изменял их так, чтобы никакая цензура больше не могла придраться.
Придумывая, как изменить заголовки и как вложить иной смысл в обыкновенные слова, он долго не мог уснуть, порой ворочался до утра. А в пансионате была традиция всех покидающих дом Чудивизе провожать песней. Отбывающие, чтобы не шагать на вокзал по жаре, обычно вставали с первыми петухами. И вот на рассвете, когда Владимира Ильича охватывал первый сон, начинал громко звонить колокол, созывавший голосистых швейцарцев, а через несколько минут под гармошку возникала песня о кукушке, которую пели на прощание.
Разноголосое кукование швейцарцев под окнами, конечно, будило Ульяновых. Ворча на певцов, Владимир Ильич натягивал одеяло на голову, но заснуть уже не мог. Потом весь день ходил с головной болью.
Наконец рукопись была переписана, упрятана в толстые обложки книг невинного содержания и отослана во Францию. В этот же день Надежда Константиновна сказала:
— Володя, довольно сидеть за столом! Где твое обещание? Мы же удрали в горы отдыхать.
— Да, да, конечно, — спохватился он, — одевайся, идем к снежным вершинам. А как твоя базедка?
— Почти утихомирилась, но после волнений опять жар появился… И сердце ни с того ни с сего вдруг стало колотиться.
— А ты йод принимаешь?
— Сегодня еще не пила.
Владимир Ильич накапал в стаканчик немного йоду, разбавил его молоком и дал жене выпить.
— Йод надо принимать ежедневно, особенно — в горах, — назидательно сказал он.
Владимир Ильич знал, чем можно укротить базедку, потому что еще три года назад, когда надо было решить — делать операцию Надежде Константиновне или нет, он прочитал все, что нашел в книгах об этой болезни.
На прогулке Владимир Ильич любил поразмышлять вслух, особенно — при Надежде Константиновне. Жена была понимающим и заинтересованным слушателем. Она никогда не перебивала его, а слушала до конца и лишь затем высказывала свое мнение, да не просто, а с юмором и порой так, что Владимир Ильич останавливался пораженный и принимался хохотать. Он любил смешное.
Добравшись до зарослей малины, где веяло прохладой с заснеженных гор, Владимир Ильич некоторое время постоял с закрытыми глазами и признался:
— Ух, как я соскучился по России! Неужели мы еще одну зиму проведем в Швейцарии?
Потом он уселся на замшелый ствол поваленного дерева и, слегка прищурясь, принялся читать захваченную с собой корректуру нелегального сборника, а Надежда Константиновна забралась в густой малинник.
Малина уже перезрела: стоило неосторожно дотронуться до ветки, как ягоды осыпались на землю. Увесистая темно-красная малина, сгибавшая ветки, на удивление была сладкой и сочной. Набрав полную горсть, Надежда Константиновна вернулась к Ильичу.
— Смотри, Володя, какая громадина. Попробуй.
Чтобы не запачкать соком листы корректуры, он прямо с ее ладони втянул в рот ягоды и, проглотив их, сказал:
— Необыкновенно вкусная!
К концу августа горы стало затягивать тучами, все чаще и чаще моросил дождь. Пришла пора и Ульяновым покидать пансионат Чудивизе.
Они хотели уйти на вокзал незаметно, поднялись с постелей чуть свет. Быстро собрали вещи и вышли во двор. Там их поджидал хозяин.
— Желаю счастливого пути, — сказал он. — Приезжайте еще, вы были приятными гостями. Если что было не так — прошу прощения.
— Нет, нет, мы вполне довольны, — поспешил заверить Владимир Ильич. — Если будет возможность, обязательно приедем.
Старый Чудивизе помог приторочить к седлу ослика поклажу и поднял руку. Сразу же послышался звон колокола. Во двор стали собираться отдыхающие швейцарцы. Вышел и хозяйский сын с гармошкой. Растянув мехи, он запел прощальную песню, ее подхватили провожающие.
Несмотря на дождик, сеявший с низко нависших туч, швейцарцы проводили Ульяновых до поворота тропы, ведущей на вокзал, и остановились, продолжая петь.
Владимир Ильич снял шляпу и помахал ею провожавшим. В ответ заколыхались белые платки, песня стала звучать громче. Даже когда ослик вошел в лес, голоса швейцарцев еще слышались, особенно четко доносилось: «Прощай, кукушка!»
Потом все стихло, лишь шуршали камешки, выкатывавшиеся из-под копыт ослика.
Капли дождя, поившие мох и землю, были так мелки, что от них даже не шелестели листья на деревьях.
Владимир Ильич вдруг свернул с тропы и окликнул жену:
— Надя!.. Скорей ко мне… ты только взгляни… даже срывать жалко. Лесное чудо!
Не понимая, что могло привести Ильича в такой восторг, Надежда Константиновна поспешила к нему и еще издали увидела две темные головки, выглядывавшие из рыхлой земли. Чуть дальше сидел на толстой ножке еще один белый гриб.
— Какая прелесть! Подожди, подожди, Володя, не срывай, дай полюбоваться!
— Надо поискать вокруг, они ведь растут семьями.
— Но мы же опоздаем к поезду, да и дождик не перестает.
— До станции еще не менее шести километров. Мы все равно промокнем. И поезд не последний, сядем на следующий.
Она знала, каким азартным он становился, когда собирал грибы, поэтому не стала перечить. Вернулась к поклаже, взяла холщовый мешок, нож и, отослав мальчика с осликом на станцию, отправилась с Владимиром Ильичем искать грибы.
Белых здесь оказалось много. В лесу то и дело слышалось:
— Надя, я еще нашел. Гляди, какой красавец… ножка с кулак!
— Ия вижу. Не грибы — чудо! Все крепкие, нечервивые. Странно, что швейцарцы белых грибов не признают, относятся к ним как к поганкам.
— Н-да, многое они теряют, не отведав маринованных боровичков.
За какой-нибудь час Ульяновы почти доверху наполнили мешок белыми грибами.
— Если расскажешь кому-нибудь — не поверят, — сожалел Владимир Ильич. — Сочтут за охотничьи выдумки.
В лесу Ульяновы промокли до последней нитки, но им казалось, что этот час они провели на родине.
ДЕВУШКА С ВЫБОРГСКОЙ
В вагон паровой конки вошла раскрасневшаяся от быстрой ходьбы девушка, державшая в руке небольшой судок — две самодельные кастрюльки, поставленные одна на другую и скрепленные общей ручкой. В таких судках жены рабочих носили к проходным заводов обеды.
— Скоро поедем? — спросила она у кондуктора.
— Накопится пассажиров, вот и поедем, — буркнул тот.
Девушка уплатила за проезд до конца маршрута и уселась. Достав из кармана небольшую книжку, она раскрыла ее почти на середине и начала читать.
На вид ей было не более семнадцати лет. Внешне она ничем не отличалась от работниц Выборгской стороны: темное грубошерстное полупальто, синяя из крепкой материи юбка, дешевые чулки и ботинки с невысокими каблуками.
Женщины, входившие в вагон, с недобрыми ухмылками косились в ее сторону.
— Грамотейкой прикидывается, а сама-то, наверное, книжку вверх ногами держит, — сказала одна из них. — Любят некоторые из себя барышень корчить.
Девушка так увлеклась чтением, что не расслышала этих недобрых слов и не заметила, как пыхтящий паровичок, дав два пискливых гудка, потянул за собой вагончики.
Паровая конка уже двигалась по Сампсониевскому проспекту, когда девушка вдруг почувствовала на себе пристальный взгляд. Не сразу она подняла голову.
Вагон был заполнен солдатками. Они громко разговаривали между собой, возмущались ценами на рынке, ругали спекулянтов и жаловались на трудную жизнь, не обращая внимания на девушку с книжкой.
В дальнем конце вагона, уткнувшись носом в поднятый меховой воротник, сидел длиннолицый парень и, казалось, дремал: его припухшие веки были сомкнуты.
«Кто же смотрел на меня? — не могла понять девушка. — Неужели ошиблась?» Она вновь принялась читать книжку. Но неприятное ощущение, какое бывает, когда на тебя смотрят в упор, не покидало ее. Чтобы проверить себя, девушка быстро вскинула глаза и наткнулась на острый взгляд парня. «Кто он такой? Почему прикидывается, дремлющим? Кажется, я его где-то видела. Неужели следит? — встревожилась она. — Чего доброго, шпика за собой притащу».
Настороженно прислушиваясь к разговорам, девушка еще некоторое время смотрела в книжку, затем закрыла ее, зевнула, поправила шерстяной платок на голове и, как бы заметив в окно приближение своей остановки, торопливо схватила стоявший рядом судок и начала пробираться к выходу.
Парень, сидевший в углу, не шелохнулся.
Сойдя с площадки на мостовую, девушка перебежала на панель и оглянулась: из вагона больше никто не выходил.
Конка тронулась. Видя, что и на ходу мужчина не спрыгнул, девушка в сердцах обругала себя: «Вот дурища! Выскочила раньше времени, а он, видно, смотрел на меня оттого, что я книгу читала. Тоже нашла место для чтения. Сколько раз давала слово не брать с собой книг и опять не утерпела. Теперь тащись версты три пешком».
Все же она не пошла по Сампсониевскому, а свернула в переулок.
Катя Алешина родилась в Петербурге на Выборгской стороне, но всякий раз, когда она проходила мимо захламленных пустырей и жалких лачуг рабочей окраины, не могла перебороть в себе гнетущего чувства: «Неужто до старости не увидим другой жизни?» Здесь все было унылым: и грязный снег, и слякотная дорога, и карликовые домики с залатанными крышами, и мутно-серое, задымленное небо.
А ведь за Невой даже солнце светило по-иному! Стоило только перейти Литейный мост и попасть на левый берег реки, как ты словно оказывалась в ином городе — просторном, светлом, с широкими и прямыми проспектами, сверкающими витринами магазинов, с широкими торцовыми мостовыми, по которым беззвучно проносились лакированные кареты и пролетки лихачей-извозчиков.
За Невой и дышалось легче. Но Катя не любила бывать в центре города. Там к таким, как она, бедно одетым работницам относились с презрением. Даже горничные и приказчики магазинов называли жительниц окраины «фабричной пылью».
Правда, было время, когда Кате хотелось стать похожей на томных и белолицых гимназисток — дочек домовладельцев, инженеров и чиновников.
Вон там, где начинаются улицы, похожие на центральные, стоит трехэтажное каменное здание — женская гимназия. Еще два года назад Катя бегала сюда каждое утро с сумкой, в которой лежали аккуратно завернутые в бумагу учебники и тетради. Следовало бы обойти этот дом стороной, не показываться в таком виде прежним одноклассницам.
Но почему? Только из-за того, что она одета хуже их? Нет! Ей нечего стыдиться. Она не глупей их. И училась лучше. Не зря же завидовали зубрилы Широкова и Базанова. Им просто повезло, что они родились в богатых домах и никогда не жили в подвале. Она больше не покраснеет, не смутится, если они при всех спросят: «Не твоя ли это мать нанимается в прачки?» И пусть шушукаются сколько хотят.
Катя, конечно, была бы такой же малограмотной, как и ее подруги по цеху, если бы не отец.
Отец! Ей вспомнились его добрые, с золотистым огоньком глаза, жесткие усы и большие, ласковые ладони с темными трещинками.
Он приходил с работы усталый, покряхтывая мылся холодной водой, быстро съедал обед, помогал матери убрать посуду и говорил:
— А ну, Катюша, садись, рассказывай, что было в школе.
Он слушал внимательно, требовал не спешить, вспомнить все, что говорилось в классе. Потом они вместе готовили уроки: Катя в своих тетрадках, а отец на обрывках оберточной бумаги. Он старательно склонял существительные по всем падежам, запоминал правила грамматики, на память знал таблицу умножения и лучше дочки умел делить многозначные числа, хотя никогда не ходил в школу. Он взрослым постигал то, что не удалось узнать в детстве.
— Вот как у нас здорово получается, — шутил отец, — за три рубля оба учимся.
И Катя для него старалась запомнить и удержать в голове каждое слово учителей. Это выделяло ее среди сверстниц, — она всегда была первой ученицей. Четырехклассную начальную школу девочка закончила с отличием.
— Будешь учиться дальше, — радуясь ее успехам, сказал отец. — С осени в гимназию пойдешь.
— Зачем девочке грамота? — ворчала на него мать. — Записки парням писать? Хватит и четырех классов. Пусть на портниху учится. Я вот ни одной буквы не знаю, а в лучших домах горничной была.
— Ишь какое счастье — горничной! — не сдавался отец. — Не будет моя дочка подтирушкой у господ. Курить брошу, рюмки лишней не выпью, а Катюшу выведу в люди.
И он действительно не курил, отказывал себе в кружке пива, сберегал каждую копейку, чтобы вовремя уплатить в гимназию, чтобы у Кати были форменные платья, передники и кружевные воротнички.
Отцу приходилось работать по десять — двенадцать часов в день. Он приходил с завода измотанным, с запавшими глазами и осунувшимся, темным лицом, но часто оставался после ужина за столом и допоздна читал какие-то книжки, которые прятал в тайничке за божницей.
— Куда суешь? Не безбожничай! — укоряла мать. — Вот попомни мое слово: не доведут до добра твои книжки.
Ее предчувствие сбылось. Зимней ночью раздался. стук в дверь. Мать соскочила с постели и босиком подбежала к порогу.
— Кто там?
— Полиция.
— Не отпирай, Луша, — остановил ее отец. — Зажги лампу.
Он встал на табуретку, торопливо пошарил рукой за божницей, достал какие-то листки и две тоненькие книжечки, сунул их в валенки и только тогда надел валенки на ноги.
Дверь уже тряслась от тяжелых ударов.
— Откройте, а то взломаем.
Отец сам отодвинул засов и распахнул дверь. В комнату вошли двое городовых, закутанных в башлыки, околоточный и какой-то штатский с поднятым воротником.
— Почему не открывал? — накинулся на отца околоточный. — Листовки прятал?
— Какие листовки? — недоумевал отец.
— Не прикидывайся простачком, нам все известно.
Они перерыли постели, повыбрасывали из комода белье, заглянули во все уголки и, наткнувшись на Катины учебники и тетради, начали перелистывать их.
— Откуда это? Чье?
— Дочери, — ответил отец, — в гимназии учится.
— В гимназии? — удивился околоточный. — Ого! А все бедняков разыгрываете.
Полицейские увели тогда отца с собой.
Кате с матерью удалось увидеть его только после суда, в пересыльной тюрьме. Их пропустили в длинную комнату свиданий и поставили за деревянный барьер. Вдоль барьера и железной решетки, за которой находились осужденные, расхаживал надзиратель.
Все здесь перекликались одновременно, нужно было напрягать слух, чтобы уловить голос отца в общем шуме.
— Дали пять лет… ссылают в Якутию… — сообщил он.
Лицо отца было серым, он зарос бородой и казался таким худым, что Катя заплакала от жалости.
— Не плачь, дочка, держи голову выше. Твой отец попал в тюрьму не за грабеж. Когда вырастешь, узнаешь, чего я добивался. И ты, мать, не горюй. Вернусь, не пропаду. Только Катюшу сбереги и дай ей доучиться.
Отец еще что-то выкрикивал, но за барьером женщины подняли такой плач, что Катя уже ничего не расслышала. Она только видела, как надзиратели отрывали от железных прутьев решетки руки сопротивлявшихся арестантов и силой уводили их из комнаты свиданий.
Девушка на всю жизнь запомнила тот день, когда ее вызвала к себе начальница гимназии — высокая и прямая старуха с блеклыми глазами. Разглядывая Катю в лорнет, она сказала:
— Вот что, милая девочка… М-мы очень сожалеем… я знаю твои успехи в классе… но у нас бесплатно не учат, а твои родители не внесли платы.
— У мамы сейчас нет денег, — сказала Катя.
— Я так и думала. Мы, конечно, могли бы обратиться к попечителю, похлопотать об отсрочке… Но твой отец государственный преступник.
— Нет, мой папа не преступник.
— Честные люди не попадают в тюрьму, — отделяя слово от слова, поучающе заметила начальница.
У Кати перехватило дыхание от обиды за отца.
— Это неправда, он честный!
— Кто тебе позволил таким тоном разговаривать со старшими? — поднимаясь с кресла, повысила голос начальница. — Собери книги и больше не приходи в гимназию!
Выходя из кабинета, Катя ничего не видела перед собой, слезы застилали глаза.
«Конец, всему конец, — думалось ей. — Больше уже не приду в гимназию, не сяду за парту, не разверну тетрадки… Никогда! Меня не вызовут ни к карте, ни к доске, не скажут: «Отлично, Алешина». Никогда…»
Уроки уже начались. Сдерживая подступившие к горлу рыдания, Катя уселась на подоконник в конце опустевшего коридора и там просидела до звонка. А когда девочки выбежали из класса, она с сухими глазами прошла к своей парте, собрала в сумку книги и, не отвечая на расспросы подруг, поспешила в раздевалку.
Волю слезам девочка дала лишь дома. Бросив сумку на кровать, она уткнулась носом в подушку и разрыдалась.
Мать успокаивала ее:
— Плюнь ты на эту гимназию. Без нее проживешь. Я тебе место у хороших господ присмотрела. На всем готовом и три рубля в месяц. Работа пустяковая: за двумя девочками присматривать да прислуживать, когда гости придут.
— Не буду я прислуживать господам, — в сердцах ответила Катя. — Лучше в Неву брошусь.
На другой день еще до гудка она пошла к проходной завода «Айваз» и там встретила старого друга отца — слесаря Гурьянова, рассказала ему обо всем.
Тот слушал ее и возмущался:
— Ну, погоди ж, отольются им наши слезы, все припомним!
Историю с гимназией он принял близко к сердцу.
— Ладно, Катюша, не горюй, найдем тебе дело. Прокормитесь с матерью.
Гурьянов провел Катю на завод и зашел с ней в механическую мастерскую.
— Тут у нас мастер свой, — шепотом сказал он, — попробую уговорить. Подожди немного.
Гурьянов скоро вернулся с какой-то бумажкой.
— Вот тебе записка, покажешь ее в конторе. Только не забудь лишний год себе прибавить, а то не примут.
В этот же день Катя получила пропуск на завод — круглую жестянку с номером — и на следующее утро по гудку явилась в механический цех.
Мастер поставил ее на браковку металлических изделий. Дело оказалось несложным, девушка быстро приноровилась к нему. Но первой ее получки хватило лишь на уплату долга за комнату.
Мать почти ничего не зарабатывала. Ее перестали нанимать на стирку белья и мытье полов — боялись пускать в дом жену политического ссыльного.
Светлая комната в деревянном доме у горы Поклонной стоила дорого. Кате с матерью пришлось перебраться к бабушке — в центр Выборгской стороны, где в большом подвальном помещении ютились родственники матери.
Прежде Катя не любила ходить сюда даже в гости. В подвале всегда было полутемно, пахло прачечной. Родственники жили недружно, часто ссорились на кухне из-за дров, места на огромной плите, лоханей для стирки. Иногда здесь даже возникали драки. Подвал наполнялся руганью, визгливыми выкриками и плачем детей. Успокоить дерущихся могла только бабушка. Высокая и строгая, она входила с палкой в руке и грозно спрашивала:
— Это еще к чему? Сладкой жизни поделить не можете? я вот сейчас утихомирю палкой! Кто здесь зачинщик? А ну, выходи, остынь на ветерке…
И она выталкивала скандалистов на улицу. Ей никто не перечил, старую бабушку слушались, точно она была здесь судьей.
Обычно после такой свары бабушка забирала ребятишек к себе и поучала:
— Не озлобляйтесь, как ваши родители, добра от этого не будет. Проклятая жизнь их издергала. Здоровья то прежнего ни у кого не осталось. Говорила я вашему деду: «Не бери заплесневелого подвала, в нем крысам да паукам жить, а не людям». А он все свое: «Осушу, говорит, досками сосновыми обошью. Они дух другой дадут. Хозяин за пустяк эти каменные стены отдает, только требует, чтоб в сухости держал. Тут мы всех своих поселить сможем». Вот и поселил! Съедает подвал нашу жизнь. Сам недолго пожил: ревматизмом скрючило и водянкой задушило. Вам, молодым, убегать отсюда надо, уходить куда можно, хоть в няньки, хоть в ученики, только не живите в этом погребе. Видите, какие у Катюши щечки румяные? Это потому, что она на солнышке росла. И ножки у нее прямые, не подвальные. Не знается она ни с «серым», ни со «склизней»…
— А кто такие «серый» и «склизня»? — спросила Катя.
— Домовые, — приглушенным голосом сказала бабушка. — Они под полом и в темных щелях живут. Одежду себе из паутины ткут и ночью к людям выбираются. Лягут кому-нибудь на грудь, опутают ноги и руки так, что не шевельнешься, и присосутся, кровь пьют. Оттого мы все тут такие зеленые, чахлые и стареем быстро.
Катя вглядывалась в обитателей подвала и замечала, что ее двоюродные сестренки и братишки действительно похожи на большеголовых старичков и старушек, ковыляющих на кривых ножках. Лица у ребят, как и у взрослых, были землисто-серыми, точно из них в самом деле высосали кровь.
И вот Катя попала в подвальные жители. Бабушка приютила ее с матерью в своей комнате. Окно выходило во двор, зажатый со всех сторон высокими кирпичными стенами. Солнце никогда не проникало сюда, и в форточку не врывался свежий ветер. В сырых и заплесневелых углах комнаты по стенам ползали мокрицы.
Первые ночи Катя не могла уснуть — нечем было дышать. А когда на мгновение забывалась, то казалось, что на нее наваливается какая-то липкая, влажная глыба, такая тяжелая, что невозможно было шевельнуть ни рукой, ни ногой.
По утрам Катя поднималась изломанной, невыспавшейся. Есть не хотелось. Девушка через силу выпивала стакан чаю и уходила на работу.
«Да, бабушка права, надо бежать, скорей бежать из этого проклятого подвала», — не раз говорила себе Катя. Но куда уйти? Единственно, что можно было сделать, — это поменьше бывать в подвальной сырости и мгле.
Невдалеке от бабушкиного дома в небольшом каменном здании находилось «Сампсониевское братство трезвости». В нем вели беседы о вреде пьянства, читали вслух Библию и обучали грамоте. В «Сампсониевском братстве» была библиотека — светлая комната, небольшие столы, за которыми можно было читать и писать. Вот эта библиотека и привлекла Катю. Вечерами она заходила сюда, брала книги и читала допоздна.
В библиотеку часто заглядывал и Гурьянов. Однажды он подсел к Кате, посмотрел, какую она читает книжку, и спросил:
— А не могла бы ты почитать малограмотным?
— С удовольствием, — сказала девушка. — Только что читать — Библию?
— Нет. Я тебе другую книжку найду.
Дня через два Гурьянов принес Кате сборник «Знание». В нем была напечатана повесть Максима Горького «Мать».
— Читай, только не спеша, — сказал он. — Останавливайся после каждой главки и спрашивай, все ли понятно, нет ли вопросов.
— А если я не сумею ответить?
— В кружке помогут, не бойся. Идем, я тебя со старостой познакомлю.
Он привел Катю в большую комнату, в которой посредине стоял круглый стол без скатерти, а вдоль стен на скамейках сидели пожилые работницы. Им навстречу поднялась одетая в светло-синий халат седоволосая женщина с моложавым лицом и горячими, темными глазами. Это была мастерица лампового цеха завода «Айваз». Приветливо улыбаясь, она не без удивления сказала:
— Не знала я, что у Дмитрия Андреевича этакая красавица выросла! Будем знакомы. В цеху меня зовут тетей Феней. Зови и ты так. А смущаться не нужно. Здесь все свои, рады будут послушать.
Тетя Феня усадила Катю за круглый стол, спустила пониже электрическую лампочку и, объявив, какую повесть будут читать, уселась в дальнем углу рядом с Гурьяновым.
Катя старалась читать внятно и с выражением. Работницы слушали ее то вздыхая, то радуясь, то роняя слезы. Им близка была жизнь матери Павла Власова. Они переживали каждый поступок героев и хотели знать о них больше, чем написано в повести.
А когда заканчивалось чтение, Кате задавали столько вопросов, что она терялась. Но тут ей на помощь приходила тетя Феня. Она умела говорить красочно, оснащая свою речь присказками, пословицами и примерами из быта рабочих Выборгской стороны. И от этого повесть, написанная Максимом Горьким, становилась еще более близкой.
Катя догадывалась, что тетя Феня связана с людьми, похожими на Павла Власова, что она неспроста приходит сюда, поэтому девушка однажды спросила у нее: а нет ли где кружка для более грамотных?
— Я сама занимаюсь в таком, — ответила тетя Феня. — Только не молода ли ты? И как у тебя дома к этому отнесутся?
Катя рассказала ей о матери и о жизни в подвале.
— Переходи ко мне жить, — неожиданно предложила тетя Феня. — И до завода недалеко, и воздух чистый. Сирень прямо в окно лезет.
Катя поговорила с матерью. Та сначала обиделась:
— Тебе что, зазорно со мной в подвале жить? Образованной сделалась…
Но потом мать одумалась и сама стала уговаривать:
— Не слушай ты меня, глупую. Раз зовет — поживи хоть месяц в Озерках, а то тут чахоткой еще заболеешь.
Тетя Феня жила в домике, утопавшем в зелени: у крыльца, росли две высокие черемухи, а вокруг — кусты сирени и жасмина.
Этот домик был когда-то заброшенной банькой. Баньку присмотрел муж тети Фени — вальцовщик, потерявший на заводе руку. Товарищи помогли ему высудить у заводчика деньги за увечье и купить баньку с участком земли. Общими усилиями они перестроили ее, сделали жильем и местом собраний нелегального кружка.
Муж тети Фени умер весной. Одной ей было скучно жить в домике, стоявшем на отшибе, и она обрадовалась, когда Катя пришла к ней с узелком.
Вместе они ходили на работу, по очереди покупали продукты, стряпали обед, а вечерами тетя Феня вязала либо штопала, а Катя читала ей вслух.
Кружок собирался раз в неделю. В нем было всего девять человек: шестеро мужчин и трое женщин. Катя стала десятой. Руководила кружком курсистка Соня Чиж. Кружковцы приходили словно в гости, одетые по-праздничному, некоторые приносили с собой баранки к чаю. Угощение ставилось на стол. За самоваром, словно в дружеской беседе, проходили занятия. Читали и спорили вполголоса. Изредка в домике поселялись нелегалы, скрывавшиеся от полиции. В такие дни тетя Феня говорила Кате:
— Иди поживи у матери.
А однажды предупредила девушку:
— Если я попадусь с нелегальными и дело кончится тюрьмой, то ты будь хозяйкой. Домишко еще пригодится нашим. Помни, я на твое имя написала дарственную бумагу. Получишь ее у Гурьянова.
Как-то зимой подозвал к себе Катю Гурьянов и вполголоса спросил:
— По вечерам ты свободна?
— Если надо, освобожусь.
— Только смотри, дело очень серьезное. Нам связная нужна. Будешь встречаться с людьми, которых ищет полиция. Не боишься шпиков и тюрьмы?
— Постараюсь не попасться.
— И язычок придется прикусить: никто не должен знать, где и с кем ты виделась. Понятно?
— Понимаю.
По заданиям, которые Передавал Гурьянов, Катя ездила в разные концы города, знала пароли и отзывы нескольких явочных квартир, запоминала тексты решений, которые следовало размножать на бумаге, и передавала их устно. Она научилась быть осторожной и скрытной. Даже мать ни о чем не догадывалась.
На второй год войны в домик тети Фени, когда в нем скрывался человек, убежавший из ссылки, неожиданно нагрянули жандармы. Они арестовали и жильца, и тетю Феню.
Кате об этом рассказала сторожиха соседней дачи. Окна домика были накрест заколочены досками, а на дверях висел неровный кружок сургуча с отпечатанным на нем двуглавым орлом.
Катя решила поселиться здесь с матерью, хотела потребовать, чтобы полиция сняла печать, но Гурьянов отсоветовал:
— Жить тут нельзя, дом попал под наблюдение, за тобой будут следить. Еще, чего доброго, выдашь кого-нибудь из комитета. Живи лучше с родными. Там вас много, меньше подозрений.
Тайный агент охранного отделения Виталий Аверкин уже третью неделю, словно тень, ходил по‘ пятам за Катей Алешиной. И она не замечала его. «Начинающая, — думал он, — только втягивается». А сегодня вдруг девушка испугалась и раньше времени соскочила с конки.
«Какой же я идиот! Для чего вперился в нее? А еще опытным считаюсь, — ругал себя Аверкин и тут же, точно перед начальством, оправдывался: — Она же читала, кто ждал, что так быстро вскинет глаза». К тому же не может он все время быть легавым. Он соскучился по нормальной человеческой жизни. В последние месяцы его сопровождают лишь испуганные да брезгливые, презрительные взгляды. Эх, жизнь собачья!
«Алешина далеко не уйдет, — вновь вспомнив о службе, успокаивал он себя. — Раз у нее обеденные судки, значит, непременно заглянет в «Долину». А что, если сегодня попробовать сцапать ее с листовками? Нет, только спугнешь и ничего не добьешься. Еще, чего доброго, посадят барышню за решетку».
Нет, этого он не хотел. Лучше прикинуться ее другом и обеспокоенным покровителем, который предупреждает о нависшей опасности. Она сама влетит в руки. Да, да, действовать надо хитро и не спеша. Потерпи, Аверкин!
Первый раз он наткнулся на Катю совершенно случайно. Был воскресный день. Девушка подошла к воротам дома, в котором скрывался выслеживаемый им студент. Аверкин по привычке исподтишка заглянул в лицо девушки — и был поражен: «Вот так красотка! Здесь живет или к кому в гости? Нужно проследить».
Он вежливо уступил ей дорогу.
Катя пересекла двор и вошла в тот же подъезд, куда скрылся выслеживаемый студент. «Не к нему ли на свидание?» — подумал сыщик.
Не мешкая, он шмыгнул в подъезд и остановился в темном углу лестничной клетки.
Девушка поднялась на площадку третьего этажа и постучала в стенку чем-то металлическим. В руке у нее, наверное, была монета. За дверью послышался женский голос:
— Кто там?
— Як бабушке Соне, — негромко ответила девушка. — Она дома?
То же самое говорил и студент.
— К нему! — злобно пробормотал Аверкин, когда дверь за Катей захлопнулась. — Ну, я вам устрою свидание за решеткой!
Подняв воротник, он стоял в тени соседнего подъезда и поглядывал на занавешенные окна третьего этажа. Там изредка мелькали тени, свет становился то ярче, то бледней, но что делают обитатели конспиративной квартиры, трудно было понять.
Прижавшись спиной к стенке, Аверкин терпеливо ждал и раздумывал: «Кто же выйдет первым? Если барышня — пойду за ней». Узнать, где живет эта девица, нащупать новую цепочку в подпольной организации, еще неизвестную охранному отделению, — дело заманчивое! Действовать надо было именно так. Студент никуда не денется, Аверкин знал, где он ночует.
Катя вышла первой. Оглянувшись по сторонам и ничего подозрительного не заметив, она прошла под арку ворот и повернула вправо. Аверкин, выждав несколько секунд, перебежал к воротам и выглянул на улицу. Пешеходов было немного. В неярком свете фонаря он видел, как девушка торопливо удаляется.
Натянув поглубже кепку, сыщик поспешил за ней. Приблизясь шагов на сорок, он замедлил шаг и, двигаясь за идущей впереди парой, не спускал с девушки глаз. Аверкину хотелось приметить в ее фигуре что-нибудь особенное, отличающее от других, чтобы потом не упустить из виду в людском потоке на более оживленной улице. Но как сыщик ни всматривался, все в Кате казалось ему совершенным: она не покачивала ни плечами, ни бедрами, шаг ее был ровным и легким. Видно, девушка привыкла ходить пешком и не боялась больших расстояний.
Аверкин шел за ней следом до тех пор, пока Катя не свернула в ворота каменного дома.
«Не новая ли конспиративная квартира?» — подумал шпик и, юркнув за девушкой во двор, увидел, как за ней захлопнулась дверь в подвальное помещение.
Выждав некоторое время, Аверкин стал заглядывать в плохо занавешенные окна подвала. В одном из них он увидел ту, за кем шел. Девушка устало снимала с себя короткое пальто и что-то говорила высокой старухе.
Без платка и пальто девушка выглядела стройней и выше. Простенькое синее платье, стянутое ремешком в талии, очень шло к ней, а белый воротничок оттенял свежесть разрумянившегося на холоде лица с приметной родинкой у подбородка.
Сняв со стены полотенце, девушка ушла мыть руки, а старуха стала накрывать стол к ужину.
Обстановка в комнате была убогой: два деревянных топчана, застеленных лоскутными одеялами, старенький комод, несколько табуреток и в углу — потемневшая икона с едва мерцающей лампадой. Электрическую лампочку прикрывал бумажный абажур.
Девушка вернулась в комнату оживленной. Повесив полотенце на место, она подошла к зеркальцу, стоявшему на комоде.
Сыщик, наверное, еще долго бы наблюдал за ней, если бы ему не помешали: во дворе неожиданно появилась толстая дама с белой собачонкой. Аверкин, отпрянув от окна, спросил у нее:
— Простите, мадам… Вы не скажете, где я могу найти хозяина этого дома?
— Там, — указала она. — Вход под аркой.
Утром сыщик узнал, кто живет в подвале, как зовут девушку и где она работает.
С этого дня жизнь его осложнилась. Днем Аверкин занимался своими обычными делами, а под вечер, словно на свидание, спешил к заводу «Айваз» и ждал, когда появится Катя Алешина. Чтобы не быть узнанным, он менял пальто, шапки, шляпы, приходил то в очках, то с наклеенными усами, то с бородкой.
Катя обычно появлялась на улице после того, как расходились последние рабочие со смены. И всегда шла одна, без подруг и товарищей. Это затрудняло слежку, но Аверкин не огорчался: «Хорошо, что никого нет, значит, свободна». Стоило ей показаться из проходной, как у сыщика начинало учащенно биться сердце. Эх, если бы он мог подбежать к ней, подхватить под руку и пойти рядом! А тут приходилось прятаться и невидимкой следовать за девушкой по темным улицам и переулкам.
За две недели слежки сыщик узнал адреса двух новых конспиративных квартир, но это не радовало его: Аверкин боялся подвести Катю. Он даже начальству своему не доносил о том, что напал на след новых подпольщиков. Не зная, как лучше поступить, чтобы не потерять девушку и в то же время продвинуться по службе, Виталий решил пойти к своему старшему брату — Всеволоду. Тот был ловок на такие дела и мог подсказать, как действовать похитрей.
Всеволод в свои двадцать семь лет сумел добиться многого: он закончил юридический факультет и числился следователем по особо важным делам. Правда, он свысока поглядывал на недоучившегося младшего брата, но с готовностью давал всякие советы, так как сам нередко пользовался услугами охранки. Услышав, что Виталий влюбился в простую работницу, он сперва удивленно вскинул брови, потом снял с переносицы пенсне и захохотал.
— Поздравляю! Блестящее начало карьеры, — сказал он.
— Ты не смейся, — угрюмо буркнул Виталий. — Она бы и тебе понравилась.
ЛОКАУТ
Степанида Игнатьевна, невысокая, рыхлая старушка, принялась тормошить внука, когда на улице едва забрезжил рассвет.
— Вставай, Васек, вставай… Ишь заспался! На работу пора.
Руки у нее холодные как ледышки. Она всю ночь простояла в очереди за хлебом и забежала домой лишь на несколько минут, чтобы обогреться.
Вася лег в постель в первом часу ночи. Он не выспался. Голова была тяжелой, глаза слипались. Керосинка коптила, от копоти першило> в горле.
— Мы бастуем, — сонным голосом сказал юноша и, повернувшись лицом к стене, натянул одеяло на голову.
Это сообщение не удивило бабушку: за последнее время многие цехи Путиловца бастовали. Прижав озябшие руки к теплому чайнику, она ждала, когда закипит вода, и прислушивалась к разноголосому завыванию первых заводских гудков. За сорок лет жизни в Чугунном переулке Степанида Игнатьевна привыкла узнавать их по голосам. Вот загнусавил завод резиновых изделий «Треугольник», его перебил «Тильманс», и гудок его слился с задыхающимся гудком «Анчара». Тонко запела Екатерингофская мануфактура А зычного путиловского баса не было слышно. Старушка встревожилась: этакого еще не бывало. Даже в дни забастовки и то Путиловец гудел в урочное время: авось кто не выдержит безденежья и выйдет на работу. А тут молчок.
— Васек, ваш-то не гудит, не стряслось ли что… Сходил бы на завод.
Юноша отбросил одеяло, приподнял взлохмаченную голову и прислушался. Путиловец действительно не гудел.
«Что же случилось? — не мог сообразить Вася. — Неужели наши захватили кочегарку и не дают включить гудок? А как же солдаты? Не дерутся ли там?»
На заводе работало несколько тысяч солдат, присланных взамен уволенных рабочих. Кроме того, на охране завода стояла рота измайловцев. Солдаты не допустили бы забастовщиков к кочегарке.
Вася соскочил с топчана, быстро оделся и, не умываясь, хотел было бежать на улицу, но старушка удержала его:
— Куда же ты, шальной? Чайку хоть выпей.
Игнатьевна наполнила кружку кипятком, — подкрашенным брусничным настоем, и положила на стол черный ржаной сухарь.
Обжигаясь, юноша торопливо глотал несладкий чай и с хрустом жевал сухарь.
В доме уже проснулись все жильцы. Наверху скрипели половицы. За стеной на кухне слышались всплески воды, с другой стороны доносились натуженный кашель и детский плач. Дом был наполнен людьми от подвала до чердака. Чуть ли не в каждой комнате ютилось по две-три семьи, а одинокие рабочие снимали в этих семьях углы и койки. Лишь Вася с бабушкой жили в отдельной клетушке у кухни, так как хозяин дома, бакалейщик Хомяков, приходился им каким-то дальним родственником.
Игнатьевна тоже уселась пить чай и искоса поглядывала на повзрослевшего внука. Сейчас он был особенно похож на своего отца. Он так же хмурился, сдвигал густые брови. Прядка чуть вьющихся каштановых волос спадала на высокий лоб, а на твердом, словно раздвоенном подбородке резко выделялась ямочка.
«Весь в Степана, — думала Игнатьевна. — Такой же серьезный, в плечах раздался и ростом — мужчина. Только худущий очень. Подкормить бы надо. Ведь только семнадцать лет миновало. Расти еще будет».
— Надолго ли забастовали? — спросила она.
— Не знаю, — хмурясь, ответил внук. — Директор прогнал наших делегатов и фронтом грозился. Подумаешь, испугал! Решили не выходить сегодня.
— Значит, весь завод забастовал? — удивилась Игнатьевна. — А где мы с тобой денег возьмем? Мне уж и хлеб покупать не на что, и за квартиру не плачено…
В это время с улицы кто-то постучал в стенку.
Вася нахлобучил на голову картуз и, на ходу надевая куртку, выбежал на крыльцо.
По всей ширине переулка, как в обычное рабочее утро, шли мужчины и женщины. Темный от сажи снег поскрипывал под ногами.
Невдалеке от крыльца, залихватски сдвинув старенькую барашковую шапку набекрень, в тужурке нараспашку стоял скуластый парень — Дема Рыкунов. Он лишь на полгода был старше Васи, но казался намного взрослей его, так как был шире в плечах и выше почти на голову. Впрочем, и Кокорев не мог пожаловаться на рост: среди ровесников в Чугунном переулке, после Демы, он считался самым высоким.
— Чего на заводе? — спросил Рыкунов.
— Кто его знает, может, с солдатами дерутся, — высказал свою догадку Вася.
— Пошли быстрей!
Рыкунов славился своей силой. В Чугунном переулке никто из ребят не мог его одолеть. В кулачных боях Дема смело шел против трех человек и побеждал. Побаивался он только своего угрюмого отца — одноглазого вагранщика — и робел при Савелии Матвеевиче — старом кузнеце, у которого работал молотобойцем.
Вася давно знал Рыкунова, но по-настоящему сдружился с ним лишь на заводе. В старокузнечный цех юноша попал, когда ему шел пятнадцатый год. Бабушка тогда служила чаеварщицей в кузнице. Она уговорила мастера принять внука на обучение.
Вася таскал уголь для горнов, подметал окалину у наковален, складывал в штабеля негодные, лопнувшие поковки и бегал по мастерским с поручениями мастера.
В первую же неделю озорные молотобойцы сговорились подшутить над новичком. Кто-то из них нажег в горне клещи и, кинув их на землю, крикнул:
— Эй, мальчик, а ну, живо… подай-ка клещи!
Вася поспешил исполнить просьбу, а озорные молотобойцы следили за ним, ожидая, что парнишка сейчас испуганно взвизгнет и отдернет руки от накаленного железа. Вот будет потеха!
Забавы не получилось. Схватив клещи, Вася лишь вздрогнул, но не выронил их. С бледным лицом, он молча окунул руки в стоявший рядом чан с сизой от окалины водой и только тогда с трудом разнял пальцы.
Руки саднило. От боли и обиды хотелось плакать. Чтобы не показывать слез, Вася ушел в дальний угол кузницы, спрятался за кипятильником. Он не слышал, как старый кузнец, которого в цехе все величали Савелием Матвеевичем, изругал озорников, не видал, как старик с сердито распушенными усами раскрыл свой шкафчик и достал с полки небольшой пузырек с подсолнечным маслом.
Подойдя к Васе, Савелий Матвеевич приказал:
— Показывай, что с руками.
Спекшаяся кожа на ладонях и пальцах мальчика вздулась волдырями. Кузнец покачал головой:
— Вот ведь мерзавцы что наделали! Набилось тут всякой шантрапы: маклаки, дворники, приказчики да купчики разные. От войны прячутся. Им ведь не работа нужна, а отсрочка от окопной жизни. А тут человека заработка лишили. Нашел перед кем характер показывать. Узнает мастер, что руки пожег, — выгонит из мастерской. Ему здоровые нужны.
Савелий Матвеевич осторожно смазал Васе ладони и пальцы подсолнечным маслом.
— Чуть обсохнет, перевяжешь, — посоветовал он. В лице парнишки ему почудилось что-то знакомое. — Чей будешь-то?
— Кокорев, — ответил Вася.
— Не Степана Дмитриевича сын?
— Его.
— Знавал я твоего отца. Первый котельщик был. Наших кровей человек. За рабочий народ пострадал. А мать что делает?
— Умерла недавно, на работе простыла.
— Та-ак, — протянул Савелий Матвеевич, — полный сирота, выходит. С кем же теперь живешь?
— С бабушкой. Она чаеварщицей через ночь работает.
— В школу ходил?
— Начальную кончил.
— Грамотен, значит? Это хорошо. — Кузнец добрыми глазами смотрел на Васю. Помолчав некоторое время, он предложил: — Вот что мы с тобой сделаем. С такими руками ты дней на десять не работник. Давай-ка, чтоб начальство не заметило, перевяжем бинтом да рукавицы натянем. Я тебя в ученики беру. С мастером договорюсь сам.
Савелий Матвеевич помог Васе забинтовать каждый палец в отдельности, отдал ему свои рукавицы и позвал Дему Рыкунова.
— Вместе работать будете. Знакомьтесь.
— Я его знаю, — сказал Вася. — В одном переулке живем.
Савелий Матвеевич был знатоком кузнечного дела. Самые точные и сложные заказы поручались ему. Старший мастер недолюбливал кузнеца за независимый характер и за разговоры, которые Лемехов вел с рабочими, но увольнять его не решался: «Где еще добудешь такого работника? Кузнец наивысшей категории!»
Мастер старался не замечать своенравия Савелия Матвеевича и не сталкивался с ним по пустякам. Кокорева он зачислил в ученики без возражений: «Пусть подучит еще одного, умелых работников не много осталось».
Вася первое время подсыпал уголь в горны и следил за дутьем, чтобы железные болванки нагревались равномерно. Он любил горячие минуты нелегкого кузнечного труда, когда мастеровые выхватывают из горна раскаленную почти добела болванку, укладывают на наковальню и начинают обрабатывать.
В цехе поднимался такой перезвон, что вздрагивали закопченные окна и дрожала земля. Савелий Матвеевич своим молотом отбивал мелкую дробь, указывал, куда надо ударить, а молотобойцы, взмахивая тяжелыми кувалдами, ухая, били по вязкому искрящемуся железу. Горячая окалина разлеталась во все стороны…
Это было какое-то буйное веселье спорого труда. Длилось оно минут пять-шесть. За это время вытянувшаяся, изменившаяся болванка, остывая, теряла цвет, становилась темно-вишневой, и ее вновь закладывали в горн для нагрева.
Взмокшие молотобойцы, тяжело дыша, подходили к баку с водой и утоляли жажду большими, жадными глотками. А Савелий Матвеевич, который не любил пить во время работы, говорил Васе:
— Только ты не думай водохлебствовать. Сила — она лишь в сухом теле держится.
Работали в кузнечном цехе с рассвета до сумерек. И только в субботу рабочий день заканчивался раньше. В субботу обычно бывала получка. Многие рабочие отправлялись гулять в ближайшие трактиры: кто в «Марьину рощу», кто в «Финский залив», а кто в «Ташкент» или «Россию». Любители выпить за чужой счет не раз зазывали и Василия:
— Эй, новичок, обмыть бы пора работенку. А то имени не получишь и в кузнецы не выйдешь.
Всякого новичка они звали «чудаком» либо «пскопским» до тех пор, пока тот не пропивал с ними всю свою получку, и только после этого его величали по имени, а иногда даже и отчеству. А если человек скупился на водку, ему устраивали всякие каверзы: гвоздями прибивали к верстаку рукавицы, прятали инструменты. Добивались они угощения и от Васи, но однажды Савелий Матвеевич строго предупредил вымогателей:
— Не цепляться к парню! Вам гулять, а он сирота — сам себя одевай, обувай, да еще бабку старую корми. И делу не вам его обучать. Ясно?
— Понятно, Савелий Матвеевич, да мы что… мы ничего… — смущенно забормотал один из подручных. — Пускай паренек работает.
Приставалы боялись Савелия Матвеевича, потому что в цехе люди ценились по мастерству — по умению точно и аккуратно работать. Тот, кто работал небрежно, делал много браку, слыл никчемным человеком и уважением не пользовался. Такому старые рабочие даже рта не давали раскрыть. «Ты сначала инструмент научись держать, — с презрением говорили они, — а потом рассуждай».
В субботу, после получки, Дема с Васей шли в баню, переодевались в чистое и всякий раз задумывались: куда же им пойти? Они знали, что некоторые заводские парни ходят в Огородный переулок играть в орлянку, другие же компаниями отправлялись в Екатерингофский парк задевать девушек-копорок и горланить под гармошку песни, а третьи — разбредались по трактирам пьянствовать.
Васе нравились туманные картины про войну, сыщиков и разбойников, которые показывали в кинематографе. Однажды он уговорил Дему съездить на Петроградскую сторону. Там, за Невой, был огромный зверинец, а рядом с ним — Народный дом, с кривыми зеркалами, «чертовым колесом», разными играми на призы, качелями и «американскими горами».
Дема поехал с неохотой. Он не любил ездить в трамвае по городу, тут всякий норовит унизить рабочего парня: «Куда прешься? Еще перемажешь кого. Не видишь — люди сидят. Напустят тут всяких, только за карманом поглядывай». Не полезешь же драться с обидчиками, когда городовых полно?
Доехали до зверинца. Отдав по двугривенному за входные билеты, парни часа два разглядывали диковинных зверей и птиц. Покормили морковкой слониху, посмеялись над бурым медведем, вытворяющим всякие штуки, чтобы выпросить конфетку, и долго стояли у клетки с обезьянами, похожими на маленьких уродливых человечков.
Съев по горячему бублику у входа, парни пошли в Народный дом, светившийся разноцветными огнями.
В саду играла музыка, высоко взлетали качели, кружились бумажные фонарики и седоки на каруселях.
Возле «стреляющей кузницы» толпились подвыпившие посетители, пробовавшие свою силу. То один, то другой размахивался и с придыхом бил молотом по обкованному клину. После каждого удара меж высоких стоек взлетала железная стрела с пистоном на кончике. Если стрела касалась железной перекладины наверху, пистон громко щелкал. Но никому не удавалось разбить пистон. Стрела поднималась на три-четыре аршина и падала.
— Стукнуть, что ли, разок? Чем черт не шутит, — шепотом сказал Дема.
— Давай! Будем платить пополам, — предложил Вася.
Дема уплатил гривенник, взял поудобней в руки длинную рукоятку молота, размахнулся и ударил в центр клина…
Стрела, казалось, долетела до железной перекладины, но выстрела не послышалось.
— Ого! Силен парень! — удивились стоявшие вокруг зеваки. — А ну, еще хвати!
Готовясь ко второму удару, Дема снял куртку, поплевал в ладони, широко расставил ноги и, высоко вскинув молот, ахнул им изо всей силы…
Стрела взвилась к перекладине, и пистон звонко щелкнул.
— Ай да парень! Молодчага, — одобрительно загудели в толпе.
Дема распалился.
— Поставь еще монету! — сказал он Васе.
Третий удар был таким же ловким и сильным.
— Вали, парень, все призы заберешь! — хохоча, советовал кто-то из зрителей.
Дема хотел было ударить четвертый раз, но хозяин «стреляющей кузницы» сердито остановил его:
— У нас больше трех раз не полагается. А призы на выбор: есть портрет императорского величества в золоченой раме, колечко с камушком, книжки про разбойников и сыщиков.
— Бери книжки, — шепнул Вася.
Они взяли потолще книжку о разбойнике Антоне Кречете и три тонкие с цветными обложками про короля сыщиков Ната Пинкертона.
Дема не решался нести книжки домой.
— Спрячь у себя, — сказал он. — Отец у меня неграмотный, книжек боится. Он и у брата Фильки все пожег. В тюрьму, говорит, из-за тебя, подлеца, попадешь. Чтоб ни одной книжки в доме не видел!
Выигранные книжки Вася отнес к себе в каморку. Вечерами после работы Дема приходил к нему и спрашивал:
— Почитаем, Васек, а?
Сам он читал с запинками, перевирал слова и ударения, так как в школе учился всего две зимы. Слушать его было скучно и утомительно, поэтому пришлось читать вслух Васе.
Книжки про сыщика оказались занятными, а «Антон Кречет» обрывался на самом интересном месте.
— Надо продолжение добыть. Поехали в Народный дом, — предложил Дема в субботу. — Теперь-то я приловчусь бить по клину.
В Народном доме они нигде не останавливались, а пошли прямо к «стреляющей кузнице».
Растолкав зевак, Дема купил три билета. Дождавшись своей очереди, он снял куртку, бросил ее на руки Васе и не спеша подошел к молоту. Его движения были размеренны, как на работе. Ударил раз — и стрела, взлетев до перекладины, разбила пистон. Второй удар был таким же успешным. А в третий раз стрела чуть не выбила перекладину.
В толпе от удивления только ахали:
— Вот это мастак!
— Молодой, а силищи сколько!
А хозяин «стреляющей кузницы» опять обозлился:
— Довольно, будет тебе. Испортишь еще. Сам двугривенный дам, только отстань, не приходи больше.
— Вы не бойтесь, — сказал ему вполголоса Вася. — Мы у вас других призов не возьмем. Нам только книжки нужны. А когда прочтем, то вернуть можем.
— Вернете? — не поверил тот. — Как бы не так! Знаю я вашего брата. Приловчились, а теперь, верно, на толкучке моими книжками торгуете.
— Вот, ей-богу! Сами читаем.
— Ой, что-то не верю. Ну ладно, берите выигранное, а когда вернете, дам четыре билета — два ему и два тебе.
Чтобы получить призы на все четыре билета, Дема в цехе стал показывать Васе, как надо бить кувалдой по клину. Это заметил Савелий Матвеевич.
— В молотобойцы, что ли, дружка готовишь? — спросил он.
— Не-е…
Дема рассказал, как они добывают книги у владельца «стреляющей кузницы». Савелий Матвеевич внимательно выслушал его, покачал головой и сказал:
— Этот хитрец вас для обмана публики скоро начнет показывать. Мол, смотрите, есть парни, которые легко призы получают, не жалейте только гривенников. Такие, как он, ловки — вмиг жуликом сделают. А какие книжки у него?
— «Антон Кречет», «Палач города Берлина», «Антонио Порро», — начал перечислять Вася.
— Н-да-а, начитаетесь всякой дребедени, и работа в голову не пойдет, легкой жизни захочется. Вот что, дружки-приятели, бросайте-ка ходить к своему обдувателю, если не желаете со мной поссориться. А книжки мы без него достанем. Я тоже любитель почитать.
На другой день Савелий Матвеевич принес томик Пушкина.
— Начните читать «Дубровского», — сказал он Васе.
Парни вместе прочли весь томик и, вернув его, попросили:
— Нет ли еще чего-нибудь такого?
— Найдем, — ответил Савелий Матвеевич и дал им «Тараса Бульбу».
Зимой кузнец взял Васю к себе в подручные и стал посвящать в секреты ремесла. Ему нравился серьезный и быстро соображающий юноша. «Сделаю его мастером, — решил Савелий Матвеевич. — Ум бороды не ждет».
Однажды он позвал Васю к себе домой и там, достав несколько брошюрок из тайничка, сказал:
— Только чтоб никому! Понял? Если схватят, скажи — нашел. Иначе и мне, и тебе тюрьма. Разбирайся сам втихомолку. А потом потолкуем, объясню непонятное.
— И с Демой нельзя?
— Ну, с ним, пожалуй, можешь, только осторожней.
По вечерам, когда бабушки не было дома, Вася с Демой запирались в каморке, зажигали пятилинейную лампу и читали книжки, от которых замирало сердце. Порой они запутывались в мудреных словах и рассуждениях, по нескольку раз перечитывали одни и те же места, стремясь вникнуть в смысл написанного. Но не сдавались, не возвращали недочитанных книжек Савелию Матвеевичу, а упорно одолевали их.
Однажды, когда старый кузнец в обеденный перерыв уселся в дальнем конце цеха закусывать, юноши пристали к нему:
— Савелий Матвеевич, а кто такие книжки пишет?
— Ученые люди, революционеры-подпольщики, — негромко ответил кузнец. — В девяносто пятом году мне довелось одного видеть. В Огородный переулок он приходил. Лениным звали. Вот это человек! Самое трудное умел объяснить так, что любой неграмотный поймет.
— А где он теперь? — поинтересовался Дема.
— За границу уехал, от жандармов скрывается.
— А чего этот Ленин добивался?
— А того, чтобы вот ты, рабочий человек, понял главную линию и знал свое место в жизни. Раз мы производим все — должны всем и владеть. А паразитов — долой, чтоб не сидели на нашей шее. Ясно?
— Ясно, — не очень твердо ответил Дема.
Иногда кузнец давал парням поручения: то пронести на завод листовки и рассовать их по шкафикам, то собрать деньги для передачи путиловцам, попавшим в политическую тюрьму. А в дни забастовок, когда трусы не подчинялись большинству и продолжали работать, он говорил:
— Ну-ка, ребята, шуганите их из цеха.
«Что же сегодня могло произойти на заводе?» — недоумевали Дема с Васей.
У главной проходной они увидели возбужденную толпу. Ворота были заперты, на завод охрана никого не пропускала. На столбах и заборах белели объявления, вызывающие ропот и ругань рабочих.
— Это они, проклятые, в отместку локаут объявили. На солдат надеются.
— Никто не ходи за расчетом! Голодом нас не испугаешь! И так ремни на последнюю дырку затянули…
Дема, не понимая значения слова «локаут», начал протискиваться к воротам и потянул за собой Васю. Добравшись к объявлению, он вслух прочел сообщение дирекции о том, что завод закрывается, что рабочие всех мастерских с 22 февраля получают расчет.
— От ворот поворот, значит. Вот она какая штука, этот локаут. Крепко придумали.
— Набастовались на свою голову! — сказал стоявший рядом бородач. — Где теперь работу найдешь? Передохнем с голоду…
— С голоду-то что, вот на фронт погонят, узнаешь тогда, как прибавку просить, — вторил ему молотобоец. — Подбили смутьяны чертовы! А что нам, если гривенник или четвертак прибавят? За ценами все равно не угонишься.
— Тебе-то что — корову и огород имеешь. А другим как? Ребятишки с голоду пухнут.
— Эх вы, путиловцы! — с презрением произнес слесарь из паровозной мастерской. — Прочли листок и струсили. Может, в ноги генерал-директору пойдете кланяться? Сходите, он это любит.
— Не выйдет им, — злобно сказал рабочий в замасленной кепке. — Нас тридцать тысяч, заставим завод открыть, не позволим издеваться!
— Ломай ворота!
— Стой, товарищи… Стой!
У ворот появилась группа старых путиловцев. Они сдерживали толпу. Среди них Дема с Васей заметили и Савелия Матвеевича.
На скамейку поднялся высокий клепальщик из лафетно-штамповочной мастерской.
— Товарищи! Не галдеть… Спокойно! — выкрикнул он в толпу. — Нас не запугают локаутом. Мы по всем заводам пойдем, весь город поднимем. Но действовать надо организованно. Первым долгом выберем стачечный комитет. Есть предложение — от каждой мастерской по человеку. От паровозостроительной выдвигаю Васильева.
— Правильно, подходящий человек, давай Васильева! — согласились паровозники и дружно подняли руки.
— От медно-котельной кого?
Котельщики назвали фамилию своего представителя и проголосовали за него.
Когда очередь дошла до старокузнечной, Дема с Васей в один голос закричали:
— Лемехова! Савелия Матвеевича!
Никто не возражал. Кузнецы знали, что Савелий Матвеевич сумеет постоять за них, и с готовностью подняли руки.
После голосования Лемехов подозвал к себе Васю и Дему.
— Никуда не отлучайтесь, понадобитесь мне, — сказал он.
Выбранные в стачечный комитет ушли в здание больничной кассы. Совещались часа полтора. Потом на улице появился Савелий Матвеевич и кого-то стал искать глазами.
— Нас, наверное, — догадался Вася.
Савелий Матвеевич отвел их в сторону и сказал:
— Слушайте внимательно. Решение стачечного комитета такое: остановить фабрики и заводы за нашей заставой и разослать гонцов по городу. Пусть все бастуют. На Выборгскую сторону человек десять поедет. И вы с ними. Расскажете там про наши дела и призывайте поддерживать стачку. Только не теряйтесь, держитесь смело, как положено путиловцам, помните, что вы делегаты большого завода.
Савелий Матвеевич помог парням разыскать едущих на Выборгскую сторону котельщиков и еще раз предупредил:
— Только не дурить! Не забывайте, кем посланы.
ЗАПРАВСКИЙ ОРАТОР
Трактир «Долина» находился на Сампсониевском проспекте. Сюда то и дело забегали рабочие: одни — чтобы попить чайку, другие — согреться рюмкой водки или побеседовать с товарищами за кружкой пива.
Когда четыре путиловца вошли в «Долину», в большом зале под потолком уже плавали слоистые облака табачного дыма. Трактир был заполнен рабочими вечерних смен, забастовщиками и безработными. На столиках виднелись пузатые фаянсовые чайники, дымящиеся стаканы, кружки с пивом, дешевые закуски. Люди возбужденно разговаривали между собой и на пришельцев не обращали внимания.
— Побудьте пока у дверей, — сказал старший из котельщиков. — Погляжу, нет ли тут знакомых.
Он прошел между столиками, вглядываясь в лица. У одного из столиков остановился и крепко пожал руку рослому усачу, а затем и его товарищам.
Выборжцы потеснились, усадили гостя рядом и начали расспрашивать, какими ветрами занесло жителей Нарвской заставы в другой конец города. Узнав о локауте, усач поднялся на табурет и, замахав шапкой, выкрикнул:
— Товарищи, к нам путиловцы пришли! Послушайте, что с ними вытворяют.
Все головы повернулись в сторону путиловцев.
— Сюда… к нам подсаживайтесь! — послышались отовсюду голоса.
Выборжцы гостеприимно освободили места у столиков, усадили путиловцев и, обступив их со всех сторон, засыпали вопросами:
— Локаут? Всех до одного за ворота? Что ж теперь делать будете?
— На фронт, что ли, погонят?
— Говорят, солдат к вам пригнали?
И тут же возмущались:
— Тридцать тысяч мастеровых за ворота выгнать! Что же это такое делается? Жить-то с чего? По меньшей мере сто тысяч голодных ртов прибавится!
— Обнаглели заводчики. Запугать нашего брата хотят, чтоб пикнуть никто не посмел. У них сговор, а мы врозь действуем. Пора кончать с такой жизнью.
— Верно! Мы за этим и пришли к вам, — отвечали путиловцы. — Сегодня за Нарвской заставой будут остановлены все фабрики и заводы. А мало будет — топки на электростанциях загасим, без воды и света оставим хозяев. Пусть попробуют без нашего брата обойтись.
— Дельно! Так и следует. Пошли с нами на «Старый Лесснер».
— На «Нобелевский» сперва.
— На «Эриксон»!
Каждому хотелось увести путиловцев на свой завод. Но тут появился невысокий человек в замасленной куртке и кожаной фуражке. Его, видимо, вызвал усач, куда-то исчезавший на время.
— Спокойней, не горячиться, товарищи! — подняв руку, потребовал пришедший. По манере держаться и говорить чувствовалось, что этот человек привык быть вожаком. — Доверьте стачечному комитету обо всем дотолковаться с путиловцами, а здесь не место решать такие дела…
— Это верно, не сообразили малость.
— Организованность, товарищи, главное оружие рабочего класса…
Пока представитель стачечного комитета говорил, усач мигнул путиловцам, чтобы те потихоньку перешли в соседнюю комнату.
Закрыв за собой дверь, он доверительно сообщил:
— Попало мне за то, что раньше времени шум поднял. Из районного комитета здесь были, вон в той боковой сидели. А теперь придется в другое место пойти.
Он провел их через запасный ход и какие-то захламленные дворы в полутемное подвальное помещение. Там путиловцев поджидали большевики Выборгской стороны.
Расспросив о делах за Нарвской заставой, мужчина, носивший очки в металлической оправе, сказал:
— Первым делом вас к работницам придется послать. Завтра женский день. Пусть увидят, что путиловцы поднялись. Это им смелости прибавит. Кто из вас к текстильщицам пойдет?
— Ну, хоть мы, — согласились котельщики.
— Чудесно. А этих красавцев, — указал он на Васю с Демой, — к «Ландрину» пошлем, а потом на «Новый Айваз». У них и проводница под стать…
Он повернулся к девушке, сидевшей у окна.
— Забирай, Катя, своих.
Кокорев с Рыкуновым не ждали, что их пошлют с девушкой. Но возражать было неловко. Пропустив Катю вперед, они вышли за ней на улицу.
«Опозоримся, — досадуя, думал Дема. — Дядьке очкастому намекнуть бы, что выступать не умеем… Может, выручил бы. А с девчонки какой прок? У самой душа в пятки уйдет». На всякий случай он все же подравнял шаг с девушкой и спросил:
— А что нам на фабрике делать придется?
— Как что? — удивилась она. — Я вызову Самсонову, она работниц соберет, а вы речь скажете…
Услышав слово «речь», Дема даже присвистнул:
— Вот так раз! Какую такую речь?
— Самую простую, какая выйдет.
— А если собьемся или еще что?
— Не беда. Там все свои будут. Да и товарищ подскажет.
— Нет, уж пусть тогда он первым. Вася и книги читает, и язык у него подвешен…
— Что-то я не заметила, — покосившись в сторону молчавшего, сумрачно шагавшего Кокорева, засмеялась девушка. — По-моему, ваш Вася язык проглотил.
— Не горазды мы говорить, — заступился за товарища Дема. — Если бы кувалдой или кулаком — это пожалуйста. А речам не обучены. Вам-то, конечно, привычней… да и полегче женщине с женщинами. Может, выскажетесь за нас, а? Мы вам все растолкуем.
— Ну как я могу за вас? Я ведь тоже никогда речей не произносила.
Дема предложил вернуться к котельщикам и прихватить еще кого-нибудь, но Вася буркнул:
— Не надо, обойдемся без них.
Вскоре друзья почувствовали сладковатый запах конфет, распространявшийся по всей улице из окон высокого фабричного здания.
— Вот и «Ландрин», — сказала Катя. — Вы постойте здесь…
Она прошла вперед и скрылась в проходной.
— Ох, и оскандалимся же мы сейчас! — сказал Дема, с опаской поглядывая на фабрику. — Выбежит таких, как она, сотни две, а мы с тобой — ни бе, ни ме, ни кукареку.
— Тебе-то чего? Ты, по-моему, уже наловчился болтать. Без запинки всякую чепуху молол.
— Ага-а, завидно стало? Я, брат, сразу ее приметил, — признался Дема. — Вот, думаю, девушка, если б с такой подружиться — пешком бы не поленился сюда ходить.
Катя вернулась минут через двадцать.
— Все устроено, — сказала она. — Нас через проездные ворота пропустят. Они в упаковочной собираются, от каждого цеха по нескольку человек.
Высокие ворота оказались чуть приоткрытыми. В щель сначала проскользнула девушка, за ней бочком протиснулись и путиловцы.
Они прошли мимо сторожа и очутились в длинном складском помещении, где рядами стояли пестро раскрашенные жестяные банки, грудились ящики и пачки оберточной бумаги.
Здесь путиловцев уже поджидали работницы. Небольшая черноглазая женщина с белой косынкой на голове о чем-то пошепталась с Катей и предложила:
— Давайте начнем, а то еще Буркач сюда заглянет… И без шума, — предупредила она. — К нам путиловцы пришли. Зачем — они вам сейчас сами расскажут…
Черноглазая обернулась к парням и жестом пригласила подойти ближе.
— Говори первым, — подтолкнул Дема товарища.
Кокорев снял шапку и, приблизясь к сидящим, негромко заговорил:
— Товарищи женщины, нас прислали к вам тридцать тысяч путиловцев. Сегодня нас всех не пустили на завод. А за что? Сначала забастовало несколько мастерских. Потребовали принять на работу зря уволенных и повысить расценки. Директор завода — генерал Дубницкий — не стал слушать, прогнал наших делегатов и пригрозил закрыть мастерские. На такую наглость мы объявили забастовку по всем мастерским. А сегодня приходим к воротам и узнаем: получай расчет и иди куда хочешь. Вам нечего объяснять, что это значит. Да еще грозятся на фронт отправить. Мы воевать не боимся, не из трусливых. Только незачем нам за буржуев кровь проливать. Мы еще подумаем, кого бить следует…
У Демы Рыкунова даже рот приоткрылся от удивления. Вот так Вася! И где только таких слов нахватался? Наверное, все листовки запомнил…
Гордясь своим другом, Дема слегка выпятил грудь и, подбоченясь, стоял с гордым видом: глядите, мол, какие мы, путиловцы!
Женщины, поглядывавшие на него, невольно думали: «Ну, если там, на Путиловце, хотя бы тысяча таких здоровяков, держись тогда полиция — все разнесут. С такими и против казаков не страшно выйти».
Вася говорил недолго и закончил свою речь призывом:
— Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей. Бросайте работу, выходите завтра на улицы и присоединяйтесь к нам.
Работницы хотели было захлопать в ладоши, но черноглазая остановила их:
— Ч-ш-ш… Тише! Без хлопков обойдемся. Путиловцы правильно говорят. Довольно терпеть. Завтра наш Женский день. Сговаривайтесь по всем цехам не выходить на работу. Хватит господ конфетами кормить. Пусть перцу попробуют. Что скажем путиловцам? — спросила она у присутствующих. — Поддержим их?
— Поддержим, — ответили женщины.
Прощаясь, работницы пожимали руки Кокореву, Рыкунову и давали советы, на какие фабрики им еще следует пойти. Одна из них сунула Васе небольшую жестяную коробку монпансье и шепнула:
— Барышню свою угостите… и чаще заходите к нам.
На улицу Кокорев вышел повеселевшим. От его хмурого вида не осталось и следа, глаза светились, щеки пылали.
— Куда теперь? — весело спросил он у Кати.
— К нам на «Айваз», — ответила она.
Вася вытащил из кармана конфеты и протянул их девушке.
— Это вам от нас обоих.
Катя тотчас же раскрыла коробку, чтобы угостить путиловцев леденцами, и в это мгновение заметила на другой стороне улицы длиннолицего парня, с которым ехала в конке. Парень стоял спиной к ним и делал вид, что читает афиши, наклеенные на заборе. Сомнений больше не было — за ней следили, она всюду таскала за собой шпика. Подвела и райкомовцев, и этих парней. Нужно было немедля предупредить путиловцев.
Протянув им монпансье, она сказала вполголоса:
— Угощайтесь. Только не оборачивайтесь. На той стороне стоит долговязый парень с поднятым воротником. Это шпик. Наверно, был в «Долине». Что теперь делать?
— Стоило бы отучить ходить по следу, — сказал Вася.
— Верно, — подхватил Дема. — Сделаем так: вы идите на «Айваз», а я останусь и посмотрю, за кем он пойдет. Если за вами, то нагоню где-нибудь на пустыре и так намну бока, что и дорогу сюда забудет.
— Только осторожней, у таких оружие может быть, — предупредила Катя.
— Будьте спокойны, зря кидаться не стану. Если не побью, то уведу за собой. Пусть походит. Без полицейских он меня не возьмет, да и струсит пойти туда, куда мне захочется. — Говоря это, Дема крепко пожал руку девушке, затем своему приятелю и посоветовал: — Ты, Вася, в случае чего не оставляй Катюшу одну, проводи прямо до дома и адресок запомни. Может, в гости когда позовет.
— Пожалуйста. В любое воскресенье заходите, — сказала девушка.
Кокорев хотел было взять ее под руку, как это делают провожатые, но смелости не хватило, и он пошел рядом. А Дема круто повернулся и зашагал в сторону. Проходя мимо парня, читавшего афиши, он внимательно всмотрелся в него. «Никак, Мокруха? — удивился он. — Ах, гадина, шпиком стал!»
Шпик оказался знакомым. Его отец держал трактир у Красненького кладбища.
Дема завернул за угол в переулок и, притаясь, стал наблюдать в узкую щель меж стеной и водосточной трубой. Мокруха, постояв некоторое время у афиши, огляделся по сторонам, прошел шагов двадцать вперед и юркнул за ворота. Вскоре он вновь появился, но уже не в кепке, а в серой барашковой папахе. И под носом у него виднелись темные усики.
«Ну и ловок! — изумился Дема. — Прямо оборотень. Жаль, у меня сменки нет. Разве шапку на другую сторону вывернуть?.. Нельзя! Еще приметней буду. Лучше щеку повязать».
Он снял закрученный на шее шарфик, повязал щеку, будто ее раздуло флюсом, и пошел следом за Мокрухой.
Сыщик шагал, скособочась и волоча правую ногу. Он явно следил за Алешиной и Кокоревым. Как только они прошли под железнодорожный мост и скрылись из виду, он мгновенно перестал хромать и чуть ли не бегом устремился вперед.
Дема не пошел за ним, а поспешил на железнодорожную насыпь, отсюда удобно было наблюдать. Сыщик не сразу вышел из-под моста. В сквозные пролеты между шпалами было видно, как он стоит, раскуривает трубку, видимо выжидает, чтобы появились пешеходы.
Мокруха показался на панели, когда Катя с Васей ушли далеко.
Дема решил не бежать следом за сыщиком. По шпалам он добрался до Сердобольской улицы и там еще с насыпи увидел, что Алешина с Кокоревым прошли через пролом в заборе в Лесной парк. «Зачем они туда? — недоумевал он, но тут же сообразил — Мокруху, видимо, заманивают». Он бегом спустился с насыпи и поспешил к парку.
Лесной парк по всем направлениям был изрезан лыжными следами и узкими тропинками, протоптанными в глубоком снегу. Только прямая дорожка оказалась несколько шире. Дойдя до скамейки, Катя с Васей уселись рядом и осторожно стали поглядывать по сторонам: не прошел ли за ними следом шпик. Пора было избавиться от него, так как до завода «Айваз» оставалось не более десяти минут хода.
На город уже наползали ранние зимние сумерки. В парке сгущались тени, нелегко было разобрать, что творится за стволами дальних деревьев.
Оглядевшись вокруг, Вася пожал плечами.
— Ни шпика, ни Демки. Значит, отстал.
Вдруг Катя вцепилась ему в руку.
— Вон там, левей дорожки, кто-то пробежал и спрятался за деревом.
Вася смотрел прямо перед собой.
— Сидите здесь, — сказал он, — пойду проверю. Если это шпик, то Дема идет сзади и не даст ему убежать. Вдвоем мы отделаемся от него.
— Только осторожней, у него оружие может быть, — еще раз предупредила девушка.
Аверкин первым увидел приближавшегося путиловца и не мог понять: почему девушка осталась на скамейке, а парень уходит? Неужели заметил? На всякий случай он решил достать браунинг.
Аверкин хотел было сунуть руку в задний карман брюк, как вдруг услышал позади хруст снега. Он обернулся и, увидев перед собой рослого и широкоплечего парня с повязанной щекой, прижался спиной к дереву.
— Ты за кем, Мокруха, подглядываешь? — делая еще шаг, спросил Рыкунов.
— Проходи мимо, не то… — пригрозил Аверкин, рывком вытаскивая браунинг.
Но вскинуть пистолет ему не удалось: Дема прыжком сбил его с ног и, навалившись всем телом, с такой силой стиснул запястье, что рука невольно разжалась и браунинг выпал на снег.
Подоспевший Кокорев подобрал пистолет и, как только сыщик вздумал закричать, забил ему рот снегом.
Длинное Мокрухино пальто было застегнуто на все пуговицы. Вдвоем они завернули его полы выше головы и связали их. Аверкин словно попал в мешок. Кричать бесполезно: подбитое ватой пальто заглушало звуки.
Чувствуя, как парни связывают его ноги ремнем у щиколотки, шпик в страхе думал:
«Что же они со мной сделают? Проклятая девка, это она натравила их на меня! А я еще жалел ее…»
Связав Мокруху, Дема сказал Васе:
— Уходи с ней, я тут один справлюсь.
Взвалив сыщика на спину, Рыкунов понес его в глубь парка. «Куда же мне его девать? — размышлял он по пути. — В снег кинуть или в кусты? Не найдут, закоченеет еще от холода. Вроде человека убьешь. А оставить на виду— раньше времени развяжут».
Впереди путиловец заметил огоньки. «Живут, что ли, там? — подумал он. — Надо поглядеть. Нет ли какого сарая?»
Дойдя до строений, Дема повернул к дровяным сараям. Дверь одного из них оказалась без замка. Путиловец открыл ее и, войдя в сарай, свалил свою ношу на опилки.
Придавив сыщика тяжелыми козлами и пожелав ему спокойной ночи, Дема запер дверь на засов и ушел,
Аверкин некоторое время не шевелился. Куда его бросили? Он ничего не понимал. Может, вернутся опять, будут выпытывать: кого он выследил, какие сведения передал охранке? А что им сказать? Кто поверит, что он ни слова не говорил начальству об Алешиной?
«Как же я глупо попался. И главное— кому! — злился на себя Аверкин, ворочаясь на мерзлых опилках. — Позор, если в охранке узнают!»
Набрав полную грудь воздуху, Аверкин напрягся и услышал треск разрываемой материи. Сжав зубы, он напружинился еще больше. Сукно тягуче затрещало… Вскоре Аверкин почувствовал приток свежего воздуха.
Пальто треснуло в нескольких местах, пуговицы были вырваны с мясом. Освободившись от пут, Аверкин огляделся. Слабый свет проникал откуда-то сверху. Вокруг было тихо, только издалека доносились гудки паровоза.
По груде поленьев сыщик вскарабкался на сеновал, там было небольшое полукруглое окно, выходившее на крышу. Он открыл его и, с трудом протискавшись, выполз на заснеженный скат.
Сарай был невысоким. Его обступали деревья. Соскользнув, как на салазках, вниз, Аверкин без труда выбрался на дорожку.
В парке сквозь ветви деревьев светила луна. Аверкин вытащил из кармана часы. Стрелка показывала второй час ночи.
ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
Утро было морозное и ясное.
Вася Кокорев не выспался: он очень поздно вернулся с Выборгской стороны, а чуть свет Дема его разбудил.
— Ну как, проводил? — не терпелось ему узнать.
— До самых дверей. Даже окно свое показала.
— А обо мне она не говорила? — поинтересовался Дема.
— Как же! Ну, говорит, и силища у вашего друга, как котенка, сыщика поднял. Мы условились встретиться сегодня на Литейном часов в пять. Она обещала подружку захватить для тебя.
— Почему это для меня?
— Ну, пусть будет для меня. Не станем же мы с тобой из-за девчонки ссориться?
— Верно, — согласился Дема. — Пошли ребят собирать. Савелий Матвеевич велел женский митинг охранять.
Они вместе обошли знакомые дворы в Чугунном переулке и собрали девятерых самых отчаянных и задиристых парней. Вооружившись кто железной тростью, кто гаечным ключом, всей ватагой вышли на Петергофское шоссе.
По пустырям и переулкам уже двигались шумные вереницы рабочих. Они шли к площади у Нарвских ворот с песнями и выкриками.
— Смотрите, и тетки какие-то топают! — с удивлением сказал Дема, показывая на разношерстную толпу домашних хозяек, размахивающих пустыми кошелками и корзинками.
Это шли намерзшиеся за ночь жительницы деревни Волынки, зря простоявшие с вечера у продуктовой лавки. Злые, невыспавшиеся, они шагали с таким видом, точно собирались разнести по пути все магазины и хлебопекарни.
Городовой, стоявший на углу, видимо, заметил приближавшихся к нему разъяренных женщин, потому что как-то обеспокоенно стал оглядываться по сторонам, а затем, подхватив болтавшуюся на боку шашку, рысцой поспешил в чей-то двор.
— Тикает!
— Теток испугался! — засмеялись парни.
— Ату его!.. Бей корзинками!
И один из них, заложив два пальца в рот, оглушительно свистнул.
— Перестаньте хулиганить! — строго сказал Кокорев. — Попусту не задевайте городовых.
У площади парни разделились: одни остались невдалеке от Триумфальных ворот, а другие отправились к трактиру, где могли засесть полицейские.
На площадь со всех сторон стекались все новые и новые людские потоки. Пришли женщины с очень бледными лицами. Ботинки у них были испятнаны кислотой и на юбках темнели словно дробью пробитые дырки.
— С «Химика», — определил Вася. — А вон те девчонки определенно с тряпичной фабрики, а дальше — текстильщицы.
Опрятных текстильщиц нетрудно было узнать по белым пушинкам, прилипшим к одежде.
В этой огромной толпе женщины осмелели, высказывали то, что накипело на душе у каждой.
— Хуже нашей доли нет! — заговорила работница с глубоко запавшими глазами. — Работай, в очереди стой. Недосыпаем, живем в холоде…
Солдатка поддержала ее:
— Наших мужей на фронте бьют и калечат, а мы здесь как проклятые маемся. Ночь простояла у пекарни. А что детям несу? Слезы да злость свою. Разве этим накормишь? Мужчины, а вы-то чего молчите? На что надеетесь? Довольно терпеть!..
Катя проснулась с таким чувством легкости на душе, какое бывает, когда ждешь радостных событий. «Что же случилось? — не могла понять девушка. — Почему так хорошо? Неужели оттого, что он проводил до самого дома и вновь захотел встретиться?..»
Кого же она захватит с собой? Ведь близких подруг у нее нет. На заводе Катя знает девушек, но все они только знакомы ей, не больше. Может, Наташу позвать?
Наташа Ершина — небольшая, кареглазая девушка, удивлявшая всех своим низким, грудным голосом, — занималась в подполье технической работой. Она выдавала листовки, печатала на машинке для гектографа прокламации, отправляла секретные письма и на память знала шифры. Не раз они вместе выполняли срочные поручения и поздно ночью расходились по домам.
Недавно Наташа даже сказала в шутку:
— Быть нам вековушами. Мы так законспирировались, что не только парней, но и подруг растеряли.
«Позову ее», — решила Катя. Соскочив с постели, она быстро оделась, схватила полотенце и побежала на кухню мыться.
Шипящая струя воды била из крана с такой силой, что брызги разлетались во все стороны. «Значит, заводы бастуют, — определила Катя. — Иначе напор воды был бы слабей».
Потом девушка поставила на плиту чайник и вернулась в комнату.
Стоя перед зеркальцем, она придирчиво вглядывалась в свое отражение. От холодной воды лицо у нее немного зарумянилось и казалось свежим, но под глазами кожа слегка набухла и приобрела синеватый оттенок. Такие синяки появлялись у нее на лице после каждой ночи, проведенной в сыром подвале, и исчезали только днем на свежем воздухе.
В окно постучали. Со двора заглядывала Наташа Ершина.
— Вот, легка на помине! — открыв форточку, сказала Катя. — Заходи, попьем чаю.
— Некогда. И ты собирайся быстрей, дело есть.
— Ну, хоть на минутку.
Наташа спустилась в подвал.
— Нам с тобой поручение, — сказала она. — Пройти вдоль Сампсониевского и узнать, все ли фабрики бастуют.
Она даже не позволила выпить чашку чаю и поговорить о путиловцах.
— Все расскажешь по пути, одевайся!
В это утро Выборгская сторона была неузнаваемо шумной. У закрытых булочных, пекарен и продуктовых магазинов толпились домохозяйки. Они требовали хлеба. Всюду слышались злобные крики. Городовые с трудом сдерживали разъяренных женщин.
Сампсониевский проспект был заполнен народом. Бастующие подходили к работавшим предприятиям, устраивали у проходных митинги и требовали:
— Кончай работу! Все на улицу!
Наташе с Катей то и дело приходилось проталкиваться сквозь толпу.
— Такого еще не было, — раскрасневшись от ходьбы и волнения, сказала Катя. — Кажется, началось. Ой, даже сердце замирает! Неужели сбудется?
— Сбудется, — заверила ее еще более раскрасневшаяся Ершина. — Надо скорей сообщить нашим.
Девушки поспешили к трактиру «Долина», но из райкомовцев они застали только дежурного, сидевшего у телефона.
— Все пошли к народу, — сказал он. — Будут прорываться в центр. Нарвцы уже вышли… Идут к Невскому.
Катя с Наташей решили пробиться к Литейному мосту, но едва они завернули за угол, как попали в толпу, которую теснили конные полицейские.
Откормленные, рослые лошади надвигались на людей, приплясывали, разгоряченно били копытами мостовую и, мотая мордами, роняли с удил пену.
Кто-то из мужчин, прижатых к забору, хлестнул коня по крупу. Конь взвился на дыбы. Осаживая его, полицейский сбил с ног нескольких демонстрантов. Послышались стоны. Кто-то уцепился за ногу конника, пытаясь стащить его на мостовую…
На помощь полицейскому ринулись другие конники. И у забора завязалась свалка.
— Пошли в обход, — оттянув Катю в сторону, сказала Наташа. — Здесь задавят.
Они с трудом вырвались из толпы, вместе с группой работниц через пролом в ограде пробрались в сад, прошли вдоль клиник Медицинской академии, прячась за деревьями от полицейских, и вскоре очутились на набережной Невы.
Во всю ширину заснеженная река была усеяна темными фигурами людей, перебегавших по льду на другой берег.
Девушки тоже спустились по откосу на лед и, прикрывая лица от колкого ветра, побежали по тропинке, петлявшей среди торосов.
Аверкин добрался домой почти под утро. Он долго не мог уснуть, а когда забылся на некоторое время, его разбудили свистки и шум на улице.
Босиком он подбежал к окну и, увидев городовых, разгонявших у магазина возбужденных женщин, с досадой подумал: «Олухи, бабье без шума разогнать не могут». Но, вспомнив, что сегодня Международный женский день, стал торопливо одеваться.
В малоприметном сером полупальто, простой шапке-ушанке сыщик вышел через соседний проходной двор на Загородный проспект и подозвал извозчика, стоявшего на углу:
— На Выборгскую! Полным ходом.
Пока они ехали по Загородному, лошадь бежала хорошо, но ближе к Невскому извозчику то и дело приходилось покрикивать. Люди, шагавшие по мостовой, расступались неохотно.
Скоро пешеходов стало столько, что невозможно было пробиться дальше. Расплатившись с извозчиком, Аверкин свернул к Фонтанке, по набережной пешком добрался до Невского и растерянно остановился на углу. Ему еще не приходилось видеть, чтобы рабочие так открыто несли красные флаги и безбоязненно требовали: «Мира! Хлеба! Долой войну!»
Он пристроился к потоку демонстрантов, двигавшихся от Садовой улицы в сторону вокзала.
На Аничковом мосту конный полицейский, пытаясь вырвать из рук женщины красный флаг, ударил ее шашкой. Разъяренные рабочие стащили его с лошади и прямо с моста бросили на лед.
«Если кто меня опознает, разорвут на куски», — подумал Аверкин.
Нахлобучив на лоб шапку, он проскользнул на Литейный проспект. Здесь поток демонстрантов был не таким густым.
Вдруг Аверкин увидел двух рослых парней, перебегавших на другую сторону проспекта. «Они… вчерашние», — обрадовался он.
— Теперь-то от меня не уйдете, — бормотал сыщик, устремись за путиловцами.
За парнями ему нетрудно было следить: высокий и широкоплечий Рыкунов выделялся в толпе.
У Сергиевской улицы стояла вереница трамваев. Около них толпился народ. Аверкин хотел было позвать на помощь полицейских, но передумал: «Задержу, где меньше народу».
Путиловцы остановились на углу у ограды собора. Они явно кого-то поджидали, потому что, закурив, все время поглядывали в сторону Литейного моста.
Литейный проспект заполняли толпы народа. У остановленных трамваев образовался круговорот. Городовые стремились схватить знаменосцев, а демонстранты отбивали их.
— Не ввязаться ли и нам? — спросил Дема у Васи.
— Подожди, успеешь еще попасть в участок.
Нетерпеливо поглядывая по сторонам, юноши выкурили по две папиросы, Вася полез было в карман за третьей, но в это время возле них появилась невысокая девушка. Низким, грудным голосом она сказала:
— Не оборачивайтесь, стойте, как стояли. Я Катина подруга. Мы вас давно заметили, но не подходим. За вами следит сыщик. Он торчал на том углу, а сейчас перебежал и разговаривает с городовым. Видите, у трамвая с разбитым стеклом?
— И верно, Мокруха, — поднявшись на носки, подтвердил Дема. — Жаль, я его вчера не пристукнул.
— Не ждите нас, уходите, — посоветовала девушка. — В воскресенье приходите к Кате.
Юноши пригнулись, сбежали с панели на мостовую и, затолкавшись в толпе, скрылись за трамваями.
Потеряв из виду парней, Аверкин прошел в здание окружного суда и по телефону передал донесение в охранку о том, что творится на Невском и Литейном. В ответ он получил приказание к девяти часам быть у оперативного дежурного.
Времени еще оставалось много. Аверкин заехал на службу к брату.
Всеволод был озабочен.
— Очень хорошо, что зашел, — сказал он и, подойдя к двери, дважды повернул ключ в замке, — для нас с тобой наступает опасное время. Можно и взлететь высоко, и провалиться в тартарары. Мы сейчас работаем не на того хозяина, — при этом Всеволод понизил голос. — Самодержавию приходит конец. Царь не способен вести войну. Это ясно всем. Недовольство охватило даже высшее общество. Я это знаю из допросов по распутинскому делу. В заговоре замешаны очень крупные и влиятельные люди. Надо быть готовым ко всему. Сегодня ночью и завтра пройдут массовые аресты. Нам с тобой подворачивается случай послужить будущим хозяевам. Я сейчас дам тебе адреса некоторых думских деятелей… Правда, им ничего особенного не грозит, но ты от моего имени предупреди их, чтобы они два-три дня провели вне дома. Я думаю, нам это потом зачтется.
— Но как же я это сделаю? Меня к оперативному дежурному вызывают, — возразил Виталий.
— Не беспокойся, с твоим начальством я договорюсь по телефону. Есть дела поважней. При новой власти могут полететь многие головы. Чужие жизни меня не очень беспокоят, а вот свою хотелось бы сохранить. Для нас с тобой и еще кой для кого очень важно, чтобы архивы охранки и министерства исчезли навсегда. Одна группа для уничтожения их подготовлена. Но мы должны страховаться. Подберешь несколько человек, и если по каким-либо причинам охранка и здание судебных установлений не сгорят, то вы их подожжете сами… да так, чтобы ни одна бумажка не уцелела.
— А если нас поймают?
— Поджигать не обязательно самим. Разве трудно подбить возбужденную толпу? Важно, чтоб под рукой оказался керосин или бензин. Все это ты продумаешь до завтрашнего утра… самое позднее до обеда. И сообщишь мне. Хорошо?
— А сколько на это отпущено денег?
— Сотни по две получите. Только действуйте решительно. Если где-нибудь спасут хоть одну папку, гроша ломаного не дадим.
ФИЛИПП РЫКУНОВ
На крейсере «Аврора», ремонтировавшемся у стенки Франко-русского судостроительного завода, рабочие чуть ли не каждый день видели на шканцах широкоскулого, коренастого матроса, стоявшего с полной выкладкой под ружьем.
— За что его так часто наказывают? — спрашивали они у моряков.
— По дури собственной рябчиков стреляет», — отвечали фельдфебели. — Строптив больно!
А матросы вполголоса говорили:
— Старший офицер невзлюбил, готов со света сжить.
— А вы что, заступиться за товарища не можете?
— Попробуй у нас — живо под суд угодишь! — оправдывались авроровцы.
— Эх вы, храбрецы! Суда испугались, — с укором говорили судостроители. — Мы-то думали, матросы народ отчаянный, дружный, а они начальства боятся. Чем же ваша жизнь слаще тюряхи?
Служба на крейсере действительно была нелегкой. Матросов месяцами не отпускали на берег и за каждую провинность сажали в карцер на хлеб и воду или ставили под ружье на шканцах. Любой боцман мог ткнуть дудкой в зубы и огреть линьком.
Старший офицер Огранович хорошо знал, что у Филиппа Рыкунова родители живут в Петрограде, что матрос ни разу не побывал дома, но увольнительную ему не давал. Ограновичу казалось, что Рыкунов с недостаточным почтением приветствует его. При встречах он заставлял сигнальщика по нескольку раз подходить к нему, вскидывать руку к бескозырке и вытягиваться в струнку. Тот, не имея права ослушаться офицера, проделывал все это с умышленной медлительностью и с презрением глядел на Ограновича.
— Научить этого босяка подходить и поворачиваться, — обозлясь, приказал офицер фельдфебелю. — А потом на шканцы под ружье!
Рыжеусый фельдфебель рад был случаю выслужиться, а заодно поиздеваться над строптивым сигнальщиком.
— Ну что ж, давай на полубак, займемся строевой подготовочкой, — говорил он и подмигивал кому-нибудь из писарей: «Выходите, мол, поглядеть, как я питерского гонять буду».
На полубаке он садился у среза бочки и, чтобы посмешить зрителей, начинал с шутовских команд:
— Один матрос в три шеренги становись! И никуда не разбегайсь…
Молодые матросы после такой команды всегда терялись, начинали суетливо делать нелепые движения, а зрители давились со смеху. Рыкунов же с презрением смотрел на усатого фельдфебеля и не двигался с места.
— Так, — хрипел Щенников, — у тебя, значится, слабина в подходах и поворотах? Эфто мы быстро исправим… Шаго-ом марш!.. Дать ножку! — командовал он. — Кру-у-гом!.. Нале-ву… Направу…
Молодых матросов фельдфебель обычно заставлял делать повороты до тех пор, пока те не падали от головокружения, но с Рыкуновым так не получалось. Он поворачивался не спеша, словно обдумывая команду, шагал с подчеркнутой четкостью.
Фельдфебеля раздражала его медлительность и спокойствие, он начинал орать и сквернословить:
— Ты, что ж… акулья требуха, босяцкая морда! В карцер захотел? А ну, ходчей! Нале-ву… Прямо! Кру-у-гом! Чего пятку тянешь?.. За разгильдяйство два наряда вне очереди!
Рыкунов почти ежедневно чистил и мыл гальюны и стоял под ружьем на шканцах. А это было нелегко. Попробуй постой хотя бы час навытяжку, когда у тебя за плечами висит ранец с тридцатью фунтами песку! Молодые матросы после четырех часов стояния под ружьем падали в обморок, а сильный и закаленный Рыкунов стойко переносил наказание.
Огранович любил поиздеваться над матросом, он не раз высовывался из рубки вахтенного и спрашивал одно и то же:
— Это кто там? Опять Рыкунов на своем любимом месте? Ну-ну, ему не вредно «рябчиков стрелять». Строптивым полезно мозги проветривать, умней после этого становятся.
Матросу, стоявшему под ружьем, разговаривать и шевелиться не разрешалось, но сигнальщик однажды обернулся и четко произнес:
— А вы и здесь, ваше благородие, ума не наберетесь.
Офицер хотел было отхлестать по щекам дерзкого матроса, но одумался: сигнальщик, стоявший с винтовкой, был грозен.
— Вахтенный, запишите, чтобы этого мерзавца ежедневно утром и вечером до конца месяца ставили под ружье, — приказал он.
Из офицеров только штурман справедливо и сочувственно относился к матросу. В пятницу, когда Огранович на сутки уволился, штурман остался на корабле исполнять обязанности старшего офицера. Увидев сигнальщика, готовившегося отбывать наказание, он спросил:
— Рыкунов, желаешь проведать родителей?
— Очень, ваше благородие.
— Ступай к писарю и скажи, что я приказал дать увольнительную до вечерней поверки. Только, смотри, не подведи меня.
— Есть не подводить!
Обрадованный матрос ринулся в кубрик, вытащил из рундучка еще не ношенные брюки, фланельку и принялся наглаживать их.
— Это куда? На увольнение? — удивился фельдфебель. — А свое отстоял?
— Мне сегодня разрешено уволиться.
— А вот я сейчас узнаю, как разрешено, — пригрозил Щенников. — За вранье еще часов восемь получишь.
Он ушел из кубрика со свирепым видом, а через некоторое время вернулся присмиревшим.
— Ладно, отправляйся, — буркнул фельдфебель, — только не забудь бутылку водки принести, иначе не попадешь больше на берег. Понял?
Выйдя с Франко-русского завода, Рыкунов задумался: куда пойти?
Пять лет матрос не бывал дома. Его тянуло повидаться с матерью и братом, но с отцом встречаться не хотелось. Он не мог забыть побоев.
Путиловцы поставили парнишку с Коровьего моста охранять майскую сходку, проходившую в соседней роще. Кто-то из провокаторов видел, как Филька предупреждающе засвистел, когда заметил подкрадывающихся полицейских. Верткого и быстрого парнишку тогда поймать не сумели, поэтому пришли домой и арестовали отца.
Отца из кутузки выручили вагранщик Сизов и церковный сторож Артемьянов, связанный с Союзом Михаила Архангела. Они уверили пристава, что Рыкунов неповинен в сыновьих делах, что парнишка и так будет наказан самым строгим отцовским судом.
Вернувшись из кутузки домой, отец распил со своими поручителями две бутылки настойки и призвал Фильку к допросу:
— Говори как на духу… кто тебя подбил на богопротивное дело?
— Никто!
— Врешь! С забастовщиками спутался? Рассказывай — кто они?
— Не знаю я никаких забастовщиков…
Артемьянов снял с божницы небольшую деревянную иконку и поднес ее Фильке.
— Целуй Николая Чудотворца… И побожись.
— Не буду целовать… Чудотворцев не бывает.
— Чего? Чудотворцев не бывает? — как бы ужасаясь, шепотом переспросил церковный сторож. — Может, ты и в бога не веришь?
— Не верю, ну и что?
— Господи! За это убить мало.
— Мало, — пьяно подтвердил вагранщик Сизов. — Я бы шкуру с него спустил.
Хмельной отец схватил толстый ремень, на котором правил бритву, и принялся хлестать им Фильку по лицу, по голове, по плечам. Увертливый парень старался отскочить влево — отец был кривым на правый глаз, — а потом схватился за ремень и повис на нем.
— Подмогите! — задыхаясь, обратился отец к собутыльникам. — Не управлюсь один.
Они втроем навалились на Фильку: один зажал коленями голову, второй — ноги, а разъяренный отец изо всей силы стегал ремнем.
Мать, услышав приглушенный крик сына, кинулась к соседям.
— Ой, милые… Ой, родные, помогите! Мой ирод Фильку убивает.
Прибежавший Савелий Матвеевич отнял от истязателей в кровь избитого парня и увел к себе.
К вечеру у Фильки поднялся жар. Лицо горело от ссадин. Спина вздулась, и все тело ныло, словно изломанное. Он всю ночь бредил, а Лемеховы возились с ним, как с родным сыном. Они прикладывали компрессы к рубцам и кровоподтекам, поили морсом.
Филька отлеживался у Лемеховых почти неделю и домой больше не вернулся. Савелий Матвеевич предложил:
— Оставайся у нас. Куда ты теперь денешься? С верфи тебя, конечно, прогнали. А на новую работу не скоро устроишься.
— Ничего, проживу, — ответил Филька.
Еще в постели он надумал уйти к рыбакам, с которыми познакомился на взморье. Это были веселые и бесшабашные парни, не признававшие ни бога, ни царя, ни полиции. В любую погоду они выходили в залив на своих просмоленных лодках, ставили переметы, а утром снимали улов и несли продавать на городские рынки.
Рыбаки охотно приняли Фильку в свою артель, так как на одну из лодок у них не хватало напарника. И Рыкунов больше двух лет жил вольной жизнью, не признавая никакой власти над собой.
Все лето рыбаки обитали в шалашах тут же на взморье. Заработанные деньги тратили легко и весело, откладывая лишь пятую долю на одежду, снасти и зимнюю жизнь. Осенью они брали в аренду у рыбака-чухонца амбар, складывали в него просушенные снасти, перебирались в город и поселялись в «Шанхае» — огромном доме с дешевыми комнатами.
В «Шанхае» они вязали новые снасти, артелью нанимались к домовладельцам скалывать лед и сбрасывать снег с самых крутых и высоких крыш. За такую работу платили втройне.
Перед войной Филиппа призвали на флот. Он принес Савелию Матвеевичу две бутылки водки, свежих, только что пойманных судаков и попросил позвать мать с братом. С отцом ему не хотелось прощаться.
Поэтому он и сейчас не знал, как ему поступить: зайти к Лемеховым или домой?
«Впрочем, чего я раздумываю, — конечно, к Савелию Матвеевичу, — решил матрос. — А там ясно будет, что делать».
У Калинкина моста он сел в дребезжащий вагончик трамвая и поехал к Нарвской заставе.
Савелий Матвеевич был дома. Он обрадовался, увидев Филиппа, обнял его, поцеловал и начал вертеть во все стороны.
— В плечах будто раздался, а вот мяса лишнего не нарастил, осунулся вроде. Что — не легка служба?
— Не сахар, — вздохнул моряк.
Кузнец усадил его за стол, сам сел напротив и предложил:
— Рассказывай, как на море воюете.
Пока они за графинчиком водки разговаривали между собой, жена Савелия Матвеевича сбегала к Рыкуновым и привела мать Филиппа. Та, увидев возмужавшего и потемневшего от морских ветров сына, расплакалась. Он поцеловал ее и спросил:
— Как отец?
— Еще злей стал. Теперь Дему тиранит, безбожником да фулиганом ругает. А твои письма до одного пожег. Его все Артемьянов настраивает. Водка-то дорогая, так этот леший денатурат приучил пить. Вместе спекулянничают: отец в сарае белый металл в тигле плавит и в формочках иконки солдатские отливает, а тот их в церкви продает. Народ обманывают, а других безбожниками зовут…
Младшего брата Филиппу так и не удалось повидать.
На «Аврору» он возвращался навеселе. Поднявшись по трапу, Рыкунов ловко отдал честь Андреевскому флагу, отметился у вахтенного и пошел в свой кубрик. У тамбура его встретил Щенников.
— Принес водки? — спросил он.
— Нет у меня для тебя никакой водки, — отмахнулся Рыкунов.
— Так ты что… обманывать? Обещал, а теперь отказываешься? Сам всю выжрал?
Схватив матроса за грудь, фельдфебель сильно встряхнул его и, почувствовав под пальцем хруст бумаги, потребовал:
— А ну, покажи, Что в бушлате прячешь?
— Ничего я не прячу, отстань!
При этом Рыкунов так толкнул фельдфебеля, что тот отлетел к срезу бочки и растянулся на палубе. Мешкать нельзя было ни секунды. Филипп вскочил в тамбур, спустился по трапу вниз и, увидев знакомого машиниста, сунул ему в руки листовки, полученные от Савелия Матвеевича.
— Спрячь, за мной рыжеусый гонится.
— Есть спрятать, — ответил машинист. — А ты по тому трапу уходи.
Филипп поднялся по другому трапу на верхнюю палубу, прошел в свой кубрик, там он напихал за бушлат газет, которые берег для закурки, и сел на рундучок перевести дух. В это время запела труба горниста и тонко засвистели дудки вахтенных, вызывавшие матросов на вечернюю поверку.
Вместе с гурьбой матросов Филипп выбежал на верхнюю палубу и стал в строй во вторую шеренгу. Ему думалось, что здесь он будет незаметен. Но вскоре появился посыльный и выкрикнул:
— Матрос Рыкунов, в рубку, к старшему лейтенанту!
В рубке сидели старший лейтенант с молодым мичманом и стоял навытяжку Щенников.
— Показывай, что у тебя в бушлате, — приказал офицер.
Филипп сбросил с себя бушлат и вывернул карманы. Старший лейтенант взял измятую газету, просмотрел ее и, не найдя ничего запретного, спросил у Щенникова:
— Ты про это говорил?
— Никак нет, ваше благородие, — поспешил ответить фельдфебель. — Энта бумага мятая, а у него хрусткая была. Видно, спрятать успел. Надо в кубрике пошарить.
Офицер поморщился и сказал мичману:
— Сходите в кубрик. Пусть он при вас осмотрит рундучки.
Когда они ушли, старший лейтенант спросил у Филиппа:
— Ты где был?
— У родителей.
— Пьянствовал?
— Так точно, ваше благородие, — бойко ответил Рыкунов. За пьянство на корабле не наказывали.
— Листовок ни от кого не получал?
Филипп сделал вид, что не понимает офицера.
Обыск в кубрике ничего не дал. Вернувшийся со Щенниковым мичман доложил, что запретной литературы в рундучках не обнаружено.
— В строй! — приказал старший лейтенант.
Рыкунов козырнул, круто повернулся и бегом отправился к своей шеренге. Ему разрешили стать на левый фланг. Вскоре рядом с ним появился кипевший от злости Щенников.
— Ну, теперь ты у меня покрутишься! — ощерясь, прошипел фельдфебель.
На другой день Рыкунова остановил на палубе небольшой и худощавый минный машинист. Его звали Шурой Белышевым.
— Где ты листовки добыл? — вполголоса спросил он.
Филипп не решился сказать правду.
— На Фонтанке… у моста нашел, — соврал он.
Машинист понимающе улыбнулся, подмигнул Рыкунову и сказал:
— Если еще найдешь, передавай нам… не ошибешься.
ВСЕ НА УЛИЦУ!
За Нарвской заставой бастовали все заводы. Бросили работу и солдаты, присланные с фронта на Путиловец. Они помитинговали до полудня, потом ушли строем на обед и больше не вернулись.
Весть о том, что солдаты покинули завод, облетела все улицы Нарвской заставы. На другой день рабочие с утра стали собираться у главной проходной Путиловца. Они стучали кулаками в ворота и требовали:
— Откройте!
Но им никто не отвечал. Стало ясно, что добром на завод не пройдешь. Один из комитетчиков обратился к собравшимся:
— Эй, кто там покрепче, давай сюда, к воротам!
Дема с Васей и еще несколько рослых парней протискались вперед. По команде они толкнули ворота… Доски затрещали.
— А ну, еще нажми! И-и… раз! И-и… два!
От дружного напора створки ворот сорвались с петель и рухнули.
Необычайно белый, запорошенный свежим снегом двор и покрытые инеем стены бездействующих мастерских потрясли путиловцев. Они застыли в оцепенении перед поваленными воротами. Им еще не доводилось видеть свой завод таким безмолвным. Они привыкли к гулу трансмиссий, к частому уханью парового молота, к дыханию и вспышкам мартеновских печей, к свисту и шипению пара. Без этого рабочего шума и гула завод им казался мертвым.
Кто оживит его? Кто вдохнет в него жизнь? Ведь здесь же работали деды и отцы, здесь прошла юность! Завод хоть и выжимал из них пот и старил, но он одновременно был школой жизни и кормильцем. В его мастерских, в общем труде они объединялись и осознавали свою силу. Это завод сплотил их, породил славу путиловцев. Как же они будут без него?
— Заморозили, гады, цеха, — сдавленным голосом сказал стоявший рядом с Васей пожилой рабочий.
И вдруг кто-то высоким голосом крикнул:
— Снимай охрану!
Этот призыв прокатился по двору, заметался среди
заиндевевших мастерских и, отозвавшись эхом, прозвучал как боевой сигнал к действию.
— Долой генерал-директора! Сами будем управлять заводом.
— Гони охрану и хожалых!
Путиловцы бросились догонять убегающих охранников. Они настигали их в узких проходах, ловили в цехах и, толкая в шею, гнали к зданию конторы, где уже хозяйничал стачечный комитет.
В этот день рабочие захватили все мастерские завода и выставили свою охрану.
Выдав Кате пачку прокламаций, Наташа сказала:
— Будь осторожна. Вчера по демонстрантам стреляли. Облавы были на многих улицах, и всю ночь ходили с обысками. Арестовали почти весь состав Петербургского комитета.
Спрятав прокламации под пальто на груди, Катя пошла к Финляндскому вокзалу. Улицы в этот день казались безлюдными. Лишь на углу Боткинской девушка заметила жиденькую толпу. Катя приблизилась к ней. Какой-то железнодорожник водил пальцем по листку, наклеенному на заборе, и по складам читал вслух:
— «Подни-май-тесь все! Орга… организуйтесь для борьбы! Устраивайте комитеты…»
«Наша листовка, — думала Катя. — Кто же успел ее наклеить?»
Голос у железнодорожника был невнятный. Женщина в солдатском ватнике не утерпела и сказала:
— Неужто пограмотней здесь никого нет?
Катя хотела занять место железнодорожника, но одумалась: «Если схватят, то я попадусь со всей пачкой. Не буду ввязываться».
Листовку взялся читать какой-то парнишка в форме ученика реального училища.
— «Жить стало невозможно. Нечего есть. Не во что одеться. Нечем топить.
На фронте кровь, увечье, смерть. Набор за набором, поезд за поездом, точно гурты скота, отправляются наши дети и братья на человеческую бойню.
Нельзя молчать!
Отдавать братьев и детей на бойню, а самим издыхать от холода и голода и молчать без конца — это трусость, бессмысленная, подлая.
Все равно не спасешься. Не тюрьма — так шрапнель, не шрапнель — так болезнь или смерть от голодовки и истощения…»
— Правильно! — крикнул сутулый грузчик, подпоясанный красным кушаком. — Все как есть правильно!
Но на него зашикали:
— Не мешай, тоже оратор нашелся. Читай, мальчик!
Катя пошла дальше. На другом углу женщина читала такую же листовку в очереди у булочной:
— «.. Царский двор, банкиры и попы загребают золото. Стая хищных бездельников пирует на народных костях, пьет народную кровь. А мы страдаем. Мы гибнем. Голодаем. Надрываемся на работе. Умираем в траншеях. Нельзя молчать.
Все на борьбу. На улицу! За себя, за детей и братьев!..»
Листовки уже ходили по рукам. Товарищи успели опередить Катю.
Девушка отправилась на вокзал. У касс прохаживались жандармы.
«Здесь рискованно», — сообразила она и вышла на перрон к поезду, идущему в Гельсингфорс.
У одного из вагонов третьего класса стояла группа матросов. Катя пригляделась к ним: кого же выбрать? Решилась подойти к круглолицему здоровяку с Георгиевским крестом. Он ей показался симпатичней других.
Она сложила две листовки треугольничком, как посылали в то время письма на фронт, быстро сунула в руку моряка и сказала: «Прочтете в вагоне». Пошла дальше.
Недоумевая, балтиец развернул бумажку. Поняв, что это листовки, он моментально сунул их в карман и кинулся догонять девушку.
Он настиг ее в другом конце перрона.
— Сестренка! — окликнул моряк. — Одну минуточку..
Катя испугалась: «Сейчас схватит и потащит в жандармское отделение».
Она остановилась и, словно впервые видя балтийца, строго спросила:
— Что вам угодно?
Моряк смутился:
— Это ведь вы сейчас подходили ко мне?..
— Нет, я вас не знаю.
— Да вы не бойтесь, — вполголоса начал убеждать он ее. — Может, у вас еще найдутся такие листики?.. Дайте, пожалуйста. Тут у нас ребята едут на разные корабли. На всех не хватит…
По глазам и открытому, энергичному лицу чувствовалось, что моряк не лжет и не собирается выдавать ее.
— Хорошо, — сказала Катя, — только пройдем немного подальше.
По пути она свернула в трубку дюжины две листовок и передала их моряку. Тот сунул их в карман, крепко сжал ее руку и спросил:
— Как вас зовут?
— Катя.
— А меня Иустин Тарутин. Передайте своим: на матросов могут надеяться… не подведем.
Иустин Тарутин провожал в Гельсингфорс на эскадру молодых минеров. Заодно ему хотелось разведать, что творится в столице. Поэтому с вокзала в центр города он направился пешком.
У моста через Неву его остановил казачий патруль. Чубатый фельдфебель, взглянув на увольнительную, сказал:
— По городу не очень-то разгуливай, попадешь в комендатуру. Есть строгий приказ всех отправлять в казармы.
— Так мне же в Кронштадт надо.
— А-а… в Кронштадт? Ну, тогда проходи.
На Литейном проспекте путь на Невский преградили пешие и конные полицейские. Не давая пешеходам скапливаться в одном месте, они теснили всех в боковые переулки. Тарутин свернул на Бассейную улицу. Здесь народу было не меньше, моряку приходилось лавировать: то идти по панели, то проталкиваться через толпу по мостовой.
На Знаменской улице он свернул вправо, чтобы выйти на Невский. Неожиданно впереди послышалась частая стрельба, а минуты через три Тарутин увидел бегущих навстречу растрепанных и задыхающихся людей. Моряк остановил парня, потерявшего шапку, и спросил:
— Что там случилось?
— Солдаты… из винтовок прямо по народу… А на нас конники… Сабли наголо… так и рубят! Весь снег в крови… Не ходи, моряк!
Но Тарутин быстрей зашагал к площади.
У Знаменской церкви, прислонив винтовку к ограде, стоял белобрысый солдат. Он папахой вытирал бледное лицо и, словно помешанный, сам с собой разговаривал:
— Ну и пусть… пусть арестуют. Не боюсь! Все равно пропадать. По народу мы не стреляем, а в городовиков завсегда. Неча с саблями гоняться! Я хотел убечь, а теперь останусь. Вон она, винтовка, берите. Вяжите мне руки…
На затоптанном и окровавленном снегу площади виднелись сраженные пулями демонстранты и подбитые лошади. Тарутин подошел к солдатам Волынского полка, стоявшим в неровном строю у памятника Александру III. Пехотинцы были возбуждены. Они все курили. И Иустин заметил, что руки у многих дрожат.
— Что у вас тут вышло? — спросил Тарутин.
— Чо вышло? А то, что по народу было велено, — быстро затараторил пехотинец со щербинкой в передних зубах. — А мы чо? Мы не чо. Нам штабс-капитан кричит: «Пли!» А мы в белый свет, как в копеечку…
— Не поймешь ты ничего у этого чокалы, — перебил товарища бородатый волынец и не спеша рассказал о случившемся.
Оказывается, учебной роте Волынского полка еще с утра выдали боевые патроны и привели на площадь к Николаевскому вокзалу. А когда здесь скопились демонстранты и не пожелали расходиться, солдатам приказали зарядить винтовки и стрелять.
— Пальба! Взводами… пли! — кричал штабс-капитан.
Солдаты дали несколько залпов, но не в народ, а поверх голов. Видя, что из демонстрантов никто не падает, штабс-капитан подбежал к пулемету и сам начал обстреливать толпу.
Люди заметались по площади, не зная, куда укрыться от пуль. В это время широко распахнулись вокзальные ворота и из-под арки вылетели с саблями наголо конные жандармы и стали преследовать бегущих.
И вот тут солдаты Павловского полка, видя, как конники рубят беззащитных демонстрантов, дали залп по жандармам.
— Теперь павловцев самих взяли в кольцо. Винтовки отнимают, видно, судить будут, — заключил бородач.
Тарутин лишь к концу дня попал на Балтийский вокзал.
В поезде, идущем в Ораниенбаум, народу было немного. Иустин сел к окну. Увидев на перроне флотский патруль, он с опаской подумал: «Только бы не обыскали».
Матрос снял правый ботинок, и, как бы нащупывая гвоздь, мешавший ходить, уложил на место стельки согнутые пополам листовки. Переобувшись, он решил: «Сразу в казарму не пойду, сперва загляну в чайную на Козьем болоте, там ребята ждут вестей из Питера».
В деревне, в которой родился Иустин, крестьянам своего хлеба не хватало. Одни из них занимались извозом в Туле, другие добывали тиски, слесарный инструмент и по заказу фабриканта Гудкова делали замки.
Тарутины жили бедно. Отцу было трудно прокормить девятерых детей. В тринадцать лет, едва закончив четырехклассное земское училище, Иустин поступил на оружейный завод в ученики слесаря.
Жизнь была невеселой: он просыпался чуть свет, пешком отмерял четыре версты до города, весь день трудился на заводе у тисков и поздно вечером возвращался в деревню. Порой он так уставал, что, не ужиная, едва добравшись до постели, падал и засыпал.
Иустину хотелось как-то изменить это однообразное существование. Он стал прислушиваться к разговорам рабочих, ругавших заводские порядки, тайком читал запретные книжки и передавал другим.
Однажды вечером, когда он возвращался с работы домой, его встретила соседка и шепотом предупредила:
— Иустин, не ходи домой, там тебя стражник ждет.
Не чувствуя за собой никакой вины, Иустин подошел к своей избе и заглянул в освещенное окно. В горнице действительно сидел стражник и курил. Напротив у плетня была привязана его лошадь. Свет из окна освещал седло и притороченную к нему небольшую винтовку.
«Карабин!» — сообразил Иустин. Парнишке давно хотелось раздобыть себе оружие. Недолго думая, он подкрался к лошади, выгреб из сумки патроны, отвязал карабин и спрятал все под камни у погреба.
Когда невысокий, чумазый парнишка появился в избе, стражник обозлился и в сердцах сказал:
— Тьфу ты пропасть! Я думал, человек придет, а тут сопля. Тоже революционер! Пороть тебя некому. Только людям беспокойству устраиваешь. Собирайся к становому!
— Дали бы хоть щей похлебать, — робко попросила мать. — Ведь с утра без горячего мается.
— Некогда мне с вами вожжаться да глядеть, как вы щи свои тут хлебаете! — ответил полицейский и, толкнув юношу в спину, сказал: — Пошли!
Почувствовав, что от стражника разит водкой, Иустин с опаской подумал: «Сейчас подойдет к коню и хватится, а карабина-то и нет».
На счастье, стражник не заметил пропажи. Взгромоздясь на лошадь, он строго сказал:
— Пойдешь у стремени. Только смотри, не вздумай тикать, живого места не оставлю!
Мать догнала сына за воротами. Она сунула ему в руки узелок и, плача, поцеловала.
Стражник пригнал его в соседнюю деревню, где находился полицейский стан. Там юношу заперли в «холодную» и только на другое утро повели на допрос.
— Ты от кого запрещенные книжки получал? — спросил у него пристав.
«Вот оно что! Значит, меня из-за книжек арестовали», — сообразил Иустин.
— Ни от кого книг не получал. К чему они мне? — сказал он.
— А это чья пакость? — закричал пристав. — Кто ее дал Савину?
Он показал тоненькую брошюрку под названием «С одного козла двух шкур не дерут». В ней говорилось об издевательствах мастеров, которые штрафами и взятками сдирают вторую шкуру с рабочего, так как первая достается фабриканту. Иустин действительно передал ее двоюродному брату.
— От меня он ее получил, — признался юноша. — Сам-то я не курящий, а ему сгодится, с десяти лет курит.
— Где ты ее взял?
— На улице нашел.
— Врешь!
И пристав ударил его по лицу. Иустин обозлился.
— Если будешь драться, ничего больше не скажу. Пристав ударил еще раз и заорал:
— Я тебя научу, щенок, как разговаривать! От кого получил? Говори!
Стиснув зубы, юноша молчал. Он готов был кинуться на полицейского и вцепиться ему в горло. Пристав, видимо, почувствовал это, он отступил за широкий письменный стол и сказал:
— Так вот ты из каковых! В молчанку играть? Обученный, значит? У нас на таких кандалы надевают.
В тот же день он отправил Иустина в Тулу, да не просто, а под усиленным конвоем: два стражника с саблями наголо ехали справа и слева.
«Ух, с каким почетом! Словно знаменитого разбойника ведут, — подумал юноша и гордо вскинул голову. — Пусть все видят, что я их не боюсь».
В полицейском управлении его посадили не в общую камеру, где сидели мелкие воры и жулики, а в отдельную.
Старичок сторож поставил на стол кувшин с водой и спросил:
— Как насчет харчей? Есть у тебя, паря, деньги?
— Нет, ни копейки не осталось.
— Тогда плохо твое дело. У нас здесь не кормят.
Все же старик принес ему немного заплесневелых сухарей. Больше двух суток ничего иного у Тарутина не было.
На третий день он услышал песню, доносившуюся из коридора. Густым басом кто-то выкрикивал:
Вскоре в камеру втолкнули коренастого мастерового в разодранной рубашке, сквозь прорехи которой виднелась полосатая морская тельняшка. Иустин знал его. Это был лекальщик их завода Антон Ермаков, часто буянивший в нетрезвом виде.
Сев на нары, Ермаков запел новую песню:
Улица веселая,
Времечко тяжелое…
При этом он пьяно притаптывал и щелкал пальцами. Увидев сидящего в углу Иустина, лекальщик вдруг умолк и спросил:
— А ты кто?
— Я, дядя Антон, арестованный.
— А кто тебе сказал, что меня зовут Антоном?
— Солодухин. Я его подручный.
— Правильно. Солодухин мой друг. Много с ним гуляно. Хочешь, я тебя матросским песням научу? — вдруг спросил он.
Иустин был рад всякому развлечению в этой полутемной камере.
— Научите, — попросил он.
— Ишь какой прыткий. «Научите»! А ты знаешь, что за песни в тюрьму попасть можно?
— Так мы уже сидим в тюрьме.
— Верно, — оглядев камеру, удивился Ермаков. — А ты, паренек, с перцем, — отметил он. — Хочешь, балтийскую спою? — И, не дождавшись ответа, запел:
Песня была про отважного матроса, расстрелянного царем.
Спев песню, Ермаков вытер ладонью слезы, положил тяжелую руку на плечо Иустину и сказал:
— Будут на военную службу брать — просись в матросы. Таких товарищей, как на море, нигде не найдешь. Но не пей, Иустин, — не только полиция, а и друзья презирать будут. Это точно, верь мне, на своей шкуре испытал.
От получки у Ермакова осталось рубля четыре. Он покупал на эти деньги хлеб, воблу, рубец и подкармливал юношу. Когда Иустина вызвали на второй допрос, старый матрос посоветовал:
— Придуряйся, ничего не говори, отказывайся от всего.
Иустин так и поступил: он делал вид, что не понимает жандармского офицера, и нес всякий вздор. Тот бился, бился с ним, потом обозлился, вызвал рослого полицейского и сказал:
— Тащи этого остолопа на улицу и дай под зад, чтобы раз пять перевернулся.
Полицейский схватил Иустина за ворот, поволок к выходу и так пнул его ногой, что юноша растянулся на панели. Ему хотелось схватить камень и ударить обидчика, но он одумался, погрозил лишь кулаком и поспешил уйти.
В деревне Иустин узнал, что стражники целый день искали винтовку и на огороде, и у соседей, но не нашли. Юноша решился вытащить карабин из-под камней только через Неделю. Он счистил с него ржавчину, смазал маслом, завернул в тряпки и перепрятал под крышу сарая.
Вскоре этот карабин ему понадобился. Невдалеке от деревни находилось имение тульского головы Любомудрова. Летом его управляющий нанимал девчат метать стога и жать рожь. Многие из них оставались ночевать в поле. И вот в разгар сенокоса, поздно вечером, Иустин нагнал на дороге заплаканную дочку соседки Марфеньку.
— Кто тебя обидел? — спросил он.
— Володька помещицкий, — ответила она. — Все лапает и пристает, а сегодня — хвать за плечо и тащит. Я, чтоб отстал, в руки зубами вцепилась… Он за это — в грудь. «Уходи прочь, говорит, и больше на работу не являйся».
— Ладно, не плачь, Марфенька, я его отучу девчат лапать, — пообещал Иустин.
В эту же ночь он перенес свой карабин в поле и спрятал под кустом у помещичьей межи.
В субботу, пораньше закончив работу, не заходя домой, Иустин засел во ржи у проселочной дороги.
Сидел он долго, уже зашло солнце, и на небе угасали красные полосы. Наконец показалась легкая бричка. В ней ехал с поля, насвистывая, долговязый студент — сын помещика. Он был в форменной фуражке и белой рубахе.
Иустин поднялся и крикнул:
— Стой!
Но студент не остановил бричку, а испуганно вскочил и принялся нахлестывать коня. Иустин прицелился и нажал на спусковой крючок карабина. Сверкнул огонь, прогремел выстрел. Конь от испуга рванулся и понесся как шальной.
«Промазал», — понял Иустин и дважды выстрелил вдогонку. На следующий день в имение понаехало много стражников и жандармов. Началось следствие. Студенту, видимо, от страха померещилось, что изо ржи вышел огромный и бородатый детина с ружьем, а может, он это придумал, чтобы не прослыть трусом. Во всяком случае безусый Тарутин у полиции подозрений не вызывал. Одна только Марфенька догадывалась, кто стрелял в студента.
В другое воскресенье, когда Иустин вечером пришел на гулянку, она отвела его в сторону и шепотом спросила:
— Это ты стрелял в помещичьего Володьку?
— Я. Жаль вот, промазал.
— А не боишься? Ведь нас обоих могут в тюрьму посадить.
— А тебя-то за что?
— Ну; как же… если бы я не пожаловалась… Ты ведь за меня мстил, да?
— Да.
— Иустин, значит, ты… — У нее не хватило духу сказать «любишь меня», но он это понял и вместо ответа привлек к себе Марфеньку и поцеловал.
С этого воскресенья они по вечерам стали гулять вместе. Девушка любила его за бесшабашность и отчаянные поступки и в то же время страшилась их.
— Иустин, остепенись, — не раз просила она. — Иначе отец не примет твоих сватов.
И действительно, ее отец и слышать не хотел об их свадьбе.
— Лучше пусть в девках останется, чем за голодранца выходить, — говорил он. — Такие из тюрьмы не вылазят.
Когда Иустина призвали в армию, он сам попросился на флот.
«Питерские поотчаянней будут, — вспоминалась ему девушка, передававшая листовки. — Не побоялась к незнакомому подойти. А вдруг бы на «шкуру» нарвалась? Схватил бы он ее ив кутузку. Не зря же она сделала строгое лицо: я, мол, вас не знаю. Почему она ни к кому другому, а именно ко мне подошла? Значит, чем-то я доверие вызвал. Имя у нее хорошее: Катя, Катюша. Эх, дурень, адреса не спросил!»
Доехав до Ораниенбаума, Тарутин поспешил в порт и там пристроился к артиллеристам, которые переправлялись в Кронштадт на лошадях, запряженных в огромные сани.
НА КРЕЙСЕРЕ «АВРОРА»
Судостроители забастовали в пятницу. Франко-русский завод опустел. Наступила непривычная тишина, нарушаемая лишь звоном склянок «Авроры».
Без рабочих ремонтируемый корабль имел какой-то заброшенный и растерзанный вид. С его высоких бортов свисали покосившиеся пустые беседки клепальщиков. Листы стальной брони во многих местах остались развороченными, в зияющих дырах виднелись заржавевшие шпангоуты.
Командир «Авроры» капитан первого ранга Никольский, не желая, чтобы матросы узнали о начавшихся в столице беспорядках, отдал строгий приказ: никого в город не отпускать. Но разве утаишь такие события от матросов?
Трюмные машинисты, гальванеры, кочегары и электрики с утра перетирали и смазывали детали разобранных машин. Прибегавшие к ним матросы строевой команды шепотом передавали:
— Все заводы остановились. Рабочие ходят по улицам с флагами. За Нарвской заставой бьют городовых.
К концу дня в машинное отделение бегом спустился возбужденный плотник Липатов.
— Где Белышев? — спросил он.
— А что стряслось? — заинтересовались машинисты.
— Совсем осатанели. Крейсер в тюрьму превращают… Семеновцы рабочих арестовали, притащили на корабль и — в карцер. Нас и так презирают, жандармами зовут, а тут еще такое.
У авроровцев действительно была недобрая слава на флоте. Полтора года назад, когда матросы «Рюрика» отказались конвоировать взбунтовавшихся матросов линкора «Гангут», командующий приказал это сделать экипажу «Авроры». Офицеры в конвой отобрали новичков, только что прибывших служить на корабль, и те опозорили всю команду.
— Постой, не горячись, — остановил плотника появившийся Белышев и, отойдя с ним в сторонку, шепнул:
— Созови своих ребят понадежней, а я своих. Сойдемся ровно в пять в туннеле у главного гребного вала.
В назначенный час матросы пробрались в длинный и узкий коридор, освещенный огарком свечи, и, усевшись на корточки, стали обсуждать, что же им делать.
Выслушав негодующих товарищей, Белышев с обычной для него неторопливостью сказал:
— Протестовать, конечно, нужно, но этого мало. Мы должны быть вместе с рабочими. У меня есть предложение: сегодня, когда нас соберут на вечернюю молитву, погасим свет и навалимся на офицеров. В первую очередь на Никольского и Ограновича.
Предложение машиниста не вызывало споров. Тут же условились, что сигналом к бунту послужат слова молитвы: «…и благослови достояние твое», электрики мгновенно перережут электрическую проводку, а остальные, наметив себе офицеров, нападут на них в темноте.
— Полундра! — вдруг крикнул в туннель наблюдатель.
Собравшиеся быстро загасили свечу, в темноте перебежали к запасному ходу и разошлись по своим местам.
О тайном решении матросы шепотом передавали друг другу. Все же на корабле нашелся предатель, который донес старшему офицеру о готовящемся восстании.
Перед молитвой в кубриках неожиданно появились вооруженные офицеры с кондукторами. Они оглядели жилые помещения, нет ли в них оружия, и предупредили матросов, что всякие бесчинства на корабле будут караться по законам военного времени — расстрелом.
Едва только офицеры удалились, как по кубрикам разнеслась весть:
— Семеновцы уводят с корабля арестованных.
Матросы не сговариваясь ринулись из кубриков наверх.
Они опрокинули боцманматов и унтеров, стоявших у трапов, и выбежали на открытую палубу.
Увидев на берегу рабочих, окруженных конвоем, кочегары и машинисты закричали:
— Ура, петроградцы!
— Скажите всем, мы с вами!
— Долой семеновцев!
— Разойдись! Марш по кубрикам! — прогремел с мостика в рупор голос командира крейсера.
Его никто не слушал. Матросы бросились к широкому трапу, спущенному на берег. Но здесь их остановил Огранович.
— Назад! — тряся бородой, рявкнул он и вскинул вверх руку с револьвером.
За спиной Ограновича сплоченной группой стояли вооруженные офицеры.
— Не бойся… За мной! — крикнул, вырвавшись вперед, Рыкунов.
За ним устремились несколько кочегаров и минеров.
На юте сверкнул огонек. Рыкунову показалось, что ему по ногам ударили чем-то горячим. Он упал. Над ним загремели частые выстрелы.
Матросы отхлынули назад и начали пятиться к тамбурам. По ним с берега стреляли семеновцы, а на корабле— свои офицеры. Пули щелкали по броне, взвизгивали в воздухе, впивались в дерево. Матросы гурьбой скатывались в люки, прятались за дымовые трубы, за стальные тела пушек, спускались за борт на торосистый лед.
Рыкунова кто-то втащил в тамбур и крикнул:
— Тащи, братва, его вниз! Мы сюда никого не пустим.
Стрельба вскоре прекратилась.
Кочегары, машинисты, рулевые и гальванеры, собравшиеся в нижних помещениях, кипели от негодования:
— Ночью надо всех их передушить.
— Чего ждать ночи, вооружайся сейчас! Становись к трапам с ломами и лопатами! Не давай спускаться, а то зачинщиков начнут искать.
Но никто из офицеров не решился показаться в нижних помещениях.
На некоторое время на корабле как бы все затихло. Матросы прислушивались к тому, что делается наверху, а офицеры настороженно поглядывали на тамбуры.
У Рыкунова была прострелена левая нога выше колена.
— По мякоти, через неделю ходить будешь, — заверил его кочегар, взявшийся перевязывать.
Время уже подходило к вечерней поверке. И вдруг — как ни в чем не бывало — по приказанию командира крейсера заиграла труба горниста, созывавшая всех наверх.
— Строиться по ротам!
Матросы медленно выходили на верхнюю палубу и строились вдоль борта. Рулевые помогли Рыкунову подняться по трапу и, став рядом с ним в строй, поддерживали с двух сторон.
Никогда еще в такой обстановке не проходила вечерняя поверка. С Невы надвигалась мгла. Матросы, по привычке подровняв шеренги, стояли молча. Но по лицам, учащенному дыханию и поблескивающим в сумерках глазам чувствовалось, какую ненависть они питают к офицерам. Если бы не дула пулеметов, направленные с мостиков на шеренги, матросы растерзали бы золотопогонников.
Молитвы в этот вечер не было, ее отменил Никольский. Он понимал, что после стрельбы нельзя собирать матросов в тесном и закрытом помещении корабельной церкви, где не выставишь пулеметов.
Офицеры, знавшие о матросском заговоре, старались как можно дольше продержать их на ветре и холоде. К тому же была причина: в каждой роте не хватало двух-трех человек.
— Где они? — допытывались кондукторы и фельдфебели.
Но матросы молчали, хотя хорошо знали, что их товарищи по льду убежали в город.
Когда совсем стемнело, из своего тамбура вышел командир корабля. Сопровождаемый вахтенным офицером, он прошел вдоль рядов. Зеленоватый луч электрического фонарика заскользил по лицам насупленных матросов.
«Сейчас ткнет в меня пальцем и скажет: «Выйти из строя!» — подумал Филипп Рыкунов.
Но Никольский никого из матросов не трогал. Он знал, что творится в городе, и боялся наступающей ночи.
— Проверить кубрики и отсеки! — приказал он. Капитан первого ранга полагал, что на поверку не вышли раненые.
Офицеры с унтерами прошли по кубрикам, заглянули во все закоулки корабля и, не найдя никого, вернулись.
Эта весть еще больше омрачила командира крейсера.
— Отбой, — буркнул он и пошел в свою каюту писать донесение.
— Разойдись! — раздалась команда. — Вязать койки!
Матросы разобрали свернутые валиками подвесные брезентовые койки и разошлись по кубрикам готовиться ко сну.
Рыкунов, опасаясь, что ночью его арестуют, попросил товарищей отнести койку к механикам. Там народ был дружней, но и среди машинистов нашлись люди, напуганные стрельбой.
— Вот и нашумелись, — сказал рябой гальванер. — Рабочим не помогли и себе навредили. Прежде за такое дело брезентом накрывали и в расход списывали.
— Заныл уже, — едва сдерживая боль, возмутился сигнальщик. — Поджилки трясутся, что ли?
— Ишь храбрый нашелся. Попрыгаешь теперь на одной ноге, если за решетку не попадешь.
— А ну, не разводи пену, без тебя тошно! — прикрикнул на гальванера сосед по койке. — Заладил свое: «брезентом, брезентом», а нам о другом думать надо.
— Верно, — поддержал его Белышев. — Теперь хода назад уже не дашь, только вперед! Держись крепче друг за дружку и не теряйся.
Подвесив на крючья койку, он не лег спать, а пошел поговорить с вожаками других команд, как действовать завтра.
Следующий день был воскресным. После побудки, вязки коек и умывания засвистели боцманские дудки и послышались голоса унтеров:
— На молитву!
Утром полагалось читать только «Отче наш», в этой молитве не было слов: «.. и благослови достояние твое», все же корабельный священник, стоявший в полном облачении у походного алтаря, с тревогой вглядывался в сумрачные лица матросов, заполнявших тесное, с низким подволоком помещение, пропахшее ладаном и воском.
Кочегары, комендоры, рулевые, сигнальщики и машинисты переступали комингс церковной палубы не крестясь и, казалось, с недружелюбием поглядывали на лики святых.
Позже всех, держа перед собой фуражки, вперед протискались офицеры и мичманы. И тотчас раздалась команда:
— Расступись!
Матросы нехотя потеснились, образуя узкий проход к алтарю. Командир крейсера с пожелтевшим, желчным лицом прошел на свое место, перекрестился и сделал движение рукой: можно начинать.
Священник покосился на него и начал богослужение. «Отче наш» полагалось петь хором, но сегодня слышались только простуженные басы боцманов да фельдфебелей. Матросы молчали, а офицеры стояли настороженными, каждый из них держал руку у расстегнутой кобуры с револьвером.
Молитва прошла спокойно. Священник торжествовал: «Ага, одумались! Вечерняя стрельба на пользу пошла!»
И на лице Никольского разгладились резкие складки, но глаза оставались злыми. Они как бы говорили: «Я вам не забуду вчерашнего, вы еще поплатитесь за бунт».
Ему не нравилось и сегодняшнее поведение матросов на молитве. В наказание, несмотря на воскресный день, командир крейсера приказал устроить на корабле большую приборку.
После завтрака матросов заставили драить песком палубы, убирать каюты, мыть ванные и гальюны.
Это было им на руку. Разойдясь с ведрами, щетками, шлангами и пеньковыми швабрами по всему кораблю, матросы очутились около пулеметов, офицерских кают, хранилищ оружия. Теперь только следовало дать общий сигнал, чтобы всем действовать одновременно.
Вожаки команд, делая вид, что они разносят песок, мыло и ведра с едким раствором каустика, в одном месте шептали: «Будьте ближе к пулеметам», в другом: «Следите за офицерами», в третьем: «Как услышите «ура», захватывайте оружие». Сами они ждали появления рабочих на заводском дворе.
Сигнальщик Рыкунов на большую приборку не вышел. Это заметил Щенников.
— Где Рыкунов? — допытывался он у матросов. А те либо отмалчивались, либо говорили:
— Не знаем, не видели.
— Я его сейчас сам найду и за шкирку наверх вытащу, — пообещал фельдфебель.
Он заглянул в помещения других рот и нашел сигнальщика лежащим в кубрике кочегаров. Рыкунов здесь был не один. Перед открытыми иллюминаторами сидели еще два матроса: один с забинтованной головой, другой — с повязкой на левой руке.
— А вы чего тут прохлаждаетесь?! — заорал фельдфебель. — Марш по командам!
— Не ори, шкура! — огрызнулся кочегар с повязанной рукой.
— Что-о?! Ты с кем это так разговариваешь? — накинулся на него Щенников. — За решетку хочешь? Я вас, бунтовщиков, насквозь вижу. Зачинщики собрались, да? Опять матросов мутить? Вот я сейчас доложу старшему офицеру…
Фельдфебель, сверкнув глазами, повернулся и направился к выходу.
— Не выпускайте его! — сказал Рыкунов товарищам. — Эта шкура продаст нас.
Один из кочегаров схватил со стола медный чайник, в два прыжка нагнал Щенникова и ударил его по загривку. От неожиданности фельдфебель качнулся и упал на четвереньки… Уползая к двери, он завопил:
— Дежурный!.. На помощь!..
Никто не прибежал на его крик, потому что в эту минуту заводские ворота распахнулись и во двор ворвались с красными знаменами судостроители и солдаты Кексгольмского полка.
— Ура авроровцам! — закричали они.
— Урррааа! — раздалось в ответ по всем палубам и отсекам крейсера.
Кондукторы с унтерами немедля развернули пулеметы, решив стрелять по рабочим, но матросы накинулись на них со всех сторон, смяли и посбрасывали с надстроек.
Несколько матросов схватили Ограновича. Старший офицер яростно отбивался. Ему скрутили руки за спину и пинками погнали к трапу, спущенному на берег.
Остальные офицеры, застигнутые врасплох, не сопротивлялись. Они отдавали оружие и послушно шли за матросами на ют. Только командира крейсера никто не успел схватить. Он выскочил из кормового тамбура с браунингом. В ярости Никольский, наверное, убил бы несколько человек, если бы кто-то из машинистов ногой не вышиб из его руки пистолет.
С обезоруженного капитана первого ранга содрали погоны и потащили на берег в угольную яму. Туда же приволокли цеплявшегося за ноги Ограновича.
Суд над ними был короткий: матросы вскинули винтовки и дали два залпа.
Офицеры, стоявшие на юте, видели все это. Их лица побелели.
— Так и с вами будет, — сказал один из матросов, — если пойдете против народа.
ГОРЯЧИЕ ДНИ
Две грузовые автомашины с путиловцами выкатили на Петергофское шоссе и помчались к центру города.
У Александровского рынка шла стрельба. Рабочие вместе с солдатами осаждали полицейский участок.
Первая машина остановилась. На мостовую спрыгнули Дема Рыкунов и еще несколько человек. Кокорев видел, как они побежали по мосту через Фонтанку. Он хотел остановить свою машину, но послышалась команда:
— Не будем задерживаться! Здесь сами справятся. И машины покатили дальше.
Рыкунов подбежал к угловому дому, где толпилось человек двадцать.
— Не высовывайся, парень! — предупредил его солдат в лохматой папахе. — Мигом подобьют! Надо в обход.
Рыкунов и еще несколько человек двинулись в обход за солдатом. Они прошли в какой-то тупичок, помогая один другому, вскарабкались на деревянный сарай и поднялись по железной лестнице на крышу четырехэтажного дома.
Дома здесь стояли вплотную. По крышам нетрудно было пробраться к полицейскому участку. Но снег, лежавший на кровлях, оказался рыхлым. Ноги то увязали, то вместе с сорвавшейся глыбой скользили по скату. Дема несколько раз падал и хватался за выступы дымовых труб, чтобы не скатиться вниз, на панель. Он не отставал от солдата, так же перепрыгивал с одного обрывистого края крыши на другой и на четвереньках карабкался по крутым скатам.
К зданию, где находился полицейский участок, добрались лишь пять человек. Остальных заметили люди, скрывавшиеся под арками ворот и на другой стороне Садовой. Они что-то кричали и махали шапками.
— Вот ведь недоумки, выдадут нас, — рассердился солдат.
Он вышиб прикладом винтовки полукруглую раму слухового окна, и все, кто был на крыше, проникли на чердак.
— Прячьтесь за стояки труб, — приказал солдат. — И не высовывайтесь, пока я не подам команды.
Сам он, поманив за собой Дему, пошел на разведку.
Полицейские сообразили, что им грозит опасность с соседних крыш. Когда разведчики вышли на площадку лестницы, то увидели трех городовых, тащивших по лестнице наверх пулемет.
— Укройся здесь, — шепотом сказал солдат Деме. — Как только я выстрелю по переднему, бей заднего. Третьего вдвоем скрутим.
Дема присел за высоким ящиком, стоявшим у входа на чердак, а солдат прижался к стене в темном углу.
Городовые, тащившие пулемет по лестнице, долго не показывались. Но вот мелькнули их шапки. Дема крепче сжал в руке небольшую кувалду и затаил дыхание.
Передний городовой просунул голову на чердак, огляделся и крикнул:
— Давай живей!.. Вон к тому окну.
Пятясь задом, городовые стали перетаскивать пулемет через порог. Все они были вооружены револьверами.
«Теперь-то я добуду себе наган», — подумал Дема.
Как только раздался выстрел, он выбежал и ударил кувалдой по спине ближайшего городового, а затем навалился на его соседа.
Городовой оказался сильным и вертким, он извивался на полу, пытаясь зубами вцепиться Деме в руку. Солдат оглушил его прикладом винтовки. Городовой сразу обмяк и, ткнувшись носом в слежавшиеся опилки, повалился на бок.
Дема вытащил у него из кобуры наган и сорвал красный шнур. Ему хотелось добыть револьвер и для Васи, но оружие успели срезать парни, прятавшиеся за стояками.
Вооружившись наганами, они стали осторожно спускаться вниз.
Во втором этаже обе створки дверей были распахнуты. Из коридора струился синеватый дым и чувствовался резкий запах пороховых газов. В глубине помещения громыхали выстрелы. Городовые стреляли и в первом этаже.
— Двое останьтесь на площадке, а остальные за мной! — скомандовал солдат.
В длинном коридоре стояли раскрытые ящики с патронами и гранатами-лимонками. Солдат взял две гранаты и пошел впереди. Дема держал наган на взводе.
В большой комнате, уставленной письменными столами, шесть городовых стреляли из окон.
Солдат бросил одну за другой лимонки и присел за дверью у стенки.
От взрывов посыпалась штукатурка. Коридор заполнился известковой пылью и дымом. В его дальнем конце заметались полицейские.
Низкорослый городовой выскочил из соседней комнаты и закричал:
— Нас окружили, спускайтесь во двор!
Дема сшиб его с ног и дал несколько выстрелов в конец коридора.
Потом они с солдатом вбежали в крайнюю комнату. Там двое городовых притаились за пулеметом, выставленным в окно.
— Руки вверх! — крикнул солдат.
Городовые обернулись и, увидев направленное на них дуло винтовки, подняли руки.
Дема подбежал к пулемету, столкнул его на улицу и, высунувшись из окна, замахал шапкой.
Снизу донеслось «ура».
Вскоре все коридоры заполнились народом… Восставшие ловили полицейских, разбивали шкафы, выбрасывали из столов бумаги, топтали и рвали царские портреты.
— Ну, хлопцы, нам тут делать больше нечего, — сказал солдат. — Пошли дальше.
Дема подхватил валявшуюся на полу винтовку, наполнил карманы патронами и выбежал на улицу.
Вася Кокорев попал к Александро-Невской лавре, где железнодорожники вместе с солдатами громили полицейский участок. Здесь Вася помог свалить царский герб — медного двуглавого орла, красовавшегося над входом.
Потом он побывал и на Забалканском проспекте, и на Гороховой улице, и у пылавшего после штурма Литовского замка, но нигде не мог добыть себе винтовки. Только поздно вечером возле Поцелуева моста Кокорев увидел у грузовой машины небольшую толпу. Издали юноше показалось, что солдаты раздают грузчикам подковы. Но когда Вася подошел ближе, понял, что это не подковы, а небольшие пистолеты.
— Браунинг, — сказал студент, разглядывавший полученный пистолет.
Кокорев немедля подбежал к машине и протянул обе руки.
— Мне дайте… для путиловцев, — попросил он.
Солдат подал ему три браунинга и пачку патронов.
Засунув пистолеты за ремень, а патроны в карман куртки, Вася еще раз подошел к грузовику и выставил перед другим солдатом шапку. Тот всыпал в нее горсть патронов и бросил еще один браунинг.
Добыв оружие, Кокорев решил вернуться к себе за Нарвскую заставу.
Трамваи не ходили. На темных улицах слышалась беспорядочная стрельба, колыхались багровые отсветы пожаров.
На всякий случай Вася зарядил один из пистолетов и, держа его в руке, пошел к Никольскому рынку.
У Английского проспекта навстречу выскочили два конника.
— Стой! Куда идешь? — крикнул передний.
Это были городовые. Вася разглядел их круглые шапки и башлыки. Он хотел шагнуть в узкий переулок, но конники поскакали ему наперерез. Тогда Кокорев вскинул руку с браунингом…
Один за другим прогремели семь выстрелов. Вспышки ослепили молодого путиловца.
Напуганные городовые повернули коней и во весь опор поскакали в сторону.
«Вот это оружие! — подумал юноша. — Ну, теперь не подходи к нашим ребятам!»
Впервые за все годы борьбы большевики сходились на свое партийное собрание не таясь, не пробираясь по глухим переулкам, не выискивая тайных лазов, проходов, не пряча лица в поднятые воротники или под низко надвинутые на глаза кепки и шляпы. Они шли открыто, не озираясь настороженно по сторонам, не стучали условным стуком, а смело переступали порог, не боясь наткнуться на засаду.
Путиловские большевики собирались в самом людном месте — в длинной и узкой комнате проходной конторы завода. У входа за столиком сидели два старых подпольщика, одних они пропускали молча, а других останавливали и спрашивали:
— Большевик?
— Большевик, — отвечал входивший, называя свою фамилию и партийную кличку.
Путиловцы усаживались на стулья, стоявшие у голых конторских столов, расстегивали куртки, полушубки, утирали лоб, вытаскивали кисеты и закуривали. От некоторых рабочих попахивало порохом и дымом, совсем еще недавно они сражались на улицах. Их обветренные лица потемнели, обросли щетиной — в дни боев некогда было бриться, — а глаза горячо светились.
Недавних бойцов встречали веселыми возгласами:
— Жив, Семеныч? А я думал, что тебя тот толстый городовой насмерть пристукнул.
— Кишка тонка! — отшучивался пострадавший. — Но ты вовремя его по затылку огрел. Если по-честному признаться, так до сих пор шею не могу повернуть. Вот ведь боров!
— Сергей, куда же красота твоя подевалась? Половина уса обгорела, жена любить не будет.
— Да ну их, этих коломенских! Мы надумали дымом полицейских выкурить. А какой-то чудак бензину плеснул… Сам подпалился, и меня зацепило. Без усов теперь придется ходить.
Путиловцы были веселы, они отшучивались и при этом курили так, что махорочный дым волнами колыхался под потолком.
Стрелка конторских часов показывала уже седьмой час, а большевиков собралось немного.
— Что-то маловато наших.
— Да-а, не очень много осталось, — заметил старый литейщик. — В одном тринадцатом году человек пятьдесят в тюрьму попало. Потом — кого на фронт, кого в ссылку…
— А другого на кладбище, — перебил его глуховатый котельщик. — Помните Георгия Шкапина? Ну, того, что стихи писал? Так он в военном госпитале в позапрошлом году скончался.
— Где теперь Митя Апельсинчик? Тоже приметный парень был — румяный, веселый. Ему еще жандарм из револьвера в ногу угодил. И нам с тобой, Антон, чуть тогда не попало. Не забыл собрания за прудом?
— Как же! Тогда еще старика Костюкова взяли, а мы с тобой во все лопатки удирали…
И пошли воспоминания о прежних нелегальных собраниях. Где только не встречались путиловцы! Боясь собираться в домах, чтобы не попасть в засаду, они сходились под открытым небом у Волынкинской деревни, на Лаутровой даче, на водопаде речки Лиговки, в Поташевском и Шереметевском лесах.
В контору вошел Савелий Матвеевич. Он привел Васю Кокорева и Дему Рыкунова.
— Большевиками желают быть, — сказал он. — Разрешите им присутствовать на собрании? Ручаюсь за обоих.
— Хорошее пополнение! — разглядывая парней, отметил один из стариков. — Спасибо, Савелий Матвеевич. Только вот… не молоды ли?
— Да вроде созрели. На деле проверены. Ум, как говорится, бороды не ждет.
В РОССИИ НЕТ ЦАРЯ
В Цюрихе Ульяновым жилось трудно. Война вызвала дороговизну. Эмигрантам негде было заработать несколько франков. Деньги, которые Владимир Ильич получил из горьковского издательства «Парус», были на исходе, а других не предвиделось.
Надежда Константиновна устроилась секретарем в Бюро эмигрантских касс, помогавшее подыскивать работу. Заработок пустяковый, но все же заработок. Бюро спасало от голода тех, кто обнищал на чужбине и не мог выкарабкаться из нужды.
Зима выдалась снежной и холодной. В комнате, расположенной почти на чердаке, можно было работать только закутавшись в одеяло, и то руки застывали.
Готовясь к большой работе, Владимир Ильич завел толстую тетрадь синего цвета и каждый день ходил в библиотеку. Он работал с утра до вечера: делал выписки из книг и бегло записывал возникавшие мысли. Новый труд должен был обобщить все, что писалось марксистами о государстве и революции, и развить это учение.
Свой стол в библиотеке Владимир Ильич покидал лишь на обеденный перерыв. За час он успевал поесть и поговорить с товарищами, забегавшими к нему на несколько минут. Потом, не отдыхая, возвращался в читальный зал и принимался писать.
Углубясь в работу, он не ощущал ни времени, ни окружающей жизни. Звонок, извещавший о закрытии библиотеки, всякий раз застигал его врасплох, на незаконченной фразе.
В начале марта Владимир Ильич по заведенному порядку появился в доме в первом часу. У Надежды Константиновны уже был готов обед. Пока она разливала суп в тарелки, он вымыл руки и, подойдя к столу, принялся нарезать хлеб.
Обычно в такие минуты Владимир Ильич расспрашивал о цюрихских новостях, о товарищах, но в этот день был рассеян и задумчив. Перекинувшись лишь несколькими словами с женой, он быстро пообедал и стал собираться в библиотеку.
Едва успела Надежда Константиновна убрать посуду со стола, как вдруг послышался скрип деревянной лестницы. Кто-то торопливо поднимался.
— Кто же это к нам? — по шагам пытался угадать Владимир Ильич.
На пороге появился польский социал-демократ Вронский. Он был возбужден и весел.
— Почему вы в такой день дома? — закричал Вронский от двери. — В России революция, а они невеселы!
— Как революция? — недоумевая, спросил Ильич. — Кто вам сказал? Откуда известно?
— Собственными глазами читал! Вышли экстренные выпуски газет.
Владимир Ильич больше ни о чем не расспрашивал, схватил пальто и стал торопливо надевать его. Надежда Константиновна, оставив на столе неубранную посуду, вместе с ним поспешила к озеру. Там под навесом на большом щите вывешивались свежие цюрихские газеты.
У экстренных выпусков уже толпились возбужденные эмигранты. Больше всего здесь было россиян.
Владимир Ильич внимательно прочитал все сообщения телеграфных агентств. Сведения были скудными и маловразумительными. В одних телеграммах сообщалось, что царские министры арестованы, а политические заключенные выпущены из тюрем на свободу, что власть будто бы перешла в руки двенадцати членов Думы. В других говорилось, что царь Николай Второй сам отрекся от престола, а Временное правительство ведет переговоры о новом царе с представителями династии Романовых.
Владимир Ильич предчувствовал надвигающуюся грозу, но такой быстрой развязки он, конечно, не ожидал.
Интеллигентного вида человек в котелке и в пенсне восторженно говорил:
— В России свобода. Это умопомрачительно! Господа, то есть граждане… даже верней — товарищи! Мы теперь одна революционная семья. Довольно партийных распрей и ссор. Братья свободы должны объединиться и послать приветствие новому правительству…
«Что теперь творится там, в России? — думал Ленин. — Какую позицию заняли товарищи? Очень важно, какими будут первые шаги. Если бы сейчас можно было очутиться в Петрограде! Что же предпринять?.. В первую очередь связаться с членами заграничного Бюро Центрального Комитета и друзьями, живущими поблизости. Необходимо продумать план немедленных действий».
Вместе с Надеждой Константиновной Владимир Ильич отправился на телеграф.
Улица, залитая по-весеннему теплыми лучами солнца, казалась какой-то торжественно-праздничной. От нахлынувшей радости невольно кружилась голова. Ведь сколько было пережито в тюрьмах, в ссылке, в скитаниях по чужим странам, чтобы наступил этот час! Домой, скорей домой, в Россию! Дорога каждая минута.
— А что, если нам раздобыть аэроплан? — остановись, вдруг как бы у самого себя спросил Владимир Ильич. — Да, да, аэроплан! — повторил он. — И перелететь через горы. Мы быстро бы очутились в России.
Надежда Константиновна с сомнением улыбнулась и сказала:
— Володя, я не узнаю тебя! Тобой всегда руководил разум. И вдруг — аэроплан!
— Да, да, конечно, — согласился Владимир Ильич. — Аэроплан, к сожалению, отпадает.
Послав несколько телеграмм и писем, они побывали в редакции «Новой цюрихской газеты», надеясь узнать подробности о революции в России, но там их ничем не порадовали. Поступившие телеграммы были такими же куцыми, как и утренние.
Всю ночь Владимир Ильич ворочался в постели, строил различные планы переезда в Россию и тут же отвергал их.
Утром, наскоро позавтракав, он помчался разыскивать в киосках свежие газеты, прибывшие в Цюрих. В них было больше подробностей. Уже не надо было строить догадки. Пока рабочие дрались на улицах столицы с царской полицией, власть захватили думские воротилы — либеральные помещики и капиталисты. Новое правительство возглавил князь Львов. Его подпирали Милюков, Гучков и Керенский. Знакомые имена! Эти думские деятели давно рвались к власти.
И как жульнически хитро подобраны, подлецы! Львов и Гучков — чтобы душить свободу, Милюков со своими кадетами — для украшения и сладеньких профессорских речей, а «трудовик» Керенский введен в правительство для обмана рабочих и солдат.
По тону французских газет нетрудно было догадаться, что Временное правительство устраивает союзников. Оно будет управлять страной по западному образцу, а главное — не выйдет из войны, продолжит ее с большей энергией, нежели царь.
«Как же скорей попасть в Петроград?» — беспрестанно думал Владимир Ильич. Все сейчас решалось там. Может, поехать по чужим документам? Для этого надо найти человека, которому не откажут в визе. Но кому можно довериться? И кто захочет рисковать? А что, если попросить Карпинского?
Карпинский заведовал в Женеве партийным архивом и библиотекой Центрального Комитета. Это был умелый конспиратор. Владимир Ильич немедля написал ему:
«Дорогой Вяч. Ал.!
Я всячески обдумываю способ поездки. Абсолютный секрет — следующее. Прошу ответить мне тотчас и, пожалуй, лучше экспрессом (авось партию не разорим на десяток лишних экспрессов), чтобы спокойней быть, что никто не прочел письма.
Возьмите на свое имя бумаги на проезд во Францию и Англию, а я поеду по ним через Англию (и Голландию) в Россию.
Я могу одеть парик.
Фотография будет снята с меня уже в парике, и в Берн в консульство я явлюсь с Вашими бумагами уже в парике.
Вы тогда должны скрыться из Женевы минимум на несколько недель (до телеграммы от меня из Скандинавии): на это время Вы должны запрятаться архисерьезно в горах, где за пансион мы за Вас заплатим, разумеется.
Если согласны, начните немедленно подготовку самым энергичным (и самым тайным) образом, а мне черкните тотчас же во всяком случае.
Ваш Ленин.
Обдумайте все практические шаги в связи с этим и пишите подробно. Пишу Вам, ибо уверен, что между нами все останется в секрете абсолютном».
Инессе Арманд — самому верному и близкому другу семьи — он написал другое письмо, в котором просил выяснить: велик ли риск проехать через Англию и Голландию в Скандинавию — и начать поиски подходящих русских и швейцарцев, которые согласились бы отдать свои паспорта для проезда в Россию.
Третье письмо и свою фотографию он «вмонтировал» в обложку книги и послал в Стокгольм поляку Ганецкому, который находился в Скандинавии для связи заграничного Бюро ЦК с Россией. В письме Владимир Ильич объяснил, что больше ждать невозможно, так как все надежды на легальный проезд тщетны, а ему необходимо во что бы то ни стало выбраться из Швейцарии. Он попросил найти шведа, похожего на него, и учесть незнание языка. Лучше было бы, чтобы швед оказался глухонемым, неразговаривающим.
Из Христиании пришло письмо от Александры Михайловны Коллонтай. Она сообщала, что большевики, живущие в Швеции и Норвегии, соберутся для обсуждения вопроса: кому немедля ехать в Россию, а кому оставаться в Скандинавии связными.
«Хотим прежде всего установить живую цепь Россия— Финляндия — Стокгольм или Христиания — Швейцария, — пока Вы там, — писала Александра Михайловна. — Послезавтра утром (сегодня уже получил паспорт) едет в Ф… наш друг — норвежец, чтобы зондировать почву, и, если все, как думаем, даст телеграмму, и тогда двигается первое лицо. К тому дню, надеемся, будем иметь Ваши директивы. Без директив Ваших — настою, чтобы никто не ехал. Момент слишком ответственный, чтобы действовать вразброд. В этом отношении я человек осторожный и осмотрительный и на меня можете в этом смысле полагаться. В такие именно моменты нужна «дисциплина», требую ее и от других».
Она объясняла, как сама понимает произошедшее в России, и прислала для просмотра рукопись агитационной брошюры «Нужен ли нам царь?», которую намеревалась отправить в печать.
Письмо заканчивалось радостными восклицаниями:
«А все-таки, дорогие друзья, большой момент!.. Мы все здесь «ошалели», не спим, не сидим — носимся и норвежцев бунтуем. Трудно не уехать в Россию немедленно!
Ваш лозунг «гражданская война» вполне себя оправдал! Это я всюду отмечаю. Хочется крепко, крепко пожать Вашу руку. Все-таки сейчас у Вас должно быть подъемно на душе, ликующе! Всего хорошего Вам обоим!»
Вслед за письмом пришла из Христиании телеграмма. Владимир Ильич сходил на телеграф и кратко ответил Коллонтай:
«Наша тактика: полное недоверие; никакой поддержки новому правительству; Керенского особенно подозреваем; вооружение пролетариата — единственная гарантия… никакого сближения с другими партиями. Телеграфируйте это в Петроград».
Кроме того, Владимир Ильич стал писать «Письма из далека». Два первых он послал Александре Михайловне, попросив перевезти их через границу и вручить русскому Бюро ЦК.
Вскоре из Норвегии пришла восторженная телеграмма:
«Две статьи и письмо получила, восхищена Вашими идеями.
Коллонтай».
В МОРСКОЙ КРЕПОСТИ
Виталий Аверкин со своей группой действовал осторожно и хитро, как советовал брат. Тайные агенты не вышибали дверей и не взламывали решеток на окнах, они только выкриками подогревали озлобленную толпу, доставали ломы, топоры, горючее.
Врываясь в помещения вместе с толпой, сообщники Аверкина находили заранее приготовленные бутылки с бензином, разбивали их о стеллажи, о стены, да так, чтобы горючее попало на папки с делами. Пламя в несколько минут охватывало все этажи. Люди едва успевали выскакивать на улицу.
К зданию судебных установлений с грохотом и звоном примчались пожарники в медных касках, но толпа не дала загасить пожар.
На другой день утром Виталий получил от брата пухлый конверт с деньгами. Всеволод был доволен.
— Чисто сделано, — похвалил он. — Многие газеты сваливают вину на обезумевшую толпу. Наш шеф поручает то же самое проделать в Кронштадте. Если местные агенты растеряются и замешкаются, ваше дело — любыми путями, вплоть до взрыва, уничтожить архивы охранного отделения. Выехать надо немедленно. Для этого получите автомобиль. На сборы дается полтора часа.
Собрать агентов было нетрудно, они все сидели в соседнем трактире и ждали обещанных денег. Виталий выдал им по сто рублей, а все остальное оставил себе.
В казенном автомобиле они доехали по приморской дороге до Лисьего Носа, а оттуда по льду, мимо фортов, переправились в Кронштадт.
В крепости внешне было спокойно: матросы и солдаты строем возвращались с занятий в казармы, на перекрестках стояли усатые городовые, и никто их не трогал. Но в отделении охранки все были настороже: от агентов то и дело поступали тревожные донесения.
На острове Котлин уже бастовали рабочие Пароходного завода. Забастовщики утром пришли к генерал-губернатору крепости адмиралу Вирену и заявили ему, что присоединяются к восставшим столицы, потребовали введения новых порядков в Кронштадте. Адмирал накричал на судостроителей и не без угрозы сказал, что о его решении они узнают завтра утром, пусть все соберутся на Якорной площади.
«С забастовщиками адмиралу справиться, конечно, будет нетрудно, — думал Аверкин. — Но как он обуздает солдат и матросов, возбужденных слухами, проникающими из Питера?»
Один из осведомителей охранки донес, что вчера вечером в чайной на Козьем болоте матросы сговорились с солдатами о совместном вооруженном выступлении. На какой день они его назначили, осведомитель не знал. Охранке следовало быть наготове.
Аверкин помог кронштадтским агентам расставить бутылки с горючим в таких местах, чтобы пламя одновременно охватило здание охранки со всех сторон, и остался ждать новых донесений агентуры, разосланной по всему городу.
Перед ужином стало известно, что адмирал Вирен собирал у себя старших офицеров и, выяснив, что кронштадтский гарнизон ненадежен, приказал вооружить моряков-новобранцев. Эти парни, призванные поздней осенью на флот со всех концов России, еще не плавали на кораблях и не успели сплотиться, как старослужащие. Молодых матросов в экипаже держали строго: с первых же дней всех наголо остригли, ленточек на бескозырки не выдавали и за ворота даже по воскресеньям не выпускали без строя. Целыми днями парней гоняли по плацу, обучая поворачиваться, ходить шеренгой, перестраиваться, владеть винтовкой и отдавать честь высшим чинам. Оторванные от всего, что творилось в стране, запуганные свирепым режимом флотского экипажа и строгостями военного времени, молодые матросы боялись фельдфебелей и были послушны офицерам. Батальоны новобранцев годились для подавления волнений. Они были грозной силой в руках адмирала Вирена.
Уже начало темнеть. Поужинав, Аверкин досадовал: «Зря нас прислали в Кронштадт. В крепости не будет того, что в Петрограде. Стоит только адмиралу зыкнуть, как все здесь уляжется. Архивы надо просто подпалить, будто произошел обычный пожар». Он хотел было узнать у помощника начальника отделения, где можно устроиться на ночлег, а тот вдруг сказал ему:
— Выходите на улицу. Только что на вечерней поверке взбунтовались две роты учебно-минного отряда. Матросы на лестнице сбили с ног дежурного офицера и затоптали его. Сейчас они расхватывают винтовки. Надо быть готовыми ко всему, потому что взбунтовался и Первый пехотный полк. Это, конечно, не без сговора, так как солдаты идут с оркестром к казармам учебно-минного отряда.
— Значит, пора? — спросил Аверкин.
— Немножко повременим. Пусть выяснится, как поведут себя новобранцы.
Аверкин вышел на улицу. На углу стояли его сообщники, переодетые в матросскую форму. Они курили и вслушивались в явственно разносившуюся в морозном воздухе «Марсельезу».
— Это оркестр крепостного полка, — сказал один из агентов. — Идут к Первому Балтийскому экипажу.
— Может, пора уже? — спросил другой.
— Подождем. Лучше сходи разнюхай, как там… кто возьмет верх.
Отослав агента, Аверкин остался на улице. Он прислонился к фонарному столбу и продолжал вслушиваться.
Музыка оборвалась так же неожиданно, как и возникла. На какое-то время в Кронштадте все затихло. Потом послышались глухие удары по железу, гомон многих голосов и разрозненные выстрелы…
«Началось», — решил Аверкин. Он ждал частых залпов, но вместо стрельбы вдруг донеслось далекое «ура».
«И новобранцы не спасли», — догадался сыщик. Он махнул рукой своим сообщникам, чтобы те готовились к поджогу.
Вернувшийся из казарм Балтийского экипажа запыхавшийся агент рассказал:
— Все к чертям!.. Новобранцам еще патроны
раздавали, когда матросы ворота выломали… Офицеры принялись стрелять из окон канцелярии, но тут выбежали во двор штрафники из переходной роты и давай кричать: «Мы с вами!» Все пошло кувырком…
Слушая агента, Аверкин заметил, как из здания, словно с тонущего корабля, выбегали на улицу сотрудники охранки и скрывались во мгле.
Сыщик засунул два пальца в рот и, свистнув, со злобным озорством крикнул:
— Круши!.. Подпаливай крысиное гнездо!
— Бей, не жалей! — подхватил его крик стоявший рядом агент и запустил камнем в окно.
Стекла со звоном посыпались на панель. Переодетые во флотскую форму агенты начали разбивать о каменные стены бутылки с горючим. Ругаясь, они поджигали паклю и втыкали ее в отдушины. Вскоре заплясали, запрыгали яркие языки огня… И все здание запылало огромным костром.
Убедясь, что такого пожара никто уже не загасит, Аверкин поглубже нахлобучил шапку на глаза и пошел к Петровскому парку.
К гавани, к вмерзшим в лед кораблям, направлялись восставшие. С ними шли уже два духовых оркестра. Гулко грохотали барабаны.
Моряки, услышав в столь поздний час «Марсельезу», с криками «ура» покидали палубы тральщиков, миноносцев, крейсеров. Одни выбегали на пирсы, а другие прямо по льду устремлялись к берегу.
У Петровского парка произошло небывалое: солдаты и матросы, обычно враждовавшие между собой в дни увольнений, обнимались, поздравляли друг друга со свободой. Сюда же стали сбегаться и рабочие Пароходного завода.
— Пошли в манеж! — зычным голосом предложил человек в кожаной тужурке. — На митинг!
— На митинг! — подхватили матросы.
Аверкин вместе с ликующей толпой устремился изданию Морского манежа. По старой привычке его тянуло поглядеть, кто же будет верховодить восставшими. Ведь в Петрограде, наверное, спросят, что было в Кронштадте.
В манеж набилось столько народу, что Аверкину не удалось протолкнуться к возвышению, на которое поднимались ораторы. Он с трудом улавливал то, что они говорили.
— В Питере полиция перебита. И с царем будет покончено! — выкрикивал судостроитель в кожанке. — Мы знаем, что Вирен установил в подвале собора пулеметы, он хочет расправиться с нами на Якорной площади. Надо схватить его за глотку. Долой царскую собаку! Есть манифест выбирать Советы… Установим свою — рабочую, матросскую и солдатскую — власть. Кронштадт поддержит революцию!..
Потом, взмахивая шапкой и проглатывая слова, быстро заговорил белобрысый пехотинец. Из всей его бурной речи Аверкин разобрал лишь несколько фраз:
— Невмоготу… домой!.. За шкирку коменданта Куроша… Зверь зверем… Кончать войну!..
Пехотинца сменил матрос в расстегнутом бушлате.
— Чего мы здесь стоим да митингуем, когда действовать надо? — загрохотал он густым басом. — Арестовать коменданта и Вирена, пока они не опомнились!..
— Верно! Пошли вылавливать царских псов, — поддержали матроса судостроители. — Тащи всех на Якорную площадь!
Толпа зашумела, заволновалась и двинулась к выходу. Людской поток подхватил и вынес на улицу и Аверкина.
— Кто к тюрьме? Там наши товарищи томятся… Их надо выпустить! — кричал у выхода бородатый матрос.
— За мной давай… К Вирену! — призывал другой.
— К Курошу!.. В комендатуру! — раздавались голоса.
Аверкин пошел с кронштадтцами, направившимися к дому генерал-губернатора.
Улица, на которой жил Вирен, была хорошо освещена фонарями. У адмиральской парадной стоял городовой. Увидев неожиданно появившуюся толпу, блюститель порядка поспешил навстречу.
— Стой! Куда? — закричал он. — Здесь не положено ходить толпами. Разойдись!..
Кто-то из солдат ударил городового прикладом в грудь. Тот ахнул и свалился на мостовую. Толпа подошла к дому генерал-губернатора.
— Эй, где ты там, адмирал! Выходи… Не прячься!
Минут через пять из парадной вышел взбешенный Вирен. Он был без шинели, в одном кителе, так как не собирался долго разговаривать с бунтовщиками. Заметив, что в толпе много солдат и матросов, адмирал побагровел и возмущенно рявкнул:
— Смир-рна!
Он был уверен в том, что «нижние чины» сейчас же вытянутся в струнку и будут послушны ему. Но грозная команда вызвала лишь смех.
Какой-то пожилой рабочий снял шапку, поклонился адмиралу и с наигранным смирением сказал:
— Покорнейше просим прощения, ваше превосходительство. Вы ведь велели завтра прийти на Якорную площадь? Вот оно «завтра» и наступило! Рановато, правда, да ничего не поделаешь — невтерпеж: желательно послушать вас. Вы, кажется, нам встречу готовили? Так не будем ждать утра, пошли! Чего волынку тянуть.
От этих слов холеное лицо Вирена стало мертвенно бледным. Он понял, зачем пришла толпа. Озираясь по сторонам, адмирал ждал хоть какой-нибудь поддержки, но всюду натыкался на колючие, злые взгляды. Поняв, что пощады не будет, адмирал вдруг весь как-то съежился, словно уменьшился в росте, стал жалким, не похожим на себя.
— Господа, граждане, я ведь за демократию… в душе всегда любил простой народ, — заговорил он изменившимся голосом. — Но мне по чину полагается быть строгим. Я готов служить революции…
— А для чего пулеметы на площади выставил? — оборвал его рабочий. — В любви, что ли, хотел объясниться? Свинцом погладить? Не юли! Знаем, как вы любите простой народ.
— Я готов установить новые порядки.
— Поздно, брат. Днем нужно было устанавливать. Пошли на Якорную площадь, народ уже ждет.
— Разрешите мне шинель надеть и… предупредить жену. Я, наверное, не скоро вернусь?
— Не скоро, — зловеще подтвердил солдат.
Аверкин понимал Вирена: тот стремился любыми путями вырваться из толпы и хоть на короткое время укрыться в доме. Адмирал еще надеялся на комендантские части. Его жена, конечно, успела позвонить в комендатуру.
— Не простудитесь, ваше превосходительство, — заверил матрос в расстегнутом бушлате. — Жарко будет.
— И женку неча зря тревожить, — вставил солдат. — Пущай генеральская шинелька ей на память останется. Пошли! — При этом он подтолкнул Вирена в плечо.
Вся толпа двинулась за ними. Аверкин с мостовой перебежал на панель. По пути он видел, как к адмиралу подбегали солдаты и матросы, норовя ударить или плюнуть в лицо, но добровольные конвоиры отгоняли их:
— Не тронь! Судить будем.
На Якорной площади, несмотря на то что ночь была на исходе, собралось много народу. Сюда пришли и выпущенные из тюрьмы матросы. Вирена поставили перед ними. Кто-то крикнул им:
— Судите!
— Что будем делать с главным псом? — сняв шапку, спросил у толпы по-тюремному обритый матрос.
— Смерть горлопану!
— На штыки его! — раздались голоса.
С Вирена сорвали золотые погоны с черными орлами и, подталкивая штыками, повели к краю глубокого рва. Аверкин хотел было проскочить следом, но матросы оттеснили его. Сыщику удалось лишь протолкнуться к возвышению у памятника адмиралу Макарову, но оттуда не слышно было, что говорят судьи, перечислявшие все зверства Вирена. Потом гулко загрохотали барабаны. Сыщик решил, что сейчас грянет залп, он невольно прижал поднятый воротник к ушам и зажмурился. Аверкин так и не разобрал, были ли выстрелы, но когда открыл глаза, то увидел, как на штыках подняли обвисшее тело адмирала и бросили в ров.
Содрогнувшись, сыщик подумал: «А ведь и меня могут так же, на штыки… Надо скорей выбираться из Кронштадта, пока матросы не выставили свои кордоны». Его уже не интересовала судьба других приведенных на площадь офицеров. Пробиваясь острым плечом, он перешел мостик и поспешил к Петровскому парку. Там под деревьями его ждали агенты,
— Где шофер? — спросил Аверкин.
— На углу Николаевской.
— Поехали.
НАКИПЬ РЕВОЛЮЦИИ
За Нарвской заставой никогда прежде, даже в дни получек и престольных праздников, на улицах не было так людно и шумно, как в первые дни революции.
На домах колыхались флаги. По улицам, как в масленицу, звеня бубенцами, разъезжали финские санки с развевающимися на дугах ленточками. Всюду слышались смех, выкрики, музыка. В одном месте играл граммофон, вынесенный на улицу, в другом — гармоника, в третьем — шарманка. Солдаты по нескольку раз в день маршировали по Петергофскому шоссе, грохоча барабанами и заглушая людской гомон духовыми оркестрами.
Заборы, столбы и стены домов пестрели от множества воззваний, призывов, извещений и деклараций.
Весть о том, что царь Николай II отрекся от престола, взбудоражила все население Петрограда. Никому не сиделось дома, всех тянуло на улицу, в ликующую толпу.
У калиток, у чайных и трактиров, у заводских проходных, а то и просто под фонарными столбами возникали митинги, на которых безвестные ораторы выкрикивали восторженные слова о свободе и равенстве. Площадь у Нарвских ворот превратилась в районное вече. На трибуны, сколоченные из досок, беспрестанно поднимались ораторы разных групп и партий. Они поносили царицу и Распутина, требовали мира, вспоминали Парижскую коммуну и обсуждали, какой должна быть новая жизнь.
Одним хотелось парламентарной республики, другим— конституционного правительства, третьим — рабочей власти.
— Долой всякие правительства! — кричали анархисты. — Они обуза и кандалы для свободного человека. Анархия сохранит нам свободу.
За Нарвской заставой по ночам опасно было показываться на улице. Полицейских не стало, а милиция еще не организовалась. Распоясались не только хулиганы, но и некоторые рабочие парни колобродили всю ночь, задевали прохожих и горланили под гармошку песни.
— Свобода! — кричали они. — Что желаем, то и делаем!
Особое раздолье было грабителям. Они собирались в шайки, определяли, какие улицы находятся под их «контролем», вламывались в дома и брали все, что понравится. Некоторые даже заводили свои «порядки», облагали боязливых обывателей данью, за водку и деньги выдавали ночные пропуска — по-особому вырезанные куски картона. Если у человека такого пропуска не оказывалось, то его на своей улице могли избить, раздеть и голышом отпустить домой. В темных переулках каждую ночь слышались крики о помощи, стрельба, звон разбитых окон.
Вновь принятым в партию молодым путиловцам райком поручил открыть в бывшем трактире клуб, чтобы рабочей молодежи было где отдохнуть, почитать и повеселиться. Комендантом клуба назначили двадцатитрехлетнего инвалида войны — однорукого Бориса Тулупина.
Тулупин повел парней осматривать помещение.
Дом был двухэтажный. Нижний зал и комнаты оказались захламленными. Буфетную стойку, столы и стулья покрывала густая пыль. Обои пахли плесенью.
— Ежели уборку устроить да свежими обоями оклеить, то для читальни и библиотеки самое подходящее место, — сказал Тулупин.
Верхний этаж был не так запущен: в большой гостиной стояли диваны, кресла, а в остальных кабинетах даже уцелели зеркала и аляповатые картины на запятнанных стенах. Тулупин предложил:
— В этих комнатах разместим кружки. В гостиной лекции устраивать будем. А если потанцевать захочется, то можно и внизу и наверху.
Парни тут же решили — кто станет чинить мебель и менять обои, кто соберет девушек и попросит вымыть полы и окна, кто будет следить за тем, чтобы в клуб не попадали пьяные и хулиганы.
Наводить порядки взялись Дема Рыкунов и Вася Кокорев. Собрав парней, живущих в Чугунном переулке, они стали обсуждать, что нужно будет делать.
— Оружие н-нам дадут? — поинтересовался Ваня Лютиков — небольшой жилистый парнишка, работавший клепальщиком на Путиловской верфи. — А то п-потом домой не п-пройдешь.
— Это верно, — поддержал его рыжеватый Шурыгин из паровозной мастерской. — Какие-то типы появились на Огородном. Вчера мою мамашу остановили, водки требовали.
— Не только водки… Ч-часы и д-деньги отнимают, — вставил словоохотливый Лютиков. — Вчера у с-соседки обручальное кольцо с-сняли… ч-чуть палец не вывернули.
— Турнуть их надо, — решительно предложил Дема.
— Попробуй. У них ш-шпалеры и бомбы. Все они из ш-шайки Ваньки Быка.
Ванька Бык был знаменитостью за Нарвской заставой. Этот дебошир, сквернослов и пьяница прежде работал носаком на Гутуевском лесном складе. Но ему надоела тяжелая работа, и он перешел на легкие хлеба: два-три дня, не брезгуя ничем, добывал деньги, неделю пьянствовал и скандалил.
В первые дни революции, собрав таких же босяков, каким был сам, Ванька Бык помогал рабочим громить полицейские участки. А потом, раздобыв своей банде военную форму и лошадей, как бы по приказу новых властей явился в управление Путиловских заводов, арестовал генерал-директора Дубницкого вместе с его помощниками и под конвоем повел якобы в Таврический дворец. По пути босяки ограбили «арестованных» и голыми бросили в Обводный канал.
Жители окраины видели, как Ванька Бык возвращался на коне. Бросив поводья, он держал в руках генеральские сапоги и, бахвалясь, хлопал голенищем о голенище.
Вообразив себя героем революции, Ванька Бык решил, что ему теперь все дозволено. Он, по наводке своих собутыльников, самолично делал обыски в богатых домах, забирал ценные вещи и пропивал их.
Около Ваньки Быка вертелось много всякого сброда. Даже незнакомые ему любители легкой наживы надевали на себя солдатские шинели и действовали от его имени.
— А мы и Ваньки Быка не испугаемся, — сказал Дема. — Приходите к восьми часам, пойдем в обход.
В назначенное время парни собрались около кокоревского дома. Дема и Вася взяли себе из хранившегося у них оружия по винтовке и браунингу, а остальное роздали.
Все вместе они дошли до Новопроложенной улицы и послали на разведку Ваню Лютикова. Он вернулся минут через десять и сообщил:
— Уж-же приехали… Лошадей к столбу привязали. Двое в ш-шинелях, третий — в простой одежде. При мне ос-стансвили тетку, документы и в-выкуп потребовали.
— Как же теперь нам сделать, чтоб бандюги не удрали? — задумался Дема. — Вот что… ты, Вася, с кем-нибудь шагай прямо к ним и заводи разговор, — предложил он. — Я с двумя пойду в обход, а остальные незаметно подкрадывайтесь… Только раньше времени не показываться! Я свистну, когда понадобитесь.
Отдав винтовку парням, Вася поставил браунинг на боевой взвод, засунул его за ремень, застегнул куртку и вместе с Лютиковым не спеша пошел к Огородному переулку.
Едва миновали первые дома, как от крыльца бакалейной лавчонки послышался пропитой бас:
— Чуваков! Заснул, что ли?.. Проверь, какие там ходют в запрещенное время?
От забора отделился долговязый детина в короткой шинели без хлястика. Он приблизился почти вплотную, тусклым электрическим фонариком осветил лица и, распространяя запах денатурата, громко доложил:
— Так что… шмендрики какие-то!
— Дай по шеям, чтоб не шлялись здесь! — донеслось от крыльца, где рдели, то разгораясь, то затухая, два папиросных огонька.
Прежде чем выполнить приказание, детина спросил:
— Папиросы есть?
— Есть, да не про вашу ч-честь, — ответил Лютиков.
— Чего? — изумился детина, не ожидавший от щуплого паренька такого ответа. — А ну, выворачивай карманы! — рявкнул он.
— У меня в кармане в-вот такая б-блоха на аркане, — невозмутимо продолжал Лютиков, вытаскивая браунинг. — Она к-кусается.
Детина, опасливо глядя на пистолет, отступил к забору.
— Не балуй! — дрогнувшим голосом сказал он и, не поворачивая головы, выкрикнул своим: — Они тут со шпалером!
— Что там еще? — недовольно произнес бас.
Вася, видя, что с крыльца спрыгнули два человека и быстрым шагом устремились к ним, тоже вытащил пистолет и предупредил:
— Не приближаться!
Грабители остановились.
— Сейчас как грохну гранатой — пыль от них останется, — с наигранной бойкостью сказал оборванец в длинной кавалерийской шинели.
— А ну, посвети: что тут за субчики? — приказал второй, одетый в кожанку.
Мутный луч фонарика вновь заскользил по путиловцам. Убедившись, что в руках у них не пугачи, а браунинги, грабитель изменил тон.
— Никак, на своих напоролись? — воскликнул он. — Просим пардону. Но вот этот и те переулочки — наши. Заявочка по всей форме: и Ваньке Быку и всей шатии известно, что мы тут буржуя перетряхиваем.
— Какого буржуя? Где вы тут буржуев нашли? — спросил Вася.
— В общем, находим и реквизируем по закону: грабим только награбленное. А вас просим другую улицу поискать, иначе не ручаюсь… помощнички у меня шибко нервные.
— А мы вам советуем убраться отсюда, да поживей!
— Кто вы такие, чтоб приказывать?
— Рабочий патруль.
— Новые городовые, что ли?
— Кто бы мы ни были, а грабить не позволим.
— Чего?.. А ну, дай я их шугну гранатой. — Грабитель в длинной шинели отвел руку, словно собираясь что-то бросить, и выкрикнул: — Тикай, пока не кинул!
Почти в то же мгновение позади послышался строгий голос:
— Не шевелиться! Стреляем без предупреждения.
Это был Дема Рыкунов со своими ребятами. Из темноты показались и другие. Поняв, что бежать некуда, грабитель буркнул:
— Не бойтесь, я шутю!
— Зато мы не шутим, — сказал Дема и, подойдя вплотную, потребовал: — Покажи, что у тебя?
В руке у грабителя оказалась пустая бутылка из-под денатурата. Отдавая ее Рыкунову, он сказал:
— Не сумлевайся… чистая ханжа была.
— Выкладывайте все, что награбили, — сказал Вася.
— Да мы завсегда делились… не жадные. Только бы Ванька Бык не обиделся. Ему с нас доля полагается. Если кому жить охота, лучше не впутываться.
— Не пугай, не страшно. И вашего Ваньку Быка в оборот возьмем. Обыщите их, — сказал Дема своим парням.
Грабители, словно по уговору, отступили назад и прижались к забору.
— Не подходи! Кровь пустим, — угрожающе прокричал басистый. В руке у него появился револьвер. — Сами все выкинем, но вы попомните… встретимся еще на узкой дорожке.
Они начали выбрасывать из карманов на снег все, что отняли у прохожих.
— Ну, а теперь забирай коней — и марш отсюда! — приказал Дема. — И предупредите своих: если еще кого на грабеже поймаем — худо будет!
Грабители побежали вдоль забора, торопливо отвязали коней и, вскочив на них, пригрозили:
— Это вам не забудется!
И ускакали по Петергофскому шоссе.
В воскресенье Катя Алешина весь день просидела дома с раскрытой книжкой и вслушивалась, не раздастся ли стук в окно.
«Забыли, наверное? — думалось ей. — А может, стесняются, стоят где-нибудь на улице и ждут».
Накинув на голову платок и надев пальто, она вышла за ворота. Улица была пустынной.
«Их, наверное, через мост не пустили, — решила Катя. — Неужели не догадались по льду пройти? Впрочем, почему они должны рваться сюда, рискуя жизнью? Только потому, что я их жду? Наташа права — сегодня парням не до свиданий. Да и кому захочется в такую даль идти пешком! Трамваи, кажется, совсем не ходят…»
И все же она ждала, надеясь, что Вася Кокорев пробьется к ней. «Они, наверное, дерутся с полицией, а я попусту жду, — убеждала она себя. — Но когда же мы теперь встретимся? Он может прийти, не застать меня дома. Надо назначить новый день. Только как это сделать? Очень просто — написать письмо, не признаваясь, конечно, ни в чем. Но я же не знаю адреса, куда же писать? Прямо на завод, — решила Катя. — Они говорили, что работают в кузнице».
Она вернулась домой и написала всего несколько строк:
«Вася и Дема! Нас снедает любопытство: как вам удалось улизнуть от долговязого? Если пожелаете рассказать, то в четверг и воскресенье после семи вечера я буду дома.
Желаю вам успехов. Катя».
В тот же вечер она опустила письмо в почтовый ящик. А потом спохватилась: не покажется ли она навязчивой? Ой, как нехорошо. Ну и пусть! Если он дурное подумает, не нужен ей такой, обойдется она и без него.
Все же в четверг она пришла домой раньше обычного и до десяти часов ждала. Парни не пришли. Ну и не надо. Больше она ни слова не напишет. Она и так поставила себя в унизительное положение.
От обиды девушке хотелось плакать, но она, стиснув зубы, приказала себе: не сметь, не распускаться!
Чтобы больше не думать о Кокореве, девушка достала из комода письмо отца, которое не раз перечитывала, когда ей было трудно.
«Отсюда, милая, не убежишь, — писал отец. — В одну сторону тайга на сотни верст, в другую — куда ни кинешь глазом — бесконечная, безлюдная тундра. Скоро выпадет снег, и начнется долгая полярная ночь. Но мы сейчас рады холодам. Они избавили нас от комаров и гнуса, которых в здешних местах — тучи. От проклятой мошки нет спасения ни под сеткой, ни в домах, ни около дымокуренных горшков, в которых сжигают лежалые листья и навоз. Мошкара злей волков!
А морозы в Заполярье крепкие — доходят до шестидесяти градусов. Попробуй согрейся, когда у тебя не толстостенный дом, а холодная пристройка и вместо большой печи — склепанная из старой жести печурка. Сколько в нее ни накладывай дров, тепла не будет, все выдует.
Многих ссыльных страшит зима. Население вокруг бедное: у местных жителей ничего не заработаешь и не купишь. Устраивайся как сумеешь, почти все добывай сам. Я уже наловчился изготовлять охотничьи и рыболовные снасти. В прошлую зиму в прорубях наловил столько рыбы, что нам на троих ее хватило до весны.
На охоту и заготовку дров времени уходит много, но я все же успеваю учиться. Товарищи, которые пограмотней, помогают мне. А как ты, моя доченька? Поступила ли в воскресную школу?
Не поддавайся нужде, обязательно учись! И береги свое здоровье. Выбирайтесь вы куда-нибудь из этого проклятого подвала. Как жалко, что мне здесь негде заработать копейки.
Ходят слухи, что ссыльных стали забирать в солдаты. Неважны, значит, дела у Николки, если от нас защиты ждет. Мы ему, конечно, поможем — как же! С винтовкой в руках легче разговаривать.
Не унывай, дочка, держись, скоро увидимся!»
— Хорошо, отец, — вслух сказала Катя. — Я не поддамся, дождусь тебя.
СКОРЕЙ ДОМОЙ
— Эмигрантский комитет в Швейцарии обдумывал, каким образом лучше всего попасть на родину. На одном из заседаний меньшевик Мартов предложил обратиться к Временному правительству с просьбой, чтобы оно добилось пропуска эмигрантов через Германию в обмен на военнопленных. Это предложение сперва было отвергнуто, но вскоре нашлись отчаянные головы и телеграммы с такой просьбой были отправлены в Россию Милюкову и Керенскому.
Владимир Ильич не ходил на собрания эмигрантов, потому что считал это пустой тратой времени, но он знал, что там происходит. Смелое и неожиданное для меньшевика предложение пришлось Ленину по душе.
— Немцы будут архидураками, если не пропустят в Россию тех, кто выступает против войны, — сказал он. — Я уверен, они охотно пойдут на это.
Чтобы ускорить переговоры, члены эмигрантского комитета решили сами обратиться к германскому посланнику в Берне. В посредники они выбрали одного из лидеров швейцарских социал-демократов — «центриста» Роберта Гримма. Тот охотно согласился вести переговоры, но вел их так, что дело затягивалось на неопределенный срок.
Дипломатия Гримма возмутила Владимира Ильича. Собрав в Народном доме левых интернационалистов, он рассказал о поведении Гримма.
Интернационалисты согласились, что Гримм явный саботажник. Лучше бы поручить переговоры Фрицу Платтену, тот не подведет.
Владимир Ильич был такого же мнения о Платтене. Этот тридцатитрехлетний металлист, ставший профессиональным революционером, был смел, предан рабочему классу и умел отстаивать его интересы.
Швейцарцу потребовалось немалое мужество, чтобы согласиться вместо Гримма вести переговоры с германским посланником. Помощь большевикам могла отразиться на всей его дальнейшей деятельности. Но он все же пошел на это и в тот же день выехал с Лениным в Берн.
В шесть часов вечера они встретились с Робертом Гриммом. Владимир Ильич — как можно мягче — сообщил, что большевики, зная большую занятость Гримма, решили больше не утруждать его переговорами и передать их более молодому — Фрицу Платтену.
Уязвленный Гримм переменился в лице.
— Я поражаюсь, как Фриц мог согласиться. Он же официальное лицо! — возмущенно заговорил он. — Его легкомыслие поставит нашу партию в неловкое положение..
— Почему же в неловкое? Мы же все социал-демократы, — возразил Владимир Ильич. — Я бы вас очень просил не счесть за труд… позвоните, пожалуйста, германскому посланнику и сообщите, что вы передаете свои полномочия другому лицу.
— Я этого не сделаю, — заявил Гримм.
Он был взбешен. Смерив Ленина и Платтена уничтожающим взглядом, лидер «центристов» не вышел из комнаты, а вылетел, хлопнув дверью.
— Вот видите, что наделало мое согласие, — печально улыбнувшись, произнес Фриц Платтен. Швейцарец был явно расстроен.
Владимир Ильич дружески дотронулся до его плеча и сказал:
— Не печальтесь, когда-нибудь вам все равно пришлось бы пойти с ним на разрыв, так лучше это сделать раньше. Уверяю, вы ничего не потеряете, наоборот — выиграете в глазах товарищей. С обманщиками и предателями мы должны быть решительными. Давайте попробуем без него связаться с Ромбергом.
Платтен разыскал телефон и позвонил германскому посланнику. Тот, узнав от чьего имени с ним будут разговаривать, пригласил прийти в посольство на следующий день.
Первое свидание с РомбергОхМ прошло успешно. Когда Платтен спросил, согласно ли германское правительство пропустить на родину русских эмигрантов, тот ответил:
— Согласно. Существует предварительная договоренность. Не утверждены лишь условия. Ваша сторона до сих пор не представила их, она затягивает решение вопроса.
Владимир Ильич понимал, на какой серьезный шаг он идет, поэтому поставил в условиях два непременных пункта:
«Едут все эмигранты, без различия взглядов на войну».
«Вагон, в котором следуют эмигранты, пользуется правом экстерриториальности, никто не имеет права входить в вагон без разрешения Платтена. Никакого контроля ни паспортов, ни багажа».
В третьем пункте говорилось: «Едущие обязываются агитировать в России за обмен пропущенных эмигрантов на соответствующее число австро-германских интернированных».
Внимательно прочитав условия, германский посланник выразил недовольство.
— Позвольте, — сказал он, — кажется, не я прошу разрешения на проезд, а господин Ульянов. Пункты таковы, что нужно опасаться провала всей затеи. Советую свести требования к минимуму, а обязательства сделать более определенными.
— Я не уполномочен соглашаться на какие бы то ни было смягчения, — ответил Платтен.
— Хорошо, мы свяжемся с Берлином, но, боюсь, не получим желаемого ответа.
Неожиданно Берлин без всяких оговорок принял все условия. Такая поспешность насторожила Ильича. Хорошо, что он привлек к переговорам интернационалистов многих стран. Это несколько свяжет руки тем, кто попытается опорочить едущих.
Когда стало известно, что разрешен проезд через Германию, вдруг из пятиста эмигрантов, рвавшихся на родину, не оказалось и десяти, желающих ехать в ближайшие дни. Многих напугала заметка, напечатанная во французской газете. В ней говорилось, что если русские проедут через Германию, то будут в России арестованы и преданы суду.
Владимир Ильич разослал письма и телеграммы самым верным товарищам. Первым делом он обратился к Инессе Арманд. В России у этой замечательной революционерки и обаятельной женщины, переводившей всю большевистскую литературу на французский и английский языки, остались дети. К ним она рвалась всю войну.
Двадцатишестилетний Гриша Усиевич, который был осужден на вечное поселение в Сибири и дважды бежал из тюрьмы, ждал лишь сигнала. С молодой женой он готов был «хоть через ад» поехать с Ильичем в Россию.
Согласился отправиться в путь член заграничного Бюро Центрального Комитета и соредактор «Социал-демократа» Григорий Зиновьев. Он тоже брал с собой семью.
Владимир Ильич вспомнил о грузине Михе Цхакая, председательствовавшем на Третьем съезде партии. Старик писал ему, что готовится любым способом выехать на родину. «Чемодан уже уложен». Как не пошлешь такому человеку приглашение?
На зов откликнулись девятнадцать большевиков и несколько человек из других партий.
Смельчаки, решившиеся на рискованный переезд, съезжались в Берн из разных городов Швейцарии — Цюриха, Кларана, Лозанны — и размещались в гостинице Народного дома.
Каждый взрослый участник поездки, чтобы потом не было недоразумений, подписывал обязательство:
«Я подтверждаю:
1. Что мне были сообщены условия соглашения Платтена с германским посольством.
2. Что я буду подчиняться распоряжениям руководителя поездки Платтена.
3. Что мне сообщена напечатанная в «Petit Parisien» заметка, в которой говорится, что русское Временное правительство угрожает предать эмигрантов, возвращающихся через Германию, суду за государственную измену.
4. Что всю политическую ответственность за свою поездку я беру целиком на себя.
5. Что Платтен гарантировал мне поездку только до Стокгольма.
Берн — Цюрих, 9 апреля 1917 г.».
Стремясь уберечь уезжающих от всяких измышлений, Владимир Ильич написал от имени заграничного Бюро ЦК письмо швейцарским рабочим, в котором объяснил, почему большевики решились на такую поездку.
Прощальные заседания и суета в гостинице продолжались до поздней ночи.
Миху Цхакая ленинская телеграмма застала врасплох: чемодан был в другом конце города, а поезд в Берн отходил через несколько минут. «Шут с ним, с чемоданом», — решил Цхакая и выехал с товарищами налегке.
На вокзале в Берне в назначенный час он увидел Надежду Константиновну, Миха бросился к ней, чтобы узнать, где назначено место сбора.
— Вы из Женевы? — спросила Крупская. — Сколько человек?
— Со мной шесть.
— Владимир Ильич сегодня получил телеграмму еще от пяти женевцев. Они наконец решили ехать с нами и просят подождать два дня.
— Выходит, зря торопились… я даже чемодан не захватил.
— Вы правильно сделали, — сказала Надежда Константиновна. — Владимир Ильич говорит, что сейчас многие облагоразумятся и захотят поехать с нами, но ждать уже невозможно, вагон получен.
— Значит, мы никого не ждем?
— Конечно, нет. Сегодня же уезжаем.
Вскоре появился и Владимир Ильич. Крепко пожав руку Михе Цхакая и его молодому другу — Давиду Сулашвили, он стал допытываться, что же случилось с другими товарищами, жившими в Женеве. Миха отвечал однообразно:
— Не посмели, Владимир Ильич, не посмели!
— Ну и пусть остаются, сами виноваты. Садитесь в вагон, поехали.
В Цюрихе пришлось ждать, когда специальный вагон прицепят к поезду, идущему к швейцарско-германской границе.
Посмотреть на отъезжающих пришло немало эмигрантов. Здесь были и друзья, и любопытные, и злопыхатели. Одни из них стучали палками по стенке вагона и злобно обзывали:
— Изменники! Как вам не стыдно! Какой дорогой едете? Из-за вас теперь через Англию не пропустят!
Другие подходили к окнам и запугивали:
— В России вас растерзают… до тюрьмы не доведут, на вокзале самосуд устроят.
Более солидные господа стояли в стороне. Они как бы с высоты своего благоразумия взирали на суету отъезжающих. Их котелки, благообразные бороды, сверкающие пенсне и темные костюмы с белоснежными манишками выражали не укор, а скорей печаль и презрение.
Прежние друзья по борьбе и ссылкам, как бы тревожась, отзывали большевиков в сторонку и нашептывали:
— Скажите своему Ленину: он же увлекся, забыл об опасности. Вы практичней его, отговорите, не поздно еще. Безумие — проезжать через Германию. Вас в Берлине схватят, не говоря уже о России.
Запугивание подействовало лишь на некоторых женщин. Прощаясь с друзьями, они плакали так, словно отправлялись на гибель.
В три часа десять минут под выкрики и свист, провожающих поезд медленно отошел от перрона и покатил к Германии.
Вагон, в котором ехали эмигранты, относился к категории «микст», то есть был смешанным, состоящим из купе второго и третьего класса. Он, видимо, давно не ремонтировался, скрипел и раскачивался, обивка полумягких сидений в купе второго класса была засаленной, во многих местах потерлась. В загрязненных щелях водились клопы. Но делать было нечего, приходилось со всем этим мириться. Хорошо, что хоть такой «микст» дали.
На пограничной станции Тайнген швейцарские власти произвели таможенный досмотр. Агенты перетрясли все вещи, проверяя, не вывозят ли русские часы и золото. Ни того ни другого они, конечно, не обнаружили, тогда решили изъять часть съестных припасов. Таможенникам показалось, что русские захватили в дорогу слишком много продуктов.
Спорить не стали, отдали часть хлеба и колбасы, чтобы скорее отвязаться от швейцарских властей. Но на этом мытарства не кончились. Когда поезд пересек границу и остановился на первой немецкой станции Готтмадинген, всех пассажиров заставили покинуть вагон и пройти в станционный зал третьего класса. Здесь произошла официальная передача русских под наблюдение двум офицерам германского генерального штаба.
Никаких документов у эмигрантов не спрашивали. Просто Фриц Платтен на небольших листках написал тридцать два номера. Русские, держа листки в руках, проходили мимо офицеров в свой «микст» и занимали старые места.
Из четырех дверей «микста» осталась только одна дверь для выхода, три остальные были наглухо закрыты. Офицеры расположились в крайнем купе. В коридоре мелом была начертана граница, которую с одной стороны не могли переступить русские, а с другой — немцы. Один Фриц Платтен имел право выходить из вагона и связываться с внешним миром.
В Готтмадингене вагон под охраной немецких ополченцев простоял всю ночь. Здесь выяснилось, что на всех спальных мест не хватит, что взрослым придется спать по очереди.
Утром «микст» был прицеплен к берлинскому поезду и покатил по территории Германии.
Во всех купе разговоры вертелись вокруг одной темы: едущие гадали и спорили о том, каких встретят в России, посмеет ли Временное правительство исполнить свои угрозы. Многие были настроены оптимистически.
— Ничего не случится. Рабочие не позволят, — уверяли они. — Мы же страдали за революцию.
Но Владимир Ильич ждал всяких каверз как от Временного правительства, так и от немцев и даже шведов. Ведь нетрудно к чему-нибудь придраться и посадить в тюрьму эмигрантов, решившихся на такой проезд.
Ленину было оставлено купе второго класса. В нем то и дело собирались товарищи, чтобы посоветоваться с Владимиром Ильичем, как согласованно действовать в России.
— Революция не закончена, об этом надо говорить твердо, без всяких колебаний, — советовал Владимир Ильич. — Временное правительство нам не следует поддерживать. Кроме обещаний, оно ничего не даст и будет вести войну. Львовых, Тучковых и керенских, может, не сразу, но придется убрать. Свергнув власть буржуазии, пролетариат установит свою диктатуру. Высшей формой политической организации общества станут Советы. Через них будет осуществляться диктатура пролетариата. Без диктатуры я не представляю себе социалистического государства…
Его советы, конечно, вызывали споры. Они длились часами. Владимир Ильич терпеливо выслушивал товарищей и спокойно, без горячности возражал. Он многое продумал еще в Швейцарии.
Поезд уходил все дальше и дальше на север. Солнце уже светило не по-швейцарски, оно стало тусклым и вскоре совсем пропало. Над Германией нависло холодное и серое небо.
В окне виднелись аккуратно прибранные леса, с высаженными под линейку деревьями, мокрые остроконечные кирки, черепичные крыши селений, в которых почти не дымились трубы. Германию истощили три года войны. На полях и раскисших пашнях копошились одни женщины и подростки. Взрослые мужчины были редкостью.
Немецкие газеты ничего не писали о проезде русских, но население каким-то образом узнавало о прибытии вагона. Плохо одетые, исхудавшие и поблекшие немки с любопытством толпились на перронах. Некоторые из них за спинами шуцманов показывали картинки из журналов, на которых изображался царь Николай Второй летящим с трона вверх тормашками.
В Штутгарте Платтена вызвал из вагона руководитель Генеральной комиссии германских профсоюзов Янсон, ярый социал-шовинист, и попросил устроить ему личную встречу с Лениным.
— Это невозможно, — убеждал его Платтен.
Но Янсон настаивал. Фриц вернулся в вагон и сказал Владимиру Ильичу, сидевшему с товарищами в купе, о желании немца приветствовать его от имени профсоюзов. Это вызвало взрыв смеха, потому что Ленин доброго слова не написал о руководителях немецких профсоюзов, наоборот — высмеивал их.
— Относительно свидания, — сказал Владимир Ильич Платтену, — передайте господину Янсону, что с изменниками я не разговариваю, а если он нарушит экстерриториальность вагона, то будет оскорблен действием.
— Забросаем чайниками, — уточнил Гриша Усиевич.
Платтену ничего не оставалось, как выйти и передать ответ, но, конечно, в более мягких тонах.
В вагоне установился свой быт. Когда надоедало смотреть в окна, молодежь собиралась вокруг Ленина. Начинались дискуссии и споры на разные темы, особенно — о будущем. Платтен прислушивался к ним. Однажды Владимир Ильич у него спросил:
— Какого вы, Фриц, мнения о роли большевиков в русской революции?
— По секрету должен сознаться: вполне разделяю ваши взгляды на методы и цели революции, — ответил Платтен. — Но как борцы вы представляетесь мне чем-то вроде гладиаторов Древнего Рима, которые бесстрашно, с гордо поднятой головой выходили навстречу смерти. Я преклоняюсь перед силой вашей веры в победу.
Этот восторженный отзыв вызвал у Владимира Ильича теплое чувство к Платтену.
— Значит, дружба? — спросил он.
— Навсегда, — горячо ответил тот.
Иногда Ильич подолгу не выходил из своего купе, тогда озорной Гриша Усиевич подходил к Платтену и спрашивал: нет ли у него желания спеть по-русски?
— С удовольствием, потому что по-русски пою я лучше, чем говорю.
— Ну и превосходно.
Гриша Усиевич подзывал еще нескольких певцов, и все они, скопившись около купе Ленина, начинали петь: «Скажи, о чем задумался, скажи, наш атаман».
Они знали: Ильич любит хоровое пение, он не усидит в купе и обязательно выйдет в коридор.
Он действительно появлялся и подхватывал знакомые слова припева.
Одной песней дело, конечно, не кончалось, Владимир Ильич запевал «Нелюдимо наше море…». Особую удаль и задор он вкладывал в призывные слова:
Смело, братья!
Бурей полный,
Прям и крепок парус мой!
Наконец поезд подошел к последнему немецкому городу— Засниц. Здесь у порта пассажиров пересчитали. И поезд прямо с пристани въехал в трюм огромного шведского парома.
На пароме пассажиры «микста» обрели право покинуть свои места и поселиться в каютах. На шведском судне немецкие власти уже не могли распоряжаться. Все же поведение шведов Владимиру Ильичу показалось подозрительным. Русским были розданы анкеты с вопросами, очень похожими на вопросы при аресте.
«Не собираются ли они нас задержать? — встревожился Ильич. — От немцев всего можно ждать. Сами пропустили, а шведскую полицию подговорили арестовать».
В одной из кают спешно был собран совет. Владимир Ильич предупредил о возможности всяческих каверз со стороны полиции и буржуазной печати, потребовал, чтобы никто из едущих ни под каким видом ни на какие вопросы не отвечал.
— За всех позвольте разговаривать мне, — предложил он.
— Ну, конечно, какие могут быть возражения, — послышалось с разных сторон.
Паром, вышедший в открытое море, начало раскачивать. Лица у некоторых пассажиров покрылись болезненной желтизной. Многих одолевала морская болезнь.
— Выходите наверх, — предложил Ильич. — На свежем воздухе станет легче.
Он тоже поднялся на верхнюю палубу и стал смотреть в сторону мутного горизонта.
Балтийское море покрылось пенистыми гребнями, катившимися навстречу. В такую погоду трудно было заметить блуждающую мину, которыми в годы войны засорялись фарватеры. Капитан осторожно вел судно, внимательно наблюдая за волнами, чтобы не наткнуться на рогатую смерть.
Когда немецкий берег исчез, на мостике вдруг появился какой-то моряк с листком в руках. Он о чем-то доложил капитану. Тот, кивнув головой в сторону толпившихся на палубе русских эмигрантов, продолжал всматриваться в море.
Моряк с листком в руках спустился по трапу с мостика и, подойдя к Фрицу Платтену, козырнув, сказал:
— Вас приглашает к себе капитан.
Швейцарец поднялся на мостик. Там капитан, без всяких предварительных разговоров, в упор спросил:
— В сопровождаемой вами группе есть господин Ульянов?
Платтен растерялся. Решив, что Ильича собираются арестовать, он сделал вид, будто запамятовал фамилию, и предложил:
— Пройдемте вместе к пассажирам, там все выясним.
Спустившись по трапу на палубу, они подошли к русским. Капитан спросил:
— Кто здесь господин Ульянов?
«Сейчас предъявит ордер на арест, — решил Владимир Ильич. — Как быть? Не выпрыгнешь же за борт? А на пароме не скроешься — разыщут». Видя, что товарищи, боясь выдать его взглядами, стоят потупясь, он по-немецки спросил у моряка:
— Что вам угодно? Я Ульянов.
— Вам радиограмма. Господин Ганецкий запрашивает: сколько мужчин, женщин и детей с вами?
«Ах, вот оно что, — повеселел Владимир Ильич. — Нас встречает Ганецкий и дает об этом знать. Чудесно!»
— Прошу передать господину Ганецкому привет, — сказал он. — И сообщить, что нам понадобятся тридцать взрослых и два детских билета.
— Напишите текст собственной рукой, — предложил капитан.
— С удовольствием, — ответил Ильич.
Качка больше на него не действовала.
Прошло еще несколько часов, и паром отдал швартовы на пристани Троллеборга.
Ганецкий встретил прибывших объятьями. Он переволновался за них. По его расчетам, ленинская группа должна была прибыть на два дня раньше. Все это время он метался между городами, потратив уйму денег на срочные телеграммы в Швейцарию и на телефонные переговоры. А выяснив, что русские из Засница вышли в море, он помчался на радиостанцию. Там ему сказали: «По радио разрешены только служебные переговоры». Пришлось прикинуться представителем Красного Креста и послать на паром «служебный» запрос.
Из Троллеборга местный поезд перебросил русских в Мальме. С этой станции шли прямые поезда в Стокгольм.
В ресторане, находившемся невдалеке от станции, пассажиров ждал обед. Ганецкий успел его заказать по телефону из порта.
Помыв руки и приведя себя в порядок, проголодавшиеся путешественники впервые за четыре дня поели горячего супа.
После обеда отдыхать не стали, а сразу же пошли занимать места в заказанном вагоне. Владимир Ильич не хотел терять ни одной минуты.
В купе Ганецкий вспомнил, что из Петрограда пришло письмо Ленину от Коллонтай.
— В Швейцарию его отсылать было поздно, — сказал он, вытаскивая конверт. — Вы уже выехали. Так что передаю прямо в руки.
Интересно было узнать, с чем столкнулась Александра Михайловна в Петрограде. Как только поезд тронулся с места, Владимир Ильич разорвал конверт и стал читать письмо.
«Дорогой Владимир Ильич и дорогая Надежда Константиновна!
Вот уже неделя, что нахожусь в водовороте «новой России», яркость и сила впечатлений таковы, что передать ее даже не пытаюсь, — писала Коллонтай, — поэтому пока ограничусь краткими конспективными мазками.
Народ переживает опьянение совершенным великим актом. Говорю народ, потому что на первом плане сейчас не рабочий класс, а расплывчатая, разнокалиберная масса, одетая в солдатские шинели. Сейчас настроение диктует солдат, солдат создает и своеобразную атмосферу, где перемешиваются величие ярко выраженных демократических свобод, пробуждение сознания гражданских равных прав и полное непонимание той сложности момента, какой переживаем. Среди лихорадочной сутолоки, среди стремлений создать, построить что-то новое, отличное от прежнего, слишком громко звучит нотка уже достигнутого торжества, будто дело сделано, закончено. Не только недооценивается притаившийся, но, конечно, далеко не добитый «внутренний враг», но, несомненно, не хватает у наших, и особенно у Совета Рабочих и Солдатских Депутатов (Исполнительный Комитет), решимости и политического чутья продолжать начатое, закрепляя власть за демократией. «Мы — уже у власти»— таково самодовольно-ошибочное настроение у большинства в Совете. И этим опьянением достигнутыми успехами, конечно, пользуется гучковское правительство, склоняясь лицемерно перед волей и решением Совета в частности, но, разумеется, в основном, и, главное, в вопросе о войне, удерживая в руках своих «бразды».
Такое опьянение достигнутым — естественно. Внешне жизнь резко, неузнаваемо изменилась. Это сплошной праздник демократии, неумолкающий гимн свободе. Шествия, манифестации не прекращаются. В Совете (помещение Государственной Думы) целый день идут митинги, преимущественно для солдат, но приходят и гимназисты, и прачки, и дворники, и извозчики. Ораторы все уже охрипли, а новая и новая волна народу, делегаций в сотни человек вливается и выливается из дворца.
Совет Рабочих и Солдатских Депутатов — это сердце движения. Его слово — веское, к нему прислушиваются. Правительство (повторяю, в определенных пределах и границах) с ним считается. Но, боюсь, что С. Р. и С. Д. — это франкфуртский парламент. В нем все время проглядывает какая-то осторожность, нерешительность, нет ясной, отчетливой политической линии, нет размаха государственного строительства на новых началах.
Объясняется это прежде всего совершенно невозможным составом Исполнительного Комитета. Публика не то что разношерстная, хуже — туда набрались какие-то неизвестные личности, которых мы, старые партийные работники, совершенно не знаем. Воспользовавшись отсутствием наших людей в момент революционного пожара, туда засела безмандатная публика вроде Стеклова, Суханова, Богданова — меньшевики — и величин неизмеримо более мелких. Членов Исполнительного Комитета С. Р. и С. Д. около 40, из них не более 15 рабочих. Наша группа (делегаты от Бюро ЦК и Петербургского Комитета), а также несколько выборных от самого Совета (повторяю, большинство членов Испол. Комитета не избраны Советом, а захватным порядком заседают в Комитете), ведет отчетливую линию, но наши не только слабы численно, к сожалению, это все молодая, рабочая публика, не обладающая ни широкими политическими горизонтами, ни запасом сведений, ни умением стройно изложить свою мысль. Присутствуя на Исполнительном Комитете, даже после того, что «настрочишь» наших заранее, часто остро страдаешь, чувствуя, что с нами не считаются. И это в такой момент, когда именно наши должны бы и могли вырвать Исполнительный Комитет из того болота нерешительности, в котором Исполнительный Комитет все более и более завязает.
Наши требуют проверки мандатов и переизбрания членов И. К0, но большинство резко этому противится. Еще бы, тогда Стеклов и К0 останутся за бортом!
У меньшевиков дело было не многим лучше. Но с тех пор как приехал Церетели, они получили неожиданно радостное подкрепление. Церетели пользуется сейчас большим влиянием — ведь он же яркий представитель «революционного оборончества». У меньшевиков в Исполнительном Комитете руководителями являются: Ларин, Богданов, Церетели, Чхеидзе. Ларин расходится с Богдановым, Церетели и Чхеидзе по вопросу революционного оборончества, поддерживая линию Циммервальдского центра против оборонцев.
У нас постоянно присутствуют в Исполнительном Комитете рабочие-«правдисты» (Сталин, Федоров, Александров), но, повторяю, тона они не дают. Входят еще в Исполнительный Комитет Бонч-Бруевич, Козловский и Н. Д. Соколов. Но Бонч-Бруевич и Соколов бывают далеко не всегда, и у Соколова есть все же некоторые колебания; главное, никто из них как-то не ухватывает основной задачи — закрепление власти за С. Р. и С. Д. непрерывным натиском на Временное правительство и отчетливой самостоятельной позицией по основным вопросам. Бонч-Бруевич очень ценен, и с ним у нас расхождений нет, но он поглощен другими делами, да и вообще здесь в ИК нужен политик.
Приезд депутатов, конечно, даст нам подкрепление. Но тут еще один вопрос: у нас, внутри партии, еще много хаоса. Мы еще совершенно не освоились с новизной свободы и возможностью поставить партию на широкую ногу, завладеть массами, стянуть их под наше знамя…»
Дочитав письмо до конца, Владимир Ильич сложил его и задумался.
— Что-нибудь неприятное? — спросил Ганецкий.
— Нет, нет. Примерно все так, как я и предполагал. Молодец Александра Михайловна! Все свежим глазом приметила и занимает правильную позицию.
Закрыв купе, Владимир Ильич сел рядом с Ганецким и сказал:
— А сейчас, пока никто не тревожит, давайте поговорим о наших с вами делах. В Скандинавии необходимо создать новое заграничное Бюро Центрального Комитета. Я буду добиваться, чтобы в него вошли вы и Воровский. В Россию не спешите, здесь вы нужней. Будете осуществлять связь со всем миром. Кроме того, нам сейчас придется оставить в Швеции кое-какие документы. Вы их перешлете в Россию позже с надежным человеком. Особенно берегите мою синюю тетрадь с выписками.
Они еще долго разговаривали о делах в России. Владимир Ильич вздремнул лишь в четвертом часу ночи. Но выспаться ему не удалось: в вагон ворвалась ватага репортеров, выехавших навстречу из Стокгольма.
Шведские журналисты, стремясь опередить коллег, поджидавших русских в столице Швеции, принялись стучать в окна, в двери купе. На выходивших в коридор заспанных пассажиров набрасывались по два-три человека. Журналистам хотелось скорей взять интервью у смельчаков, проехавших во время войны через враждебную страну. Это же сенсация, материал для первых полос!
Но русские эмигранты, вспомнив строгий наказ Ильича, вели себя как глухонемые и делали вид, что ничего не понимают. Они даже не говорили ни «да», ни «нет», на каком бы языке к ним ни обращались, а только смущенно пожимали плечами. Лишь некоторые жестами показывали на предпоследнее купе: обратитесь, мол, туда.
Нетерпеливые репортеры кинулись к купе, в котором находился Ленин. Они принялись стучать в запертую дверь и на разных языках взывать к руководителю группы выйти к ним хоть на минуту. Но Владимир Ильич наотрез отказался принимать эту шумную братию в вагоне. К репортерам вышел Ганецкий и, потребовав тишины, сказал, что сообщение прессе будет сделано лишь в Стокгольме. Затем попросил всех покинуть вагон.
В Стокгольм поезд пришел в. девять часов утра. На перроне русских радушно встречали мэр города и его товарищи— левые социал-демократы.
По пути прибывших вновь окружили не только газетные фоторепортеры, но и операторы кинохроники. От назойливой публики невозможно было избавиться. Опытным конспираторам, понимавшим, что и полиция заинтересована в получении свежих снимков, приходилось делать резкие движения, отворачиваться и всячески прикрывать лица, чтобы ничего путного у фотографов не получилось.
Гостиница «Регина» оказалась комфортабельной. В уютных и теплых номерах приятно было бы прожить несколько дней и отдохнуть с дороги. Кстати, об этом просили и шведы, рассчитывавшие подискутировать с Владимиром Ильичем, но тот оставался непреклонным.
— Мы здесь пробудем только до вечера. Нам задерживаться нельзя, — сказал он. — Дорога каждая минута.
Шведы пригласили русских на торжественный прием, устраиваемый в честь их приезда.
Многие эмигранты за годы скитаний на чужбине так обносились, что имели весьма непрезентабельный вид. И у Владимира Ильича костюм, выгоревший на швейцарском солнце, обрел рыжеватый оттенок. Сукно лоснилось на потертых локтях и вздувалось на коленях. В таком виде не только нельзя было явиться на банкет, но и показываться в России.
К счастью, в Стокгольме оказалось отделение Русского общества вспомоществования революционерам имени Веры Фигнер, которое прежде выручало товарищей, прибывавших из ссылок. Оно-то и помогло ленинской группе приобрести в магазинах необходимую одежду.
Вымывшись с дороги и надев новые костюмы, русские эмигранты во главе с Ильичем явились в большой зал гостиницы. Здесь их вновь встретил мэр города.
Зал был празднично украшен. У задней стены висело большое красное знамя.
Первым делом было составлено и подписано «коммюнике», в котором подробно объяснялось, почему, на каких условиях и как русские революционеры проехали через Германию. И только после этого начались торжественные тосты.
Пиршество длилось недолго, потому что поезд в Финляндию уходил в семь часов вечера, а Владимиру Ильичу еще нужно было переговорить с товарищами, остававшимися в Стокгольме. Все пришлось делать впопыхах, на ходу.
На вокзале провожающих собралось много. Некоторые пришли с цветами. Шведы оказались на удивление приветливыми хозяевами, жаль было с ними расставаться. Но что поделаешь? Революция звала вперед.
На рассвете поезд привез русских эмигрантов в небольшой рыбацкий городок Хапаранда. Здесь еще была зима. Морозец пощипывал щеки.
Перенеся, свои чемоданы и узлы к дому для приезжих, путешественники, кто с крыльца, кто с открытой веранды, с волнением стали всматриваться через залив в противоположный берег. Там в полумгле был виден финский городок Торнео, там начиналась территория Российской империи.
Когда чуть посветлело, над зданием вокзала многие приметили флаг, не трехцветный николаевский, а красный! От одного вида реявшего стяга революции перехватывало дыхание, к горлу подступал ком. Сколько пролито крови, перенесено лишений и страданий, чтобы этот флаг так свободно реял над землей!
Там свои, там русские солдаты. Вон они бродят в серых шинелях. Скорей бы увидеться с ними!
А нужно ли спешить? — останавливал голос благоразумия. — Свои-то свои, но по приказу подойдут с винтовками, арестуют и в тюрьму отведут. Ну и пусть! Невозможно больше скитаться по чужим землям. Скорей домой, что бы ни случилось!
В доме для приезжих за небольшую плату можно было согреться чашкой кофе и получить бутерброд с яйцом и соленой рыбой. Но завтракать никому не хотелось. Эмигранты стали допытываться у рыжебородого буфетчика: каким путем здесь добираются до Торнео?
— В такую пору лучше всего по льду. Самый близкий путь, — сказал тот. — В Хапаранде извозчики водятся. Сколько вам надо саней?
— На тридцать с лишним человек.
— Найдем, — заверил буфетчик. — В такую пору лишний заработок и рыбаку не помешает. Пейте кофе, а я сейчас!
Оставив в буфете вместо себя жену, он исчез. Пропадал более часа. Затем к крыльцу стали подъезжать санки с впряженными в них лохматыми крестьянскими лошаденками.
В санки помещались два-три человека с багажом. За посадкой следил сам Владимир Ильич, заботясь, чтобы женщины и дети были хорошо укутаны.
Вскоре на заснеженном льду выстроилась длинная вереница саней. Гриша Усиевич заметил:
— Не хватает красного флага.
Тут же он взял у жены алый платок и, прикрепив двумя концами к альпинистской палке, захваченной из Швейцарии, передал древко Владимиру Ильичу, объезжавшему по обочине всю колонну.
Выкатив вперед, Ильич поднял самодельный флаг и просигналил всем двигаться вслед.
Натянулись вожжи, заскрипел лед под полозьями и… полтора десятка саней двинулись по заливу к последней границе. Впереди мчались сани с красным флагом.
ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ
Только две недели молчал гудок Путиловского завода. И вот однажды рано утром он вновь загудел, призывая рабочих к стапелям, печам, станкам и горнам.
— Слава тебе господи! — обрадованно перекрестилась Степанида Игнатьевна и принялась тормошить внука: — Вставай, Васек, вставай! Наш гудит.
Пока Вася мылся, бабушка поставила на стол стакан дымящегося чая, положила рядом кусок белой солдатской галеты и сбереженный для такого торжественного утра кусочек сахару.
— Другие хоть отдохнули за эти дни, — наблюдая, как внук пьет чай вприкуску, сказала Игнатьевна. — А ведь тебя с Демой дома не удержишь. Люди спят, а вы чуть ли не до утра колобродите.
— Мы же не по гулянкам ходим.
— Да лучше бы веселились, чем с посадскими связываться. А то лежишь здесь и тревожишься, как бы ножом кто не пырнул.
Вася налил второй стакан чаю, но допить не успел: с улицы послышался знакомый стук в стену.
— Вон дружку твоему не терпится! Хоть бы поесть-то спокойно дал.
Вася не стал слушать воркотню бабушки. Отодвинув недопитый чай, он поднялся, схватил шапку, куртку и, на ходу одеваясь, выскочил на улицу.
Дема ждал его хмурый.
— С отцом поругался, — сказал он. — В драку лезет. Не смей, говорит, против Ваньки Быка. Еще, чего доброго, дом из-за тебя спалит.
— И бабка моя ворчит. Не обращай внимания.
— Она у тебя по-иному. А ему церковники в уши жужжат. Если отец узнает, что я в партию вступил, — изувечит. Видно, мне придется, как Фильке, из дому уходить.
В мастерской было холодно и неуютно. Савелий Матвеевич сидел на корточках у наковальни и подсчитывал заготовки.
— Раздувайте горн, — велел он парням. — Живые деньги на земле валяются. Старый заказ еще не сдан, восьми поковок не хватает. До обеда закончим.
Ребята принесли древесного угля, коксу и принялись раздувать горн. Вскоре железные болванки, уложенные полукругом, стали нагреваться.
Большинство рабочих слонялось по цеху без дела. Работу им мог дать лишь мастер, а он почему-то не появлялся.
— Вот ведь шкура, — сказал пожилой кузнец. — Простому человеку никогда не сочувствует. О своей корысти только думает. На работу нанимаешься — взятку давай. Заказ хочешь повыгодней получить — тоже сунь. И в именины подарок неси, иначе настрадаешься, рублевки в день не заработаешь.
— На тачке вывезти такого! — предложил другой. — Нечего на него смотреть.
Когда появился мастер, его обступили возмущенные рабочие, высказали все, что думали о нем, затем вылили на взяточника ведро мазута, втолкнули его на тачку и вывезли на свалку.
Мастера в старокузнечном цеху заменил шестидесятилетний Никифор Белолед. Ему взялся помогать Савелий Матвеевич. Они оба прошли в конторку и не спеша вместе с учетчиком стали разбираться в накопившихся бумагах.
Минут через двадцать — тридцать к парням, заканчивавшим заказ без Лемехова, подбежал мальчишка-разносчик и прокричал:
— Кокорева в конторку!
Полагая, что Савелий Матвеевич сейчас заставит писать какие-нибудь наряды, Вася снял рукавицы и нехотя поплелся в конторку. Старики сидели за столом рядом, а учетчик что-то им объяснял, раскладывая бумаги на кучки. Увидев юношу, учетчик недовольно умолк, а Савелий Матвеевич взял со стола конверт, строго взглянул поверх очков на Васю и спросил:
— Кто же это тебе на завод пишет?
— Не знаю… никогда не писали.
Неумело распечатав конверт, юноша развернул письмо и, увидев на нем Катину подпись, смущенно покраснел.
— Это с Выборгской, — сказал он. — Мы на митинге у них выступали.
— Благодарность, что ли? — поинтересовался Савелий Матвеевич. — А ну, покажи.
И он протянул руку. Вася еще больше смутился:
— Да нет, девушка одна… Она нас на конфетную фабрику водила.
Савелий Матвеевич укоризненно покачал головой.
— Хороши! Едут по серьезному делу, а в голове только свое: как бы девушек захороводить.
Вечером парни поехали на Выборгскую сторону. Кокорев быстро отыскал Катин дом, вдвоем они вошли во двор, но постучать в подвальное окно не решались.
— А вдруг не она здесь живет? — сказал Дема.
— Как не она? Я хорошо помню.
— Ну, если помнишь, стучи.
— А может, действительно не она? — стал сомневаться и Кокорев. — Давай лучше войдем в квартиру будто по делу и письмо оставим.
— Ну что ж, пиши.
Пристроившись у поленницы, Вася принялся писать записку, а Дема со скучающим видом разглядывал двор.
За этим занятием их и застала Катя Алешина. Узнав парней, девушка растерянно остановилась и почувствовала, как жарко запылали ее щеки.
— Вы? Вы как здесь очутились?
Парни тоже смутились.
— Мы пригласить вас хотим, — смущенно сказал Дема. — У нас в воскресенье клуб открывается. Придете?
— Спасибо, — поблагодарила девушка. — Но вы, может, подождете минутку? Я только с завода… вымыться не успела. Побудьте здесь, мы вместе к Наташе сходим.
Она сбежала по ступенькам в подвал и скрылась за дверью.
Бросив на кровать пальто, Катя помчалась на кухню и, вернувшись с застрявшими бусинками воды в волосах, стала торопливо переодеваться.
— Куда ты, шальная? — спросила бабушка. — Все-то у вас спешка. Супу хоть поешь.
— Некогда, бабуля, потом.
Проворно натянув на себя праздничное шерстяное платье и вместо рабочих ботинок надев туфли, Катя подбежала к зеркалу.
— Что-то ты посвежела нынче, разрумянилась… Лектриса прямо! — любуясь внучкой, заметила бабушка. — Чего без нужды в зеркало глазки совать, женихов-то ведь нет?
— Найдутся, — весело сказала девушка. — Сами придут!
Надев пальто, Катя чмокнула бабушку в щеку и бегом устремилась на улицу.
— Шальная… впрямь шальная!
На улице Катя подхватила юношей под руки и зашагала с ними к райкому.
В другой день Алешина, наверное, оставила бы парней у входа, а сама пошла бы к Наташе, но сегодня она осмелела и предложила:
— Идите первыми и сами пригласите на вечер. Ее величают Натальей Федоровной.
Парни прошли в комнату райкома. Там они застали Ершину, сидевшую у груды брошюр, увязанных в пачки. Девушка писала на пакетах адреса.
— Вам кого? — спросила она, не узнав путиловцев.
— Мы к вам, — поклонившись, сказал Рыкунов. — Пришли пригласить на открытие Нарвского клуба.
— Это, наверное, не меня, вы ошиблись… Вам Женю Егорову?
— Нет, в точности вас, Наталья Федоровна.
— Ой, узнала! Думаю, где же я вас видела? Вы ведь Катины знакомые.
Минут через десять Наташа была свободна. Запирая ящики стола и машинку, она сказала:
— Подождите меня у входа. Я мигом.
Вечер был мягким, безветренным. Падали мохнатые снежинки. В сиянии уличного фонаря они кружились, как ночные бабочки.
Вскоре на улицу выбежала Наташа. Несмотря на то что девушка была в ботинках с высокими каблуками, она оказалась Деме по плечо. Васе подумалось, что Ершина не понравится его рослому другу. Но он ошибся — резвость Наташи была по душе Деме. Заспорив по какому-то поводу, Наташа запустила в него снежком и бросилась бежать. Он помчался вдогонку, пытаясь поймать ее, но Ершина так ловко увертывалась, что он то и дело попадал в сугробы…
Смеясь и громко разговаривая, они пошли впереди, а Вася с Катей молча шагали рядом.
— Если бы я не написала письма, вы бы сами не собрались прийти? — вдруг спросила девушка. — Да?
— Нет, я очень хотел, — возразил Кокорев. — Нос того воскресенья такое началось, что и поспать некогда было.
— А потом?
— Одному неудобно, а Дему насильно не потащишь.
— Почему же без него неудобно?
— Мы привыкли всюду бывать вместе.
— Но ведь не всю жизнь вы будете только с Демой? Впрочем, я вам завидую, — призналась Катя. — У меня не было такой подруги. Всем приходилось делиться только с отцом, потому что мать хоть и любит меня, но не понимает, а он был как товарищ, самый близкий…
Девушка вспомнила, как она помогала отцу учиться и как арестовали его.
— Вчера я получила радостную весть: отец уже на свободе. Правда, попал на фронт, рискует в окопах жизнью, но может в любой день приехать.
— А я своего отца едва помню, — глядя в тьму, сказал Вася. — Лишь недавно узнал, что он был в боевой дружине. После Пятого года отца поставили на тропе охранять маевку в Поташевском лесу. Какой-то подлец выдал их. Конные городовые и казаки начали оцеплять лес. Отец их заметил, да поздно. Он укрылся за валуном и начал стрелять из «смит-вессона». Наши заводские, услышав стрельбу, сразу же по кустам, по болоту и домой. Думали, и он уйдет. А отец отстреливался до последнего патрона. Казаки шашками засекли. Полиция мертвого не отдала. Матери сказали, что не было такого. Товарищи отца потом там в лесу устроили митинг, а валун как бы памятником стал: каждый день на нем то цветы, то красные ленты появлялись. И полиция ничего не могла сделать. Посбрасывает, потопчет цветы, а через день они опять лежат.
— И вы даже не знаете, где он похоронен?
— Нет. И валуна того мы с Демой в прошлом году не нашли. Его, видно, взорвали или разбили: вокруг валялись осколки. Мы их собрали в одно место, поставили шест с красным флажком и поклялись не оставлять друг друга в беде.
— А третий может к вам присоединиться? — не то серьезно, не то шутя спросила Катя.
— Смотря кто этот третий?
— Если это буду я?
Он стиснул ее руку.
— Да, примем.
Они бегом догнали Наташу с Демой и вчетвером дошли по Петроградской стороне до Троицкого моста. Там Ершина остановилась.
— На сегодня довольно, — сказала она. — Завтра всем рано вставать. Где же вы нас в воскресенье встретите?
— Ну, хотя бы у Нарвских ворот, — предложил Дема.
— Хорошо. Ждите в восемь.
Парни хотели проводить девушек домой, но те запротестовали:
— Вам и так далеко. Мы сами доберемся, вдвоем нам не страшно.
ДОЛОЙ С ГОРИЗОНТА ЖИЗНИ
В «Красном кабачке» гулял Ванька Бык со своей шатией. Вскоре сюда ввалилась новая ватага. Чумазый босяк в длинной кавалерийской шинели, выпив прямо у стойки стакан самогону, вдруг сдернул с головы шапку и обратился к посетителям:
— Граждане, братишечки! Житья не стало, дыхнуть невозможно. Да что ж это за жизнь распроклятущая! — Босяк хлопнул шапкой об пол и каким-то слезливым, бабьим голосом начал перечислять: — С Огородного турнули, с Ушаковской гонят… и на Нарвскую не сунься! Какая же это свобода? Для чего мы городовых били, чтобы новые появились? Сегодня опять на нас напали. Чуваков в ихний клуб хотел пройти, а ему у дверей говорят: «Стоп, пьяным нельзя». А какой он пьяный? Я, конечно, заступаться. Так нас обоих схватили под руки, довели до угла, а там — коленкой под зад и грозятся: «Если еще явитесь — в кутузку запрем». Да что же это деется! Куда ты, Ваня, смотришь? Почему забижать своих даешь?
Из-за стола поднялся широкий, кряжистый Ванька Бык. Маленькие глаза его налились кровью и на толстой, сливающейся с плечами шее надулись жилы.
— Кто тебя не пустил? — грозно спросил он и так рванул ворот, что отскочившие пуговки Запрыгали по полу. — Кто такие?
— Да все те же, которые добычу на Огородном отняли.
— А ты пугнуть не мог? Сказал бы, что я велю.
— Говорено. А им хоть хны — не боятся тебя. Мы, говорят, и Ваньку Быка утихомирим.
— Врешь!
— Вот те крест. Чувакова спроси.
— Верно, — отозвался долговязый босяк в разодранной шинели. — Турнуть грозились.
— Ладно, будет языком трепать, — оборвал его Ванька Бык. — А ну, кто со мной в клуб догуливать?
Поднялось человек восемь. Они допили, что было в стаканах, роняя стулья, выбрались из-за стола и вышли-во двор к оседланным коням.
В Нарвский клуб молодежи съезжались гости. От обилия света и грохота духового оркестра входившие сразу веселели. Сдав пальто в гардероб, гости шли к буфету, а другие — в верхний зал занимать места.
Рыкунова и Кокорева часто вызывали к выходу. То скандалили безбилетники, то пьяные, которых нужно было утихомирить или выпроводить. Катя с Наташей скучали одни.
— Неудобно как-то получается, — сказал Вася. — Пригласили девушек, а сами бегаем.
— Верно, — согласился Дема. — Ты иди с ними, а я буду с нашими ребятами. А потом сменимся. Идет?
Они так и решили: Дема вышел со своими парнями на улицу, а Вася провел девушек наверх и усадил в зале.
Торжественное заседание было коротким. Ораторы поздравили нарвцев с новым клубом, оркестр сыграл туш, и сразу же начался концерт.
Черноглазая курсистка с чувством декламировала отрывки из поэм Пушкина, Некрасова, а под конец прочла стихотворения путиловского поэта Георгия Шкапина, написанные им в тюрьме.
Шкапина знали многие путиловцы, он работал на заводе котельным разметчиком, поэтому декламаторше долго хлопали.
Потом выступили две певицы из хора Екатерингофского сада. Они дуэтом спели «Чайку» и «Умер бедняга в больнице военной». Песня вызвала у солдаток слезы.
Вася заметил, что и у Кати глаза повлажнели. «Вспомнила отца», — догадался он и сжал девушке руку. Она не отняла ее, а доверчиво оставила в его ладони.
После концерта начались танцы и игры. Пожилые люди стали расходиться.
— Где ваш Дема? — поинтересовалась Наташа. — Пригласил, а сам исчез.
— Он дежурит сегодня. Я его сейчас пришлю. Потанцуйте пока без нас.
Он спустился вниз и, разыскав Рыкунова, сказал:
— Наташа там скучает. Иди, я подежурю.
Дема хотел было передать ему красную нарукавную повязку, но, сообразив, что теперь Катя останется одна, передумал.
— А может, вместе погуляем? — спросил он. — Наверное, уже никто ломиться не будет. Если случится что, ребята без нас управятся.
Товарищи поднялись в зал. Оркестр играл тустеп. Катя танцевала с Наташей.
После тустепа начался новый и очень веселый и шумный танец ойра-ойра. Дема с Васей не раз видели, как его танцуют, они пригласили девушек. Танец оказался нетрудным, они быстро с ним освоились.
И вот в самый разгар веселья снизу вдруг послышался женский визг.
Вскоре на лестнице показался растерянный дежурный, жестами он требовал, чтобы Дема бросил танцевать и поспешил вниз.
— Там Ванька Бык… Лютикова по голове ударил и ворвался сюда… Целая бражка! Уселись у буфета и требуют лимонаду. Видно, водку с собой принесли.
— Сколько их?
— Семеро.
— Справимся, — сказал Дема. — Надо только как-нибудь девчат выпустить на улицу.
Наверх поднялся встревоженный Борис Тулупин.
— Надо без скандала закрыть вечер, — сказал он. — А то наш клуб с первого дня такую славу получит, что потом сюда и калачом не заманишь. Пусть дежурный скажет в буфете, чтобы им лимонад подали. А я прощальный вальс закажу. Начнем выпускать гостей через черный ход. Вы только парней предупредите.
— Ладно, — согласился Дема. — Я сейчас пойду ребят собирать, а ты, Вася, проводи Наташу с Катей до трамвая и быстрей назад.
Они так и сделали. Оркестр заиграл «Осенний сон». Пары, только что отплясывавшие ойру-ойру, закружились в вальсе.
Кокорев сходил в гардеробную, оделся и принес девушкам пальто. Через запасный ход они спустились во двор, прошли под арку ворот и очутились в темном переулке.
Впереди у забора они вдруг заметили какую-то живую, колышущуюся массу.
— Что это там? — придерживая Васю, спросила Наташа. Катя тоже остановилась и прижалась к нему.
Напрягая зрение, Кокорев стал вглядываться во мглу. Уловив едва слышное позвякивание уздечки и характерное пофыркивание, он засмеялся.
— Лошади! К забору привязаны… Вон как! Верхом прискакали бандиты.
Он проводил девушек до трамвайного кольца и на прощание спросил:
— Когда снова увидимся?
— Приходите с Демой в субботу прямо ко мне, — сказала Катя.
— А я постараюсь билеты куда-нибудь достать, — пообещала Наташа.
Ершина прошла в вагон, Катя на секунду задержалась на площадке и шепнула:
— Если Дема не сможет, приходи один.
— Приду, — ответил он и еще раз пожал ей руку.
Когда Кокорев вернулся в клуб, в гардеробной уже одевались последние пары. И вдруг Ванька Бык это заметил. Он вскочил, откинул стул в сторону и метнулся к дверям.
— А куда это все барышни уходят? Мне танцевать желательно. А ну, где там оркестр? Играй «барыню», за все плачу!
К Ваньке Быку подошел Рыкунов и твердым голосом сказал:
— Клуб уже закрывается, оркестр кончил играть. Вам тоже пора уходить.
— Чего? А ты здесь кто такой? — уставив пьяные глаза на путиловца, заорал громила. — Чуваков! Этот тебя не пустил? Дай ему при мне по зубам.
Но в это время к выходу устремились музыканты. Оттолкнув Рыкунова, Ванька Бык ринулся к двери и преградил им путь.
— Стой, не пущу! Играйте по моему заказу. Чего зенки вытаращили, непонятно? Скидывай пальтухи, говорю, и инструмент вытаскивай. А ну, принимай по одному! — крикнул он своим босякам и, хватая музыкантов за что попало, начал швырять их в другой конец зала.
Рыкунов подал сигнал ребятам, но Тулупин культяпкой остановил его:
— Погоди, пусть девчата уйдут. С Ванькой Быком надо раз и навсегда кончить.
— За углом стоят их оседланные лошади. Если кто-нибудь крикнет, что коней угоняют, громилы повыскакивают на улицу. Там их будем хватать по одному, — предложил Кокорев.
— Верно, — похвалил комендант. — Иди расставь ребят на улице, а здесь мы навалимся.
Кокорев вывел ребят черным ходом на улицу и спросил:
— Кто умеет верхом ездить?
— Я… я… — отозвалось несколько голосов.
— Мне двух хватит. Вот ты… и ты, — указал он на самых ловких парней. — Отвяжите коней и во весь опор гоните мимо клуба. Ты, — ткнул он пальцем низкорослого паренька, — вбежишь в клуб и крикнешь: «Коней угоняют!» Когда побегут на крыльцо, ножку подставляй, пусть кубарем вылетают. А вы, — приказал Кокорев остальным, — глушите чем попало и руки скручивайте…
Тем временем пьяная ватага принудила музыкантов играть «барыню». Из клуба на улицу стали доноситься нестройные звуки оркестра и грохот тяжелых сапог.
Ваньке Быку приглянулась молоденькая буфетчица. Отплясывая перед буфетной стойкой, он после каждого коленца топал ногой и делал пригласительный жест: входите в круг, красавица! Буфетчица, не зная, как ей быть, испуганно поглядывала на путиловцев. А те, прихлопывая в ладоши, постепенно охватывали танцующих тесным полукругом.
Неожиданно с улицы вбежал парнишка. Оставив дверь открытой, он пронзительным голосом прокричал:
— Коней угоняют!
Оркестр, словно поперхнувшись, умолк. С улицы донесся цокот копыт.
— Лови! — завопил Ванька Бык.
Рано утром молодые путиловцы привели Ваньку Быка на свой завод и поставили к забору на «дворянскую панель». Эта панель так называлась потому, что по ней прежде ходили только заводское начальство и служащие конторы.
Рабочие разглядывали громилу и говорили:
— Попался наконец… Давно по тебе веревка плакала.
У «дворянской панели» скопилась немалая толпа пострадавших от банды Ваньки Быка.
— Порезал, бандюга, моего брата, — злобно говорил котельщик. — И соседа до полусмерти избил…
— Милые мои, это он… он, проклятый, снасильничал! — плача, выкрикивала солдатка. — Танюшку, девочку мою, искалечил! Не отпускайте, казните самой лютой смертью…
— Вот для чего таким свобода нужна. Разбойничать. Расстрелять такого.
Когда появились во дворе члены Нарвского исполкома, все расступились перед ними, а Ванька Бык, хмуро выслушивавший проклятия, вдруг вскинул голову и нагло спросил:
— В чем дело, граждане? По какому такому праву меня на всенародный облай выставили?
— А по такому, что ты бандит и супостат жизни человеческой, — сказал старый литейщик.
— А не будь меня, так генерал Дубницкий до сих пор бы на вашей шее сидел. А кто городовых бил?
— Ты себя к героям революции не причисляй. Как накипь дурная, покрутился около революции и отошел шлаком. Такие, как ты, — хуже буржуя! Свободу опоганиваете.
— Эва! Значит, меня долой? Значит, я не я? Откинутый вроде? И свободы мне нет?
— Нет тебе ни свободы, ни прощения, — отозвался кто-то из толпы.
— Довольно на него время терять, пора на работу, — сказал другой член исполкома. — Поднимите руки. Кто за то, чтоб долой его с горизонта жизни?
Поднялось много рук.
— Та-ак, ясно, — оглядев толпу, сказал старый литейщик. — Будем требовать смертной казни.
Два рослых путиловца, схватив громилу, потащили к воротам, а он, отбиваясь, завопил:
— Братцы, да что же это? Пощадите!..
Но сочувствия он ни у кого не вызвал.
ВСТРЕЧАЙТЕ ЛЕНИНА
В конце марта из ссылки вернулась тетя Феня. Поздно вечером она пришла к Алешиным усталая и разочарованная.
— Как мы все рвались сюда! — сказала она Кате. — Многие на крышах ехали. Нас в теплушку набилось человек пятьдесят. Думали, что здесь встретят с флагами и музыкой, а нас довезли до тупика на товарной станции и говорят: «А ну, освобождайте вагоны!» Пошли мы по каким-то закоулкам, выбрели на Лиговку. Гляжу — очереди у пекарен, люди худые, ободранные детишки у приезжих хлебца просят. Но вот выходим на Невский и… глазам не верим. Витрины от хрусталя искрятся. Публика расфранченная. Автомобили, лихачи. В ресторанах музыка, офицерье сидит, женщины холеные… Как будто нет голодных и калек. Да была ли революция?
— Мы такие же вопросы задаем, — ответила Катя. — Почти все идет по-старому.
На ночь тетя Феня осталась в подвале. Катя уложила ее на свою постель, а сама легла с матерью.
Утром гостья поднялась с трудом. Она чувствовала себя разбитой.
— Здесь у вас не сон, мученье, — сказала она. — Сам воздух душит, словно в тюремной камере.
День был воскресный. Выпив чашку чаю, тетя Феня немного взбодрилась и предложила Кате:
— Поедем со мной в Озерки. Если избушка цела, вчетвером в ней поселимся.
Из ссылки тетя Феня приехала в валенках и нагольном полушубке, а в городе была оттепель. Катя отдала ей свои ботинки, а сама надела старенькие русские сапоги, оставшиеся от деда. И хорошо сделала. В Озерках к домику нельзя было подступиться. За зиму вокруг намело сугробы.
Проваливаясь по колено в снег, Катя добралась до крыльца. Дверь была чуть приоткрыта и висела на одной петле.
Переступив заснеженный порог, девушка из темных сенцев попала на кухню. Здесь было светло, но в окне не осталось ни одного целого стекла, осколки поблескивали на захламленном полу. Плиту кто-то разобрал, чугунный верх был снят, кирпичи разворочены. На полках не оказалось ни посуды, ни кастрюль.
И в соседней комнате гулял ветер, колыхавший обрывки заиндевевших обоев. Даже половицы здесь были выбраны.
Тетя Феня пробралась в дом по Катиным следам, ахнула и прослезилась.
— Какие же мерзавцы это сделали? Знают же, что не буржуи жили, все своим трудом нажито было. И корысти-то на грош! Куда я теперь денусь?
— Живите у нас, — предложила Катя.
— Да ведь и у вас в подвале не житье. Нам надо подыскать что-то другое
Дома их ждало письмо. Оно пришло с Западного фронта. По почерку Катя узнала руку отца. Он поздравлял с революцией, сообщал, что выбран в полковой комитет, и обещал скорую встречу.
Прошел вьюжный март. В начале апреля была пасха. На бульварах и площадях столицы появились ларьки и палатки торговцев, ярко размалеванные карусели, шумные балаганы циркачей, заунывные шарманки продавцов «счастья».
Звонили колокола, на домах висели красные флаги. Хмельные домовладельцы, чиновники и купцы, нацепив на себя пышные красные банты, целовались, поздравляли друг друга с «Христовым воскресением» и свободой.
А солдат и рабочих не радовал приближавшийся праздник. Одним предстояло отправиться на фронт в окопы, другим — работать на прежних хозяев.
В былые времена даже бедняки к «Христову воскресению» пекли куличи, готовили студни, творожные пасхи, красили яйца, но в этот год в рабочих семьях праздник был скуден. Яйца и творог спекулянты продавали по невиданным ценам, а белая мука совсем исчезла с рынка.
Катина бабушка, достав из сундука праздничный дедовский пиджак и рубашку с васильками, вышитыми на воротнике, сходила на рынок, продала их и на вырученные деньги купила полтора десятка яиц, немного сахару и масла. Вытряхнув из всех мешочков муку, какая была в доме, она испекла два кулича: один себе, другой внукам.
Всю пасхальную ночь мать и бабушка простояли в церкви. Они вернулись домой на рассвете и разбудили Катю, чтобы разговеться с ней — съесть по куску кулича и по яйцу, окропленным «святой водой».
— Я не говею, — сказала Катя. — Мы не верим в бога.
— В кого же вы верите?
— В свободу… в счастье на земле!
— Много вам дала ваша свобода! — ворчливо сказала мать. — У людей праздник, а мы как нищие. Хоть ты бога не гневи, садись с бабушкой.
Чтобы не спорить с матерью, Катя села за стол, съела половину принесенного из церкви яйца и выпила чаю с куличом.
К обеду пришла тетя Феня. Она принесла пряников и бутылку красного вина. Позже забежала Наташа. Обед был праздничным. Раскрасневшись от вина, девушки много смеялись без всякой причины, а потом спели с тетей Феней ее любимые песни о бедной швейке, о чайке, напрасно убитой охотниками, о сибирском бродяге.
Во время пения в окно кто-то робко постучал. Катя отодвинула занавеску и в сгущавшихся сумерках разглядела улыбающиеся физиономии Демы и Васи. Она крикнула в форточку:
— Подождите минутку, мы сейчас выйдем.
— Кто такие? — спросила тетя Феня.
— Путиловские ребята.
— Ого! Издалека пришли. Значит, не на шутку вы им приглянулись.
Быстро поправив волосы и чуть припудрив не в меру раскрасневшиеся щеки, девушки оделись и выбежали на улицу.
— Куда пойдем? — спросила Наташа.
— Куда угодно, — ответили парни.
— Тогда на базар, там весело, — сказала Катя.
Взявшись под руки, они прошли к пустырю, где расположились балаганы и палатки торговцев. На базаре горели разноцветные фонарики, играли гармошки, щелкали хлопушки, смешно выкрикивали «уди-уди» надувные свистульки.
Юноши купили девушкам кулек орехов и уговорили прокатиться на карусели. Дема с Васей сели на деревянных коней, а Катя и Наташа — в карету, расписанную петухами.
Кружась под звон бубенчиков и визгливую песню шарманки, парни дурачились — ловили грушу с призовым кольцом, а девушки, видя, как она ускользает от них, заливались смехом.
Потом они побывали на танцах в столовой завода «Парвиайнен», названной «Зимним садом», и втроем пошли провожать Наташу к райкому. В этот вечер она заступала на дежурство.
— Приходите завтра, только пораньше, — сказала Катя, прощаясь. — Прямо к райкому. Сходим в кинематограф, я давно не была.
Но на другой день произошло такое событие, что девушки и не вспомнили о кинематографе. Когда Катя зашла в райком, она застала там растерянных дежурных. Им, оказывается, позвонили по телефону из Центрального Комитета партии и попросили немедленно известить рабочих Выборгской стороны о том, что вечером из Финляндии приезжает Владимир Ильич Ленин. Но как это сделаешь, если заводы и фабрики не работают?
— Давайте напишем плакат и пойдем по улицам, — предложила Катя.
— Ты с ума сошла! — замахала на нее руками Наташа.
— А что, стыдно, по-твоему? Это же Ленин… понимаешь, Ленин едет!
Девушки достали кусок красного полотнища и написали на нем белилами: «Товарищи! Едет Ленин. Встречайте!» С плакатом, прибитым к длинным палкам, они вышли на улицу.
Сначала неловко было вдвоем идти посреди мостовой, но потом, когда к ним стали подбегать любопытные и спрашивать: «А кто такой Ленин? Откуда он?» — освоились и стали объяснять прохожим. И там, где они останавливались, скапливалась небольшая толпа и начиналось нечто похожее на митинг.
Появились два старика рабочих, которые знали Ленина не понаслышке, а видели на тайной сходке и читали его статьи. Один из них сказал небольшую речь.
— Ну, теперь держись, буржуи! — заключил другой. — С Лениным мы своего добьемся.
Старики пошли вместе с девушками. На людных перекрестках они созывали людей и снова митинговали.
ВСТРЕЧА
По случаю праздника святого воскресения в вокзальном буфете Торнео продавались раскрашенные яйца, куски кулича и творожная пасха. Солдаты-пограничники толпились у буфета и на перроне. Кто-то из них, приметив на льду залива вереницу мчавшихся саней, крикнул:
— Братцы, никак, к нам гости катят! Хорошо бы шведку захороводить. А ну, кто горазд христосоваться — выходи, встречай!
Когда передние санки подкатили к вокзалу, на перроне уже собралась порядочная толпа любопытных. Солдаты сперва молча разглядывали приезжих, а услышав, что они говорят по-русски, оживились, гостеприимно стали приветствовать:
— Добро пожаловать!
Эмигранты готовы были перецеловать всех русских солдат. А те, не понимая их восторженности, недоуменно спрашивали:
— Откуда такие? По разговору будто бы русские, а по одежде не признаешь — вроде бы не свои.
— Из Швейцарии мы. При царе домой вернуться не могли, а теперь вот пробились. Ну, как тут у вас жизнь? Что в Питере?
Владимир Ильич раздобыл пачку нераспроданных столичных газет. Отойдя в сторонку, он с особым интересом принялся читать большевистскую «Правду». Его внимание привлекли статьи Каменева. В большевистской газете черным по белому говорилось:
«Когда армия стоит против армии, самой нелепой политикой была бы та, которая предложила бы одной из них сложить оружие и разойтись по домам. Эта политика была бы не политикой мира, а политикой рабства, политикой, которую с негодованием отверг бы свободный народ. Нет, он будет стойко стоять на своем посту, на пулю отвечать пулей, на снаряд — снарядом. Это непреложно».
«Неужели «Правда» не получила моих «Писем из далека»? — недоумевал Ильич. — Это же не позиция большевиков! А может, мои статьи не по вкусу таким «незыблемым» борцам, как Каменев?»
На границе ждали и другие неприятности. В Торнео хозяйствовали представители Антанты — английские жандармы. Видя, как принимают русские солдаты неожиданно появившихся противников войны, они, не скрывая злобы, устроили унизительный обыск, заставляя мужчин раздеваться и так проходить таможенный досмотр.
Миха Цхакая и еще несколько горячих голов решили скандалить.
— Не будем раздеваться перед жандармами, да еще перед английскими. Беззаконие!
Владимир Ильич, подойдя к ним вплотную, потребовал:
— Сейчас же прекратите! Вы что — готовы клюнуть на примитивную удочку? Сами напрашиваетесь остаться здесь? Они же провоцируют. Выполняйте все формальные требования. Ими они нас не унизят.
Жандармы, надеявшиеся найти что-либо компрометирующее эмигрантов, были разочарованы. Ничего запретного не удалось обнаружить. Англичане задержали только Фрица Платтена и Карла Радека, как подданных других стран.
Расставаясь с Платтеном, Владимир Ильич сказал:
— Большое спасибо за все. Прошу не огорчаться.
На прощание они крепко пожали друг другу руки и обнялись.
Подойдя на другой стороне перрона к русскому вагону третьего класса, Владимир Ильич помог Цхакая взобраться по ступенькам на площадку и сказал:
— На чужбине, товарищ Миха, наши испытания кончились. Мы теперь на своей земле.
Сопровождать эмигрантов отправилось чуть ли не полвзвода солдат. С ними был очень бледный поручик.
Поручик уселся в купе, в котором находился Ильич, и вскоре завел разговор о войне. По его мнению, противниками войны могли быть только трусы да разные инородцы. И он стал перечислять:
— Ну, евреи там, армяне, полячишки, чухонцы. А русский человек, если он дал слово воевать, то окопов не покинет, будет драться до конца. Войны он не боится.
— Это смотря какой русский и какая война, — вставил Владимир Ильич. — Да-с! Ну, скажите, зачем понадобились в этой войне русскому крестьянину Сирия, Месопотамия, Константинополь? Почему он должен стрелять в немецкого крестьянина? Что ему эта война, затеянная царем, даст, кроме нищеты и разорения?..
Солдаты, усевшиеся в других отделениях, невольно стали вслушиваться. Вскоре они сгрудились около купе, даже встали на лавки, чтобы лучше видеть человека, так необычно рассуждавшего о войне.
На мосту через реку Сестру кончилась территория Финляндии. Приближавшаяся станция Белоостров уже была русской, поэтому Ленин и его спутники с волнением смотрели в окна на мелькавшие дома. В сгустившихся сумерках уже зажглись белые, желтые, зеленые и красные огни.
Подходя к вокзалу, паровоз начал давать частые гудки. На перроне почему-то собралось много народу. Но кто эти люди, трудно было разобрать сквозь запотевшие окна.
В Белоострове еще раз пришлось проходить таможенный досмотр… Здесь уже русские пограничники пришли проверять документы.
Когда формальности кончились, Владимир Ильич услышал, как какой-то человек спросил у кондуктора соседнего вагона:
— В каком едет Ленин?
— Кажется, в пятом, — ответил тот.
«Кто бы это мог быть? — недоумевал Ильич. — Кому я потребовался в Белоострове? Одно ясно: спрашивает не конспиратор. Не вздумают ли нас здесь арестовать, чтобы не вызывать шума в Петрограде? А может, репортеры рыщут?»
Он вышел на темную площадку вагона и увидел столпившихся рабочих. Заглядывая в окна, они кого-то ждали.
Владимир Ильич по ступенькам спустился вниз, намереваясь узнать, что здесь происходит. И как только он попал в полосу света, падающего со станционного фонаря, кто-то воскликнул:
— Ленин!
Рослый восторженный усач, подскочив вплотную, крикнул:
— Бери, поднимай на руки!
— Что вы… что вы, товарищи! — отступая, запротестовал Ильич. — Зачем… не нужно этого…
Но его не слушали. Сильные руки подхватили, подняли над толпой и понесли в вокзальный буфет.
В ярко освещенном буфетном зале в первые секунды от волнения и радости никто не мог вымолвить слова. Первым пришел в себя Владимир Ильич. Узнав, что его встречают питерцы и оружейники Сестрорецкого завода, он порывисто обнял одного, другого… И начал пожимать руки остальным.
Пожилой рабочий, став на скамью, взмахнул шапкой и заговорил:
— Дорогой товарищ Ленин! Мы приветствуем тебя от мастеровой гвардии и всего рабочего класса! Очень хорошо, что ты вернулся! Мы тебя давно ждем.
Свое короткое приветственное слово оружейник закончил неожиданно:
— Да здравствует вождь рабочих Владимир Ильич Ленин! Ура!
— Ура! — подхватили другие.
— Дорогие товарищи! Я очень рад, что вновь вижу перед собой представителей боевого рабочего класса России! — взволнованно сказал Ленин. — По секрету признаюсь: мы очень томились без вас за границей, завидовали швейцарским социал-демократам, которые ежедневно могли встречаться со своими рабочими. Вы проявили чудеса пролетарского героизма, свергая царскую монархию. Вам неизбежно придется в близком будущем снова проявить свою организованность и отвагу для свержения власти помещиков и капиталистов…
Он заговорил о недоверии Временному правительству, о войне. И тут вдруг в дверях появился обер-кондуктор и зычным голосом сказал:
— Граждане ораторы! Поезд отправляем, ждать больше не будем: и так запаздываем. Прошу по вагонам!
Рабочие гурьбой проводили Владимира Ильича к вагону, подсадили на площадку и, как только поезд тронулся, запели «Интернационал». Гимн подхватили и те, кто был в вагоне. Пели, не стыдясь слез, скатывавшихся по щекам.
Когда Владимир Ильич вернулся в вагон, то увидел, что его купе и соседнее заполнено товарищами, прибывшими из Петрограда. Здесь были и сестра Мария, и Коллонтай, и много старых друзей.
Приметив блеск пенсне Каменева, усевшегося в темный угол, Владимир Ильич некоторое время молча разглядывал его, а затем спросил:
— Лев Борисович, что же это вы в «Правде» печатаете? Странная позиция! Ведь вашими статьями офицеры-оборонцы пользуются. Да, да! С одним из таких мне в пути пришлось разговаривать.
— А разве плохо, если мы и офицеров на свою сторону привлечем? — спросил Каменев.
— Только не тем, чем привлекаете вы, — ответил Ильич. — Мы всегда были противниками империалистической войны и останемся ими.
— Владимир Ильич, вы нападаете на неподготовленного, — попробовал отшутиться Каменев. — Пощадите… Хотя бы сегодня.
— Хорошо, отложим этот разговор, — согласился Ленин и, обратившись к другим, спросил: — Нам грозит опасность? Арестуют в Питере?
Но товарищи лишь загадочно улыбались. Ничего определенного они сказать не могли. Откуда им знать, что задумали министры Временного правительства? Они радовались тому, что видели Ильича здоровым и бодрым.
Поздно вечером поезд подошел к Финляндскому вокзалу в Петрограде. Весь перрон был заполнен встречающими. Посреди двумя шеренгами стояли рабочие с винтовками и матросы в черных бушлатах.
— Неужели почетный караул? — удивился Гриша Усиевич. — Владимир Ильич, выходите первым.
Застегнув пальто на все пуговицы, Ленин вышел на площадку. Стоило ему показаться, как оркестр заиграл «встречу», а матросы взяли винтовки «на караул».
Прямо из вагона Владимир Ильич попал в объятия родных и друзей. Вместе с ними он направился вдоль почетного караула.
Здесь, звонко выкрикнув «смирно», путь ему преградил молодой флотский офицер. Владимир Ильич невольно взял под козырек.
Доложив, что в почетном карауле выстроены матросы Второго Балтийского флотского экипажа, и назвав свою фамилию, начальник караула должен был уступить дорогу, а он вдруг закатил приветственную речь. Чего только не нагородил этот неискушенный в политике восторженный офицерик. Он даже высказал надежду, что Ленин непременно войдет в состав Временного правительства.
После мощного троекратного «ура» матросов Владимира Ильича и его спутников провели в бывшую царскую комнату, где их поджидали официальные представители Петроградского совета.
Здесь посреди раззолоченного зала Владимира Ильича встретил сам председатель исполкома — седобородый меньшевик Чхеидзе. Он поздравил с приездом и тут же покровительственно, с видом ветерана революции, выразил надежду, что Ленин учтет обстановку и… ради сплочения сил будет благоразумен…
Владимир Ильич, насмешливо сузив глаза, несколько минут слушал менторские поучения, затем, воспользовавшись моментом, когда Чхеидзе, задохнувшись, сделал паузу, шагнул к группе рабочих, стоявших тут же, и сказал:
— Дорогие товарищи, я счастлив приветствовать в вашем лице передовой отряд всемирной пролетарской армии…
Пожав нескольким рабочим руки, он направился мимо растерявшихся меньшевиков к выходу.
Привокзальная площадь и прилегающие улицы были заполнены народом. В колеблющемся свете факелов и прожекторов виднелись красные знамена. Со всех сторон опять послышались крики «ура». Десятки рук подхватили Ильича и помогли ему подняться на броневик.
Стоя на скользкой броне автомобиля, Владимир Ильич поднял руку, прося тишины. Но разве утихомиришь такую уйму народа?
Прожекторы, полоснув снопами света небо, осветили Ильича с ног до головы. С броневика он говорил недолго и закончил речь призывом:
— Да здравствует социалистическая революция!
Матросы помогли Ленину спуститься на землю и усадили в броневик рядом с шофером.
Машина малой скоростью двинулась по узкому проходу, образованному цепями солдат и матросов.
Багрово-красные языки чадящих факелов, трепещущий и тревожный свет прожекторов, то скользивших в высоте по облакам, то по загоравшимся стеклам каменных домов, то по движущимся толпам народа, волновали своей грандиозностью и какой-то торжественной необычайностью.
— Смотрите, товарищ Ленин, как вас уважают… Сколько народу пришло! — сказал потрясенный солдат-шофер.
— Я сам поражен, — признался Ильич смущенно, — ждал совсем иной встречи. И вдруг — такое…
По пути то и дело приходилось притормаживать ход, чтобы не задавить кого-нибудь. Порой броневик попадал в такой густой людской поток, что совсем останавливался. Тогда Владимир Ильич выступал с броневика, как с подвижной трибуны, стоя на подножке и держась за открытую дверцу.
Машина с трудом пробиралась среди ликующих демонстрантов, пришедших со всех сторон, окраин — недр питерского пролетариата — встретить своего вождя. Короткий путь с Выборгской стороны на Петроградскую занял более часа.
В ярко освещенном мраморном особняке любовницы царя — балерины Кшесинской, захваченном после Февральской революции большевиками, в честь прибывших устроили… не банкет, нет, а самое обыкновенное чаепитие.
В большом зале второго этажа на столах стояли самовары, фаянсовые чайники с заваркой, подносы со стаканами и блюдечками. В вазочках виднелись монпансье и мелко наколотый сахар.
Горячий чай был очень кстати. Владимир Ильич, почти потерявший голос на уличных выступлениях с броневика, озябшими руками взял наполненный стакан и, согревая пальцы, с наслаждением отпивал крепкий чай маленькими глотками.
Подходившие к особняку демонстранты останавливались под балконом и требовали речей. Чтобы дать Ленину хоть немного отдохнуть, на балкон стали выпускать питерских ораторов.
Владимир Ильич сел поближе к открытым дверям балкона. Ему хотелось послушать, о чем говорят товарищи с народом.
Вскоре на площади перед балконом остановились матросы. На второй этаж поднялся их руководитель — черноглазый, чубатый юноша в студенческой шинели — Семен Рошаль.
— Владимир Ильич, мы к вам… Скажите хоть несколько слов, — стал просить он. — Ведь матросы, чтобы увидеть вас, прошли из Кронштадта по талому льду. Поэтому и запоздали.
Пришлось выйти с Рошалем на балкон и приветствовать моряков.
— Матросы, товарищи, я еще не знаю, верите ли вы посулам Временного правительства, — сказал Владимир Ильич, — но твердо убежден, что когда вас успокаивают обещаниями, то обманывают, как обманывают весь русский народ. Вам нужен мир, хлеб, земля, а предлагают войну и на земле оставляют помещиков… Матросы, боритесь за революцию, боритесь до конца, до победы пролетариата. Да здравствует всемирная социалистическая революция!
Матросы ответили восторженным «ура» и бурей аплодисментов.
— Вот это разговор! — слышалось снизу. — Да здравствует Ленин!
И вновь все покрыло дружное «ура».
Когда матросы покинули площадь, Владимира Ильича пригласили спуститься вниз.
В первом этаже особняка находилась фешенебельная гостиная балерины с примыкавшим к ней зимним садом. В этом просторном помещении обычно проводились деловые заседания, но в эту ночь представители районов устроили в гостиной чествование Ильича.
Ораторы, возбужденные необычной встречей, подбирали для Ильича самые душевные слова. Тот их слушал сперва с улыбкой смущения. Постепенно улыбка угасала, на лице появилось выражение нетерпения и протеста. Владимир Ильич не любил лести и громких слов. Наконец он не выдержал и напомнил:
— Товарищи, ей-ей больше невозможно! Уже поздний час, а мы еще не поговорили о деле, а все поздравляем друг друга с революцией.
Все притихли, ловя каждое его слово. Это была продуманная, научно обоснованная программа действий коммунистов, отвергающая многое из того, что еще вчера считалось политикой партии. Неужели окончилось время шатаний и разноголосицы? Да, да, надо делать выбор: либо соглашаться с Лениным и действовать по-новому, либо отвергать предлагаемое и откатываться к меньшевикам.
На многих выступление Ильича произвело ошеломляющее впечатление, и в то же время у них осталось ощущение, что высказаны их собственные, самые смелые чаяния, ради которых следовало бороться.
Когда участники собрания под утро вышли из душного помещения в парк, то холодный воздух показался необыкновенно чистым и бодрящим. Многие решили идти домой пешком.
У цирка «Модерн» Усиевичи увидели на стене и щите одинаковые плакаты. Крупными буквами было написано: «Ленина и компанию — обратно в Германию».
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
Из особняка Кшесинской, вместе с мужем сестры Анны — Марком Тимофеевичем Елизаровым, Владимир Ильич поехал на Широкую улицу. Там ему и Надежде Константиновне была приготовлена отдельная комната.
Спать легли сразу. Но сон был непродолжительным, каких-то три-четыре часа. Все же Владимир Ильич чувствовал себя отдохнувшим и бодрым.
Еще лежа в постели, он подумал, что начинающийся день будет нелегким. Многое нужно сделать сегодня в Петрограде. Но куда же сначала? Первым долгом, конечно, на могилу матери, и лишь после — все остальное. Пешком — уйдет уйма времени. Надо позвонить Бончам, они обещали легковую машину.
Одевшись, Владимир Ильич позвонил по телефону Владимиру Дмитриевичу Бонч-Бруевичу. Тот, оказывается, уже сам собрался выехать к нему.
— Поспешите с завтраком, — попросил он. — К двенадцати нас ждут в Таврическом дворце. Времени в обрез.
Не успели обитатели елизаровской квартиры позавтракать, как к ним заглянул старший дворник. Потребовав паспорта, он уселся за стол и, раскрыв домовую книгу, стал записывать имена новых жильцов. Дойдя до графы «Род занятий», дворник поинтересовался:
— На какие доходы будете жить?
— А действительно, на какие? — обратился Владимир Ильич к жене.
— Думаю… на литературные гонорары, — ответила Надежда Константиновна.
— А чего такое «гонорары»? — не понял дворник.
— А как у вас обычно пишут? — стал допытываться Владимир Ильич.
— Ну как? Обнакновенно… с доходов по торговой части альбо по чиновной, а то — с капиталу.
— О! Последнее, кажется, больше всего нам подходит! — воскликнул Владимир Ильич.
Надежда Константиновна заметила, как в его глазах сверкнули озорные огоньки.
— «Занимается капиталом» — лучше не скажешь. Так и запишите, — предложил он дворнику.
Тот своим корявым почерком не спеша вывел на странице домовой книги только одно слово «капиталом», затем рядом вписал, откуда прибыли новые жильцы, и, получив с них рубль, ушел.
Вскоре на тарахтящем автомобиле к дому подкатил издатель партийной литературы Бонч-Бруевич.
Владимир Дмитриевич был давним другом семьи Ульяновых. Он знал, где похоронена Мария Александровна, и взялся проводить Владимира Ильича и Надежду Константиновну к могиле.
По пути он им рассказал, как восьмидесятилетняя Мария Александровна во время войны тревожилась за своих детей.
В последний раз она позвонила ему по телефону и с горестью сказала: «Пропала Маня, не знаю, как ее разыскать». А Владимир Дмитриевич только что получил от жены из фронтового госпиталя письмо, в котором та сообщала, что видела Марию Ильиничну. «Это вы, наверное, чтобы успокоить меня, — не поверила старушка. — От Мани давно нет вестей». Пришлось поехать к ней, показать письмо и почтовые штемпеля. Только после этого Мария Александровна успокоилась и призналась: «Мне во сне померещилось, что с ней беда. Простите старую».
— Умерла она на руках Анны. Прощаться пришло немного народу. Гроб с ее телом был таким легким, что мы вместе с Марком Тимофеевичем вдвоем подняли его и без всякого напряжения донесли до могилы, — сказал Бонч-Бруевич.
Волково кладбище было засыпано снегом. По узкой тропинке Владимир Дмитриевич провел их к двум белым холмикам. Здесь в промерзшей земле лежали мать и сестра Ольга, умершая более двадцати пяти лет назад.
Средняя сестра в детстве была наиболее близкой ему. Они вместе ходили в компанию ровесников, вместе готовили уроки, имели свои секреты и никогда не подводили друг друга.
Владимир Ильич обнажил голову и, как-то сгорбившись, застыл у дорогих ему могил.
На кладбище шум большого города почти не доносился, слышалось лишь громкое чириканье воробьев, возбужденных весенней капелью и теплым ветром.
Таким сутулым и скорбным Надежда Константиновна еще не видела мужа. Стоя позади него, она вдруг вспомнила, как он любил свою мать. Только в письмах к ней Владимир Ильич позволял себе ласковые слова: «Милая мамочка», «Целую тебя крепко, моя дорогая». Другим он никогда так не писал, только ей, матери!
По-иному к Марии Александровне и нельзя было относиться. Сколько горя она вынесла за долгую жизнь!
Мария Александровна рано потеряла мужа. Ей одной нужно было вырастить шестерых детей. Едва она оправилась после похорон, как обрушилась новая беда: в Петербурге был арестован старший сын Александр, готовивший покушение на царя. Она поехала выручать его, но… добилась лишь свидания в тюрьме.
Третий удар — смерть от тифа дочери Ольги. Она была одаренной девочкой. Могла многого добиться и в науке, и в музыке, но не доучилась — умерла студенткой.
Удар за ударом все чаще и чаще обрушивались на нее: то арест Ани, то Володи, то Маняши, то Дмитрия. Она понимала своих детей, сильно страдала, но никогда не останавливала их.
В самые трудные дни Мария Александровна старалась быть ближе к тому из детей, кому в данный момент было хуже, чем другим.
И вот ее нет в живых. Ильич не смог ни проститься, ни проводить в последний путь.
Надежда Константиновна вспомнила свою мать, такую же самоотверженную. Без колебания она поехала с нею в ссылку в гиблые места — в далекое село Шушенское. Какой это был трудный и мучительный путь!
Мать всюду скиталась с ними, безропотно переживала нужду и всякие невзгоды. А год назад она также неожиданно угасла на чужой швейцарской земле.
«Бедные наши матери!» — думала Надежда Константиновна, и слезы текли по ее щекам.
Владимир Ильич постоял еще некоторое время, затем, не говоря ни слова, натянул на голову кепку и, повернувшись, зашагал по тропинке к выходу. Надежда Константиновна и Владимир Дмитриевич поспешили за ним.
Воробьи, поднявшие неистовый щебет, прыгали почти у ног на подтаявшей дорожке. Солнце уже светило по-весеннему.
В Таврический дворец, где еще недавно заседала Дума, съезжались делегаты на Всероссийское совещание Советов.
Для фракции большевиков в Таврическом дворце было отведено с думских времен самое неудобное помещение — буфет на хорах. Сюда в это утро поднимались приезжие и питерские большевики.
Владимир Ильич приехал с запозданием. Поздоровавшись со всеми, он вытащил из кармана несколько листков и стал читать и разъяснять пункт за пунктом свои апрельские тезисы.
Некоторых делегатов тезисы смутили, не слишком ли все обострил Ленин? Не рано ли говорить о социалистической революции? Но многие радовались: наконец-то у большевиков появилась новая, ясная программа действий! Давно пора кончать с разноголосицей. «Ура» Ленину!
Бурная овация в буфетной разожгла любопытство меньшевиков, собиравшихся внизу. Некоторые из них поднялись наверх и, узнав, что происходит, стали требовать, чтобы Ленин, если ему, конечно, нечего скрывать, прочитал свои тезисы в общем зале.
Владимир Ильич охотно согласился. Пусть не все в зале станут его сторонниками, на это сейчас нельзя и рассчитывать, но то, что он предложит, многим будет по душе. Солдаты рады вернуться к своим семьям, крестьяне— получить землю, рабочие — фабрики и заводы, а все вместе — Советскую власть, чтобы жить по-человечески. И они разнесут по всей России суть большевистской программы.
В большой зал Таврического дворца набилось много народу. Владимир Ильич поднялся на трибуну и стал говорить очень спокойно. Меньшевики, усевшиеся в первых рядах, пытались сбить его насмешливыми репликами, но Владимир Ильич не обращал на них внимания.
Шум все же мешал сидящим в задних рядах, они стали требовать:
— Перестаньте изощряться… Дайте послушать!
Делегаты, прибывшие с дальних окраин, жадно ловили слова Ленина. Все что он говорил, кровно трогало каждого, а особенно солдат. Какой-то взвинченный фронтовик, не поняв, почему нужно брататься с немцами, вдруг завопил: «Стой!» Вскочил с места и подошел ближе к трибуне.
— Не позволим! Я тебе дам брататься! — закричал он, грозясь кулаком. — Ты, видно, крови не проливал, а я два раза по госпиталям до пролежней мучился. Вовек немцу не прощу. А он — брататься. За что тогда мы столько лет вшей в окопах кормили, жен и детей не видели, если не сможем отомстить?..
— Говори — за что? — понеслось с разных сторон.
Председательствующий принялся звонить, требуя, чтобы фронтовик вернулся на место.
Когда зал несколько утих, Владимир Ильич сказал, что он очень понимает солдата, хотя тот и накричал на него, и очень сочувствует его друзьям фронтовикам. Действительно, как здесь не закричишь, когда все страдания были напрасны! От этой мысли с ума сойдешь. Солдатам все время внушали, что они воюют за народ и отечество. А на самом-то деле их подло обманули. Солдаты сражаются и гибнут за чуждые им интересы. Какая корысть русскому рабочему или крестьянину от того, что главный враг его капиталист, выиграв войну, сможет угнетать не только его, а еще трудящегося другой страны? И мстить простому немцу не за что. Он так же подло обманут. Вот в чем трагедия нашего времени!
Потом Владимир Ильич стал объяснять, почему нельзя поддерживать Временное правительство. Меньшевики принялись выкрикивать:
— Это самое демократическое правительство в России!
— Мы на него влияем, значит, мы пособники империалистов?
— Да, весьма старательные и покладистые! — вдруг ответил Ленин.
Это вызвало в левой стороне бурные аплодисменты, а в середине зала — вопли негодования. Несколько минут зал не мог утихомириться.
Владимир Ильич спокойно смотрел на беснующихся. Протесты меньшевиков его не волновали, он собирался нанести еще более сокрушительные удары, а это следовало делать хладнокровно и расчетливо.
Его прерывали несколько раз, но наивысшего накала шум в зале достиг, когда он заговорил о том, что для большевиков наступило время переменить старое название партии, так как западноевропейские социал-демократы, да и свои, русские, опозорили и загрязнили его соглашательством и подлой изменой социализму.
— Пора сбросить грязное белье социал-демократов. Мы назовем свою партию коммунистической. Это название наиболее полно выразит наши конечные стремления.
В зале словно взорвалось несколько бомб. Первая разворотила середину: меньшевики, неистово вопя, принялись свистеть, грохотать откидными краями столиков. Вторая всколыхнула левую сторону: большевики поднялись с мест и устроили овацию Ильичу. Третья не оставила безучастными остальных слушателей: беспартийные и эсеры на разные голоса выражали либо возмущение, либо восторги.
ПРОТИВНИКИ ПУСКАЮТ В ХОД КЛЕВЕТУ
Буржуазные газеты вышли со статьями, в которых на разные лады высказывалось недоумение: почему-де Петроградский совет устроил пышную встречу Ленину?
— А действительно, по какой причине была устроена столь помпезная встреча? — допытывались и меньшевики у Чхеидзе.
Обозленный предисполкома вызвал Ленина на заседание для объяснений и умышленно продержал его в комнате ожидания почти три часа. Этим Чхеидзе давал понять, что с радушием и приветственными речами покончено, что к скандалистам теперь отнесутся со всей строгостью. Довольно церемониться!
По последнему вопросу повестки дня он выпустил интернационалиста Зурабова с сообщением «О положении швейцарской эмиграции», полагая, что рядом с людьми, стремящимися попасть на родину законным путем, Ленин будет выглядеть неприглядно. Но получилось не так, как хотелось предисполкома. Рассказав о бедственном положении русских в Швейцарии, Зурабов стал с возмущением говорить о том, что революционеров пропускают в Россию по старым спискам посольства, составленным охранкой и жандармами Антанты, что на телеграфные просьбы ни Керенский, ни Чхеидзе не откликнулись, что сам он приехал только потому, что смилостивился Милюков.
— А это безобразие, — заключил Зурабов. — Нам не к лицу выпрашивать визы у политических противников. Мои товарищи, оставшиеся в Швейцарии, настаивают, чтобы Петросовет оказал давление на Временное правительство и заставил его повести переговоры о пропуске всех эмигрантов через Германию, в обмен на пленных.
После такого выступления нетрудно было объяснить, почему большевики были вынуждены пойти на риск и приехать через Германию.
Тут Чхеидзе прищлось оправдываться и объяснять, с какими трудностями встретился исполком.
Побывав в редакции «Правды» на Мойке, Владимир Ильич понял, что он зря спешил отсылать из Швейцарии «Письма из далека». Напечатано было только одно из них, и то в урезанном виде: сократили критику Временного правительства.
И «Апрельские тезисы» редакторы «Правды» соглашались напечатать лишь с оговоркой, что они выражают личное мнение Ленина.
Владимиру Ильичу пришлось написать коротенькое вступление и сделать полемическую концовку.
Статья была опубликована под заголовком «Задачи пролетариата в данной революции».
На следующий день в той же «Правде» появилась заметка, в которой Каменев, как бы защищая Бюро Центрального Комитета, выступил против «личного мнения тов. Ленина» и заявил от имени ответственных руководителей, что они будут оберегать партию «как от разлагающего влияния «революционного оборончества», так и от критики тов. Ленина».
«Что касается общей схемы т. Ленина, — писал Каменев, — то она представляется нам неприемлемой, поскольку она исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитана на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую».
Цель статейки нетрудно было разгадать: Каменев успокаивал не только своих сторонников, а и либералов, пришедших к власти.
Но кого из них могли обнадежить его заверения? Наиболее умные и дальновидные лидеры буржуазных партий с первых же дней поняли: Ленин для них — смертельно опасный враг. Он не меняет взглядов, не идет на компромиссы. Его высказывания скоро станут программой и тактикой большевиков. Ленина во что бы то ни стало надо убрать. Но как? Подкупить его невозможно, значит, придется нейтрализовать, не стесняясь в средствах. Наибольшую ярость у солдат и доверчивых обывателей, конечно, вызовет обвинение в шпионаже. Почему бы не пустить подобный слух? Даже если в это не поверят, то все равно червь сомнения вползет в души и прежнего доверия уже не будет. Выдумывай и клевещи, что-нибудь да прилипнет!
Кампания лжи началась с намеков. Не только бульварные, но и солидные газеты то в статье, то в фельетоне или заметке, как бы недоумевая, спрашивали: почему ходят слухи, что Ленин — немецкий агент? Не следует ли проверить: по какой же причине он приехал из Германии в запломбированном вагоне? Правда ли, что вождь большевиков привез много денег? Для каких подкупов они предназначены?
Начав травлю, репортеры как бы забыли о других тридцати участниках поездки через Германию. На рынках, на вокзалах, в очередях у хлебопекарен стали появляться какие-то типы в потрепанных военных шинелях. Выдавая себя за инвалидов войны, они всюду нашептывали, что столица наводнена шпионами, что их посылают из Германии в запломбированных вагонах.
— Братцы, да сколько можно терпеть? — собрав вокруг себя толпу, начинали взывать они. — Немцам все это на руку, а мы молчим. Неужто не найдется русского человека, который бросит бомбу в шпионское гнездо на Каменноостровском проспекте? Люди православные, спасайте Россию, пока не поздно!
Черносотенцы, расписывая в своих газетах эти «стихийно» возникшие митинги «православных людей», повторяли гнусные измышления.
А газеты так называемых социалистических партий умышленно отмалчивались. Пусть-де большевики сами отбиваются от клеветников.
— Посеяв ветер, они пожнут бурю, — говорили меньшевики.
Бонч-Бруевича, работавшего в редакции «Известий Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов», возмутили гнусные измышления. В ночное дежурство он написал статью против бесчестных распространителей отвратительной лжи и погромщиков, призывающих арестовать и убить Ленина, и на свой риск напечатал ее в «Известиях» без подписи.
На другой день, как только в Таврический дворец пришли газеты, почти поминутно из исполкома стали раздаваться телефонные звонки в редакцию. Грозные голоса спрашивали:
— Почему газета выступила в защиту Ленина? С кем статья согласована? Кто автор? Ах, Бонч-Бруевич! Тогда понятно! Он давно работает на большевиков.
Бонч-Бруевича вызвали на заседание исполкома и после допроса отстранили от работы в «Известиях».
Владимир Ильич мог рассчитывать только на большевистские газеты, но их было мало. К тому же некоторые правдисты настаивали на дискуссии, когда необходима была единая воля и единая тактика в быстро меняющейся и сложной обстановке.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПРИШЛА ВЕСНА
Весной в Петрограде пахнуло только лишь в конце апреля. По вздувшейся Неве прошел первый, слежавшийся за долгую зиму, закопченный и захламленный свалками лед. Очистившись, река как бы стала шире и величественней. Но ее воды текли холодно и строго. Для Невы еще не наступила весна.
Жители города продолжали протапливать печи в домах и ходить в зимней одежде.
Нева, в отличие от многих рек, имеет не один, а два ледохода. В начале весны она сбрасывает свой лед, а недели через две-три, в ярких лучах почти летнего солнца, гонит по синеве вод вереницы белоснежных и хрустальных льдин, плывущих с просторов Ладожского озера.
В такие дни многие петроградцы стекаются к гранитным берегам реки, смотрят на торжественный ледоход и радуются:
- Скоро наступит лето!
Прошедшая зима была снежной. Жители подвалов не зря опасались весны, она принесла им новые бедствия: грунтовые воды пробивались сквозь полы и стены, заливали жилища.
В комнате, где жила Катя Алешина, вода сперва, как слезы, скатывалась с потемневшей от сырости нижней части стены, потом стала пробиваться сквозь щели в полу. Пришлось принести кирпичей и на них уложить несколько досок. Но к вечеру и доски шаткого настила, прогибаясь, стали шлепать по ледяной воде, залившей весь пол.
Утром Катя почувствовала острую боль в горле. Казалось, что там застрял осколок стекла. Она попыталась встать, но от головокружения и слабости опять опустилась на постель.
«Заболела, — поняла девушка. — Вот не вовремя!»
Мать и бабушка тоже с трудом поднялись, им обеим нездоровилось.
— Хоть бы печку протопить, — сказала бабушка, — все в комнате дух другой будет. Пойду на свалку, может, щепок каких наберу...
Охая, она начала одеваться.
— Ты что лежишь? — спросила мать Катю. — Разве сегодня тебе во вторую смену?
— Нет, в первую… горло очень болит.
Мать прикоснулась ладонью к Катиному лбу и всполошилась:
— Да у тебя жар! Доктора надо позвать. Где только денег возьмем? Вот напасть, одно к одному.
А через несколько минут и в соседней комнате, где жил водопроводчик, послышались испуганные возгласы и детский плач.
— Сходи, Луша, узнай, что там стряслось, — попросила бабушка и, прислушиваясь к нараставшему плачу за стеной, еще больше встревожилась: — Никак, Семен кончается…
Она поспешила к соседям.
Вскоре голоса за стеной и плач утихли, только доносилось какое-то непонятное хрипение.
Бабушка вернулась в комнату с ребятишками водопроводчика: шестилетней Ксюшей и четырехлетним Сашей.
— Пусть посидят на моей постели, — сказала она. — Не годится смотреть на такое… Худо с Семеном, кровь горлом пошла. Всю подушку залил. Придется для вас обоих доктора звать.
Старуха решительно выдвинула верхние ящики комода и начала рыться в них. Катя видела, как она достала кусок холста и свою черную кружевную шаль, которую очень берегла.
— На рынок понесу, — сказала бабушка. — Больше продавать нечего.
Уходя, она приказала Катиной матери прибраться и сбегать за доктором.
Мать заправила постели и попробовала ковшиком вычерпать воду, накопившуюся за ночь, но вода почти не убывала. Пришлось бросить это занятие и пойти за врачом.
Катя осталась с ребятишками. Исхудалые и заплаканные, они сидели на бабушкиной постели, как нахохлившиеся воробьи, и настороженно прислушивались к хрипению отца за стеной.
— Чего это так он: «Хррр… хррр»? — спросил мальчик.
— Горлом хырчит, — ответила девочка. — У него чахотка. От нее все помирают.
— А я не помру, — сказал мальчик. — Я поеду летом в деревню. Там в лесу птички поют и коровушки ходят… они молоко приносят.
— Туда надо на паровике ехать, — заметила девочка, — а у нас денег нет.
Мать пришла с доктором — невысоким, седеньким старичком, у которого бородка была почти лимонного цвета. Он осмотрел Катино горло, долго водил холодной трубкой по груди и спине, вслушиваясь в дыхание, а потом сказал:
— Н-да, горло и легкие мне не нравятся. Вам обязательно надо переменить жилье. Лучше всего, конечно, за город, в сосновый бор…
Доктор выписал микстуру, порошки, полоскание для горла и, передавая рецепты, порекомендовал:
— Питайтесь получше. И лимон бы хорошо достать… его сок прекрасно очищает горло. А детей уберите отсюда. Ангина заразная болезнь.
У водопроводчика доктор пробыл недолго. Катя слышала, как он соседке сказал:
— Скоротечная чахотка. Надо бы в больницу отправить, но боюсь — не примут. Готовьтесь ко всему…
Тетя Феня забежала к Алешиным узнать, почему Катя не явилась на завод. Видя, в каком бедственном положении находятся жители подвала, она сказала:
— Сейчас же одевайтесь, и пойдем в исполком. Не уйдем от председателя, пока новой квартиры не даст. Правда, лучше было бы иметь что-либо на примете. В вашем доме есть пустующие квартиры? — спросила она у дворничихи.
— На пятом этаже вроде бы две комнаты освободились, — стала вспоминать она. — Да вот в приставской никто не живет. Как заваруха началась, так он ночью вместе со своей рыжей крикуньей удрал. Запасной ключ от его квартиры у хозяина дома.
— Какой это пристав? Урсаков? — поинтересовалась тетя Феня. И, узнав, что это действительно он, решительно заявила: — Собака из собак. Он теперь и носа сюда не сунет, знает, что ему голову оторвут. Пошли в исполком, я им сейчас скажу все, что думаю. Люди помирают в затопленном подвале, а рядом сухие квартиры пустуют. Безобразие!
В исполком с ней пошли бабушка и жена водопроводчика. Получив ордер на квартиру, они в тот же вечер явились к хозяину дома — краснощекому и тучному торговцу скобяными изделиями. Взглянув на ордер, домовладелец обозлился и наотрез отказался выдать ключи.
— Для меня ваш исполком не указ, — сказал он. — Ишь чего вздумали: в самую дорогую квартиру! А кто за вас платить будет? Исполком, что ли? Даже если и заплатите, не пущу. Вы за неделю изгадите.
— Лучше добровольно впустите, а то сами откроем, — предупредила тетя Феня.
— Попробуйте только! За разбой — я вас в суд, — пригрозил домовладелец.
Его решительность испугала женщин. Катина мать сразу пошла на попятную.
— Ну его, брюхатого, к лешему, — сказала она. — С ним лучше не связываться. Он нам потом и в подвале не даст жить.
— Может, попросим комнатенку наверху? — предложила жена водопроводчика. — Нам бы только ребят в сухое место, а сами мы тут как-нибудь. Все равно стирать придется, не с голоду же подыхать.
— Эх вы, рабское племя! — обозлилась на них тетя Феня. — Привыкли пресмыкаться перед толстосумом. Я бы нарочно в лучшей квартире жила. Не обеднеет он от этого. Сколько ваших родичей на него работало? Пусть теперь расплачивается.
Но женщины все же не решились наперекор хозяину переехать в пустую квартиру.
Первомайский день выдался сухим, ясным и солнечным, а в подвале вода не убывала.
Катя попросила открыть форточку и лежа вслушивалась в то, что творится на улице. Когда издалека стали доноситься песни, неясный гомон большой толпы и музыка, девушка попыталась встать. Но от резкого движения в глазах у нее потемнело и от слабости подкосились ноги. Пришлось опять лечь и укрыться одеялом.
Под вечер в окно кто-то постучал. Прислушавшись к голосам за окном, Катя поняла, что пришли ребята с Наташей. Она позвала мать и попросила:
— Скажи им: ко мне нельзя… болезнь заразная.
Девушке не хотелось, чтобы Вася Кокорев увидел ее такой беспомощной, да еще в этой полутемной, нищенской комнате, залитой водой. Но ни подругу, ни юношей разговоры о заразной болезни не запугали, они все спустились в подвал, положили на табуретку у изголовья букетик подснежников и кулек яблок.
— Ух, какая тут сырость! — заметила Наташа. — В этой холодине ты никогда не поправишься. Надо обязательно переменить комнату.
— Я бы рада, да вот наши боятся.
И Катя рассказала о полученном ордере.
— Если твои родичи не желают переезжать, — сказала Наташа, — так мы без них тебя переселим. Правда, ребята?
— Правда, — ответили юноши.
Они попросили собрать все старые ключи, какие были в доме, взяли из ящика водопроводчика молоток, долото, напильник и пошли с малолетней Ксюшей на второй этаж.
У дверей приставской квартиры путиловцы стали примерять все принесенные ключи. Один из них им показался подходящим. Они слегка подпилили его бородку, вставили в замочную скважину… и ключ легко повернулся.
— И взламывать не надо, — обрадовался Кокорев. — Сбегай, Ксюша, за своими.
На второй этаж пришли бабушка, дворничиха и Наташа. Включив электрический свет, они начали осматривать комнаты.
Квартира была большой и хорошо обставленной. В приставском кабинете на стене висел ковер, увешанный охотничьими ружьями и кинжалами. На полу у оттоманки лежала лохматая медвежья шкура, а на столе стоял бронзовый рыцарь, державший в руке высоко поднятую лампу.
— Вот бы нам, Вася, с тобой такую комнату! — сказал Дема. — Никакой хозяин отсюда бы не выгнал. Жаль только, что далеко на работу ходить.
— А мы давай на какой-нибудь ближний завод поступим, — в шутку предложил Кокорев.
В спальне стояли две широкие кровати, застланные кружевными покрывалами. На полу лежали цветные коврики и виднелись ночные туфли, обшитые белым мехом. Туалетный столик, с большим круглым зеркалом, был уставлен флаконами, баночками, пудреницами.
— Отсюда надо одну кровать убрать и поселить Катю, — сказала Наташа.
— Зачем? — возразил Кокорев. — В той комнате, где ружья висят, ей будет лучше. А этот столик мы перенесем туда со всеми флаконами и баночками.
— Нет уж, — замахала руками бабушка, — никаких вещей не трогать. И Кате скажу, чтоб не касалась.
Боясь запачкать натертый воском паркетный пол, она ходила по комнатам без обуви, в одних шерстяных чулках.
Увидев в столовой картины в позолоченных рамах и буфет, наполненный посудой, хрустальными бокалами и графинами, бабушка твердо сказала:
— Вот сюда надо сносить всю мебель и дверь гвоздем заколотить. А то, не дай бог, ребятишки что-нибудь разобьют, не откупишься тогда. Я бы поселилась только в кухне да в первой комнате. Тут и прихожая сухая, два топчана поставить можно…
— Зачем же вам жаться? — стала возражать Наташа. — Вы же разрешение имеете на все комнаты.
— Иметь-то имеем, а все же боязно. Да и не привыкли мы жить в таких хоромах.
В приставской квартире было довольно холодно.
— Надо хоть печку затопить, — сказала Наташа. — Идите, ребята, дрова искать, а мы пока начнем переселение.
Дворничиха свела парней в сарай пристава. Там они накололи дров и принесли на второй этаж две большие вязанки.
Вскоре в плите и печке запылал огонь.
В разгар переселения появилась тетя Феня.
— Хвалю молодежь за решительность, — сказала она. — А то с этими старыми поломойками да дворничихами каши не сваришь. Легче царя свергнуть, чем рабство вытряхнуть из их души. А вот хлам свой зря вы сюда перетаскиваете. Все равно ответ один — пользуйтесь тем, что осталось. А свое барахло в подвале оставьте.
Наташа застелила в кабинете оттоманку и уложила на нее перебравшуюся наверх Катю.
Ребятишки уселись вокруг печки у весело потрескивающего огня.
Тетя Феня, обследуя квартиру, обнаружила в кладовой запасы муки, крупы, картофеля, яиц, сахару и консервов.
— Приставу все это даром досталось, — сказала она. — Ему спекулянты натаскали. Давайте устроим себе праздник по случаю Первого мая и новоселья.
И тетя Феня начала распоряжаться. Она заставила женщин начистить картошки, испечь дрочену и разогреть мясные консервы.
Наташа пошла за посудой в столовую, в буфете она нашла красное вино и настойки в графинах.
Женщины хотели ужинать на кухне, но молодежь запротестовала: гулять так гулять! Чтобы не было скучно Кате, ребята с Наташей перенесли в кабинет стол, стулья и устроили пир. Даже больная выпила с ними большую кружку вина.
Когда пробило двенадцать часов, гости стали собираться домой. Прощаясь с Катей, Вася негромко сказал:
— Я завтра приду проведать, можно?
Катя в знак согласия опустила веки. Она все это время скучала без него.
В эти же дни и Аверкин переехал на новую квартиру. Не успел он расположиться, как к нему явился старший дворник и поинтересовался: почему он не на военной службе?
— От армии освобожден.
— По какой причине?
Попробуй скажи теперь кому-нибудь, что ты служил в царской охранке, мигом донесет.
— По болезни, — ответил Виталий.
— А что у вас? — спросил старший дворник, с явным подозрением оглядывая долговязого жильца.
— С глазами неладно, — солгал Виталий, — плохо вижу.
— А у других глаза вострые, — с какой-то хитроватой ухмылкой сказал дворник. — Их не обманешь, все разглядят. Дотошный пошел народ.
Он явно подозревал Виталия в дезертирстве.
Сунув дворнику пятирублевую бумажку и видя, что тот, взяв ее, избегает встретиться с ним взглядом, Аверкин встревожился: «Донесет, гадина».
Несмотря на запрет, он поехал к брату. Всеволод, как и нужно было ожидать, встретил его упреком:
— Мы же договорились: без вызова не приходить.
— Я бы не приехал, но так получилось, что меня могут заподозрить в дезертирстве.
Рассказав о приходе старшего дворника, Виталий спросил:
— Мог я ему сообщить, что работал в охранке?
— Ни в коем случае.
— Так как мне быть? Меня же…
— Подожди, — перебил его брат. — Дай сообразить. Садись сюда.
Всеволод с расстроенным видом заходил по комнате, в досаде теребя мочку правого уха.
— Сделаем так, — наконец сказал он. — Я попытаюсь устроить тебя в контрразведку. Пойдешь?
— Что ж поделаешь, придется, — с унылым видом ответил Виталий.
— Не бойся, на фронт не пошлют. У меня теперь солидные связи. К самому министру — Александру Федоровичу Керенскому — могу обратиться, — не без бахвальства сказал Всеволод. — Я ему оказал кой-какие услуги. Александр Федорович ведь был юрисконсультом торгового дома «К. Шпан и сыновья». А эту фирму не зря подозревали в шпионаже и аферах. В прошлом году Шпаны попались. Я лишь намекнул Керенскому о грозящей ему опасности, и он понял меня с полуслова. Ловчайшего ума человек! Почти сухим выскочил из очень неприятной истории. К счастью, он не забывчив. Меня прочит в товарищи прокурора либо в советники по особо важным делам.
Всеволод, оказалось, не хвастался: через два дня Виталия нарочным вызвали к начальнику контрразведки, зачислили в агенты и оставили в Петрограде до особых распоряжений. Теперь он мог разгуливать в военной форме и без опасений показываться всюду.
«Надо хоть оставшиеся дни развлечься, а то ведь скоро загоняют, — размышлял Виталий, выйдя на Невский. — Но с кем?»
Он знал, что Алешина больна. Неделю назад он заглянул в подвальное окно и решил: «Пока заходить не стоит, пусть нужда покрепче прижмет их». А теперь время пришло и не мешало бы закинуть крючок с приманкой. Алешина, конечно, голодает. Откуда у работницы деньги на болезнь? Надо только сделать поблагородней, мол от неизвестного благодетеля.
Дойдя до Малой Садовой, Аверкин зашел в ресторан Федорова, разделся, сел за столик и, подозвав официанта, с видом богатого человека сказал:
— Э-э… любезнейший, первым делом устрой мне корзиночку навынос: десяток филипповских пирожков, пяток груш, парочку апельсинчиков и сверху — конфет хороших. Потом — посыльного сюда. А заодно, конечно если можно, — коньячку с лимончиком и селяночку сообрази.
Официант, предчувствуя хорошие чаевые, склонил голову и шепотом сказал:
— Спиртное запрещено, но для вас — в наилучшем виде-с. — И семенящей походкой поспешил выполнять заказ.
Аверкин написал на листке адрес Алешиной, закурил и по старой привычке стал прислушиваться, о чем говорят за соседними столиками. Впереди сидело несколько купцов-гостинодворцев. Подливая водку щеголеватому офицеру интендантской службы, они с озабоченными лицами что-то нашептывали ему, а офицер, уже заметно охмелевший, уверял:
— Небеспок! Если Чуйко сказал, значит — отрезано, назад команды не будет.
— И хотелось бы насчет хромового товару… — заискивающе бормотал купец с красной, лоснящейся физиономией.
— А обеспекция? — спросил интендант и, потерев указательным пальцем о большой, не засмеялся, а как-то закудахтал.
— Боже мой, да пренепременно! — воскликнул обрадованный купец и полез в боковой карман.
Аверкин видел, как гостинодворец вытащил пачку кредиток и сунул их под столом интенданту в руку. «Если намекнуть ему, кто я таков, струсит и поделится, — подумал сыщик. — Надо попробовать, авось пройдет». Но в это время перед столиком появился посыльный с красиво упакованной корзинкой.
— Куда прикажете доставить?
— Вот тебе адресок. Свезешь на Выборгскую. Вручишь самой в руки и скажешь: «От вашего тайного друга». Понял? Больше ни слова. «Не знаю, мол, не видел». Но сам все же погляди, как она примет подарок. Вернешься— доложишь мне. На чай — зелененькая.
Когда посыльный ушел, Аверкин, заметив, что интендант прощается с гостинодворцами, поспешил первым выйти из зала.
Дождавшись офицера в коридоре, Аверкин подошел к нему и негромко сказал:
— Разрешите представиться: сотрудник контрразведки. — Фамилию Аверкин произнес невнятно и только мельком показал удостоверение.
Подвыпивший интендант, видимо, мгновенно протрезвел, потому что лицо его сначала сделалось мертвенно бледным, а затем покрылось красными пятнами.
— Чем м-могу служить? — дрогнувшим голосом спросил он и выжидательно уставился на Виталия.
— Отойдем в сторонку, — предложил Аверкин. Он деликатно взял офицера под локоть, отвел в полутемный угол, а затем как бы с укором сказал: — Что же это вы, друг, а?.. Надо бы осторожней. Я ведь могу вас с уликами в штаб отправить. Люди мои здесь. Но ваше счастье — вы мне симпатичны, и я не хотел бы доставлять вам неприятности. Если вы сумеете уделить в долг рубликов триста… Я был бы признателен.
Интендант с готовностью полез в боковой карман френча, вытащил деньги, отсчитал вздрагивающими пальцами триста рублей и молча протянул их.
— Благодарю, — сказал Аверкин, взяв деньги. — Вы здесь часто бываете? При случае постараюсь отдать.
— Не беспокойтесь, я обожду, — вежливо ответил интендант, а недобрый взгляд его как бы говорил: «Знаю, как ты отдашь, шпик проклятый!» При этом он состроил гримасу, похожую на улыбку, щелкнул каблуками и поспешил уйти.
Возвращаясь на свое место, Аверкин был доволен собой. На радостях он выпил большую рюмку коньяку и закусил ломтиком лимона.
Когда Аверкин уже заканчивал обед, появился посыльный, принесший назад корзинку с пирожками и фруктами.
— В чем дело? Не приняла?
— Никак нет, по адресу не застал, — виновато ответил парнишка в форменной фуражке. — Не проживают, говорят.
— Не может этого быть.
— Вот чтоб провалиться… темно там и… дверь заперта.
— Иди за мной.
Бросив на стол несколько кредиток, Аверкин взглянул на часы: было двадцать минут седьмого. Не ожидая официанта, он вышел из зала, оделся, взял извозчика и вместе с посыльным поехал на Выборгскую сторону.
В подвале, где жила Алешина, действительно было темно. Аверкин подергал дверь — она не открылась. «Странно», — подумал он.
— А ну, подожди меня здесь, — приказал Аверкин посыльному, а сам пошел к домовладельцу.
Тучный торговец скобяными товарами запомнил Виталия с первого прихода. Узнав, что сыщик по-прежнему интересуется Алешиной, он начал жаловаться:
— Нахально, без спросу переселились. Теперь от Урсакова житья мне не будет. Не знаю, как выкинуть их, бумажку какую-то от Совета получили. Загадят мне самую лучшую квартиру, Может, в суд на них подать?
— Не спешите, — посоветовал Аверкин, — а то вы кой-кого спугнете. Я сам скажу, когда надо будет тянуть в суд. И сам помогу, свидетелем буду.
Побаиваясь тайной полиции, домовладелец не стал возражать и дал согласие месяца два не тревожить неприятных жильцов.
В ПИТЕР НА РАЗВЕДКУ
Катиного отца, Дмитрия Андреевича Алешина, вместе с товарищами по ссылке в 1916 году взяли на военную службу. Месяца три их учили ходить строем, стрелять из винтовки, колоть штыком, рыть окопы, а затем отправили на Западный фронт.
Война была позиционной, лишь изредка между противниками возникала вялая перестрелка.
Февральская революция почти ничего не изменила в жизни фронтовиков: они лишь помитинговали в землянках, избрали свой полковой комитет и по-прежнему мерзли в окопах.
Солдаты так привыкли к спокойствию на передовой линии, что ходили по ходам сообщения не сгибаясь, а по вечерам ползком добирались к колючим ограждениям и перекликались с немцами:
— Эй, фриц! Что там у вас слышно насчет войны? Скоро кончать будем?
Кто-нибудь из германских солдат, кое-как умевших говорить по-русски, негромко отвечал:
— Иван русиш! Не бойся офицер, довольна война, я воевать не хочет.
Так прошел март, апрель. Уже всюду растаял снег. Солдаты брали с брустверов комки нагретой солнцем земли, растирали их в пальцах и говорили:
— Время самое пахать да сеять.
Теряя терпение, многие из них приставали к членам полкового комитета с вопросами:
— Долго ли мы здесь будем вшей кормить? Когда нас домой отпустят?
А что те могли им ответить? Даже самые грамотные с трудом разбирались в делах, творящихся в стране.
В мае солдат, отошедших в тыл на отдых, неожиданно собрали на митинг. Из армейского комитета приехал агитатор, видимо штабной офицер. Он носил хорошо сшитую шинель без погон и хромовые сапоги, не знавшие окопной грязи.
Агитатор начал свою речь с заискивающей душевностью:
— Я вас очень хорошо понимаю, братцы. Все вы ждете конца войны, мечтаете о доме, о любимых. Но сейчас, к сожалению, нельзя об этом думать. Мы не можем вот так взять да разойтись по городам и селам. Враг вероломен и лют. Германцы ворвутся на русскую землю, затопчут нашу честь и свободу…
Слушая его, солдаты думали: «Верно говорит, войну вроде нельзя кончать». А сердце противилось: «Из-за чего драться-то?» Один из пехотинцев выкрикнул:
— Немецкие солдаты тоже войны не хотят!
— Не верьте обманщикам! Колбасники хитрят, надеются на легковерных простаков, — убежденно ответил агитатор. — К тому же как мы покинем своих братьев союзников — французов и англичан? Русские всегда были верны своему слову. Неужто на этот раз покривим душой и осрамим свой флаг? Да никогда!
— Может быть, понадобится только последнее усилие, — говорил он, — мощный удар с двух сторон — и австро-германские войска будут разбиты. Надо готовиться к летнему наступлению. Только победа принесет мир и счастье.
Солдаты растерянно переглядывались.
— А когда землю делить будут? — спросил один из них.
— Не бойтесь, без вас не разделят. Сейчас не время этим заниматься. Дележка вызовет внутренние распри. А для победы всем сословиям нужно объединиться, а не ссориться.
— Почему же тогда рабочие в столице бастуют? — допытывался другой пехотинец.
— Столичные рабочие развратились за войну, — ответил агитатор. — Они требуют для себя восьмичасового рабочего дня в то время, когда солдаты страдают в окопах двадцать четыре часа! Разве это не безобразие? Им, видите ли, мала оплата, хотя каждый получает за день в несколько раз больше, чем солдат за месяц. А разве солдатский труд легче? Солдат жизнью рискует, кровь проливает! Они там зарвались, ходят по улицам с флагами, бездельничают да слушают немецких шептунов. Если рабочих не обуздать, они предадут, оставят нас без пушек, винтовок, снарядов. Фронтовики должны сказать свое крепкое слово и разоблачить немецких агентов.
Алешин, проталкиваясь к трибуне, выкрикнул:
— Позвольте узнать: а из какого сословия вы сами будете?
— Какое это имеет значение? — желая пристыдить солдата, с укором ответил оратор.
— Имеет, и немалое! — возразил Алешин. Он поднялся на трибуну и, став лицом к штабисту, в упор спросил — Значит, вы не из рабочих и не из крестьян, а из тех, кто привык жить за наш счет?
Агитатор, не предвидевший такого вопроса, сразу не нашелся, что ответить. Не давая ему опомниться, Алешин обратился к солдатам:
— Не верьте болтунам, они нас хотят поссорить с рабочими. Я сам был питерским мастеровым и знаю — рабочий человек не пойдет против свободы. Если питерцы бастуют, значит, припекло. Они не только за себя хлопочут, а и за нас. По-иному рабочий класс никогда не поступал. Кто дал слово союзникам драться до последнего солдата? Царь и министры! Кому они его давали? Французским и английским буржуям! Так мы-то тут при чем?
— А вы газеты читаете? — пытаясь уязвить солдата, спросил штабной агитатор.
— Читаем, — ответил Алешин. — Только не буржуйские, которые вам по душе, а свою «Солдатскую правду». У меня есть предложение: чтобы не было никаких сомнений, выберем нескольких товарищей и пошлем в Питер. Пусть они разведают, так ли все на самом деле, как нам здесь расписывают. Я не доверяю людям в чистых шинелях.
— Верно, своих послать надо! Пусть поглядят и скажут, — поддержали его фронтовики.
— Предлагаю Рыбасова из взвода пулеметчиков! — крикнул кто-то из толпы.
— А почему не самого Алешина? — спросил у собравшихся председатель полкового комитета, открывавший митинг. — Раз он в Питере работал, значит, все ходы-выходы знает. Скорей разнюхать сумеет.
Фронтовики выбрали для поездки в столицу трех человек: Алешина, рябого пулеметчика Кузьму Рыбасова и бывшего таежного охотника Федула Кедрина из взвода разведки.
Получив на неделю сухой паек, делегаты, не мешкая, на двуколке добрались до ближайшей станции.
Товарные и пассажирские поезда шли переполненными. Фронтовики вначале устроились на крыше пульмановского вагона. Только в пути им удалось перебраться на открытую платформу.
Пересаживаясь с одного поезда на другой, они добирались до Петрограда более трех суток. От пыли и паровозной копоти стали похожими на трубочистов. Выйдя из вокзала, солдаты задумались: куда же пойти?
— Первым делом в баню, — предложил Алешин.
Так и сделали: пошли в самую дешевую баню, вымылись и поехали на Выборгскую сторону.
Алешин помнил, где ютились родственники жены. Он привел солдат во двор, отыскал знакомую дверь. Она была заперта на ключ.
— Неужто все на работе?
Дмитрий Андреевич заглянул в окно.
Мутное, запыленное стекло плохо пропускало в подвал дневной свет. Все же Алешин разглядел: комната имела нежилой вид. «Не стряслось ли что с ними?» — встревожился он.
— Эй, дворник!
— Чего вы тут ищете, служивый? — спросила вышедшая старуха. Это была теща Дмитрия Андреевича, она не узнала его.
— Здравия желаем, Дарья Феоктистовна! — по-солдатски громко приветствовал ее Алешин.
— Господи! — всплеснув руками, воскликнула она. — Никак, Дмитрий? — старуха бросилась обнимать его. — Заждались тебя Луша с Катюшкой! Как же ты попал к нам? — начала было расспрашивать Феоктистовна, но тут же спохватилась: — Чего же мы во дворе? Пошли в дом.
— Я не один, товарищи со мной.
— Будем рады и товарищам. Милости просим!
Солдаты поднялись за ней во второй этаж. Увидев в приставской квартире натертый до блеска паркетный пол, ковры и мягкие диваны, они неловко замялись.
— Ну что же вы? Проходите в комнаты.
— Боимся, как бы окопной скотинки не напустить, — сказал Рыбасов. — Копоть-то в бане смыли, а живность осталась. Нам бы постираться да шинельки почистить.
— Ах, вот вы чего! — усмехнулась Феоктистовна. — Тогда придется в нашу старую квартиру.
Она повела солдат вниз. Простые табуретки, столы, покрытые протертой клеенкой, и топчаны, застеленные старьем, фронтовикам пришлись по душе. Рыбасов скинул с плеч вещевой мешок и сказал:
— Вот это для нашего брата! А то после таких хором трудновато будет в окопы вертаться.
Феоктистовна, достав заплатанное, но чисто выстиранное белье деда, положила его перед солдатами и приказала:
— Одевайте пока это, а свои шмотки — в котел, на выпарку! И ты, Дмитрий, снимай, — обратилась она к зятю. — Твою одежду Луша бережет. Можешь в вольное переодеться.
— Спасибо, мамаша. Нам бы чайку еще да выспаться.
— Сейчас, сейчас, милые, — засуетилась старуха. Она затопила плиту и пошла наверх за чайником.
Солдаты развязали вещевые мешки и выложили на стол селедки, консервы, крупу, хлеб.
Катя в этот день пришла с работы рано. Столкнувшись на лестнице с матерью, у которой по-молодому светились глаза и необыкновенным румянцем пылало лицо, девушка поняла, что в доме радость.
— Отец приехал, да?
— Здесь, — ответила мать. — Иду хоть пивца достать.
Катя хотела немедля спуститься к отцу, но мать остановила ее:
— Не ходи, намучились в. дороге и теперь спят.
Пока мать ходила за пивом, Катины тетки успели высушить и выгладить солдатские штаны и гимнастерки.
Кате не терпелось скорей увидеть отца. Она тайком спустилась в подвал и, пройдя в кухню, постучала в дверь. Из бабушкиной комнаты вышел отец. Лицо его было в мыльной пене, он, видно, брился.
— Вам кого? — не узнавая ее, спросил отец. Но, вглядевшись, вдруг раскинул руки и воскликнул: — Катюшка!
Он обнял ее, поцеловал и, распахнув дверь, сказал товарищам:
— Смотрите, какая у меня дочь красавица!
За стол Катя села рядом с отцом. Дмитрий Андреевич почти не изменился за эти годы, только немного волосы поредели, чуть посеребрились виски, и глаза как бы стали темней и глубже. Девушка тайком погладила шершавую руку отца и негромко спросила:
— Ты надолго к нам?
— Нет, дня на два, на три, — ответил он. — Мне бы Гурьянова поскорей увидеть. Жив он?
— Жив, и тетя Феня из ссылки вернулась.
Товарищи отца были уже немолодыми людьми. Пулеметчику Рыбасову шел сороковой год, он то и дело вспоминал свою Феклушу и четверых ребятишек, оставленных в сибирской деревне. А бородатый разведчик Кедрин оказался неразговорчивым. Он отвечал односложно: «эге», «так», «нет», а если фраза была длинной, то обязательно прибавлял слово «однако».
Выпив по стопке водки, солдаты ели густой краснозолотистый борщ и нахваливали бабушку.
Катина мать подливала им в тарелки и приговаривала:
— Кушайте, кушайте на здоровье!
После ужина Рыбасов и Кедрин надумали посмотреть город. Отец решил, что в первую очередь им нужно увидеть недавнее жилище царя — Зимний дворец.
Чтобы не расставаться с отцом, Катя увязалась за солдатами. В трамвае они доехали до Невы и, перебравшись на другую сторону, по Миллионной улице вышли на Дворцовую площадь.
Огромный дворец сиял сотнями зеркальных окон.
— Ну и домина! — воскликнул Рыбасов. — А кто же теперь в нем живет?
— Говорят, министр-председатель сюда перебраться хочет, — ответила Катя.
— Однако, подходящую хоромину выбрал! — отметил Кедрин.
От Дворцовой площади начинался Невский проспект. Здесь было шумно и людно. Панели занимала разодетая фланирующая публика. Солдат то обдавало запахом дорогих духов и пудры, то винным перегаром, то чадом ресторанных кухонь, от которого першило в горле. И всюду, куда ни падал их взгляд, они видели хлыщеватых, напомаженных и откормленных офицеров в хромовых сапогах, отутюженных галифе и ловко сшитых френчах.
Фронтовиков раздражал беспечный смех, доносившийся со всех сторон. Смеялись пышно разодетые женщины, усаживаясь с офицерами в открытый автомобиль; хихикали девицы, оглядываясь на юнкеров; гоготали извозчики, потешаясь над пьяной проституткой. Смех то возникал на мостовых, то переносился на панели, то вырывался из пивных подвалов и грохотал снизу, как из бочки, то вместе с музыкой доносился из открытых окон увеселительных заведений. Слишком много смеха в дни войны.
— Тошно смотреть на эту шушеру, — сказал Рыбасов.
У Фонтанки они свернули влево и пошли по набережной. Катя с отцом шагали впереди, а сибиряки, закурив трубки, — позади.
Дмитрий Андреевич, обняв дочь за плечи, сказал:
— Ну, рассказывай, как жила без меня?
Катя заговорила о том, о чем не могла написать в письмах. Отец слушал ее внимательно, он лишь изредка задавал вопросы либо покачивал головой и вздыхал. Правда, за годы разлуки Катя несколько отвыкла от него, но с ним было легче делиться мыслями, чем с матерью, — отец понимал ее лучше.
— А какие друзья у тебя? — спросил он.
Катя рассказала о Наташе, о тете Фене, но о Васе почему-то умолчала. И отец это почувствовал.
— Ну, а кавалер… или, как вы теперь называете, друг, что ли… есть у тебя?
— Как тебе объяснить… мне нравится один парень, но мы редко с ним видимся.
— А кто он такой?
— Работает на Путиловце в кузнице, живет за Нарвской заставой.
— Н-да-а, далековато ходить! Познакомишь?
— Обязательно, если увидимся. Только ты не смей ни о чем таком с ним говорить.
— Ни слова, — пообещал Дмитрий Андреевич.
ВЕСЕННИЕ МИТИНГИ
На апрельской конференции Каменев и его сторонники услышали мнение партии. Большевики, съехавшиеся со всей России, одобрили программу действий, предложенную Лениным, и проголосовали за нее.
Возглавив Центральный Комитет, Владимир Ильич не имел ни минуты свободного времени. Надежда Константиновна не знала, где он бывает, когда обедает и ужинает. Впрочем, она и сама, уйдя утром в особняк Кшесинской, допоздна пропадала в секретариате ЦК.
Секретариатом ЦК руководила Елена Стасова. Она и ее помощницы были завалены работой. Женщинам часто приходил на помощь новый секретарь Центрального Комитета — бледный, худощавый, с черной, чуть курчавящейся бородкой Яков Михайлович Свердлов. Он носил пенсне с толстыми стеклами, от чего глаза его казались какими-то пронзительными. Свердлов обладал громоподобным, рокочущим голосом и удивительной памятью. Достаточно было ему один раз переговорить с человеком— и он запоминал его надолго: знал имя, знал, что тот умеет делать, каким наделен характером.
Революция, втянувшая в борьбу массы не искушенных в политике людей, вызвала небывалую жажду к общению. Митинги возникали всюду: на площадях, на улицах, в чайных и во дворах домов.
Придя поздно вечером с какого-нибудь заседания домой, Надежда Константиновна распахивала окно во двор, надеясь подышать свежим воздухом и отдохнуть в тишине, но не тут-то было. Снизу доносились возбужденные голоса. Это спорили во дворе с дворниками и солдатом-инвалидом служанки и солдатки, которым не спалось в белые ночи. Около них обычно толпились подростки, порой поднимавшие на смех запутавшихся политиков.
Домовые митинги часто затягивались допоздна. В час ночи в окно доносились обрывки громкого разговора:
— …Говорят, что рабочие потребовали выгнать из правительства министров-помещиков.
— Гучкова и Милюкова не за это прогнали. Они хотели тайные царские договоры выполнять.
— Другие, думаешь, не хотят?
— Хотят, да помалкивают, а те на весь мир в газетах объявили.
— Больно быстро правителей наших меняют. Кто же теперь замест них?
— Пишут, будто бы эсера и двух меньшевиков от Совета добавили, чтобы двоевластия не получилось. Керенский теперь военно-морской министр. Чернов — по земледелию, а меньшевики Скобелев и Церетели — один по труду, другой по почте и телеграфу.
— А Ленина куда же? Он ведь башковитей будет?
— Башковитей-то башковитей, да, говорят, чего-то с немцами у него…
И в три часа ночи сквозь сон она слышала, как внизу поминали анархистов, кадетов и меньшевиков. Доморощенные «политики» никак не могли угомониться, благо на улице было светло.
По случаю приезда отца Катя получила трехдневный отпуск. Она побывала с солдатами на «Айвазе», а на другой день, по совету Гурьянова, поехала с ними на Путиловец.
В завкоме их встретили хорошо. Это уже была не первая делегация с фронта. Путиловцев не удивило, что солдаты во всем хотят убедиться собственными глазами. Они охотно повели их по цехам.
Огромные задымленные мастерские, наполненные грохотом железа, жужжанием моторов, лязгом машин и полыханием огней, потрясли сибиряков. Они тревожно озирались по сторонам.
— Не пошел бы я и за десятку в день в таком аду работать, — признался Рыбасов.
— Однако да-а, — бормотал Кедрин.
— Вам, наверное, уши прожужжали, что мы тут шкуродерничаем, сотнями огребаем? — спрашивали путиловцы. — Так вот поглядите, как оно на самом деле.
Они показывали свои расчетные книжки.
— Нас хотят натравить друг на друга, — говорили путиловцы. — Буржуи ждут, чтобы мы между собой передрались. Это они кричат: «Солдаты — в окопы, рабочие— к станкам!» А сами куда же? К сундукам да ресторанам?
— Точно, — соглашались солдаты. — Осточертело окопный песок хрустать. Весна вокруг, пахать время..
Пока фронтовики разговаривали со сборщиками, Катя отыскала старокузнечный цех.
Заглянув в широкие двери, она не решилась войти в мастерскую и попросила одного из кузнецов вызвать Кокорева.
— Да вон он… Видите? Воду пьет, — сказал тот, указывая на парней, подошедших к медному баку.
Но тут Василий заметил Катю. Он торопливо сбросил с себя кожаный передник и подбежал к ней. Лицо его было влажным от пота.
— Как ты сюда попала? — спросил он, пожимая обе ее руки.
— Я с отцом, — ответила девушка. — Он просит познакомить с кавалером. Вот я и решила тебя показать.
— Правда? — растерянно спросил он и покраснел.
— Ну да, — серьезно ответила Катя, но не удержалась и засмеялась. — Не бойся. Я сказала, что у меня нет кавалера и не будет.
— Да я и не боюсь… С чего ты взяла?
— По глазам вижу. В общем, мы в вашу мастерскую скоро заглянем.
— Хорошо, буду ждать.
Заводской митинг происходил на площади между мартеновской и прокатной мастерскими, где переплетались железнодорожные пути. На митинг сошлось более двадцати тысяч путиловцев. Люди густо облепили крыши цехов, штабеля чугунных и стальных болванок, заняли все возвышения и плотной толпой стояли вокруг деревянной трибуны.
— Тут три дивизии соберешь, — отметил Рыбасов. — Огромный заводище!
Первым на митинге выступил министр земледелия эсер Виктор Чернов. Он начал свою речь со сказки о рыбаке и рыбке. Рассказывая о том, как жадная старуха требовала от золотой рыбки все большего и большего, он то по-стариковски сокрушенно разводил руками и потряхивал бородкой, то скрипучим голосом гнал рыбака к морю просить царства.
Актерские ужимки министра вывели из терпения Савелия Матвеевича, стоявшего с прибывшими фронтовиками недалеко от трибуны. Кузнец перебил оратора:
— А не довольно ли нас сказками кормить? Пора рыбку на стол выложить.
— А я об этом и веду речь, — словно обрадовавшись замечанию, с улыбкой поклонился в сторону Савелия Матвеевича Чернов. — Разве вы не заметили, что ненасытная старуха говорит голосом большевиков? Ведь им все мало: и восьмичасового рабочего дня, и свободы, и власти. — Это он уже произносил голосом рассерженного министра. — Иди-ка, золотая рыбка, в услужение! Об опасности они не думают и тянут нас к разбитому корыту…
Потом он начал объяснять, почему Временное правительство не может прекратить войну.
— Мы связаны договорами с союзниками, — клялся министр. — Если ослабим фронт, то немцы разобьют Францию и Англию, а потом и нас. И Вильгельм опять посадит на трон царя. Поэтому мы требуем от вас обеспечить фронт всем необходимым, не вызывать возмущения промышленников и помочь командованию выйти из войны без позора.
— Ишь как страшно вам без буржуев обходиться! — насмешливо вставил стоявший у трибуны путиловец.
— А где земля, которую крестьянам обещали? — спросил другой.
— Землю мы действительно обещали, — ответил Чернов. — Но если крестьяне сейчас начнут отнимать ее от помещиков, то это нарушит порядок революции.
Он говорил более часа, на разные лады повторял одно и то же: сейчас не время… надо подождать Учредительного собрания.
— Сколько ждать-то?
— Для кого революцию делали?
Чернов покосился на неблагодарных слушателей и поспешил закончить свою речь призывом помочь Временному правительству.
Эсеры захлопали и, толпой окружив министра, повели к автомобилю. А с крыш и деревьев вслед им раздался свист.
Ленин приехал на митинг, когда Чернов уже отбыл с Путиловца. Рабочие, устроившиеся на крышах, издали увидели его. Они замахали шапками. А толпившиеся на площади стали подниматься на цыпочки, чтобы лучше разглядеть Ленина.
Вот он поднялся на трибуну, и все увидели невысокого, крепкого человека в рабочей кепке. Путиловцы встретили его приветственными аплодисментами.
Владимир Ильич выждал несколько минут, пока площадь затихла, и заговорил, чуть картавя, отчетливым голосом.
Он высказал сожаление, что не застал министра. Но это ничего, поправимо. В общих чертах Владимир Ильич представлял, что мог сказать Чернов. Министр, конечно, уверял всех, что большевики, а с ними и рабочие своими справедливыми требованиями губят революцию. Что еще мог придумать эсер? У соглашателей одна песня: войну невозможно закончить, а с землей и рабочим контролем на заводах надо подождать…
— Угадал, точно говорит, будто сам слышал Чернова, — удивлялись рабочие и придвигались к трибуне.
Разоблачая предательское поведение эсеров и меньшевиков, Ленин как бы собрал и объединил еще не оформившиеся и не высказанные мысли рабочих. Он вел путиловцев к выводам простым и ясным.
Когда Владимир Ильич кончил, от мощного взрыва аплодисментов дрогнули стены цехов и задребезжали стекла окон. Тысячи путиловцев на всем пространстве огромного двора и на крышах бурно били в ладоши. Они были за Ленина, за партию большевиков.
Рабочие не дали Ленину сойти с трибуны, они подхватили его на плечи и под крики «ура» понесли к завкому.
— Ну как? — спросил Алешин у товарищей. — Ясно стало?
— Однако, да-а! — смог только произнести Кедрин. И это в устах таежного охотника была высшая похвала.
А Рыбасов вдруг заторопился:
— Надо сегодня же на поезд. Чего тут больше околачиваться? Все понятно.
— Зачем же вам так спешить? — не могла понять Катя. — Поживите у нас, отдохните.
— Нельзя, уже припекает.
Вася Кокорев вышел на улицу вместе с Катей, ее отцом и солдатами. До Нарвских ворот они пошли пешком. По пути Дмитрий Андреевич приглядывался к юноше и про себя отмечал: «Лицо честное… не глуп будто. Рост ничего, и в кости крепок. Только вот как насчет учения? Не потянул бы Катюшу к горшкам и пеленкам». Дмитрий Андреевич прислушивался, что с таким жаром обсуждает его дочь. Катя все еще была под впечатлением выступления Ильича.
— Если бы можно было собрать всех воюющих и послать к ним на митинг Ленина, то войне бы конец, — убежденно говорила она.
— А я бы созвал министров, — вставил юноша, — и потребовал: рассказывайте при народе, как вы хотите изменить нашу жизнь… Никто бы из них против Ленина не удержался.
«Ох, и ветру горячего в головах!» — подумал Дмитрий Андреевич. Но он одобрял молодежь — из таких получаются настоящие люди. «Пусть дружат, парень он, видно, хороший».
НЕДОБРАЯ ВЕСТЬ
На другой день рано утром фронтовики выехали из столицы.
Вагон третьего класса был так переполнен, что многие солдаты сидели в тамбурах и узких проходах.
Алешину, Рыбасову и Кедрину удалось захватить на троих две полки. Они постелили шинели, вещевые мешки положили под головы, распоясались и сели курить.
Как только пассажиры разместились и в окнах замелькали телеграфные столбы болотистой равнины, в купе начался спор.
— Прежде в России не было столько разных партий, — сказал редкозубый каптенармус с нашивками фельдфебеля. — И всегда побеждали. А теперь беда — митингуем только. Всякие партии — это, по-моему, работа немцев для подрыва государства. Где это видано, чтобы во время войны ходили какие-то личности и кричали: «Долой войну!» Да их, предателей, повесить мало!
— А почему их непременно вешать нужно? — вмешался в разговор Алешин. — А может, лучше войну кончать?
— Как это кончать? — возмутился каптенармус. — А наши обещания союзникам?
— Какие такие обещания? — вступил в разговор Рыбасов. — Солдаты их не давали. Разве только те, кто в каптерках околачивается. Им, видно, за войну, как и буржуям, кое-что перепало…
Эти слова вызвали дружный смех в купе.
— Так вы и деритесь, а мы погодим, — добавил пулеметчик.
— Зачем им драться? Обворовывать легче, — вставил солдат с забинтованной головой.
Каптенармус, видя неприязненное отношение к себе, умолк и отвернулся к окну. Вместо него заговорил вольноопределяющийся в металлических очках, походивший на сельского учителя.
— Будем рассуждать последовательно и без личных оскорблений, — сказал он. — Предположим, что все русские в один день взяли бы покинули окопы и вернулись домой. Что б это нам принесло? А вот что: немцы захватили бы лучшие земли и сели бы русскому мужику на шею.
— А зачем же так? — не сдавался Рыбасов. — Нам с простым немецким солдатом, который из крестьян или там из мастеровых, делить нечего. Мы с ним и сейчас через колючую проволоку мирно разговариваем.
— Но ведь солдатские переговоры никакого значения не имеют.
— Как не имеют? Солдат самая большая сила на войне. Если мы предложим немцу: давай-ка перестанем друг в дружку стрелять да власть захватим — так и войне конец.
— Н-да-а! — произнес вольноопределяющийся, удивляясь смелости солдатских рассуждений.
Алешин, заметив в проходе долговязого интенданта, прислушивавшегося к разговорам, шепнул Рыбасову, чтобы тот был поосторожней, но солдат отмахнулся:
— Плевал я на легавых. Вот и Ленин так же говорит о войне. Желаете почитать?
Он вытащил из мешка несколько газет с речью Ленина и стал раздавать солдатам. Подозрительный интендант исчез, но на первой же остановке привел в купе офицера, носившего комендантскую повязку на рукаве.
— Вон те, — показал интендант на Алешина и Рыбасова.
— Ваши документы! — потребовал комендант.
Солдаты показали свои командировки. Комендант, не глядя на бумаги, сунул их в карман и предложил:
— Пойдемте!
— Куда это? Здесь не наша остановка, — возразил Рыбасов.
— Без разговоров! — прикрикнул на них офицер. — Подчиняйся, когда приказывают.
— Что они такое сделали?.. За что забираете?.. — запротестовали солдаты, сидевшие внизу.
— Они агенты немецкие! — сказал интендант. — С листовками на фронт пробираются.
— Чего? Какой я такой агент? — Рыбасов спрыгнул вниз и, приблизясь к коменданту, потребовал: — Чего прячешь командировочные? Читай при всех, что там написано.
Другие солдаты тоже повскакали с мест. Комендант, видя, что фронтовики его не выпустят из вагона, вынужден был вслух прочесть командировочные. В них ясно говорилось, что командируемые едут в столицу по решению солдатского митинга.
— Понял, чьи мы агенты?! — сжимая кулаки, сказал Рыбасов. — Это у вас тут в тылу шпик на шпике, а мы в окопах страдаем.
Офицеру пришлось отдать документы их владельцам, но, уходя, он все же пригрозил:
— Не на этой станции, так на другой снимут.
С ним ушел из вагона и долговязый интендант, он побоялся остаться с солдатами.
К вечеру Алешин, Рыбасов и Кедрин доехали до узловой станции, где им нужно было пересесть на другой поезд.
Вокзал был переполнен. Где устроиться? Солдаты вышли на улицу и, отыскав у палисадника свободную скамейку, сбросили вещевые мешки.
Кедрин, отвязав котелок, пошел за кипятком, а Рыбасов и Алешин стали вытаскивать из мешков сухари, воблу, сахар и раскладывать на газете.
— А тот, мокрогубый, однако, вместе с нами вышел, — сообщил Кедрин, вернувшийся с дымящимся котелком. — Около комендатуры трется.
— Шут с ним, — сказал Рыбасов, решивший, что интендант больше не посмеет к ним приставать.
Фронтовики, размочив сухари и размягчив о края скамейки сухие воблины, принялись ужинать. Но не успели они сделать и несколько глотков, как их окружили солдаты комендантского взвода, обыскали и отвели в комендатуру.
Низкорослый комендант, носивший пенсне, просмотрев газеты и листовки, вытащенные из солдатских мешков, прищелкнул языком и сказал:
— Э-э, тут дело военно-полевым судом пахнет! Придется вам в тюрьму прогуляться.
С Алешина, Рыбасова и Кедрина сняли поясные ремни и под конвоем повели в другой конец города.
Прифронтовая тюрьма была переполнена. Арестованных солдат посадили в камеру, в которой уже находилось четырнадцать человек. Здесь сидели дезертиры, снятые с поездов, двое часовых, продавших железнодорожникам ведро подсолнечного масла из охраняемой цистерны, и солдаты, неизвестно за что схваченные.
Алешин настойчиво добивался встречи с прокурором. Он понимал, что товарищи, оставшиеся на передовой линии фронта, с нетерпением ждут их возвращения и, видимо, ругают за долгую отлучку. По старому опыту Дмитрий Андреевич знал, что серьезных обвинений им предъявить не могут, ничего преступного не совершено, и у следственных органов, кроме легальной литературы, полученной в Петрограде, нет никаких улик.
Прокурор вызвал Алешина только на восьмой день. Это был обрюзгший, лысеющий офицер с набухшими мешочками под глазами. Выслушивая Дмитрия Андреевича, он страдальчески морщился, словно разговор с солдатом вызывал у него головную боль, несколько раз наливал себе из графина воду и, выпивая ее, крякал. Наконец офицер с явным раздражением прервал Алешина:
— Не понимаю, чего вам здесь не сидится? Кормят, поят, на прогулки выводят. Какого черта еще? В окопах, что ли, лучше? Многие готовы в шампанском купать нашего брата, только бы перед наступлением в тюрьму их упрятали…
«Видно, тебе от них немало перепадает, — подумал Алешин. — Головой шевельнуть боишься, трещит с похмелья».
— А вам вот немедленно подавай обвинительное заключение, — продолжал прокурор. — А что в нем радостного, я спрашиваю?
— Мы хотим знать, за что нас посадили, — ответил Дмитрий Андреевич. — Окопов мы не боимся, привыкли.
Офицер с любопытством взглянул на солдата, но при этом, видимо, сделал неосторожное движение головой, потому что поморщился и минуты две сидел неподвижно.
— Видите ли, я по секрету скажу, вами интересуется контрразведка, — вновь заговорил он. — Поэтому сидите и не рыпайтесь.
— Что же нам могут предъявить, если мы ничего преступного не сделали?
— А все, что хотите, в зависимости от политической ситуации. Вот, например, у вас нашли большевистские листовки. По ним можно создать шумное дело: большевики, мол, продались немцам, засылают своих агентов на фронт, разлагают армию. В таком случае вы будете лазутчиками врага, а это пахнет расстрелом. Так что не форсируйте событий и послушайтесь совета человека, сочувствующего социалистам. На войне не надо испытывать судьбу. Идите в камеру и молите бога, чтобы о вас забыли. Потом благодарить меня будете.
Сказав это, офицер поднялся, вызвал конвоира и приказал:
— Уведите!
В камере Дмитрий Андреевич собрал товарищей в уголок и стал советоваться: что делать дальше?
— Надо в полковой комитет письмо послать, — предложил Рыбасов. — Авось пришлют кого на выручку.
— Не дойдет, в тюрьме задержат, — уверял товарищей Алешин. — А не послать ли весточку моей дочке? — вдруг предложил он. — Пусть-ка сходит в «Солдатскую правду» и сообщит, где мы находимся. Там заметку напечатают, а наши в полку прочтут газету и митинг соберут.
— Во! — воскликнул Кедрин. Это означало, что Алешин напал на верную мысль.
— Правильно, — согласился Рыбасов. — Пиши только намеками, чтобы посторонние понять не могли. Тогда письмо проскочит.
В прозрачном и теплом воздухе белых ночей таинственно мерцал серебристо-голубой свет.
Блеск реки, призрачные мосты, точно повисшие в недвижном воздухе, тишина бледной ночи вызывали у Кати Алешиной радость, тревогу и непонятное желание расплакаться. В мягком прикосновении ветра она чувствовала что-то новое, волнующее, как сама весна.
Несмотря на трудный день в цехе, на усталость, она каждый вечер ходила к Неве, останавливалась у гранитного парапета и прислушивалась к едва слышному говору воды, любовалась красотой, которая должна была исчезнуть при первых лучах солнца, и ждала. Ждала, конечно, его — Васю Кокорева, но, когда он появлялся, девушка делала вид, что она здесь очутилась случайно.
— Чего ты сюда ходишь? — словно удивляясь, спросила Катя.
— А ты? — поинтересовался он.
— Чтобы посмотреть на тебя, глупого, — засмеялась она.
— Ну и притворы же вы, девчонки. По пяти лиц у каждой.
— Мало насчитал, больше.
Постепенно Катя привыкла к такому тону в разговоре с Васей. Ее забавляло его смущение. Правда, порой юноша пугал ее своей угловатостью и резкостью, но чаще всего во взглядах, которые он старался скрыть от нее, и в невольных улыбках, озарявших лицо, девушка видела его иным: робким и покладистым.
Чтобы не показаться ей глупым и скрыть свое простодушие, Василий старался выглядеть бесшабашным заставским парнем, которому по душе острая словесная перепалка. Об делал вид, что ходит на правый берег Невы лишь побалагурить и посмеяться. Хотя готов был не есть, не спать, лишь бы встретить Катю.
Иногда он сердился на нее и говорил себе: «Хватит, больше не пойду! Нельзя же столько времени тратить на девчонку! Довольно!»
Одни сутки Василий стойко выдерживал характер, но к вечеру другого дня, словно одержимый, садился в трамва?! и ехал через весь город к Неве.
Наконец он осмелел и сказал ей как бы невзначай:
— Я, кажется, люблю тебя.
— Чего же это ты нашел во мне? — смеясь, спросила она.
А глаза ее спрашивали: «Всерьез ты или выдумываешь?»
— Честное слово, я не шучу, мне трудно день пробыть без тебя…
— Рассказывай! — перебила его она. — Надо же, чтоб такое взбрело в голову!
А глаза ее требовали: «Говори… говори! Ну, чего ты замялся?»
— Я, наверное, зря об этом?.. Ты теперь станешь презирать меня, да?
От волнения на смуглых щеках Василия проступил румянец, и девушке захотелось, чтобы он привлек ее к себе и поцеловал. И когда юноша, словно угадав ее мысли, потянулся к ней, Катю неожиданно охватил непонятный страх. Она хотела оттолкнуть его, убежать, но вдруг сама прильнула к нему.
Этот внезапный поцелуй так ошеломил обоих, что некоторое время они не решались взглянуть в глаза друг другу. Потом Катя вдруг надумала съездить к Гурьяновым. Она так торопилась, что Вася едва поспевал за ней.
Вскочив на ходу в трамвай, Катя вспомнила, что они не уговорились о новой встрече, и уже с площадки крикнула:
— Приходи послезавтра в восемь!
Радостное чувство не покидало Катю и весь следующий день. От сознания того, что она любима, что скоро опять встретится с Васей, ей легко работалось. Ее всю словно пронизывало солнце.
Вечером, когда она пришла в райком, Наташа изумилась:
— Что с тобой? Ты сегодня какая-то… — Ершина не могла подобрать подходящего слова.
— Ненормальная, да? — подсказала Катя.
— Вроде.
— Понимаешь, он любит меня.
— Вот так открытие! Это давно всем было видно. Странно, что ты не замечала.
— Но вчера он сам признался.
— Удивительная храбрость! — не без иронии сказала Наташа.
Дома Катю ждала недобрая весть: пришло письмо от отца, в котором он намеками сообщал, что опять попал в тюрьму и не знает, скоро ли вырвется из нее.
«Очень хочется, — писал он в конце, — чтобы наши друзья, хотя бы из газет, узнали, почему мы не можем им передать привет из Питера. Если сумеешь, пошли им такую газету. Пусть почитают и покурят за наше здоровье. Одну отправь Никите Поводыреву, другую — Алексею Агашину, третью — Ерофею Лешакову. Надеюсь, что ты, как всегда, будешь умницей.
Крепко обнимаю и целую мою дорогую.
Обними и поцелуй за меня мать и бабушку.
Твой отец».
Захватив письмо, Катя поспешила к Гурьянову. Тот еще не спал. Он внимательно прочитал послание Дмитрия Андреевича.
— Н-н-да, не везет ему, — сказал Гурьянов. — Нам мешкать нельзя, надо сегодня же сходить в «Солдатскую правду».
Надев кепку, Гурьянов пошел с Катей на Петроградскую сторону.
В комнатах редакции «Солдатской правды», несмотря на поздний час, еще толпился народ. Катю и Гурьянова принял бритоголовый сотрудник редакции с припухшими и усталыми глазами. Внимательно выслушав их, он взял письмо, сходил с ним в соседний кабинет и, вернувшись, сказал:
— Редактор согласен. Попробуем двух зайцев убить: солдат известить и Керенского потревожить.
Он сам составил небольшую заметку, в которой редакция спрашивала у военного министра: почему не вернулись в окопы три фронтовых делегата? за что арестованы Дмитрий Алешин, Кузьма Рыбасов и Федул Кедрин? не собирается ли командование ввести старые порядки в армии?
На другой день эта заметка была напечатана.
Члены солдатского комитета Поводырев, Агашин и Лешаков накануне наступления получили одинаковые письма:
«Дорогой товарищ!
От Дмитрия Андреевича мне стало известно, что у Вас нет курительной бумаги и что Вы рады пустить на закрутку газету. Посылаю Вам «Солдатскую правду». Прочтите и покурите за здоровье Рыбасова и Кедрина.
Катя Алешина».
В том же конверте находилась аккуратно сложенная «Солдатская правда».
Сойдясь в блиндаже, солдаты вслух стали читать «Солдатскую правду» и вскоре наткнулись на заметку, из которой узнали, что посланные в столицу товарищи арестованы.
«КРОНШТАДТСКАЯ РЕСПУБЛИКА»
Столичная печать подняла шум по поводу того, что балтийские моряки неожиданно объявили Кронштадт свободной республикой.
Какую бы ни брал газету Владимир Ильич, в ней под крикливым заголовком сообщалось об «анархическом» поступке балтийцев.
Специальные корреспонденты, ссылаясь на «проверенные источники», расписывали ужасы кронштадтских тюрем, в которых матросы якобы начисто вырезали всех офицеров. Одна из бульварных газет уверяла, что броненосец «Заря свободы» стал у входа в Морской канал с намерением обстрелять Петроград. А меньшевистская газета «Единство» даже поместила снимки денег, ходивших в Кронштадте. На десятикопеечных бумажных купюрах нетрудно было разобрать довольно четкие надписи: сверху — «Кронштадтская Федеративная Республика», а внизу — «Вольный остров Котлин».
Владимир Ильич знал, что в Кронштадте матросы настроены революционно. Неужели эти горячие головы придумали матросскую республику?
Из Центрального Комитета на остров Котлин поехал нарочный. Явившись в городской комитет партии большевиков, он стал допытываться:
— Что у вас произошло? Почему все газеты в один голос трубят о Кронштадтской республике? Центральный Комитет этого не одобряет.
Секретарь кронштадтского комитета Семен Рошаль в этот день не мог покинуть крепость и для объяснений послал члена Кронштадтского совета Андрея Пронякова.
Владимир Ильич принял Пронякова сухо.
— Что вы там придумали у себя в Кронштадте? — спросил он. — Разве можно решать подобные дела, не посоветовавшись с Центральным Комитетом? Это же нарушение элементарной партийной дисциплины! Если хотите — провокация. Как вы могли такое допустить?
Эти гневные слова для Пронякова были как гром среди ясного неба. Он смотрел на Ильича и не знал, как оправдаться. Вдруг моряк приметил, что, несмотря на внешнюю суровость, Ленин сдерживает усмешку. В его глазах искорками светилось непонятное веселье.
— Товарищ Ленин, разрешите доложить, — попросил Проняков.
— Докладывайте. Только знайте: у меня нет времени для выслушивания длинных оправданий.
— Я буду краток. В наши цели не входило образование Кронштадтской республики. Во всем виновато болото..
— Какое болото? — не понял Ильич.
— Так мы называем беспартийных, — пояснил моряк. — Их в Кронштадтском совете большинство. Нужно признаться, они не всегда нас слушают. Но мы не ждали, что они этакое отчебучат. Вы ведь знаете, что Временное правительство прислало в Кронштадтскую крепость своего комиссара — некоего Пепеляева, человека тишайшего и деликатного. В дела Совета он не вмешивался. Но в принципе мы против наместников Львовых и Керенских. Нам не к лицу выполнять директивы буржуазного правительства.
— Чем же вам помешал Пепеляев? — перебил его Владимир Ильич. — Он же был хорошей ширмой?
— Да, был. Но вдруг заартачился… Решил сам назначить начальника милиции. А наше расхрабрившееся болото рассердилось на него и приняло решение: должность комиссара упразднить, единственной властью в Кронштадте объявить Совет, который по всем государственным делам будет связываться непосредственно с Петроградским советом.
— Вам надо было высмеять это предложение, — заметил Владимир Ильич. — Советская власть в одном Кронштадте утопия, абсурд!
— Да горлопаны сами не поняли, что свершают! Нас, к сожалению, не было в этот момент на заседании исполкома. Думая, что остался пустяковый вопрос о взаимоотношениях с Пепеляевым, многие из большевиков не досидели до конца и ушли на митинг слушать Луначарского. А газеты всю эту историю неимоверно раздули. И денег, разумеется, мы никаких не выпускали, это выдумки подлецов.
Объяснения Пронякова несколько успокоили Ильича, но он остался озабоченным.
— Теперь Временное правительство постарается поставить вас на колени, — сказал он.
— Не выйдет! — уверенно сказал моряк. — Не дадимся.
На прощание Владимир Ильич пожал Пронякову руку.
— Передайте своим товарищам привет от меня, — сказал он. — Да скажите: пусть следующий раз серьезных решений без ведома и разрешения Центрального Комитета не принимают.
— Есть, будет исполнено!
Кронштадтский совет вводил в крепости новые порядки. Днем в клубах учили грамоте, а по вечерам устраивали научные лекции, любительские спектакли и танцы. Обычно много народу собиралось на Якорной площади. Здесь как бы образовалось «морское вече». Ораторы разных партий горячо спорили между собой, всенародно рассказывая, как они представляют себе будущую жизнь.
Белые ночи были теплые, тысячи людей слушали ораторов, не расходясь до первых лучей солнца.
Иногда «морское вече» принимало свои решения. Это по его настоянию Кронштадтский совет изгнал из крепости проституток, от которых прежде не было прохода. Под угрозой конфискации имущества и выселения запрещено было пьянство. Те, кто не мог обходиться без вина, выпивали тайно, боясь показаться в нетрезвом виде на улицах. Патруль мог схватить пьяницу и посадить на первый отходящий на материк пароход.
Изгнание пьяниц и проституток столичные корреспонденты преподнесли читателям как примеры небывалого произвола. Мелкие происшествия раздувались до чудовищных преступлений. Выдворенные проститутки в статьях продажных писак превращались в обесчещенных офицерских жен, которым нет житья в Кронштадте. Их-де патрули насилуют и вышвыривают из собственных домов на улицу.
Терпение Кронштадтского совета иссякло, и он принял решение: за распространение злостных и лживых слухов удалить с острова Котлин всех корреспондентов буржуазных газет и не впускать их больше без специального разрешения исполкома.
Столичные газеты подняли крик о новом нарушении законов и требовали покончить с распоясавшимися большевиками-анархистами.
В Кронштадт выехал председатель Петроградского совета Чхеидзе с членами исполкома — меньшевиками и эсерами. Не обнаружив особых нарушений законности, «гости» сокрушенно вздыхали. Затем пришли на заседание Совета.
Похвалив за порядок в городе, они стали допытываться: почему кронштадтцы не желают подчиняться центральной власти?
Кронштадтские меньшевики не знали, как быть: что ответить Чхеидзе? Фискалить им не хотелось. И болото, напуганное вызванным переполохом, помалкивало. Ответ держали большевики. На этот раз они были дипломатичней обычного. Уверили, что никто не собирается отделяться от России и не отказывается от сношений с Временным правительством, поскольку оно реально существует. Распоряжения Временного правительства распространяются на Кронштадт так же, как и на всю Россию. Но моряки желают, чтобы в их городе распоряжался не присланный наместник, а правительственный комиссар, выбранный из флотской среды.
После таких разъяснений руководители Петросовета поблагодарили кронштадтцев за морское гостеприимство и пригласили их прибыть с ответным визитом на свое заседание.
Кронштадтцы, чуя недоброе, послали в Петроград самых зубастых ораторов.
Заседание Петросовета на этот раз происходило не в Таврическом дворце, а в Мариинском театре. Все было рассчитано на театральные эффекты. Члены президиума сидели на ярко освещенной сцене, с которой в партер были проложены сходни, покрытые парадными коврами.
Перед началом заседания на сцене появился Керенский. Он был в военном френче и галифе. На ногах сверкали темно-коричневые краги, а правая, забинтованная рука покоилась на темной перевязи, словно министр недавно вырвался из пекла сражений.
Поочередно подав ладонью вверх левую руку всем членам президиума, Керенский взошел на трибуну и доверительно, точно посвящая собравшихся в великую тайну, сообщил, что очень торопится на фронт, сюда явился попрощаться с депутатами родного Совета.
«Ну и фигляр! — удивлялись кронштадтцы. — Раненым прикидывается, не доехав до окопов».
Министр был явно взвинчен предстоящей поездкой на фронт. Выразив надежду, что без него депутаты будут тверды и беспощадны к врагам революции, он заверил всех, что не пожалеет жизни и выполнит то, что возложила на него Родина, — приведет армию в боевое состояние.
— Пожелайте мне победы! — выкрикнул Керенский. Театрально вскинув вверх руку и сделав прощальный жест, он сбежал по сходням со сцены и, сопровождаемый двумя адъютантами, покинул заседание.
— Ничего разыграно! — сказал Рошаль. — Только пошлости многовато.
— Перестаньте! — зашикали на него рядом сидящие эсеры. — У вас, нигилистов, нет ничего святого.
После ухода Керенского Петроградский совет заслушал доклад комиссии о поездке в Кронштадт. Сообщение делал меньшевик Анисимов. Он отметил, что никаких «ужасов» комиссия на острове Котлин не обнаружила, но вызывающий матросский дух существует. И принялся костить кронштадтцев за изгнание правительственного комиссара.
— Мы стремимся создать крепкую власть на местах, — говорил он, — посылаем своих представителей от Центрального правительства, а кронштадтцы, подбиваемые Лениным, все разрушают. Подают дурной пример неподчинения. Так могут поступать только враги революционной демократии.
Этот выпад заставил председателя Кронштадтского совета Любовича выступить с возражениями.
— Мы хотим крепкой власти не буржуазии, а Совету рабочих и солдатских депутатов, — сказал он. — Так почему же вы, руководители Совета, набрасываетесь на нас за это?
Ему захлопали. Послышались возгласы:
— Правильно, довольно в прихвостнях буржуазии ходить!
Неожиданное настроение собравшихся могли сбить только опытные ораторы.
Один за другим выступали Церетели, Скобелев, Чернов. Расписывая «ужасы кронштадтской анархии», они настаивали, чтобы офицеры, арестованные матросами в февральские дни, были переданы на справедливый суд в Петроград, потому что на острове-де они каждодневно подвергаются моральным и физическим пыткам, так как брошены в холодные казематы. Называя кронштадтцев зачинщиками гражданской войны, министры потребовали строгого наказания руководителям.
— Давай, Сема, покажем, что и мы — не лыком шиты, можем сдачи давать, — посоветовали кронштадтцы своему главному оратору — Семену Рошалю.
Этот круглолицый, чубатый студент обладал юмором. Нужно было слышать взрывы матросского хохота, когда на Якорной площади выступал Рошаль.
— Попробую, — пообещал он товарищам.
Юноша знал, что на этот раз остроумной шуткой не развеселишь собравшихся. Да и нужно ли это делать, когда хотят поставить тебя на колени?
— Товарищи, мы, кронштадтцы, захватившие власть, строго идем по пути, указанному Петроградским советом. Вы стремитесь взять власть не только в столице, но и по всей России, — с серьезным лицом сказал Рошаль. — И это правильно. Иначе для чего же огород городить? Мы лишь скромные последователи, но, видно, наивные: думали, что власть берется для выражения воли пролетариев, а не в угоду буржуазии. Вышло, ошиблись, извините, пожалуйста. А может, мы не в этот театр попали?
Его слова вызвали аплодисменты и ропот в зале. Рошаль тотчас же переключился на министров, пугавших ужасами тюрем.
— Здесь наши министры огорчались, что в Кронштадте неделикатно обращаются с бывшими вешателями и держимордами, — сказал он. — Содержат их в тех же казематах, в которых они прежде гноили матросов. Какой ужас! Как можно терпеть такое? Каемся, мы еще не построили светлых и фешенебельных тюрем с теплыми гальюнами! Пользуемся старыми. Но можем пообещать: если адвокаты из Петросовета со всей России соберут под свое крылышко арестованных контрреволюционеров, то и мы отдадим своих. Держите их у себя и милуйте!
Эти слова вызвали одобрение большевиков и яростные вопли министров:
— Прекратить! Не давать слова нахалу!
Атмосфера так накалилась, что, казалось, против моряков будет принято грозное решение. Но тут питерские большевики выступили в защиту кронштадтцев и не позволили их ошельмовать.
В ДЕРЕВНЕ НЕЙВОЛА
Белые ночи, с их мерцающим зеленовато-голубым светом, вызвали бессонницу. В часы забытья Владимиру Ильичу мерещилось, что он все еще мчится в «миксте» мимо зеленых гор, бурных речек, черепичных крыш старинных городов и никак не может добраться до России.
Утром Ленин поднимался невыспавшимся, усталым, с тяжелой головой.
Яков Михайлович Свердлов, видя, как извелся и осунулся за последние дни Ильич, стал уговаривать:
— Вам обязательно надо выехать за город, подышать свежим воздухом, отоспаться. В Питере ничего особенного не произойдет. Наступает летнее затишье. Мы обойдемся без вас.
Он слышал, как Владимира Ильича приглашал к себе на дачу Бонч-Бруевич.
— Поезжайте на Карельский перешеек к Бончам. Там сосны, озера, тишина. Побродите по лесу и будете спать как убитый, — уверял Яков Михайлович. — А в случае чего — мы вас вызовем.
В один из особо душных дней, когда в городе стало невмоготу, Владимир Ильич вместе с сестрой Марией выехал по Финляндской железной дороге в Мустамяки.
Сойдя с поезда, он подошел к старику извозчику, курившему короткую трубку, и спросил, не сможет ли тот отвезти в деревню Нейвола.
— Та, та, моку, — ответил извозчик.
Усадив пассажиров в скрипучую пролетку, старик дернул вожжи и, зачмокав на своего коня, повез по пыльной и неровной дороге, вдоль которой росли сосны, осины и тонкие березки.
В пути Мария Ильинична спросила извозчика: где живет поэт Демьян Бедный?
Старик уставился на нее непонимающими голубоватыми глазами.
— А что такая «поэта»? — спросил он.
— Ну, понимаете, человек, который пишет стихи… печатает их в газетах, книгах.
— А-а, — поняв, обрадовался финн. — Такой длинный… уса висит. Он был в пансионат Ланге.
— Вы, наверное, путаете с Максимом Горьким. Тот действительно худой, высокий, а Демьян Бедный наоборот — толстый, белые зубы, много смеется.
— Знаю, возил такой, — заверил извозчик.
Больше финн ни о чем не говорил и не расспрашивал, но действительно привез к даче Демьяна Бедного.
Увидев Ильича с сестрой, поэт обрадовался:
— Какими судьбами? От не ждал, не гадал! Заходите, заходите, дорогие гости, не бойтесь — ни собак, ни кадетов во дворе не держим.
Владимир Ильич отпустил извозчика и, поздоровавшись с поэтом, спросил:
— Не ждали? Как всегда, гости не вовремя и некстати?
— Зачем же так? Очень кстати! Правда, мы уже пообедали, но сейчас что-нибудь сообразим.
— Не надо соображать, — смеясь, сказал Ильич. — Мы только попросим вас проводить к Бонч-Бруевичам. Они далеко отсюда?
— Версты полторы, не больше, — уверил Демьян Бедный. — А по тропке и того не будет.
Напоив гостей холодным хлебным квасом, Бедный надел свежую рубашку с украинской вышивкой и повел их тропами в другой конец деревни.
Дача Бонч-Бруевича стояла на отшибе, невдалеке от озера. Войдя в садик, Бедный остановился под балконом и просящим голосом пропел:
— Дорогая докторша, Верочка Михайловна, пожалейте страждущих, животы болят! Подайте Христа ради стопочку капелек для Демьяна Бедного.
— Если вы действительно такой бедный — прошу наверх, — отозвался веселый женский голос. — Чем-нибудь полечим.
— За мной! — скомандовал Демьян, открыв дверь. — Здесь попусту слов не бросают.
Поднимаясь по лестнице, поэт продолжал балагурить:
— Я ведь не один… Гляньте, странников каких веду. Нет, Верочка Михайловна, стопкой капелек от меня не отделаетесь, доставайте пузырек, да попузастей!
— Что за капли заведены в этом доме для Демьяна Бедного? Может, они и нам пригодятся?
— Владимир Ильич! — не поверила своим ушам жена Бонч-Бруевича Вера Михайловна. — Наконец-то надумали!
Целуя раскрасневшуюся от ходьбы Марию Ильиничну, она спросила:
— А где же Надежда Константиновна? Не уговорили? Как вам не стыдно!
— У нее все дела, — оправдывался Ленин. — Не может оторваться.
Вера Михайловна всмотрелась в него с придирчивостью врача.
— А вы мне не нравитесь, — призналась она. — И даже очень. Бессонница одолела? Бледный, морщин прибавилось… и глаза нехорошие. Замотали себя! И головные боли вдобавок?.. Картина ясная! Капельки Демьяна Бедного вас, конечно, на час-два взбодрят, но вряд ли помогут.
Пришел и Владимир Дмитриевич. В доме началась суета по устройству гостей.
— Не беспокойтесь, пожалуйста, — запротестовал Владимир Ильич. — Мы с Маняшей где-нибудь на балконе устроимся.
— Зачем же на балконе? — забасил хозяин. — Вас отдельные комнаты ждут. Правда, они полумансардные, небольшие, но зато вам никто мешать не будет.
— Давайте условимся, — предложила Вера Михайловна, — вы не в гостях, а, скажем, в пансионате, где жильцам предоставлена полная свобода. Я здесь не хозяйка, а наблюдающий врач. Мы завтракаем в восемь, обедаем в три, ужинаем от семи до восьми. Это наш режим. Остальное время каждый проводит по своему усмотрению. В помощи по хозяйству не нуждаемся. Наша няня — Ульяна Александровна — не любит, когда вмешиваются в ее дела. Вам, Владимир Ильич, рекомендую забыть о существовании газет, чернил и перьев. Только прогулки и отдых.
— Вера Михайловна, нельзя же так сразу, — взмолился Владимир Ильич. — Ну, хоть одну газетку!
Но хозяйка была непреклонна:
— Никаких газет! Мы вам расскажем, если что-либо важное произойдет.
Владимир Ильич знал, что Вера Михайловна добрейший человек, но непреклонный доктор. Без возражений он занял отведенную наверху комнату и сознался, что любит иногда побыть в одиночестве.
Оставшись один, он потер ладонями виски… От этого в глазах потемнело. Владимир Ильич вобрал полную грудь воздуха и резким рывком выдохнул его.
Когда в голове перестало шуметь, он снял пиджак, верхнюю и нижнюю рубашки. Полуобнаженным почувствовал себя лучше.
Остыв немного, он взял полотенце и пошел мыться прямо к колодцу. Бедный взялся поливать. Поэт черпал воду ковшом из колодезного ведра и обильными струйками лил на голову и плечи. Владимир Ильич фыркал и отдувался.
Холодная вода несколько взбодрила и освежила его, но томящая боль в голове не проходила, она где-то гнездилась в глубине. Не помогла и стопка «капелек», выставленных на стол Бедному.
Ужинали весело и оживленно, а когда ушел шумный поэт, на веранде наступила тишина.
Хозяева и гости, полулежа в плетеных креслах, молча наслаждались вечерней прохладой и звенящим стрекотом кузнечиков, доносившимся с луга.
Большое солнце окрасило полнеба золотисто-пурпурными полосами, зажгло бездымным пламенем край озера и вскоре скрылось за горизонтом.
С дальнего болота послышался скрипучий крик коростеля, он словно дополнил истому догоравшего дня, полного тишины.
Постепенно яркие краски стали увядать и тускнеть, обретая прозрачность и серебристый блеск белой северной ночи.
Над озером поднялся легкий туман. Тонкой кисеей он висел над застывшей, неподвижной водой.
Владимиру Ильичу казалось, что, став необыкновенно легким, он парит над едва звенящим лугом, притихшим озером и засыпающим лесом…
Из оцепенения вывел крик ночной птицы. «Ки-ик, ки-ик», — послышалось над камышами.
«У-гу-гу-гу-у!»— ответила сова из леса.
Владимир Ильич протер глаза и поднялся.
— Кажется, потянуло на сон, брежу наяву, — сознался он. — Удивительная ночь!
Вера Михайловна затаила невольный вздох, видя его бледность.
— Вы за ночь должны отдохнуть, — сказала она. — Я дам снотворного.
Владимир Ильич послушно выпил лекарство и, пожелав всем спокойной ночи, поднялся наверх.
Машинально раздевшись и вытянувшись во весь рост на постели, он вдруг почувствовал, как неимоверно устал за последние дни.
Сон обрушился на него внезапно и словно унес в небытие.
Владимир Ильич проснулся только утром. В едва раскрытое окно доносились первые голоса птиц. Голова была тяжелой, и веки набрякли. Их словно засыпали песком. Видно, еще действовало снотворное.
Полежав немного с закрытыми глазами, он почувствовал облегчение.
Поднявшись раньше всех, он с удовольствием вымылся холодной водой, выпил стакан молока с черным ржаным хлебом и спросил, нет ли свежих газет.
— Газет в нашем доме не получите, — сказала Вера Михайловна. — Дайте хоть немного отдохнуть глазам и мозгу. Пошли бы лучше в лес.
— Ну что ж, подчинимся? — взглянув на Владимира Дмитриевича, спросил Ильич.
— Придется, — ответил тот. — Предложение разумное.
Они пошли вдоль озера.
День был теплый. Вода искрилась на солнце. Над расцветавшими белыми лилиями и кувшинками кружились изумрудные и синие стрекозы. Невидимые жаворонки сыпали трелями из лазурной необъятной синевы неба. Владимир Ильич дотронулся рукой до воды.
— Ого! Да она теплая! — воскликнул он. — Может, выкупаемся?
— Я не прочь. Только учтите: здесь встречаются холодные течения, — предупредил Бонч-Бруевич. — Некоторые от неожиданности теряются и, испугавшись, тонут.
— Тонут, говорите? — как бы удивляясь, спросил Ильич. — Это, конечно, неприятно. Но мы с вами постараемся плыть по нагретой части озера. А глубоко здесь?
— Чрезмерно! Озеро ледникового происхождения.
— Архиинтересно! Надо проверить.
Не успел Бонч-Бруевич разуться, как Владимир Ильич, сбросив с себя ботинки и одежду, разбежался, подпрыгнул и, вытянув вперед руки, головой ушел под воду.
«Ну и отчаянный, — подумал Владимир Дмитриевич. — Этак нырять на незнакомом озере!»
Прошло секунд двадцать… тридцать… сорок, а Ленина все не было. Бонч-Бруевич вскочил, готовый позвать на помощь рыбаков, удивших рыбу с лодки. Но в это время услышал всплеск, фырканье и шумный вдох.
Владимир Ильич вынырнул далеко от него. Повернувшись лицом к берегу, он провел рукой по усам и крикнул:
— Что же вы замешкались? Плывите сюда. Вода превосходная!
Он плавал и нырял без всяких усилий. Не зря же вырос на Волге!
Бонч-Бруевич осторожно вошел в воду, окунулся и лишь затем, неторопливо двигая руками, поплыл.
Поджидая его, Владимир Ильич повернулся на спину и стал смотреть в удивительно чистое небо, по которому одиноко плыло белое облачко.
НА ЛИТЕЙНОМ И НЕВСКОМ СТРЕЛЬБА
Вася Кокорев видел, как на заводском дворе возбужденные солдаты собирали людей на митинг, но не остался послушать их, так как договорился с Катей встретиться за Троицким мостом против домика Петра Первого. Это было безлюдное и тихое место на Неве.
Девушка запоздала.
— Я думала, ты не придешь, — сказала она. — В райкоме говорят, что у вас на Путиловском не хотят слушать большевиков. Меня послали с пакетом в секретариат. Проводишь?
— Конечно. Я ведь из-за тебя здесь.
— А если революция начнется, ты тоже из-за меня все бросишь? — сделав строгое лицо, спросила она.
— Я бы и тогда хотел быть вместе, — сознался Вася.
Девушка ничего больше не сказала, только крепко сжала его руку.
Так, держась за руки, они дошли до беседки особняка Кшесинской.
— Ждать тебя? — спросил Вася.
— Нет, нет, мне некогда будет, — ответила она. — Встретимся на нашем месте в субботу.
Расставшись с Катей, Василий перебежал на другую сторону улицы и на ходу уцепился за поручень переполненного трамвая.
Только в десятом часу Кокорев подъехал к своему заводу. Главные ворота оказались раскрытыми настежь, большой двор был переполнен людьми. На митинг, видимо, сошлась вся Нарвская застава. Здесь были и текстильщики, и матросы, и гренадеры. Ораторы сменялись один за другим. Многие требовали без промедления идти к Таврическому дворцу. Толпа встречала эти предложения гулом одобрения, а тех, кто возражал, освистывали.
В одиннадцатом часу вечера распространился слух о том, что рабочие Выборгской стороны уже перешли Неву и движутся по Литейному проспекту. Эта весть еще больше взбудоражила путиловцев.
На трибуну взбежал рослый матрос. Взмахнув бескозыркой, он выкрикнул:
— Кто за выступление — поднимай руку!
И над головами поднялось море рук.
Митинг кончился. Люди потоком стали выходить на улицу и двинулись к центру города.
Голубой сумрак окутывал улицы. Фонари нигде не горели.
По пути путиловцы останавливались у заводов, снимали с работы ночные смены и шли дальше.
Кокорев, желая разыскать Дему или Савелия Матвеевича, шел вдоль рядов. Он пытался оглядеть всю колонну, растянувшуюся почти на версту, но конца ее не увидел.
«Ну и народу! — подумал он. — Неужели и теперь власть не будет нашей?»
Уже был второй час ночи, когда путиловцы подошли к Таврическому дворцу. Солдаты, толпившиеся у ворот, расступились и пропустили их за ограду.
Рабочие, плотным кольцом окружив дворец, послали своих представителей на заседание исполнительного комитета Совета.
В зале было жарко и накурено. Депутаты сидели без пиджаков.
Путиловец поднялся на трибуну и объявил, что его товарищи находятся у Таврического дворца.
— Мы не разойдемся до тех пор, пока вы не арестуете министров, — сказал он. — Берите власть в свои руки.
Чхеидзе, пообещав рассмотреть вопрос о правительстве, небрежно вручил пришедшим отпечатанное на машинке постановление исполкома о немедленном прекращении всяких демонстраций.
Но путиловцы не желали расходиться. Они готовы были простоять всю ночь, чтобы добиться своего.
Через час рабочие вновь послали свою делегацию на заседание.
Увидев путиловцев, Чхеидзе, как бы удивясь, спросил:
— Вы, кажется, уже были здесь? Что вам не ясно?
— Во-первых, просим быть уважительнее с нами! — потребовал рабочий. — А во-вторых, быстрей решайте, кто будет у власти. На улице путиловцы!
— Подумаешь, путиловцы! — рассердился Чхеидзе. — Сколько вас здесь? Имеете ли вы право разговаривать от имени путиловцев?
— А ты выйди на улицу, — посоветовал другой рабочий. — Там узнаешь и, может быть, по-иному заговоришь.
— Я ни перед кем не становился на колени, — ответил председатель Петросовета. — Скажу правду и тем, кто пришел нас запугивать.
Чхеидзе решительно покинул президиум, спустился вниз и, выйдя на улицу, замедлил шаг. Он не думал, что ночью увидит столько народу у дворца.
«Это работа большевиков. Они хотят нас принудить взять власть. Надо вызвать для охраны войска».
Чхеидзе не решился выступить перед возбужденной толпой. Вернувшись в комнату президиума, он принялся названивать по телефону в штаб военного округа.
В четвертом часу стал накрапывать дождь. Василий пробрался с улицы в обширный вестибюль дворца и там увидел Савелия Матвеевича и Дему.
— A-а, пропавшая душа, явился! — сказал старый кузнец. — Что-то ты, брат, от рук отбился…
— Да я вас все время искал, — попытался оправдаться Василий, но Савелий Матвеевич перебил его:
— Ладно, потом у попа исповедоваться будешь. Держись около Дементия. Может быть, понадобишься.
Оставив парней, Савелий Матвеевич куда-то ушел. Василий спросил у Демы:
— Чего вы тут ждете?
— Наши опять пошли требовать ответа. Да, видно, толку не будет. Я бы на их месте подобрал ребят покрепче, закрыл бы все входы и сказал депутатам: «Хотите брать власть — заседайте, а не хотите — марш отсюда!»
На даче Бонч-Бруевичей еще все спали, когда посыльный Центрального Комитета партии осторожно постучал в окно.
Первым проснулся. Владимир Дмитриевич. Увидев в саду под окном работника ЦК Савельева, он понял, что в Петрограде произошло что-то важное, иначе Савельев не приехал бы так рано. Будильник показывал шестой час.
Владимир Дмитриевич накинул на себя халат и вышел в сад.
— Что случилось? — спросил он шепотом.
— В Питере революция, — возбужденно ответил Савельев. — Срочно вызывают Ильича.
Бонч-Бруевич не поверил: какая такая может быть революция? И стал выпытывать у Савельева подробности, но тот неохотно отвечал и торопил:
— Будите Ильича, некогда разговаривать.
Поняв, что дело серьезное, Бонч-Бруевич поднялся наверх и заглянул в комнату Ленина. Тот спал посапывая. Жаль было будить. Ведь только наладился сон, почти прошли головные боли, и вот опять начнется кутерьма! Владимир Дмитриевич осторожно кашлянул в кулак.
Владимир Ильич мгновенно открыл глаза и поднял голову. Увидев перед собой хозяина дачи в халате, с растрепанной бородой, он почувствовал недоброе.
— В Питере что-то стряслось, за мной прислали?
— Да, приехал Савельев. Говорит, что восстал Первый пулеметный полк. Солдаты подбили рабочих выйти на улицы. Стихию невозможно остановить. В городе стрельба и демонстрации.
Владимир Ильич начал торопливо одеваться.
Разбудив и Марию Ильиничну, Бонч-Бруевич тоже стал готовиться к отъезду.
Ставить самовар было некогда. Все выпили по кружке молока с хлебом и поспешили на вокзал.
В вагоне Владимир Ильич стал выспрашивать подробности событий в столице.
— Вы, конечно, уже из газет знаете, что кадеты отозвали из правительства своих министров? — спросил Савельев.
— Нет, вчерашних газет я не видел. Рассказывайте все, что вам известно.
— На фронте за эти недели загублено более пятидесяти тысяч солдат, — продолжал Савельев. — Кадеты хотят свалить вину за провалившееся наступление на социалистов. А Керенский продолжает воевать, решил вывести из столицы Первый пулеметный полк и отправить на фронт. Пулеметчики собрались на митинг и постановили: Временному правительству не подчиняться, выйти с оружием и потребовать всей власти Советам. В общем, взбунтовались и, чтобы действовать не одним, разослали делегатов по воинским частям и крупным заводам. К зданию Центрального Комитета пулеметчики пришли с оркестром и стали требовать, чтобы мы возглавили восстание. И наши сперва растерялись, — приглушенным голосом признался Савельев. — Пытались уговорить солдат. А те знай свое: «Долой! Вся власть Советам». Тогда кто-то предложил выбрать делегатов и послать на заседание исполкома. Пулеметчиков это обрадовало. Прокричали «ура» и с музыкой двинулись через мост в центр города. Телефоны звонили беспрерывно. Всюду шли митинги. Больше двадцати тысяч путиловцев тоже вышли на улицы. Тогда Центральный Комитет разослал ораторов по районам, а меня отправили за вами. Решено сегодня продолжить демонстрацию.
— С какой целью? — недоумевал Ильич. Савельев ничего путного ответить не мог.
На станции Белоостров началась проверка документов. Солидную компанию Бонч-Бруевича милиционеры приняли за дачников, поэтому паспорта смотрели невнимательно.
— Второй волной по вагону пройдут шпики, — предупредил Владимир Дмитриевич. — Нам лучше выйти в буфет и выпить по чашке кофе. Вернемся после звонка.
В станционном буфете кофе не оказалось, зато в киоске продавались свежие столичные газеты. Бонч-Бруевич принес их товарищам. Те принялись искать сообщения о питерских событиях.
— Пока ничего опасного, — просмотрев статьи, сказал Владимир Ильич. — Но нам надо овладеть начавшимся движением и остановить его, если не хотим разгрома. Время для таких выступлений еще не наступило.
Вышедшие на перрон пассажиры толпились группами. Они тоже обсуждали питерские события и громко поносили большевиков.
— Уйдем отсюда, — потребовал Бонч-Бруевич. — Если кто узнает вас в лицо — не избежать скандала.
Они вернулись в вагон и сели так, чтобы Владимир Ильич оказался в затемненном углу.
В душном вагоне у Ленина опять разболелась голова. Он прислонился к стенке и так сидел с закрытыми глазами до самого Петрограда.
В столице трамваи не ходили.
Бонч-Бруевич успел захватить извозчика. Усадив в пролетку Ульяновых, он предложил Савельеву сесть им прямо в ноги и охранять до самого дома. Но извозчик заартачился, заявив, что не повезет троих. Пришлось пообещать ему лишний рубль.
Условившись встретиться в буфетной Таврического дворца, Бонч-Бруевич пошагал к себе на Пески, а пролетка с тремя пассажирами покатила на Петроградскую сторону. Извозчик ехал по тем улицам, по которым в апреле Владимира Ильича торжественно везли в броневике. Как тогда легко и весело было на душе! Сейчас же от головной боли ему немил был свет и сердце сжимала тревога.
Гнать лошадь быстрей извозчик не мог: жители окраин шагали прямо по мостовой и на предупредительные крики «эгей, поберегись!» не обращали внимания. Питерцы большими и малыми группами шли к центру города, возбужденно переговаривались между собой. Чувствовалось, что нарастают события, которые нелегко будет предотвратить.
Владимир Ильич решил не заезжать домой на Широкую улицу, а направил извозчика к зданию Центрального Комитета, хотелось скорей узнать у товарищей, что ими предпринято.
В особняке Кшесинской он застал Свердлова и Луначарского. Увидев Ильича, они обрадовались и стали уверять, что особо беспокоиться нечего, демонстрация пройдет мирно.
Проверив, кто из работников куда послан, Владимир Ильич несколько успокоился. Он принял порошок от головной боли и прилег на диване в соседней комнате, где было открыто окно в сад.
Вскоре к особняку Кшесинской подошла многотысячная колонна вооруженных моряков, прибывших из Кронштадта. Они были со знаменами и двумя оркестрами.
Моряков встретил Свердлов. Попросив их подтянуться поближе к балкону и уплотнить ряды, он предоставил слово Луначарскому. Анатолий Васильевич рассказал о событиях на фронтах и в столице, призвал моряков соблюдать порядок и выдержку. Они ответили ему дружным «есть!» и захлопали в ладоши.
Луначарского матросы слышали не раз. Сегодня им хотелось увидеть Ильича.
— А где товарищ Ленин? — спрашивали они. — Почему он не показывается?
— Владимиру Ильичу нездоровится, — ответил своим зычным басом Свердлов. — Надо пощадить его.
— Пусть хоть несколько слов скажет! — не унимались моряки. — Позовите Ленина.
Рошаль с несколькими моряками кинулись в здание. Разыскав Владимира Ильича, они стали упрашивать его показаться кронштадтцам.
— Я не могу громко говорить, болею, — пожаловался Ильич.
— Ну хоть выйдите на балкон и покажитесь нашим, иначе не уйдут отсюда.
Владимир Ильич встал с дивана, растер ладонями виски и вышел на балкон.
Кронштадтцы встретили его бурной овацией.
Говорить перед такой огромной толпой, стоявшей на улице, было трудно. Владимир Ильич попросил извинения за то, что по болезни будет краток, передал привет от рабочего Питера, а затем выразил надежду, что требования кронштадтцев всей власти Советам в конце концов осуществятся.
Никаких призывов к свержению Временного правительства, конечно, не было. Наоборот — он просил моряков не горячиться, так как не наступило еще время для вооруженной борьбы. Ильич и предполагать не мог, что через сутки — эта короткая речь будет объявлена призывом к восстанию.
Матросы горячо и дружно захлопали ему. Если бы они знали, что случится через час, то тут же сказали бы Ильичу: «Уходи с нами на корабли, мы тебя грудью отстоим». Но в этот безмятежный, теплый день такое и в голову никому не могло прийти.
Кронштадтцы, прокричав «ура» Ленину, выстроились в походную колонну и под грохот оркестров двинулись через Троицкий мост, Марсово поле — на Невский проспект.
Фланирующая публика, сбившись группками на панелях, с опаской поглядывала на вооруженных моряков. Завсегдатаи Невского возмущались:
— Это же бандиты из Кронштадта! Как их оттуда выпустили, да еще с оружием? Они же напьются, начнут грабить и убивать!
— Чего смотрят офицеры Главного штаба? Как позволяют? Это игра с огнем! Неужто на них нет управы?
Оркестры беспрерывно играли революционные песни. Колонна моряков растянулась: передние не видели, что делается в задних рядах.
Путиловцы шли к Таврическому дворцу под охраной своей Красной гвардии. По пути к ним присоединились военные моряки. Среди них были авроровцы. Дема издали увидел брата.
— Пошли к матросам, — сказал он Васе. — Я тебя с Филиппом познакомлю.
— Пошли.
Пробежав вдоль колонны, юноши пристроились к морякам. Филипп Рыкунов, увидев вооруженного винтовкой брата, изумился:
— Дементий! Вот не ожидал. Да ты, никак, в Красной гвардии?
— А то как же! — ответил тот. — Не гожусь, что ли?
— Годишься. С твоим ростом не то что в гвардейцы, а на любой линкор в комендоры примут.
Братья обнялись. Филипп почти на голову был ниже Дементия, но по его плотной, жилистой фигуре и открытой загорелой шее чувствовалось, что моряк обладает не меньшей силой. Знакомя товарищей с Дементием, он говорил:
— Младший братишка, молотобойцем на Путиловце.
— В общем, не попадайся под руку, — пошутил один из матросов.
Братья пошли рядом.
— Ну, как там дома? — спросил Филипп. — Отец такой же злой, как и был?
— Еще хуже стал. Если б не маманя, я бы давно из дому ушел. Другой раз даже ночевать не иду, вот у Васи сплю. Да, — спохватился он и повернулся к шагавшему позади Кокореву, — познакомься, мой товарищ… вместе у Савелия Матвеевича работаем.
Моряк крепко пожал юноше руку.
— Очень рад! А где же ваш старик?
— Вон там, впереди!
За разговорами они не заметили, как подошли к Сенному рынку. Вдруг откуда-то сверху раздались выстрелы, похожие на щелканье бича. Несколько демонстрантов, шедших впереди, упало, а остальные кинулись к домам. Колонна рассыпалась.
— Откуда это стреляют? — не мог понять Филипп Рыкунов.
— С колокольни бьют, — догадался Василий, заметивший взлетевших над церковью голубей.
— Правильно! А ну, за мной!
Они втроем побежали к церкви. За ними ринулись еще несколько человек.
Главный вход в храм был закрыт. Матросы принялись кулаками и прикладами барабанить в массивную дверь. Им долго не открывали, потом изнутри послышалось:
— Кто тут?
— Открой, а то взломаем.
В замке заворочался ключ, и дверь приоткрылась.
— Чего вам? — спросил человек с белесой бородкой. — Богослужения сегодня не будет.
Старший Рыкунов схватил его за грудь, вытащил на паперть и потребовал:
— Говори, кто стрелял в народ?
— Не знаю, милый… Не знаю.
Губы у сторожа тряслись, глаза суетливо бегали.
— Врешь!
— Ей-богу, чтоб мне провалиться! — начал клясться тот и уже хотел было опуститься на колени, но матрос встряхнул его и толкнул в церковь.
— Показывай, где у вас банда с оружием?
— Да что вы, господи! Там какие-то… для охраны. Я их не впускал. Они самовольно…
— Показывай, где они.
— Да вы сами в ризницу и на колокольню загляните, — шепотом подсказал сторож.
С улицы вошло еще несколько моряков и путиловцев. Одни двинулись на колокольню, другие стали обыскивать церковь. В ризнице матросы обнаружили двоих военных, торопливо надевавших на себя расшитые парчой одеяния.
— А ну, кончай комедию… руки вверх! — приказал бородатый моряк с тремя нашивками боцманмата.
Отобрав у арестованных пистолеты и патроны, моряки содрали с них церковные одеяния, скрутили руки за спину и связали найденными здесь же кручеными шнурами.
— Выводи на улицу, — сказал бородатый боцманмат. Ткнув пальцем в Васю Кокорева, он добавил: —Тебя назначаю старшим конвоя.
Путиловцы вывели арестованных на площадь. Нарвская колонна демонстрантов уже прошла далеко вперед. Ее хвост виднелся у Апраксина рынка. Неожиданно и там открылась стрельба.
— Опять по колонне бьют, — определил боцманмат. — Конвоирам остаться, остальным за мной! — крикнул он и вместе с моряками побежал в сторону Невского.
За ним устремились все матросы. С арестованными остались только Василий Кокорев, Ваня Лютиков и клепальщик Шурыгин.
— Что будем делать? Отпустим, что ли? — спросил Шурыгин.
— Н-нет, отпускать нельзя, — возразил Лютиков. — Лучше отведем в церковь и з-запрем.
— Их оттуда выпустят, — сказал Кокорев. — А таких сволочей расстреливать надо. Где здесь милиция? — спросил он у дворника, вышедшего из ворот.
Тот объяснил, как пройти к ближайшему отделению милиции.
Путиловцы, подталкивая своих пленников прикладами винтовок, погнали их за торговые ряды.
Начальник отделения милиции, высокий, краснолицый детина, похожий на мясника, не пожелал принимать арестованных.
— Не имеем права забирать военных, отведите их в комендатуру.
— Как не имеете права, когда они в людей стреляли? Вы обязаны задержать и протокол составить, — настаивал Кокорев.
— Ничего я не обязан.
Видя, что с этим тупым человеком спорить бесполезно, путиловец потребовал:
— Тогда вызовите конвойных из военной комендатуры.
— Вот это можно, — согласился начальник отделения милиции и пошел звонить по телефону в соседнюю комнату. Оттуда слышно было, какой крутил ручку аппарата и кричал: «Але… але».
Неожиданно с улицы вошли церковный сторож и с ним долговязый человек в плаще-накидке и таких же офицерских сапогах, какие были на арестованных.
«Мокруха, — узнав его, удивился Кокорев. — Не связан ли он с этими типами?»
Аверкин, беглым взглядом окинув путиловцев и их пленников, без всякого стука открыл дверь в кабинет начальника милиции, г пропустил в нее сторожа и прошел сам.
«Надо бы и его задержать», — решил Кокорев. Он поднялся и, велев товарищам зорче следить за арестованными, приоткрыл дверь в кабинет.
Увидев его, начальник отделения рявкнул:
— Нельзя… закрыть!
Но Кокорев не послушался и решительно шагнул в комнату.
— У меня важное заявление, — сказал он.
— Какое еще заявление? — багровея, заорал милицейский.
— Задержите этого типа, — указал Василий на Аверкина. — Он провокатор.
— Чего? — как бы не расслышав, переспросил начальник отделения, приближаясь к нему. И вдруг неожиданной подножкой и ударом в грудь сбил его с ног.
— На помощь! — крикнул Кокорев товарищам, стараясь вырваться из сильных рук. Но на него уже набросились Аверкин и еще один милиционер. Втроем они заткнули ему рот, обезоружили и связали.
Товарищи, видимо, не слышали его крика, из общей комнаты никто не отозвался.
Начальник отделения вызвал новых милиционеров и вместе с ними вышел из кабинета.
Вскоре из общей комнаты послышались крики и шум борьбы.
Пройдя по Невскому, кронштадтцы свернули на Литейный проспект. Здесь на панелях теснилась публика попроще. Девушки в белых кофточках что-то выкрикивали матросам, а те в ответ махали им бескозырками.
Неожиданно впереди колонны появился зеленый грузовик. На нем стоял пулемет «максим» и сидело несколько солдат без фуражек. Зубоскаля, они что-то кричали, точно были пьяными.
Видя, что это солдаты не Кронштадтского гарнизона, начальник колонны попросил их убраться.
— Что, клешники, струсили? — с насмешкой спросил военный, сидевший в кабине, и велел шоферу прибавить скорость.
Грузовик зачадил и умчался вперед.
В это время пришла весть, переданная связными, что на Невском только что были обстреляны кронштадтцы, шедшие в последних рядах колонны. Есть раненые.
— Вот ведь растянулись, выстрелов не слышим, — заметил начальник колонны. — Подтянуть хвост! — приказал он.
— Прибавить шагу… Подтянуться! — покатилась по отрядам команда.
Передние, несколько замедлив ход, продолжали двигаться. Голова колонны уже приближалась к Пантелеймоновской улице. Неожиданно раздались винтовочные выстрелы, защелкали пули.
Грузовик, укативший вперед, вдруг стал пятиться и открыл пальбу из пулемета — не то по морякам, не то по раскрытым окнам домов.
Матросы, не понимая, откуда стреляют, ответили беспорядочной стрельбой.
— Ложись! — кричали одни.
— Стой! — требовали другие. — Без паники!
Все ряды смешались.
Израсходовав первую обойму патронов, многие матросы попадали на мостовую, чтобы перезарядить винтовки. Остальные кинулись врассыпную к подъездам, под арки ворот, в подвальные помещения магазинов. На панелях началась давка. А пальба продолжалась.
На проспект откуда-то выкатил броневик. Он стал водить стволом пулемета по этажам домов, как бы отыскивая цель.
Стрельба затихла. Послышались стоны раненых. Матросы подняли с мостовой окровавленного, с выбитыми глазами кронштадтского солдата и понесли на руках, чтобы все видели жертву обстрела.
— Лови подлецов… бей их!
Часть моряков кинулась к домам разыскивать тех, кто стрелял из окон, а остальные под грохот барабанов лавиной двинулись дальше.
Порядок невозможно было установить. Всюду мерещились притаившиеся враги. Винтовки уже не покоились на левом плече, а были взяты наизготовку. Даже любопытные обыватели вызывали подозрение. Озлобленные матросы брали их на прицел и зычными голосами кричали:
— Вон с балконов! Закрой окна… Стреляем без предупреждения!
Грозным и бурным потоком моряки двинулись к Таврическому дворцу, в котором второй день беспрерывно заседал Совет.
На Фурштадтской улице начальники колонны, чтобы поддержать престиж красного Кронштадта, отозвали с панелей матросские дозоры и подравняли ряды.
К Таврическому дворцу моряки подошли с музыкой.
Здесь вся улица была запружена народом. Послышались голоса:
— Матросы идут… пропустить матросов!
Толпа расступилась, освобождая проход. Моряки, четко печатая шаг, прошли к железным воротам массивной решетки и остановились.
Таврический дворец охранялся юнкерами и казаками. Броневики настороженно стояли по углам и угрожающе водили стволами пулеметов.
Представители кронштадтцев прошли во дворец, а оставшиеся на площади матросы, закрутив махорочные цигарки, стали ждать. Над колонной заколыхалось облако табачного дыма.
Прошедшие во дворец кронштадтцы поднялись во второй этаж и там около буфетной неожиданно встретили Владимира Ильича. Он выглядел бодрей, чем утром, и был даже весел.
Узнав, что произошло с моряками и как они настроены, он обеспокоился и велел срочно собрать в комнате большевистской фракции всех работников Центрального Комитета, находящихся во дворце.
На заседание собралось человек двадцать. Здесь были представители и от солдат, ждавших на улице решительных действий.
Выслушав их, Владимир Ильич сказал, что в создавшейся обстановке вооруженное выступление было бы безумием. Центральный Комитет правильно решил придать демонстрации мирный характер. Ведь солдаты и матросы пришли требовать всей власти Советам. И вдруг они же будут действовать против Всероссийского исполнительного комитета Советов и войск, вызванных им с фронта. В этой путанице не всякий разберется. Да и не назрело еще время. С восстанием играть нельзя.
Единодушно было решено демонстрацию объявить законченной и разослать агитаторов, чтобы те уговорили солдат вернуться в казармы, а матросов — мирно отправиться на Васильевский остров и Петроградскую сторону, где их ждет ужин и будет приготовлен ночлег.
Семену Рошалю быстро удалось уговорить уставших от похода, проголодавшихся матросов пойти на корабли и в казармы ужинать. Моряки построились в колонну и под оркестр покинули ощетинившийся пулеметами дворец.
С солдатами разговоров было больше. Они уселись перед дворцом прямо на мостовой и требовали к себе министров либо председателя исполкома Советов.
— Да их уже звали, — убеждали агитаторы, — не идут к вам. Видно, винтовок испугались.
— А вы штыком подгоните!
— Видите ли, на штык найдутся и у них штыки. Кровопролитие ничего не даст.
— Эх вы, струсили!
Трудно было образумить солдат, решивших драться. Их долго пришлось разубеждать и уводить группами. Лишь поздно вечером улица перед дворцом заметно опустела.
В этот час дежурный по большевистской фракции, разыскав Ленина, вполголоса позвал:
— Владимир Ильич, вас срочно к телефону.
Пройдя в дежурную, Владимир Ильич взял телефонную трубку. На другом конце провода был Бонч-Бруевич. Волнуясь, Владимир Дмитриевич приглушенным голосом сообщил:
— Против вас состряпана гнусная клевета. Хотят скомпрометировать политически… Обвинить в шпионаже в пользу Германии.
— Это они давно пытаются сделать.
Владимир Ильич помолчал некоторое время, затем, не без огорчения в голосе, спросил: можно ли поверить человеку, сообщившему эту весть?
— Да, да, — ответил Бонч-Бруевич. — Источник вполне надежный. Можно сказать, первоисточник. Знает не по слухам, а после просмотра поступивших документов. Уходите скорей, — просил он. — Я чувствую, вам грозит большая опасность.
— Не волнуйтесь, я уже собираюсь.
— Поскорей бы!
— Уйду, не сомневайтесь. Если будет что новое — звоните на Широкую Марку Тимофеевичу. До свидания.
Повесив телефонную трубку, Владимир Ильич в волнении зашагал по комнате.
«Ах, подлецы! Этого, конечно, нужно было ждать. Они отомстят за часы пережитого страха, — думал он. — И выбрали самое подлое: «Шпион»! Таким обвинением можно замарать кого угодно. Шпион ненавистен каждому. Правда, на суде мы докажем, что они гнусные лжецы и клеветники. Но им важно выиграть время: скомпрометировать партию и отпугнуть солдат. Теперь надо быть осторожными, продумывать каждый шаг. Первым делом— не дать схватить себя врасплох. Надо ко всему подготовиться. Да и они, наверное, не сразу решатся на столь рискованный ход. Палка ведь о двух концах. Можно и ответный удар получить».
Из Таврического дворца Владимир Ильич сперва заехал на Мойку в редакцию «Правды», просмотрел материал, идущий в номер, выправил передовую статью, потом очистил свой стол от бумаг и записей, которые не должны были попадать в чужие руки, и поздно ночью отправился на Петроградскую сторону.
БОЯ НЕ ПРИНИМАТЬ
Яков Михайлович Свердлов жил с семьей на Широкой улице прямо против дома Елизаровых, Забежав рано утром к себе на квартиру, он сказал жене:
— Через несколько минут я опять исчезну и вернусь не скоро. Юнкера ночью разгромили «Правду». Чуть не захватили Ленина. Каким-то чудом он уехал раньше и ничего еще не знает. Надо предупредить, теперь всего можно ждать.
Схватив непромокаемый плащ, Яков Михайлович поцеловал жену, детей и умчался.
В самом конце Широкой улицы высился шестиэтажный дом с приметной парадной. Парадная была расположена в глубокой нише, над которой виднелись фигуры двух римлян, согнувшихся под тяжестью каменной гирлянды.
Свердлов пересек мостовую, вошел в парадную, а оттуда посмотрел по сторонам: не следит ли кто? Убедившись, что на улице людей нет, он поднялся на третий этаж и позвонил Елизаровым.
Дверь открыл сам Марк Тимофеевич и молча пропустил в переднюю.
— Владимир Ильич у себя? — спросил Свердлов.
— Только что встал. Не знаю, когда этот человек спит.
Свердлов прошел к Ленину. Владимир Ильич уже был одет. Сообщив о случившемся в «Правде», Яков Михайлович предложил немедля покинуть дом.
Ленин казался спокойным.
— Может, позавтракаете со мной? — спросил он.
— Нельзя. Сюда могут нагрянуть в любую минуту.
Яков Михайлович набросил на Ильича свой плащ, нахлобучил на голову шляпу и потянул к двери.
Только выйдя на набережную Карповки, он решился рассказать о ренегате Алексинском, который в комитете журналистов заявил, что он владеет материалом, подтверждающим шпионаж Ленина в пользу Германии.
— В это, конечно, никто не верит, — поспешил вставить Яков Михайлович. — Даже Чхеидзе и Церетели, зная подлость Алексинского, принялись названивать редакторам крупных газет, чтобы те не вздумали печатать вздорных измышлений. Но, боюсь, найдутся газеты, падкие на сенсационный материал.
На набережной Карповки жила большевичка Мария Леонтьевна Сулимова. Она была секретарем военной комиссии. Свердлов знал, что вся семья ее на даче и квартира пустует. Только бы застать хозяйку дома! Он осторожно постучал в дверь.
На стук вышла сама хозяйка. Увидев ранних гостей, она смутилась:
— Прошу! Только я не ждала…
— Мы не рассчитывали на подготовленный прием, — успокоил ее Яков Михайлович. — Просим извинить за вторжение… Владимиру Ильичу на некоторое время придется остаться у вас.
Видя недоумение на лице хозяйки, Владимир Ильич объяснил, почему им понадобилась ее квартира.
— Пожалуйста, живите сколько угодно, — поспешила сказать Мария Леонтьевна. — Буду рада помочь.
Пока Сулимова торопливо подготавливала гостю соседнюю комнату, Ленин и Свердлов обдумывали: что же предпринять в первую очередь?
— Без газеты невозможно, — заметил Владимир Ильич. — Надо найти типографию, бумагу и срочно издать хотя бы «Листок «Правды». Я сейчас же сяду писать статьи. Часа через два присылайте нарочного.
— А меня беспокоят наши документы, — сказал Яков Михайлович. — Не попали бы они в руки усмирителей — новое дело состряпают.
— Да, документы надо немедля вывезти и спрятать в надежных местах. Похоже, что нам придется действовать полулегально. Подготовьтесь ко всему.
Когда Свердлов ушел, Владимир Ильич попросил хозяйку сходить на улицу и купить всяких газет.
— Надеюсь, чернила и бумага в доме найдутся?
— Безусловно. Даже пишущая машинка есть.
— Расчудесно! Заприте меня на ключ и уходите.
Сулимова принесла ворох свежих газет. Все они под крупными заголовками сообщали об уличных боях и заговоре большевиков. На всех полосах репортеры расписывали «зверства» рабочих и матросов, якобы стремившихся силой оружия захватить столицу и заставить Советы объявить себя центральной властью.
Солидные газеты требовали расправы над «бандами» безответственных лиц и наведения в столице железной рукой порядка. Но ни в одной из них не было материалов, о которых говорили Бонч-Бруевич и Свердлов. Только в бульварном листке «Живое слово» Владимир Ильич наткнулся на заголовок: «Ленин, Ганецкий и К0 — шпионы!»
Ниже печаталось письмо за двумя подписями — бывшего члена Второй государственной думы от рабочей курии Петрограда Алексинского и эсера Панкратова, отсидевшего четырнадцать лет в Шлиссельбургской крепости. Панкратовская подпись, видимо, понадобилась для подкрепления слишком подмоченной репутации Алексинского. Выслуживающиеся карьеристы писали, что считают своим революционным долгом опубликовать часть только что полученных документов, и требовали немедленного расследования.
Самих документов в газете не было. В примечании сообщалось, что они будут опубликованы позже. Дальше шли бредовые выдумки — якобы выдержки из письма разведывательного отдела штаба Верховного Главнокомандующего. В них утверждалось, что заброшенный в тыл 6-й русской армии прапорщик 16-го Сибирского стрелкового полка Ермоленко на допросе показал, что Ленин и председатель «Союза освобождения Украины» Скоропись-Колтуховский являются такими же агентами германского штаба, переброшенными в Россию для подрыва доверия народа к Временному правительству.
Для пущей убедительности в конце сообщалось, что деньги на агитацию большевики получают от немцев через своих агентов в Швеции — Ганецкого и Парвуса, а в Петрограде — присяжного поверенного Козловского, на счету у которого в Сибирском банке более двенадцати миллионов рублей. Цензурой установлен постоянный обмен телеграммами между германскими агентами и большевистскими лидерами.
— Глупейшая стряпня! — определил Владимир Ильич. — Ее нетрудно будет разбить. Ложь и нелепости бьют в глаза. Ну какое отношение к нам имеют ренегат Парвус и махровый националист Скоропись-Колтуховский? В штабе, видно, никогда не читали моих статей, иначе придумали бы что-либо поумней.
Владимир Ильич придвинул к себе чернильницу и тут же принялся писать. Надо было немедля ответить — разоблачить гнусных клеветников.
В Петроград прибывали вызванные с фронта войска. С утра по улицам двигались повозки, походные кухни, легкая артиллерия, строем шагали пехотинцы — со скатками, ранцами и винтовками.
Всюду разъезжали конные патрули.
В особняке Кшесинской под одной крышей размещались редакция газеты «Солдатская правда», секретариаты Центрального и Петроградского комитетов и «военки». Документов по всем организациям накопилось много, необходимо было хотя бы самые важные упаковать и вывезти в надежное место.
Пока работники комитетов и «военки» возились с архивами, моряки, ночевавшие здесь, готовились к обороне: у подъезда на площади выставили бронированный автомобиль, а в каменной беседке и на крыше — пулеметы.
Вскоре дозорные стали сообщать, что Петроградскую сторону оцепляют войска.
Статьи, написанные Владимиром Ильичем для «Листка «Правды», Сулимова отпечатала на машинке и отнесла в Центральный Комитет. Она весь день ходила по поручениям Ленина и узнавала новости.
К вечеру стало известно, что в штабе военного округа надумали проучить застрявших в столице кронштадтцев. Прибывшие войска готовились к бою.
Чтобы предотвратить бессмысленное кровопролитие, Центральный Комитет послал к балтийцам агитаторов. Среди матросов, размещавшихся в Морском корпусе и Галерной гавани, долгих разговоров не пришлось вести. Моряки поняли, что силы будут неравными, и согласились вернуться в Кронштадт. В худшее положение попали матросы на Петроградской стороне. Они уже не могли пройти к пристаням у взморья, так как мосты были разведены и охранялись войсками.
Оставшись в окружении, кронштадтцы решили занять
Петропавловскую крепость и принять бой. Неужто их не поддержат родные корабли Балтийского флота?
Винтовок и пулеметов хватало на всех. Хуже обстояло с пушками. Крепостные орудия устарели, износились и не имели прицелов. А без пушек разве долго продержишься? Решили позвонить на морской полигон и попросить матросов привезти на грузовике несколько легких орудий. Но тут телефонистка городской станции, заартачившись, сказала, что не соединит с полигоном.
— Мы объявили вам бойкот! — надменно сообщила она. — Бунтуете, потому что вам заплатили немцы.
— Чего, чего? Да ты, никак, дуреха, белены объелась? Чья сорока эту брехню на хвосте принесла?
Телефонная «барышня» обозлилась: обозвав моряка шпионом и мерзавцем, рывком выключила телефон.
Ночью к Петропавловской крепости подошел паровой катер, он мог взять на борт лишь несколько человек. Но кто из матросов покинет товарищей в беде? Таких не оказалось.
— Если нападут, будем драться до последнего, — заявили они. — А вы там не забывайте нас. Сообщите в Гельсингфорс и сами готовьте десант.
— Есть, поддержим!
И катер ушел в Кронштадт.
К Иустину Тарутину, застрявшему во дворце Кшесинской, подошел сигнальщик с «Океана» Андрей Проняков и не без иронии спросил:
— А ты какими судьбами тут?
— Тобой полюбоваться на сухую вахту пришел, — хмурясь, ответил Тарутин. — От своих отбился.
— Прямо не верится: анархист и вдруг… охраняет Центральный Комитет большевиков. Чудеса!
— Ладно, будет… без тебя тошно!
Видя, что Иустин сильно расстроен событиями прошедших дней, Андрей Проняков больше не задевал его.
Он знал, что Тарутин лишь на словах был анархистом-коммунистом, на самом же деле мало чем отличался от большевиков и всюду их поддерживал.
Они вместе побывали в патруле, а сменившись, прошли в помещение, бросили на пол по пачке газет и улеглись спать.
На рассвете дозорные увидели, как по дальним мостам двинулась пехота. Противник накапливал силы.
В особняке Кшесинской немедля объявили тревогу. Расчеты побежали к пулеметам, а остальные моряки, конечно, заснуть уже не могли: ждали нападения.
Утром неожиданно зазвонил умолкший телефон. Подошедший дежурный услышал в трубку приказ помощника командующего войсками Петроградского военного округа эсера Кузьмина:
— Если через три четверти часа оружие не сдадите — откроем по особняку Кшесинской артиллерийский огонь.
Угроза никого не испугала. Нашлись даже отчаянные матросы, требовавшие без предупреждения напасть на солдат и разогнать их.
— Зря спровадили боевых ребят в Кронштадт, — обвиняли они руководителей. — С ними нас было бы несколько тысяч! С рабочими мы здесь кого хочешь побьем.
— Товарищи, Петроград — не вся Россия. Мы будем выглядеть безумными бунтовщиками, — принялся урезонивать Рошаль. — Нельзя действовать разрозненно. Вызовем ненависть с двух сторон. Нас и так изображают озверевшими анархистами, а тут выйдет, что мы деремся с войсками Советов. Момент самый неподходящий. Бесславно погибнем при всеобщем презрении…
В разгар бурного митинга появились два кронштадтца — Ремнев и Альниченко, прибывшие на катере с повелительным требованием к Центральному исполнительному комитету Советов освободить всех моряков, арестованных за последние дни, и беспрепятственно пропустить на Котлин.
С таким требованием кронштадтцев имело смысл отправиться в Таврический дворец. Руководители демонстрации присоединились к парламентерам, а всем остальным приказали на всякий случай перебраться в Петропавловскую крепость.
Парламентеры без промедления уселись на катер и умчались вверх по Неве к Таврическому дворцу, а матросы, захватив пулеметы, малыми группами стали покидать особняк Кшесинской. Они огибали бульвар, пересекали Каменноостровский проспект, пробегали по деревянному мосту через Кронверкский канал и скрывались под аркой Иоанновских ворот крепости. Здесь, за толстыми стенами равелина, шла спешная подготовка к обороне: матросы прямо на стенах устанавливали пулеметы и каменными плитами обкладывали гнезда.
Тем временем кронштадтский катер пристал к барже с дровами. Моряки вскарабкались на баржу, с нее перебрались по узким и гибким сходням на пустынную набережную и закоулками вышли прямо к Таврическому дворцу.
В помещении Совета заседала военная комиссия, обсуждавшая, каким способом следует обуздать моряков, застрявших в Петрограде.
К кронштадтцам вышел меньшевик Богданов. Узнав, зачем они прибыли, он пообещал выпустить арестованных, но при условии: если моряки, оставшиеся на свободе, немедля сдадут оружие.
— Оружия не отдадим, — твердо сказали они.
Богданов, с видом озабоченного друга, принялся урезонивать:
— Имейте в виду… многие части гарнизона с ненавистью относятся к распоясавшейся матросне. Население тоже. Если пойдете с оружием — вызовете еще большее озлобление… кончится кровопролитием. Тогда уже мы ничего не сможем сделать.
— Не пугайте, — ответил Рошаль. — В Питере у нас есть и друзья. Неизвестно, кто кого осилит. Но мы готовы пойти на компромисс. Если вас пугают наши винтовки, мы их сложим… на подводы, которые отправятся с нами на пристань.
Богданова это предложение, видимо, устроило. Попросив подождать, он ушел.
Вскоре кронштадтцев пригласили на заседание. Комната, несмотря на высокий потолок, была мрачной. За столом, похожим на букву «П», сидели с видом инквизиторов меньшевики и эсеры. Некоторые из них были в офицерской форме. Дубовые стены, увешанные мечами, пиками, секирами и щитами, кресла с высокими спинками, тяжелые бронзовые подсвечники создавали впечатление средневекового судилища.
Выдержав паузу, председательствующий — меньшевик Либер — тусклым голосом объявил:
— Вы сдаете оружие без всяких условий. В вашем положении — капитуляция лучший выход.
— На капитуляцию у нас нет полномочий, — ответил Ремнев. — Мы пришли не пощады просить, а требовать от имени Кронштадтского совета…
Но его не пожелали выслушать. Прервав парламентера, председательствующий ультимативно отчеканил:
— На размышления даем остаток дня и ночь. Если не будет ответа к десяти утра — пеняйте на себя.
Богданов молчал. Кронштадтцы повернулись и покинули зал.
Не успели они добраться до вестибюля, как их нагнал молодой офицерик. Щелкнув каблуками, он доложил:
— Вас просят вернуться.
Видимо, у комиссии была прямая телефонная связь с военным округом, который не намерен был церемониться с моряками. Его не устраивало выжидание. Поэтому заметно изменилось настроение и у членов комиссии.
— Срок ультиматума сокращен, — злорадствуя, сообщил Либер. — Вы получаете два часа на размышления.
— Но за два часа, как вы понимаете, мы не успеем ни с кем переговорить.
— Техника нас не интересует. Через два часа ждем определенного ответа.
— Такой срок мы расцениваем как явное издевательство.
— Расценивайте как хотите, вы нам больше не нужны. Можете идти.
Выйдя, кронштадтцы стали совещаться: что им теперь предпринять? Было ясно: противники обнаглели потому, что чувствуют за собой силу. Вдруг дверь распахнулась, и их в третий раз позвали на заседание.
— Срок ультиматума вовсе аннулирован, — смотря куда-то в сторону, объявил жестким голосом председательствующий. — Вы должны немедля ответить: складываете оружие или нет?
Он это спросил таким тоном, словно готов был считать до трех, а затем — стрелять.
Наглость Либера обозлила кронштадтцев, а особенно — Рошаля.
— Мы протестуем против ультимативного тона и отвергаем ваши домогательства, — сказал он. — Товарищам передадим, что здесь издеваются над парламентерами… поминутно меняют решения, словно марионетки, которых дергают за веревочки.
Тарутина и Пронякова в Петропавловской крепости направили на Зотов бастион. Он находился в северо-западной части. Чтобы попасть на него, надо было пройти в другой конец, мимо собора и Монетного двора.
На валу Зотова бастиона росли редкие деревца, кустики бузины и так заманчиво зеленела трава, что хотелось прилечь, вытянуться под теплыми лучами солнца и хоть на часок сомкнуть глаза.
Внизу, почти под самой стеной, поблескивала зеленовато-темная вода неширокого Кронверкского канала. Прямо за ним виднелись каменные здания кронверка, справа — густо покрытые листвой деревья «Сашиного» парка, а слева — «американские горы» Народного дома и клетки зверинца. Звери, видно, голодали, так как стой стороны то и дело доносились тягучий вой, тявканье, рык, похожий на раскат грома, и могучий, все заглушавший рев.
— Слон трубит, — сказал Тарутин. — Говорят, он пудами овощи и хлеб жрет. А нам бы с тобой хоть бы полбуханочки. Живот здорово подвело, со вчерашнего утра ничего не ел.
— Н-да-а, — протянул Проняков. — Сейчас бы тепленького ржаного хлебца с прокладочкой из сальца. Вкуснота!
— Знаешь что… — вдруг решил Тарутин. — Ты тут поглядывай, а я мигом обернусь! Не видал, где камбуз?
— Нет, не примечал. Ты у солдат спроси, может, чайная или тайная лавочка есть. Вот тебе деньги.
— Не надо, своих хватит.
Тарутин спустился с вала и скрылся за каменными строениями. Проняков, присев на корточки, стал зорко поглядывать по сторонам. Минут через пять он приметил движение в парке: вдали от дерева к дереву перебегали солдаты. В руках у них были винтовки, а за спинами горбатились ранцы.
«С фронта прибыли, — догадался Проняков. — Неужто воевать с ними придется? Ничего глупей не придумаешь! Они ведь хотят того же, чего и мы. Вот подлецы, соглашатели, все запутали!»
— Эй, за пулеметом, не зевать! — крикнул он соседям.
— Видим, — ответили пулеметчики. — Пугнуть бы надо, чтоб близко не подходили!
— Но-но! Я вам пугну! — послышался снизу грозный голос. — Без команды — ни одного выстрела!
Войска Временного правительства, обойдя Петропавловскую крепость с востока и запада, стягивали вокруг нее плотное кольцо.
Они подходили все ближе и ближе. Ими уже был занят парк, заполнены прилегающие улицы и проспекты.
Матросы угрюмо наблюдали за подготовкой противника к осаде.
Многие исподтишка поглядывали в сторону моря: не покажутся ли на Неве дымы кораблей, идущих на помощь. Но широкая река была пустынна, не виднелось даже лодок.
К Иоанновским воротам подошел парламентер. Размахивая белым флажком, он стал выкрикивать:
— Эй, в крепости! Вышлите для переговоров своих парламентеров. На размышление даем полчаса.
Он ловко повернулся кругом, звякнул шпорами и ушел.
Моряки выбрали для переговоров двух большевиков и одного анархиста. К выбранным парламентерам присоединились офицеры из гарнизона крепости. Они вместе прошли сквозь цепи войск в особняк Кшесинской, где уже хозяйничали штабисты округа.
Шкафы и сейфы были взломаны, ящики письменных столов выброшены. Документы валялись на полу, затаптывались в коридорах и на лестницах.
В большом зале парламентеров встретил штабс-капитан, захвативший особняк. С ним были его помощники.
— Мы от вас требуем полного разоружения, — сказал штабс-капитан, — безоговорочной капитуляции.
— Капитуляции не будет, — ответили кронштадтцы и пригрозили: — К нам скоро подойдет помощь, тогда мы вам ультиматум предъявим. Но чтобы не проливать крови, мы согласны погрузить оружие на отдельное судно и отправиться на Котлин. Не пойдете на это — будем драться.
Тут вдруг вмешались офицеры Петропавловской крепости.
— Вы ведете себя… мягко говоря, неприлично, — возмутились они. — Находясь в гостях, затеваете какое-то сражение, которое мы не намерены поддерживать. Не забывайте— не вы, а мы хозяева крепости. И будет так, как гарнизон крепости пожелает.
Штабс-капитан как бы нехотя добавил:
Переговоры ведете не одни вы. Есть договоренность с вашими руководителями. Вы сдаете оружие без всякого сопротивления. Здесь находятся представители и ВЦИК, и Центрального Комитета большевиков, они могут подтвердить.
Переговоры велись долго. Наконец парламентеры появились на улице. Они возвращались в крепость хмурые, вместе с ними шли какие-то незнакомые морякам люди.
— Все ясно… сдаваться! — определил Иустин Тарутин. — Ораторов для уговоров ведут. У-у, трусы! Весь флот опозорят. Но я никому не подчиняюсь и оружие не сдам. Без меня позорьтесь.
— Что же, ты один воевать будешь? — спросил Проняков.
— Буду, — упрямо ответил Иустин. — Не испугаюсь!
Он зарядил винтовку, сел в тень под куст и, бешено сверкая глазами, закурил.
— Слушай, Иустин, давай без глупостей! — сказал Андрей. — Ты же моряк и понимаешь, что без дисциплины нашему брату невозможно.
— И ты туда же! — перебил его Тарутин. — В уговаривающие записался?
Андрей чуть было не вспылил, но удержался и ответил с укором:
— Уговаривать дурней не такое уж большое удовольствие, как тебе кажется. Но напомнить я обязан… Из-за мелкого желания покобениться нельзя подводить товарищей. Подчиняйся большинству. Прошу только одного: посиди тут, пожалуйста, без всяких фокусов, а я мигом вернусь.
— Ладно, катись…
Оставив Тарутина, Проняков пошел к Петровским воротам. У Меньшикова бастиона он увидел митингующих. Там дело уже дошло до голосования. Большинство согласилось подчиниться приказу большевиков и сдать оружие.
Вскоре в крепость въехали два грузовика и остановились посреди двора. В кузова полетели винтовки, палаши, револьверы, пулеметные ленты. Многие матросы бросали винтовки без затворов, револьверы без барабанов.
Проняков, боясь, что взбешенный Тарутин натворит без него глупостей, бросил свою винтовку в общую кучу и поспешил к Иустину забрать его оружие. Но тот заартачился:
— Не отдам! Пусть ни мне, ни им.
Схватив свою винтовку, он вышел на стену и закинул ее, как палку, в Кронверкский канал. Туда же полетели и подсумки с патронами. Потом он вытащил из ножен палаш, торопливо вырыл им под кустом небольшую продолговатую яму, уложил в нее свой маузер и сказал:
— Давай и твой, может, вернемся сюда. Оружие пригодится.
Оба маузера он аккуратно обернул куском толя, валявшегося у стены, засыпал яму землей и утоптал. А Проняков тем временем выскоблил на кирпиче крепостной стены стрелу с цифрой 4.
— Смотри, — сказал он, — ровно четыре шага.
— Есть, — ответил Тарутин. — А теперь — пошли сдаваться. Шут с вами, подчиняюсь.
Но сдаваться было некому. Солдаты, осаждавшие крепость, вошли только в Иоанновский бастион.
Оставшись без оружия, матросы посбрасывали с себя форменки, тельняшки и, улегшись на траву вала, подставляли спины теплым лучам солнца.
— Будем загорать в пользу революции! — шутили они.
Это делалось с умыслом: пусть противник видит — моряки не сломлены и не пали духом.
Солдаты гарнизона крепости оказались гостеприимней офицеров. Сочувствуя морякам, они вынесли на улицу несколько бачков с супом и котел каши.
— Давай, братцы матросы, наваливайся! — пригласил повар. — Отведайте нашей шрапнели.
Моряков долго уговаривать не пришлось. Все они сильно проголодались, поэтому мигом разобрали притащенные солдатами ложки, котелки и ели компаниями в три-четыре человека.
Вскоре в крепости появились какие-то штабисты и принялись переписывать всех кронштадтцев.
Те, кого заносили в список, считались свободными, но матросов почему-то за ворота не выпускали.
— В чем дело? — заволновались они.
— Пойдете под конвоем, — объяснил штабист. — Иначе фронтовики самосудом вас порешат.
— А вы не беспокойтесь, — отвечали кронштадтцы. — Мы не арестованные, обойдемся без свечек. Тоже защитники нашлись!
Матросы собирались большими группами и выходили за ворота не толпой, а строем. «Пусть видят, признаем мы дисциплину или нет».
Солдаты, стоявшие у стен крепости, в парке и на площади, сбегались к мосту и с любопытством смотрели на моряков. А те, проходя мимо них, шутили:
— Чего глаза пялите? Своих не узнаете? Мы же из-за вас, дурней, бучу подняли!
— Ишь набежали! Надеетесь рога и копыта увидеть? А у нас за спинами — ангельские крылышки. В святые только что записались.
Солдаты, присланные на усмирение, видя сплоченных и веселых моряков, удивлялись:
— Чего про них болтали! Какие это бандиты? Самые обыкновенные наши годки.
Пехотинцы расступались перед смело шагавшими матросами и говорили:
— Молодцы, ничего не боятся. Вот так бы и нам держаться. Дружный народ.
Черносотенцы, а порой разъяренные обыватели, напуганные демонстрациями со стрельбой, мстили за свой страх: прямо на улицах ловили и избивали рабочих, сочувствующих большевикам.
На Шпалерной улице был растерзан рабочий Воинов только за то, что вынес из типографии пачку «Листка «Правды».
Эсеры и меньшевики наконец решили взять власть, но не для того чтобы передать ее Советам, а чтобы помочь контрреволюции расправиться с большевиками. Новое правительство «спасения революции» возглавил Керенский. По его указу шли аресты, обыски по всему городу.
Во время налета на особняк Кшесинской юнкерам удалось захватить часть архива «военки». Свердлов сообщил об этом Ленину и спросил хозяйку квартиры:
— Там могут быть бумаги с вашей подписью?
— Да, непременно, — ответила Мария Леонтьевна. — Я ведь секретарствовала, вела все протоколы.
— Тогда уже сегодня нужно ждать обыска, — определил Владимир Ильич. — Вас в худшем случае арестуют, а меня, если обнаружат, «подвесят», — невесело шутил он.
Оставаться у Сулимовой было рискованно. Надежда Константиновна нашла квартиру на Выборгской стороне и вечером заехала за Владимиром Ильичем.
Чтобы походить на обывателя, вышедшего на прогулку, Ильич натянул на голову светлую панаму, взял трость и вышел с Надеждой Константиновной на набережную Карповки.
Застоявшаяся вода захламленной, почти не имевшей течения речки пузырилась и распространяла неприятный запах. Они прошли мост и повернули вправо. Шли не спеша по самым безлюдным окраинным улицам.
На Выборгской стороне под тополями у казарм Московского полка их поджидал пожилой рабочий Каюров. Передав ему Ильича, Надежда Константиновна свернула на другую улицу и ушла к подруге, жившей неподалеку.
Владимир Ильич хотел было поселиться в домике Каюрова, но передумал. У гостеприимного рабочего жить было небезопасно, так как к сыну хозяина приходили какие-то парни, связанные с анархистами. Они возились со взрывчаткой и бомбами. В любой момент могла нагрянуть милиция.
Узнав, что готовится всеобщая забастовка, Владимир Ильич попросил Каюрова проводить его в райком партии. Из райкома на легковой машине его отвезли в деревянный домишко, находившийся возле проходной завода «Русский Рено». Здесь собрались на тайное заседание члены Исполнительной комиссии городского комитета большевиков.
Забастовка в наводненном войсками городе могла вызвать лишь ярость карателей. Партия обязана была действовать обдуманно и осторожно. Владимир Ильич решительно высказался против организации забастовки.
— Мы ничего не выиграем, а потеряем много, — сказал он. — Надо отступить организованно и сохранить силы для будущей борьбы.
В ТЮРЬМЕ И НА ВОЛЕ
На углу Садовой и Невского Дементия Рыкунова зацепила пуля, посланная с крыши высокого дома. Рана была болезненной, но неопасной: пуля скользнула над лопаткой, не задела кости, а лишь пробила мякоть.
Вечером, меняя ему дома повязку, Игнатьевна спросила:
— Где же ты Васю оставил?
— Скоро придет, — ответил ей Рыкунов, но и сам встревожился: «Куда же Василий пропал? Не убили ли его?»
Он не стал ужинать, выпил только кружку воды и прилег на топчан. Рана горела, боль отдавалась в виски. Дементий закрыл глаза и вдруг почувствовал слабость и головокружение. Он проваливался во тьму и не мог остановиться. Слышалась стрельба, гул голосов. Звуки сливались, походили на перезвон кузнечных молотов, мелькали полосы раскаленного железа, и от горнов тянуло жаром…
Игнатьевна часа через два разбудила беспокойно ворочавшегося во сне юношу.
— Васи-то все нет, — сказала она.
Дема с трудом поднялся, тряхнул головой, чтобы согнать с себя сон, и вновь почувствовал, как заколебался пол и поплыли стены. Он схватился за край стола.
— Э-э, парень! — воскликнула Игнатьевна. — Да у тебя, никак, жар?
Она заглянула ему в глаза, дотронулась рукой до горячего лба.
— Ложись-ка в постель. Горе мне с вами.
— Ничего, бабушка. Вот посижу немного… и пойду искать.
— Куда ты такой пойдешь? Еще рану разбередишь. Отлеживаться надо.
Игнатьевна помогла ему раздеться, положила на лоб мокрое полотенце и пошла на завод.
Найдя Савелия Матвеевича в завкоме среди дружинников, она спросила:
— Васю моего не видели?
Лемехов, как бы припоминая, начал теребить ус.
— Да он будто с матросами был. Не пошел ли ночевать с Филькой на «Аврору»? Нынче многие наши ноги стерли. Шутка ли пройти столько верст! И Вася заметно прихрамывал, — выдумал кузнец. — Не беспокойся, Игнатьевна, вернется. Завтра я сам на Франко-русский схожу.
На другой день Петроград походил на оккупированный город: по мостовым, грохоча колесами, двигались пушки, двуколки. Юнкера и донские казаки хватали всякого, кто казался подозрительным — тащили в штаб военного округа.
Савелий Матвеевич только к вечеру зашел навестить Дему.
— Как плечо? — спросил он.
— Вроде не болит, да вот Игнатьевна не позволяет подниматься.
— Правильно делает, отлежись, пока тихо. А где же ты дружка своего потерял?
— Сам не пойму. У Сенного рынка были вместе, а потом делся куда-то. Надо бы сходить на Садовую, может, люди видели.
— Сейчас по улицам не очень находишься. Живо в тюрьму угодишь.
— Савелий Матвеевич, что ж это — конец всему?
— Ничего, не такое видели. Но придется выждать. Центральный Комитет велит в бой не ввязываться, а оружие припрятать до лучших времен. У вас тут с Васей, наверное, целый склад?
— Да нет, — сказал Дема. — Моя винтовка, три пистолета, тесак и патронов штук двести.
— Давай мне их, сегодня же зарою.
Завернув оружие в мешок, Савелий Матвеевич посидел еще немного и, когда сумерки сгустились, ушел домой.
Ночью Василия Кокорева и его товарищей юнкера повели в тюрьму. По дороге конвойные не давали путиловцам разговаривать, за каждое произнесенное слово норовили толкнуть прикладом.
В канцелярии тюрьмы надзиратели отняли у парней ремни, папиросы, спички и посадили всех в одну камеру.
Камера была небольшой. Нары, с тощими засаленными матрацами, высились в два этажа. Почти под потолком темнел квадрат окна с железной решеткой. Слева стоял стол, одним краем вделанный в стену, и несколько табуреток, а у дверей — зловонная деревянная параша.
Воздух был спертым и затхлым.
Осмотрев свое новое жилище, путиловцы уселись на нары.
— Отсюда не скоро вырвешься, — сказал Кокорев. — И на заводе не знают, что нас в тюрьму упрятали. Хоть бы весть какую подать.
За день юноши утомились. От огорчения не хотелось ни о чем разговаривать. Не раздеваясь, они повалились на нары и проспали до утренней поверки.
На рассвете железная дверь с треском раскрылась. В камеру вошел старший надзиратель, а за ним коридорный.
— Встать! — рявкнул тюремщик.
Проверив по фамилиям, все ли на месте, коридорный невнятным голосом зачитал правила внутреннего распорядка тюрьмы и предупредил:
— За неподчинение — карцер и лишение прогулок.
— Разрешите узнать, за что нас посадили сюда? — спросил Кокорев.
— Не прикидывайтесь дурачками, — ответил старший надзиратель. — Сами будто не знаете. Видели мы таких.
Потом появились два уголовника в серых халатах. Они молча бросили на стол три пайки хлеба, черпаком разлили по кружкам чай и, подхватив дымящийся бачок, удалились.
Железная дверь захлопнулась.
В камере стоял кувшин с водой. Путиловцы, поливая один другому на руки, помылись над парашей и подсели к столу завтракать. Но пить принесенный чай не смогли: от него пахло помойкой.
— Наголодаемся здесь, — отодвигая жестяную кружку, сказал приунывший Кокорев.
— Да и хлеб с оссевками, не проглотишь, — добавил Лютиков.
В стену камеры послышался едва внятный стук. Путиловцы настороженно вслушивались и вопросительно смотрели друг на друга: что это обозначает?
— На переговоры вызывают, — догадался Вася. — Я читал, есть такая тюремная азбука. Жаль, не запомнил, в какой букве сколько тире и точек.
На всякий случай он в ответ постучал монеткой в стенку. Это вызвало поток отрывистых стуков. Какой-то арестант, сидевший в соседней камере, хотел завязать разговор, но ребята не понимали его.
— Эх, хоть бы кого опытного к нам посадили! Ведь ничего знать не будем, — досадовал Кокорев.
На прогулку путиловцев в этот день не выпустили.
Поздно вечером в камеру втолкнули четырех матросов. Моряки при аресте, видимо, сопротивлялись, их лица были окровавлены, форменки разорваны. Они и в тюрьме продолжали шуметь, ругали конвойных и не давали закрыть дверь.
Только с помощью сбежавшихся надзирателей их удалось оттеснить в глубь камеры. Но едва тюремщики захлопнули дверь, как матросы кинулись к ней и принялись яростно барабанить кулаками. Лишь один из них, круглолицый, с широким ртом и крупными зубами, остался на месте. Он вытер носовым платком кровь со лба и спокойным голосом приказал:
— Стоп, братва! Трави пар. Довольно волну разводить.
И матросы сразу притихли.
Круглолицый моряк оглядел камеру и, заметив путиловцев, подошел к ним.
— Прошу прощения за шум, — пробасил он. — Разбудили?
— Ничего, — ответил Кокорев. — Весь день отсыпаемся. Нет ли у вас закурить?
— Найдется, — сказал моряк и, вытянув из кармана кисет с табаком, протянул его юноше. — А вы давно здесь?
— Со вчерашнего дня.
— Если не секрет — по какой статье?
— Сами не знаем. Мы поймали четырех типов, которые с колокольни стреляли в народ. Но в милиции их выпустили, а нам бока намяли — и за решетку!
— Значит, по той же статье, что и мы, — заключил моряк. — Нас в Петропавловке уговорили оружие сдать. А как только мы в город вышли, они давай вылавливать. Но мы им устроили общий аврал. Надолго запомнят. Теперь мы с вами товарищи по тюрьме. Давайте знакомиться. Иустин Тарутин, минер бригады траления.
За ним подошли знакомиться и другие матросы. Они были с разных кораблей. На бескозырках золотились надписи: «Океан», «Азия», «Николаев».
Моряков, привыкших к корабельной опрятности, возмущала тюремная грязь.
— Свинарник, а не жилье для людей, — заметил Тарутин, оглядывая камеру. — А ну, вызывайте старшего. Я ему сейчас головомойку устрою.
К глазку подошел моряк со шрамом на подбородке, назвавшийся сигнальщиком Проняковым.
— На вахте! — окликнул он надзирателя. — Свистать сюда начальство.
— Какое такое начальство? — донесся из коридора недовольный голос.
— Какое найдется, хоть прокурора.
— Ишь чего вздумали! Обойдетесь.
И надзиратель, шаркая, удалился. Матрос схватил табуретку и начал колотить ею в дверь.
Грохот разбудил спящих, по камерам пошел перестук. Надзиратели забегали. И вскоре у глазка появился помощник начальника тюрьмы.
— Опять буяните! В карцер захотели? — закричал он из коридора.
— В карцер надо посадить того, кто здесь за порядками наблюдает, — ответил Тарутин. — В этом свинарнике мы не останемся. Переведите в другую камеру.
— Лучших у нас нет. Это самая большая, господа матросы.
— Не большую, а чистую требуем.
— Тюрьма переполнена, номеров свободных не имеем.
— Тогда дайте нам воду и швабры. Без вас обойдемся.
— Это вы получите завтра.
— Не завтра, а сегодня. Иначе всю тюрьму поднимем.
Угроза подействовала. Тюремщики посовещались между собой и через некоторое время прислали уголовников с тряпками, швабрами и ведрами.
— Мокрая приборка! — объявил Тарутин.
Матросы сбросили с себя фланельки, засучили рукава и принялись скрести нары, окачивать их водой, мыть стены и пол. Путиловцы помогали им.
В разгар работы из соседней камеры послышался дробный стук.
— Андрей, что там пишут? — заинтересовался Тарутин.
Проняков вслушался в стук и пожал плечами.
— Не понимаю.
— Запроси по-нашему.
Сигнальщик вытащил медную зажигалку, похожую на снарядик, и несколько раз отстучал вызов по-флотски.
Ему ответили.
— Эге, матрос нашелся! Фелушин с брандвахты. Спрашивает, что у нас случилось.
— Узнай, как он угодил сюда?
— С Васильевского не успел уйти.
— Значит, как и мы, застрял. Ну, поздравь его.
Перестук длился долго. Соседние камеры тоже были заполнены недавними демонстрантами, схваченными на улице.
Выборгская сторона была отрезана от центра города: все мосты разведены, по набережной патрулировали кавалеристы и пехотинцы. Тех, кто переправлялся через Неву на лодке, солдаты обыскивали и отводили к дежурному офицеру. Он либо отпускал нарушителя, либо отправлял в Главный штаб.
Выборжцы, побывавшие за Невой, видели, как взбесившиеся торговцы, юнкера и чиновники избивали мастеровых и тащили их «купать» в Фонтанке. Рабочему человеку опасно было показываться на Садовой улице, на Литейном и Невском проспектах: за всякое неосторожное слово, даже за косой взгляд его могли избить и бросить в застенок.
— Как же мы дальше будем существовать? — спросила у Наташи Катя.
— Видимо, полулегально, — ответила та. — Ты читала, что о Ленине в газетах пишут?
— Как им не совестно?
— Нашла у кого совесть искать!
— У меня все эти дни нехорошее предчувствие, — сказала Катя. — Точно должно случиться еще что-то худшее.
— Что же может быть хуже?
— Не знаю, но у меня душа болит.
Два вечера подряд Катя ходила к Неве, надеясь встретиться с Василием на обычном месте. Но на набережной были только патрули.
Днем она пыталась по завкомовскому телефону дозвониться до Путиловца, билась у аппарата больше часа, но ничего не вышло: «барышни» так соединяли рабочие районы, что в ответ слышались лишь невнятные голоса да гудение.
Не написать ли письмо? Но кто ей ответит? Бабушка у Васи неграмотная. И на Дему рассчитывать нечего: если что случится с одним, беда не минует и другого.
На третий день из прихожей донесся звонок. «Он!» — обрадовалась Катя и бегом бросилась открывать дверь.
Увидев в полутьме лестничной площадки долговязого военного, девушка встревожилась.
— Вам кого? — спросила она.
— Вас, Екатерина Дмитриевна, — ответил нежданный гость. — Разрешите войти?
Думая, что это кто-то приехал от отца, Катя пропустила военного в прихожую, закрыла дверь, зажгла свет и… от испуга чуть не вскрикнула. Перед ней с кривой ухмылкой стоял мокрогубый, бледнолицый шпик.
Заметив, как девушка изменилась в лице, Аверкин поспешил ее успокоить:
— Не волнуйтесь, я пришел как друг. Вы, наверное, думаете, что я следил за вами с дурной целью? Клянусь, только из-за вас самой… в дождь, в любую погоду, только бы увидеть…
Страх у девушки прошел, осталось лишь настороженное и неприязненное чувство к этому опасному человеку.
— Что вам от меня нужно?
— У меня серьезный разговор о вашем отце. Его Дмитрием Андреевичем зовут?
— Да, — неохотно ответила девушка.
— Здесь н-не очень удобно, — оглядевшись по сторонам, заметил сыщик. — Может, разрешите в комнату?
Катя молча открыла дверь в бывший кабинет пристава и жестом предложила войти. Аверкин как-то боком проскользнул в кабинет и, дождавшись, когда Катя прикроет за собой дверь, с наигранной веселостью сказал:
— Для начала разрешите представиться: помощник тайного советника Виталий Фролович Аверкин. Имею также некоторое отношение и к контрразведке. — При этом он щелкнул каблуками и, ожидая, что девушка, проникшись уважением к его деятельности, скажет хоть несколько учтивых слов и протянет руку для примирения, стоял чуть согнувшись.
Но Катя прошла мимо, молча указала на стул и села напротив. Она ждала: что же он знает об отце?
Аверкина не обескуражила презрительная холодность хозяйки, шпик привык к такому отношению. Облизав и без того влажные губы, он вдруг перестал ухмыляться, глаза его сузились, стали жесткими.
— У меня не одно дело к вам, а несколько, — присев на кончик стула, официально сообщил он. — Первое — относительно квартиры, в которой вы проживаете. К нам обратилась жена… в общем, клиентка Урсакова с просьбой освободить незаконно занятые комнаты и предъявить иск за расхищение и порчу имущества.
— У нас есть разрешение исполкома и на квартиру, и на имущество бежавшего царского пристава, — сказала Катя.
— Охотно верю, — поспешил согласиться Аверкин. — Но, к сожалению, оно законной силы не имеет. Дом-то принадлежит купцу Меньшову, а имущество Урсаковым, так ведь?
— Так, да не так. Революция лишила грабителя прав на имущество.
— Наоборот, она будет защищать их.
— Вы, видно, о какой-то своей революции говорите?
— Вот именно, — ответил Аверкин. — Какая есть.
— Так чего же вы медлите? — с вызовом спросила девушка. — Выгоняйте!
Аверкин укоризненно заметил:
— Зачем же так? Я ведь пришел не выгонять, а подсказать, помочь. При добром согласии всякое дело можно уладить…
Катя решила переменить тему разговора.
— Что вы знаете о моем отце? — спросила она.
— Нам известно, что он в тюрьме, и по очень серьезной статье: разложение армии по заданию иностранной разведки. А за это в военное время — расстрел.
— Наговор… выдумки! — испуганно возразила девушка. — Он ничего такого не делал.
— Я вам сочувствую, но факт остается фактом… измена присяге. Если не расстрел, то виселица! — повторил Аверкин. Ему хотелось запугать ее, помучить страхом. Он видел, как девушку ошеломила его весть, и радовался: «Сейчас она станет мягче».
А Катя в растерянности думала: «Что же делать: возмутиться и прогнать или выведать все, что можно?.. Ради отца!»
Аверкин настороженно присматривался к девушке. Он понимал, какая борьба идет в ее душе, и поэтому с некоторой обидой в голосе сказал:
— Я бы, конечно, кое-что мог сделать для вас. Дело» ведет знакомый мне следователь. Но вы меня так принимаете, что я… я в недоумении…
— Простите, — прервала она его. — Какое у вас еще дело ко мне?
— По поводу вашего знакомого — Василия Кокорева. Схвачен, можно сказать, на месте преступления, с уликами, как грабитель и агент иностранного государства. Под усиленным конвоем препровожден в тюрьму.
От этой вести сердце у Кати словно остановилось, ей стало трудно дышать. Стараясь не показать своего состояния, она как можно спокойней спросила:
— Откуда вы все это знаете?
— Знаю… такая уж должность, — уклончиво ответил он, — у меня, видите ли, брат занимается особо важными делами. Через него я на любое дело могу повлиять. Вот если бы я знал вас получше… Разрешите еще разок к вам зайти? Не сегодня, конечно, я понимаю, — поспешил он добавить. — С вашего позволения, может быть, в субботу, часиков в восемь.
«Пусть приходит, кого-нибудь позову», — решила Катя.
— Хорошо, — сказала она. — Только разузнайте все подробней.
— Можете не сомневаться… с отцом будет устроено. Ежели со мной хорошо, так и я в долгу не останусь.
Чтобы скорей выпроводить его, девушка протянула руку. Аверкин цепко схватил ее пальцы, сжал их и задержал в своей холодной и влажной руке.
— Постараюсь… самым наилучшим образом, — бормотал он. — До субботы!
Закрыв за ним дверь, девушка поспешила на кухню, тщательно вымыла и вытерла руки, но гадливое чувство не проходило.
Что же ей предпринять? Первым делом надо выяснить, в тюрьме ли Вася. Но как?
На следующий день Катя отпросилась с работы, надела лучшее платье и пошла к следователю. Гладко причесанный чиновник принял ее любезно, усадил в кресло и спросил:
— Чем могу служить?
Узнав, что Алешина добивается свидания с арестованным путиловцем, он как бы с сожалением сказал:
— Пока идет следствие, свиданий не полагается.
— Скажите хоть, в чем его обвиняют?
— А вы кто ему будете? — поинтересовался следователь. — Сестра? Невеста?
— Знакомая, но… можно назвать невестой, — заливаясь румянцем, ответила она.
— Так-так… понимаю. Видите ли, мы ничего не можем сообщить, пока не кончится следствие.
— Но хотя бы… что ему грозит?
— Порадовать не могу. По меньшей мере — пожизненная каторга.
— Не может быть! — возмутилась девушка. — За что?
Следователь безмолвно развел руками, как бы говоря: вот этого вы у меня не выпытывайте.
Проводив Алешину до двери кабинета, он наклонил голову и сказал:
— Заходите. Может быть, на днях что-либо прояснится.
От затхлого запаха казенного помещения, от вида пыльных стен, выкрашенных серо-коричневой масляной краской, Катю мутило.
«Неужели пожизненно? Надо выручать, сделать все, что в моих силах!»
Выйдя на солнечную улицу, девушка точно ослепла и почувствовала головокружение. Постояв у стены, Катя вспомнила, каким усталым и бледным было лицо Васи в последний раз. «Он не выживет в тюрьме». Для него она могла бы пожертвовать жизнью. Но разве это спасет? Что же предпринять?
Катя зашла в райком, вызвала Наташу в коридор и рассказала ей о своем разговоре со следователем.
— Надо немедля действовать, — сказала та. — Садись в трамвай и поезжай на Путиловец.
— Одной поехать? — растерялась Катя. — С какими глазами я там покажусь? Кто я ему?
— Неважно! Какое это имеет значение, когда товарищ в беде?
Отбросив всякие колебания, Катя поехала на завод. Председателя завкома на месте не оказалось. Она спросила у дежурного:
— Вы бы не могли мне дать адрес Савелия Матвеевича Лемехова?
— А кто он такой?
— Старый кузнец, большевик.
— A-а, усатый такой? Знаю.
Дежурный куда-то убежал и, вернувшись через несколько минут, сообщил:
— Живет на Чугунном… предпоследний дом справа. Катя поблагодарила его и вышла на улицу.
Чугунный переулок и небольшой домик Лемехова она нашла быстро. Но Савелия Матвеевича дома не оказалось. Его жена, разузнав, по какому поводу пришла девушка, спросила:
— Может, вас к Васиной бабушке свести? А то старуха, поди, ослепла от слез.
— Обязательно! Но как с Савелием Матвеевичем?
— А я его сразу пришлю к ней. Он ведь тоже беспокоится.
Лемехова, набросив на голову платок, привела Катю к двухэтажному деревянному дому, во дворе которого на веревках висело набитое ветром выстиранное белье. По боковой лесенке они прошли в небольшую каморку у кухни. Невысокая старушка молола какие-то зерна в кофейной мельнице. Услышав от Лемеховой, что за гостья явилась к ней, она, словно не доверяя ей, стала допытываться:
— Так ты и есть та Катя с Выборгской? К тебе, что ль, Васек все лето бегал? А ну, покажись! — повернув девушку к свету, Игнатьевна придирчиво разглядывала ее. — По лицу хороша… и не шалопутная будто, — определила она. — Где ж он тебя, такую красивую, сыскал? Милая ты моя, как же мы теперь? — вдруг обняв Катю, заплакала она. Потом вытерла уголком платка слезы и стала выпытывать: — Видела ли ты его? Где он там? За что посадили? Сколько держать-то будут?
Ответы девушки не успокоили ее:
— Ой, что-то скрываете вы от меня, чую недоброе. Самой-то мне этой тюрьмы треклятой не найти. Хоть бы передачу снести. Свела бы меня к нему.
— Вас сейчас в тюрьму не пустят. А передачи мне ближе носить. Если разрешат свидания, я приеду за вами, — пообещала Катя. — Но это, наверное, будет не скоро. Как вы тут одна без денег обойдетесь?
— За меня не беспокойся, прокормлюсь. Дема, поди, всю получку отдает и сам здесь поселился. А вот ты-то, девонька, откуда табак и съестное для передачи возьмешь? Присядь, я хоть чего-нибудь соберу ему.
Старушка достала небольшой холщовый мешок, открыла шкафчик и стала рыться в своих продуктовых запасах.
Вскоре, пригибаясь в дверях, вошел рослый и крепкий старик, а за ним Дема. «Савелий Матвеевич», — поняла Катя. В каморке сразу стало тесно.
— А ну, покажите, кто тут нас ждет? — весело спросил кузнец. — A-а, вот вы какая! — разглядев девушку, прогудел он. — Будем знакомы.
— Я вас уже знаю, Савелий Матвеевич, — призналась Катя.
— Тем лучше, значит, без церемоний поговорим.
Он крепко пожал ей руку. То же самое молча сделал и Дема.
— Слыхал, что вы за помощью к нам? — сев на табурет, спросил Савелий Матвеевич. — Очень хорошо сделали. Выкладывайте, что стряслось.
Катя рассказала о приходе Аверкина, о ее разговоре с ним и о встрече со следователем.
— Та-ак! Значит, вы этому подлецу Аверкину приглянулись? И давно он за вами ходит?
— Я его заметила в феврале.
— Срок немалый, — ответил Савелий Матвеевич и задумался. — А не он ли и с Кокоревым подстроил? Это в характере таких типов.
— Схватить бы его за глотку и допросить, — предложил Дементий.
— Ловленого так быстро не схватишь. Он теперь настороже.
Пока они разговаривали, Игнатьевна аккуратно завернула в бумагу и уложила в мешок сухари, воблу, сало и два свежих огурца.
— Вот, снесешь ему, — сказала она, передавая все Кате. — Только табачку у меня нет.
— На табачок соберем, — успокоил ее Савелий Матвеевич. — Прошу не побрезговать и моим паем. — Он вытащил из кошелька две десятирублевки и отдал их Кате. — А насчет адвоката — мы на заводе сами подумаем. Собирайся, Дема, проводи барышню.
НА СУД НЕ ЯВЛЯТЬСЯ
Двоевластие кончилось: страной управлял «социалист» Керенский, выдвинутый на пост премьер-министра эсерами и меньшевиками.
Поздно ночью правительство Керенского приняло решение арестовать Ленина, Зиновьева и Каменева — якобы за измену и подстрекательство к мятежу против законной власти. Появились призывы к населению, требующие сообщать о месте пребывания «заговорщиков», содействовать их поимке и аресту.
В кулуарах Таврического дворца распространялись самые невероятные слухи. Кто-то выдумал, что один из редакторов большевистской «Правды», бывший член Государственной думы питерский рабочий Николай Полетаев, был сотрудником царской охранки.
Услышав это от меньшевика, славившегося умением раздувать небылицы, вспыльчивый Серго Орджоникидзе обозвал сплетника мерзавцем и пообещал, если услышит еще раз что-либо подобное, набить физиономию. Но когда распространитель слуха поспешил исчезнуть, Серго все же встревожился. Он знал, что в этот день Владимир Ильич должен был перейти к Полетаевым.
Орджоникидзе немедля разыскал во втором этаже Сталина, рассказал ему об услышанной сплетне и спросил:
— Что будем делать, Коба? Сейчас поверят всякому слуху. Кому-нибудь взбредет арестовать Полетаева, А там Ленин. Надо предупредить и помочь перейти в другое место.
Вместе они пошли на Восьмую Рождественскую улицу к Полетаевым, где не раз находили приют сами.
Дверь в квартире Полетаевых оказалась запертой. На стук никто не отзывался.
К счастью, во дворе показалась жена Полетаева Анастасия Степановна. Это была удивительной души женщина, стойко переносившая все невзгоды семьи профессионального революционера и при этом остававшаяся гостеприимной и веселой.
— Вы давно меня ждете? — спросила она. — Очень рада, товарищи, заходите. У меня есть бублики к чаю.
— Спасибо за приглашение, но мы не располагаем временем, — сказал Орджоникидзе. — Нам надо кое-что у вас узнать.
Пропустив их в квартиру, Анастасия Степановна закрыла дверь на крюк и спросила:
— Вы слышали, какую чушь про моего Николая распространяют?
— Как же, одному болтуну сегодня чуть физиономию не набил, — ответил Серго.
— Значит, не верите? — обрадовалась она. — А Николай переживает. Не хотел из дому уходить. «Пусть арестуют, я на суде докажу!» Но какой сейчас суд? Насилу вытолкала.
— А Владимира Ильича куда дели? — спросил Сталин.
— Он недалеко… к Аллилуевым перешел. Mory провести вас, товарищ Коба.
— Спасибо, дорогу к Аллилуевым знаю… даже жильцом у них числюсь. Только никак не соберусь в свою комнату окончательно перебраться.
Попрощавшись с Полетаевой, Сталин повел Серго на Десятую Рождественскую.
Перейдя на квартиру к Аллилуевым, Владимир Ильич решил больше не скитаться по городу: бессмысленно это, да и небезопасно.
Обсудив свое положение, взвесив все доводы «за» и «против», он пришел к выводу, что иного пути не осталось, надо явиться в прокуратуру и потребовать, чтобы суд был гласным. О своем решении Владимир Ильич сообщил Марии Ильиничне и Надежде Константиновне, когда они пришли его проведать.
Женщины были потрясены, они обеспокоенно смотрели на Ильича, не зная, что ему ответить. Первой пришла в себя Мария Ильинична.
— Ни в коем случае! — воскликнула она. — Никому нельзя сейчас доверяться. Я собственными глазами видела, как гостинодворцы избивали мастерового только за то, что он хорошо о тебе отозвался. Вас до суда не доведут, расправятся на улице.
— Но можно договориться так, что нас не поведут по улицам, — возразил Владимир Ильич. — Мы сами придем к ним и скажем: «Арестуйте нас».
— Все равно безумие! — твердила Мария Ильинична. — Вы же взрослые и умные люди, как не понимаете… если вас не убьют, то обязательно сделают все, чтобы как можно дольше не выпускать из тюрьмы…
На глазах ее выступили слезы. Владимир Ильич пытался успокоить сестру:
— Маняша, я не узнаю тебя. Ну, как не стыдно! В тебе заговорила сестра, а не здравый политик. Нас же обвиняют в измене, пойми! Это пятно на всю партию. Мы руководители. Нам нельзя прятаться. Обязаны выступить на суде и припереть клеветников к позорному столбу! Большевики всегда так поступали, даже если им грозила смерть.
— Я не знаю, как тебя разубедить, но сердцем чувствую— нельзя отдаваться на суд врагов, да еще разъяренных. Это глупость… самоубийство!
Владимир Ильич возражал сестре, но уже не так уверенно.
Надежда Константиновна тоже не могла примириться с мыслью, что завтра Володя будет уже за решеткой. Но она понимала его и не вмешивалась в спор, чтобы не повлиять на решение.
Когда пришли сперва Ногин, а чуть попозже — Сталин и Орджоникидзе, Владимир Ильич обратился к товарищам: а что же они по этому поводу скажут?
Первым заговорил Ногин:
— Мне думается, вам бы следовало явиться на суд. Иначе от нас многие отвернутся. Скажут: «Раз прячутся, значит, совесть нечиста». А наша совесть не запятнана. Кто же лучше вас, Владимир Ильич, сумеет снять обвинение с партии и дать бой на гласном суде?
— Все это логично, — вставил Сталин. — Но юнкера могут не довести до тюрьмы…
— Я бы не явился, — сказал Орджоникидзе.
— И я об этом твержу, — продолжала свое Мария Ильинична. — Ведь ни за что нельзя ручаться.
Владимир Ильич в душе соглашался с сестрой, но его смущала логика Ногина.
— А вы уверены, что суд будет гласным?
— Надо надеяться, — уже теряясь, ответил Ногин. — Как же иначе? Мы будем требовать.
— Если так, то больше никаких разговоров не может быть! — заключил Ленин. — Идите и договаривайтесь, чтобы суд был гласным. Я этих подлецов выведу на чистую воду… Узнают, как пускать в ход клеветнические обвинения.
Больше он не желал слушать ни доводов сестры, ни товарищей, твердил только одно:
— Все решено: добровольно сажусь в тюрьму и… никаких разговоров!
Все умолкли. Наступила тягостная пауза.
— Надя, — вдруг обратился Владимир Ильич к жене. — Очень прошу… сходи к Каменеву и сообщи о нашем решении. Только пусть самостоятельно ничего не предпринимает. Надо все тщательно продумать.
Надежда Константиновна поднялась. Вид у нее был такой несчастный, что Владимир Ильич невольно подумал: «Сколько она переносит из-за меня! Вот и сейчас может наткнуться на засаду, а идет безропотно».
— Надюша, я передумал: тебе не следует ходить. Мы пошлем кого-нибудь другого.
— Нет, нет… зачем другого?
И Надежда Константиновна, словно боясь, что ее задержат, направилась к двери. Владимир Ильич не мог ее так отпустить. Задержав, он повернул ее лицом к себе и сказал:
— Давай попрощаемся, может, не увидимся уж.
Целуя жену, Владимир Ильич вдруг ощутил на губах вкус соли. «Значит, плакала, — подумал он, — незаметно».
В этот момент и у товарищей невольно сжались сердца: «Неужели партия останется без Ленина?» И это тоскливое чувство не проходило.
Когда Надежда Константиновна ушла, Ногин вызвался сходить в Таврический дворец и договориться о технике ареста и содержании в тюрьме.
— Буду разговаривать с Анисимовым как член президиума ЦИК с членом президиума, — пообещал Виктор Павлович. — Хоть Анисимов и меньшевик, но донбасский рабочий, с ним легче будет столковаться.
— Хорошо, — согласился Владимир Ильич, — добивайтесь, чтобы мы попали в Петропавловскую крепость. Ее гарнизон нам сочувствует. Солдаты не позволят юнкерам расправиться. В крайнем случае — соглашайтесь на «Кресты», но требуйте абсолютной гарантии, что суд будет гласным.
Тут же договорились: если Анисимов окажется покладистым человеком, то пусть вечером без всякого конвоя подъезжает на автомобиле к Восьмой Рождественской улице, заберет тех, кто будет с Лениным, и отвезет прямо в тюрьму.
Вместе с Ногиным на переговоры отправился и Серго Орджоникидзе. В Таврическом дворце они вызвали в коридор Анисимова и по секрету сообщили ему о решении Ленина добровольно сдаться властям и сесть в Петропавловскую крепость.
Анисимов нахмурился.
— С Петропавловской ничего не выйдет, — сказал он. — Там ваш Ленин всех к рукам приберет. Чего доброго— комендантом сделается… Останется под такой охраной, что к нему не подступишься. Не-ет, братцы, не выйдет, придется ему посидеть в «Крестах». Ну, а там, как положено, предпримем кой-какие меры для охраны.
— Что значит «кой-какие»? — возмутился Орджоникидзе. — Это Ленин! Понимаешь! Не простой арестованный. Если с ним что приключится — мы вас всех разнесем! Камня на камне не оставим! Сам первый в тебя стрелять буду.
— Ну-ну, не пугай, — остановил его Анисимов. — Я не из робких. Чего вы от меня хотите? Что я вам могу пообещать, когда не знаю, где к вечеру сам буду? Вишь, как офицерье озверело! Может, завтра за нас примутся.
Анисимов понимал, какая ответственность ложится на него, если он арестует Ленина. От волнения на лбу и носу его выступили росинки пота. Он то и дело облизывал пересохшие губы.
Видя состояние Анисимова, Орджоникидзе решительно сказал:
— Мне все ясно. Мы вам Ильича не отдадим!
В Таврическом делать ему больше было нечего. Оставив Ногина, Серго поспешил к Аллилуевым.
Он был так расстроен, что не заметил идущего навстречу Луначарского. Тот остановил его:
— Серго, что с вами?
Негодуя, Орджоникидзе рассказал о переговорах с Анисимовым.
Серго было известно, что Луначарский ратует за явку на суд, а тут он вдруг стал отговаривать:
— Скажите Владимиру Ильичу, чтобы ни в коем случае не попадался им в руки. Я уже был схвачен на Невском… побывал в подвалах Главного штаба. Знаю, что там творится. Они готовы над каждым из нас учинить самосуд. Меня спасли знакомства и мандат члена ЦИК. Но и он скоро не будет действовать. С Советами никто не считается. Контрреволюция входит в раж. Пусть Владимир Ильич немедля уходит в подполье.
— Спасибо, Анатолий Васильевич, — сжав ему руку, поблагодарил Орджоникидзе. — Я тоже так думал. Обязательно все передам.
Надежда Константиновна тем временем выполняла поручение Ильича.
Поднявшись по лестнице на полутемную каменную площадку, она посмотрела вниз: не крадется ли кто следом?
С улицы никто не входил — значит, не следят. Надежда Константиновна нажала кнопку звонка.
Дверь приоткрыла непричесанная и очень бледная жена Каменева. Чувствовалось, что эта женщина не одну ночь провела в тревоге: глаза с покрасневшими веками горели сухим блеском. Пропустив нежданную гостью в переднюю, хозяйка не без опаски спросила:
— Никто не видел, что вы к нам пришли?
— Нет, я проверила. Хвоста за собой не веду, не волнуйтесь.
— Меня удивляет… как вы решились в такие дни прийти на квартиру? Это не очень конспиративно. Ведь Владимира Ильича, кроме всего, обвиняют в шпионаже. За вами усиленная слежка, а вы вот так свободно расхаживаете по городу.
Услышав голос Крупской, в прихожую выглянул Каменев. Он был без пиджака. Усы и борода не пушились по-обычному, а выглядели так, словно он только что поднялся с постели.
Узнав, с каким поручением пришла Надежда Константиновна, Каменев недовольно сказал:
— Зря вас затрудняли. Я сам пришел к такому же выводу. Хорошо сделают, если явятся на суд. Но обо мне пусть не беспокоятся. Буду действовать самостоятельно.
Чувствовалось, что Каменев недоволен.
«Жена близка к истерии, — подумала Надежда Константиновна. — Но он-то ведь мужчина, как не стыдно». Но вслух она не высказала осуждения и лишь холодно пообещала:
— Хорошо, я передам ваше желание. Желаю успеха.
Очутившись на улице, Надежда Константиновна решила не возвращаться к Аллилуевым. «А то действительно еще шпика подцеплю».
Найдя за углом извозчика, она поехала на Петроградскую сторону. Надо было предупредить Елизаровых и самой подготовиться к обыску.
Предчувствие не обмануло. Вечером явились офицеры контрразведки. Один отрекомендовался полковником, другой — длиннолицый и мокрогубый — молчал.
Прежде чем приступить к обыску, полковник, пытливо глядя ей в глаза, спросил:
— А вы нам не скажете, где сейчас находится Ульянов-Ленин?
— Представления не имею, — ответила она, а про себя подумала: «Значит, он не объявился, иначе они бы не спрашивали».
Офицеры в елизаровские комнаты не пошли, обыскали только одну, забрали найденные в ящике стола записки, документы и ушли.
Утром Надежда Константийовна узнала, что товарищи убедили Владимира Ильича на время скрыться и дождаться решения съезда партии. Съезд будет недели через две, на нем и решат, как быть с явкой на суд. Это ее обрадовало и одновременно озаботило: подыщут ли они безопасное место?
На следующий день дом на Широкой улице окружили прибывшие на грузовиках юнкера. Они оравой ввалились в квартиру и потребовали выдать Ленина.
— Его нет дома, — сказала Анна Ильинична.
— А это кто? — указав на вышедшего хозяина квартиры, спросил офицер, руководивший юнкерами.
— Мой муж — Марк Тимофеевич Елизаров.
Юнкера не поверили ей. Схватив Марка Тимофеевича, они стали допытываться у Крупской: кто ими пойман? Та подтвердила ответ Анны Ильиничны.
Юнкера привели домашнюю работницу Аннушку — безграмотную деревенскую женщину. Но Аннушка не знала, как зовут хозяина.
— Хитрит, подлюга, — сказал офицер. — Видно, из одной шайки. Обыскать кухню!
Юнкера рьяно кинулись обыскивать владения Аннушки. Они сунулись в кладовую, вытряхнули вещи из деревенского сундучка и проткнули штыком свернутую постель.
— В духовке посмотрите, может, он там сидит, — обозлись, посоветовала Аннушка.
— Ах, она еще издевается? Копорка паршивая, арестовать!
К полуночи, когда в квартире были разворошены постели, перевернута мебель, разбросаны книги и белье, юнкера вывели на улицу Марка Тимофеевича, Надежду Константиновну и Аннушку, усадили их в открытый грузовик и под усиленной охраной отвезли в Главный штаб.
В большом зале арестованных посадили на изрядном расстоянии друг от друга и около каждого выставили по часовому.
Увидев бородатого Елизарова, кто-то пустил по штабу слух, что привезли самого Ленина. В зал стали заглядывать любопытные. Вскоре здесь скопилось десятка три озлобленных офицеров. Всячески понося Марка Тимофеевича, они уже готовы были расправиться с ним, но тут появился полковник, который делал обыск в комнате Ленина. Он прикрикнул на расшумевшихся офицеров и, внимательно посмотрев на арестованных, с досадой сказал:
— Это не те люди, которые нам нужны. Кто их привез?
Все молчали. Полковник выждал и заметил:
— Вот так привозят бог знает кого, поэтому все камеры битком набиты! Освободить арестованных и отправить туда, где взяли, — приказал он.
«ПЬЯНЫЙ ПОЕЗД»
К слесарю оружейного завода Емельянову под вечер зашел секретарь партийной организации Вячеслав Иванович Зоф. Покурив с хозяином во дворе, чех, словно любопытствуя, спросил:
— Николай Александрович, дом-то у тебя по наследству или у владельца снимаешь?
— Где теперь такой дом снимешь? Собственными руками выстроил, — ответил Емельянов. — Болото здесь было. Бывало, приду с работы, впряжемся вместе с женой в тачку и всю ночь песок да землю возим. И сад сами возделывали. Березки вот такусенькими посажены, а теперь гляди какие вымахали! И кусты разрослись. Проредить бы надо, да все руки не доходят.
Зелень действительно густо разрослась около дома и вдоль забора. Она хорошо прикрывала двор от постороннего глаза.
Зоф прошелся по «владениям» Емельянова, заглянул в сарай, приспособленный под летнее жилье, и постоял в раздумье около пруда.
Емельяновский двор имел два выхода: один на улицу, другой — на пруд, подходивший к самому забору. Здесь стояли на привязи две лодки. В случае надобности можно было взять одну из них, по пруду добраться до протоки, соединяющей его с озером Разлив, да и уплыть к тому берегу, где вдали виднелся лес.
— Детей у тебя много? — продолжал допытываться Зоф.
— Пожаловаться не могу. Хватает. Жена одежонку не успевает шить. Хорошо, лето сейчас, — обуви не надо.
— Она ведь у тебя член партии?
— А будто ты не знаешь? Кондратьевной называл, когда литературу прятали. Лучше давай не крути, Вячеслав Иванович, выкладывай прямо: зачем пожаловал?
— С очень серьезным делом… Центральный Комитет поручает тебе укрыть Ленина. Он, возможно, будет не один. Справишься с таким делом?
Предложение было неожиданным. Емельянов растерялся, но долго не раздумывал и сказал:
— Раз надо — так надо. Постараюсь.
— А где ты его укроешь?
— Еще не знаю, но найду место… не сомневайтесь.
— Обдумай хорошенько. Ведь жизнь Ленина будешь оберегать. Часа через два-три скажешь мне что и как. Только чтоб, кроме жены, никто не знал.
— Понятно, не первый год на подпольной.
Когда Зоф ушел, Емельянов задумался: куда же ему спрятать Ленина? Дом, как на грех, ремонтируется — стены обшарпаны и полы разобраны. Поселить в сарае, где сам с семьей разместился, тесновато будет, да и неудобно..
Николай Александрович заглянул в баньку, в которой жена стирала белье. Рассказав ей о предложении Зофа, он горестно развел руками.
— Пообещал, а девать вроде некуда. В баньку эту, что ли?
— Ну что ты, Николай! Куда она годится? — возразила Надежда Кондратьевна. — Да и вообще в нашем дворе не очень-то удобно: дачники вокруг, да и соседи чужих людей приметят. Лучше бы в лес, куда-нибудь за озеро. Намедни Валерка со своим покосом набивался: в аренду отдает. Место у него глухое, кустарником заросло…
Многие сестрорецкие рабочие еще с петровских времен имели за озером свои покосы, переходившие по наследству от отцов. Некоторые бобыли, вроде Валерия Игнатьева, давно не обкашивали свои луга, а за небольшие деньги сдавали их в аренду.
— Верно, — обрадовался Николай Александрович. — Свезу туда косы, шалаш построю, а если кто спросит — скажем, что чухон наняли. Молодчина ты у меня, сообразила.
Затею Емельяновых Зоф одобрил. Возник только вопрос: как безопасней перевезти Ильича из Петрограда в Разлив?
— Лучше всего на последнем поезде, — предложил Емельянов. — Он идет во втором часу ночи, всегда переполнен подгулявшими пассажирами. Не зря же его называют «пьяным»! В таком легче проехать незаметно.
Собираясь в Разлив, Владимир Ильич опять вспомнил о Каменеве и послал к нему с запиской жену Аллилуева Ольгу Евгеньевну. У Каменевых Аллилуеву встретили настороженно. Сперва даже не хотели впускать, разговаривали через приоткрытую дверь. А узнав, что незнакомка пришла с запиской от Ленина, жена Каменева рывком втянула ее в прихожую, закрыла дверь на крюк и с явным раздражением сказала:
— Мы же просили никого не присылать… Хотя бы на эти дни избавил нас от своего внимания!
Нехотя взяв записку, взвинченная женщина ушла куда-то в комнаты и, вернувшись через несколько минут, с каким-то торжеством сообщила:
— Лев Борисович не поедет. И вообще… обойдемся без учителей. Письменного ответа не будет.
Затем она приоткрыла дверь, выглянула на лестничную площадку и, убедившись, что там никого нет, сделала жест, предлагая гостье быстрей покинуть квартиру.
Вернувшись домой, Аллилуева с обидой рассказала, как ее приняла Каменева. Владимир Ильич смущенно развел руками.
— Дорогая Ольга Евгеньевна, простите, никогда не думал, что она столь несдержанна. И он тоже хорош — не мог сам выйти. Ну что ж, не хочет — так не хочет. А нам надо сегодня же выбраться из города. Сергей Яковлевич! — обратился Ленин к хозяину квартиры. — Где карта города? Нам следовало бы внимательней изучить маршрут.
— Не беспокойтесь, я пойду с вами… Проведу по самым безопасным улицам, — пообещал Аллилуев.
— Охотно верю, — согласился Владимир Ильич. — Но ничего не могу поделать с застарелой привычкой конспиратора: все должен знать сам. Вдруг нас в пути разъединят? Что же, будем плутать по ночным улицам и расспрашивать?
— Пожалуйста, карту я раздобыл.
Аллилуев работал на электростанциях. Он не раз в ночную пору с далеких окраин пешком возвращался домой. Развернув на столе план столицы, Сергей Яковлевич карандашом прочертил путь к Новой Деревне, где в те времена находился Приморский вокзал.
Владимир Ильич принялся внимательно изучать маршрут, стараясь запомнить названия улиц, переулков и набережных.
Вечером из Таврического дворца пришел Сталин. Все собрались в его комнате и стали обдумывать: как изменить вид отъезжающих, чтобы они не выделялись в толпе?
Ольга Евгеньевна предложила забинтовать Владимиру Ильичу лицо, так как усы и борода могли выдать его.
Она работала сестрой в военном, госпитале, за войну наловчилась накладывать хорошие повязки. Взяв широкий бинт, Аллилуева посадила Ильича к зеркалу и стала так забинтовывать лоб, подбородок и лицо, что оставались лишь узкие щели для глаз, носа и рта.
— Нет, не годится, — запротестовал Владимир Ильич, — привлеку внимание. «Откуда этакое чудище идет? — спросит каждый. — Не участвовал ли он в перестрелке на Садовой?» Лучше усы и бороду сбрить.
Ольга Евгеньевна и сама видела, что с повязкой Ильич стал похож на уэллсовского человека-невидимку, поэтому немедля сняла бинт.
Она пошла на кухню за кипятком, а Сергей Яковлевич принес машинку для стрижки волос и бритву.
Бритым Владимир Ильич стал не похож на себя.
У Аллилуевых нашлась ему и подходящая одежда. Синяя косоворотка, рабочая куртка и старое, порыжевшее пальто хозяина пришлось ему впору. Он надвинул на лоб поношенную кепку и спросил:
— Ну, чем не обрусевший финн?
— Прямо чухна, — смеясь, сказала Ольга Евгеньевна.
Решено было ни трамваем, ни извозчиком не пользоваться, а весь длинный путь пройти пешком.
На улицу выбрались не все сразу. Сперва вышел Аллилуев. Он огляделся по сторонам — нет ли где сыщиков— и не спеша зашагал по краю тротуара. За ним последовали другие.
Шли на небольшом расстояний друг от друга по плохо вымощенным окраинным улицам и переулкам, куда редко заглядывали юнкера и офицеры. Но и тут, несмотря на поздний час, было людно: у пекарен и продуктовых лавок стояли длинные очереди, разъезжали конные патрули.
Спокойней стало, когда прошли Литейный мост и попали на Выборгскую сторону. Здесь путь проходил мимо завода «Старый Лесснер», сладко пахнущего сахаром «Кенига», прядильной фабрики Воронина, дизельного завода Нобеля, снарядного — Парвиайнена, гильзового — Барановского. Шпики Керенского боялись сюда заглядывать.
На набережной Большой Невки в темном месте под тремя деревьями их поджидал Емельянов.
— Билеты я купил, — негромко сообщил он. — Но на вокзале показываться опасно: полно солдат. Они сотнями бегут с фронта. Можно угодить в облаву на дезертиров. И на перроне толкаться не следует. Лучше я вас проведу через товарную станцию под вагонами. Выйдем прямо к нашему поезду. Я проверил.
— Очень хорошо, что проверили, — похвалил его Владимир Ильич. — С вами пойдем только я с Григорием. Меня прошу звать Николаем. Провожающие пусть пройдут через вокзал на перрон, наблюдают и больше к нам не подходят. Попрощаемся здесь.
Аллилуев хотел обнять его, но Владимир Ильич заметил, что это неконспиративно, и коротким движением крепко пожал руку.
Емельянов повел их через ворота товарной станции. Они пробирались по запасным путям, пролезая под пустые вагоны, пахнувшие то известкой, то карболовкой. Минут через пятнадцать наконец выбрались к дачному поезду, готовому к отправке.
Поднявшись на переднюю площадку последнего вагона, они осмотрелись. Их товарищи, прошедшие через станцию, уже прохаживались по краю перрона. Какие-то типы, с красными повязками на рукавах, стояли посредине и всматривались в лица пробегавших пассажиров.
Раздался третий звонок, Владимир Ильич даже не решился помахать рукой провожающим, а простился с ними кивком головы.
Поезд не зря назывался «пьяным». В вагоны набилось много подгулявших дачников и нетвердо стоявших на ногах жителей пригородов. Одни из них шумно разговаривали и смеялись, другие — осоловело сидели на скамьях и покачивались.
Владимир Ильич внутрь вагона не прошел. Он уселся с левой стороны на край площадки и спустил ноги на ступеньки.
— В случае чего — можно спрыгнуть, поезд не очень быстро идет. Сделаем вид, что проветриваемся с похмелья.
— Не упасть бы вам, — забеспокоился Емельянов.
— Ничего, у меня руки цепкие.
Лахта славилась своим летним рестораном, в котором, несмотря на запрет, можно было за повышенную плату раздобыть спиртное. Сюда обычно прикатывали гулять переодетые в штатское офицеры, не желавшие попадаться на глаза строгому столичному коменданту.
В эту ночь на Лахтинском вокзале поезд поджидала большая компания гуляк. Все они ринулись к последним вагонам.
Емельянов, боясь, что вся компания вобьется в один вагон и захватит площадку, умышленно растянулся поперек прохода, словно был смертельно пьян.
— Господа! Здесь какая-то пьяная рожа лежит, — предупредил вскочивший на подножку франт в белой манишке и котелке, сдвинутом набекрень. — Занимайте соседний ковчег… тот как будто опрятней.
Гуляки с двух концов стали подниматься в соседний вагон и проходить внутрь. На площадке никого не осталось. Из открытых окон доносились их громкие голоса и смех. Когда поезд тронулся с места и покатил дальше, послышалось нестройное пение:
С вином мы родились, с вином и помрем.
С вином похоронят и с пьяным попом…
— Не нравится мне эта компания, — поднявшись, сказал Емельянов. — Вы тут побудете, а я пойду погляжу.
Он прошел в соседний вагон и, побыв там некоторое время, вернулся.
— Так и знал, — переодетые офицеры, — сообщил он. — Едут куда-то догуливать.
Вскоре на открытой соседней площадке появился упившийся офицерик. В вагоне ему, видно, было душно. Рывком ослабив петлю галстука, он расстегнул ворот рубашки и, ухватившись за поручни, далеко высунулся, подставив голову под струю свежего воздуха.
Придя в себя, переодетый офицерик вдруг решил навести порядок на соседней площадке.
— А там кто сидит на ступеньках? — стараясь перекричать стук колес, спросил он у Емельянова. — Кандидаты на тот свет?
Не слыша ответа, молодой офицерик свесился, стараясь заглянуть в лица сидящих. Емельянов, боясь, что он свалится, строго прикрикнул:
— Не безобразничайте, ваше благородие.. стойте как следует, а то вывалитесь.
Офицер перестал свешиваться, но ему не понравился сердитый окрик рабочего. Опираясь спиной о стенку тамбура, он поднял палец и погрозил:
— Но-но, не очень-то! Скоро мы вас вот так…
Он взял конец галстука и показал, как будут вешать рабочих.
— Понял?
В другое время Емельянов показал бы этому молокососу, как рабочий человек отвечает на угрозы, но сейчас рискованно было с ним связываться.
Когда офицер, покачиваясь, ушел в вагон, Николай Александрович обеспокоился:
— Сейчас вернется с кем-нибудь и начнут задирать. На остановке надо будет сойти.
В Раздельной вдруг вся лахтинская компания высыпала из вагона. Оказывается, где-то здесь неподалеку размещался женский «батальон смерти». Офицеры, захватив из ресторана закуски и выпивку, прикатили к воинственным девицам прощаться с белыми ночами.
Дальше поезд потащился без этой шумной компании. Но Емельянов был настороже: он стал спиной к своим спутникам и приготовился дать отпор каждому, кто выйдет на площадку и вздумает поинтересоваться пассажирами на подножке.
Зиновьев сидел беспокойно, то и дело озирался, а «Николай», прислонясь головой к поручню, глядел на бегущую землю и вдыхал запахи сосен, морских дюн.
— Сейчас будет Разлив. Слезайте со своей стороны, — предложил Емельянов.
Спрыгнув на испачканную мазутом землю, они пошли к озеру. Ноги утопали в желтом сыпучем песке.
По пути Емельянов объяснил, что первое время гостям придется ютиться на сеновале, а потом он переправит их на покосы.
— Как зовут вашу жену? — спросил Владимир Ильич.
— Кондратьевной, — ответил Емельянов. — Она у меня тоже партийная.
— Это хорошо. Но на всякий случай предупредите, чтобы о нас — никому ни слова. Даже если будут говорить гадости про меня — пусть не заступается.
— Скажу, но она и без меня знает. Пережила многое, привыкла язык за зубами держать.
Надежда Кондратьевна не спала, поджидая ночных гостей. Встретила она их приветливо:
— Прошу поужинать… а может, верней-то будет — позавтракать. Скоро светать начнет.
— Спасибо, мы ужинали, — поблагодарил ее Владимир Ильич. — А вот от горячего чая не отказались бы. Продуло на подножке.
— Только у нас с сахарком плоховато, — предупредила Надежда Кондратьевна. — Вприкуску придется.
— А мы сахар захватили, — сказал Владимир Ильич и передал объемистый сверток, полученный от Аллилуевых.
В свертке кроме кускового сахара оказались пряники, галеты, банка консервов и два кулечка с крупой.
Усадив гостей за накрытый стол, хозяйка ушла к плите, где тонко попискивал большой чайник.
Сарай, обжитый Емельяновыми, походил на просторную кухню, стены которой были оклеены дешевыми обоями. В дальнем углу виднелись широкая кровать и детская люлька.
Емельяновские мальчишки, спавшие на сеновале, услышав незнакомые голоса, стали один за другим спускаться по узкой лесенке вниз и выстраиваться вдоль стены.
— Сколько же их у вас? — спросил Зиновьев.
— Семь ртов, — ответил Николай Александрович. — Рабочий человек только ребятишками и богат.
— Что же нам не сказали, что у вас столько детей?
— Видно, не знали. Но вы не огорчайтесь. Они вам не помешают, ребята послушные, — стал уверять хозяин.
Владимир Ильич с укоризной взглянул на Зиновьева и пригласил мальчишек к столу.
— Ну, друзья, давайте знакомиться, — сказал он. — Тебя как зовут?
— Лева, — ответил малыш. — А это мой братик Толя, Пожимая парнишкам, руку, Владимир Ильич спрашивал имена и, стараясь запомнить их, повторял:
— Николай, Сергей, Александр… значит, самый маленький Лева?
— Нет, самый махонький — Гоша, он еще в люльке качается, — поправил хозяин.
— А седьмой куда пропал? — поинтересовался Ильич.
— Седьмого Кондратием зовут. От рук он у нас отбился: в анархисты записался. Теперь по ночам колобродив, — пожаловался Николай Александрович.
— Как же так, у родителей-марксистов… сын анархист?
— В коммерческое училище его отдали, думали, человеком будет, а там парням голову задурили. Какие-то «безначальцы» объявились, на сборища свои заманивают.
— Хм, это не очень приятно. А он не проговорится… не скажет, что мы у вас остановились?
— Нет, такое не позволит… все же он мой сын, — уверенно сказал Емельянов. — Ребята у нас приучены, знают: если с отцом беда приключится, то и им плохо будет. Только вот Кондратий шалый. Поговорили бы вы с ним, Владимир… то бишь, простите, Николай, может, вас послушается.
— Хорошо, попробую. Обязательно познакомьте меня с ним. Только прошу не забывать моего нового имени.
Малыши, получив по прянику, вновь убрались на сеновал, а старшие ребята — Александр и Сергей, — попив с гостями чаю, стали помогать матери мыть посуду и убирать со стола.
Уже начало светать. Где-то у соседей пропел петух. Хозяин предложил гостям свою кровать, но те предпочли спать на сеновале.
Улегшись на сухое прошлогоднее сено, источавшее едва уловимый запах осоки и мяты, Зиновьев недовольно сказал:
— Ну и подобрали же нам нелегальную квартиру! Если бы знал, что здесь такая орава, — никогда бы не поехал.
— А на что вы рассчитывали? — поинтересовался Владимир Ильич.
— Поселиться в какой-нибудь пустеющей даче… на худой конец — в доме малосемейного лесника.
— Мне думается, что появление таинственных жильцов в пустующей даче или в лесу скорей бы привлекло внимание ищеек. Нам ведь надо питаться, получать газеты, отсылать статьи и письма, принимать связных. Только здесь, в рабочем поселке, это будет выглядеть естественно. Хозяйка может запасать еду ребятишкам, газеты для оклейки стен ремонтируемого дома. Меня смущает другое: мы навлекаем смертельную опасность на них. Поражает самоотверженность Емельяновых: они же рискуют судьбой детей.
НА СЕНОВАЛЕ
Утром потемневший, с воспаленными глазами Зиновьев был в дурном расположении духа. Он отказался от завтрака, не спустился вниз к умывальнику, а сразу же уселся читать утренние газеты.
— Что с вами? — встревожился Ленин. — Нездоровится? Плохо себя чувствуете?
— Я не спал всю ночь. Беспокоюсь… Злата, ничего не знает. Она ведь с ума сходит, читая газеты. Надо бы сообщить, что я выбрался из Питера живым.
— Но как это сделать?
— Злата живет со Степой на даче у родственников. Это недалеко отсюда — в Тарховке. Может, уговорить хозяйку?
— А не слишком ли мы будем эксплуатировать добрую женщину? У нее и без нас полно хлопот.
— У меня иного выхода нет.
— Надеюсь, вам не изменило чутье конспиратора? Если хорошо продумали — действуйте.
Зиновьев спустился вниз и попросил Емельянову съездить в Тарховку с запиской.
Для маскировки Надежда Кондратьевна оделась по-деревенски, купила на базаре курицу и с нею поехала на соседнюю станцию.
Отыскав нужную дачу, она вошла в калитку и спросила у вышедшей прислуги:
— Не нужна ли курочка? Я недорого возьму.
Служанка ушла в дом и скоро вернулась.
— Нет, нам куры не нужны, — категорично отказала она.
— Как же так? А мне говорили — дачница искала… послали сюда. Неужто обманули?
Настойчивость торговки заставила дачницу выглянуть в окно. По гладкой прическе и другим приметам Надежда Кондратьевна поняла, что эта женщина и есть жена Григория. Как бы вспомнив, она добавила:
— Златой ее зовут, что ли?
При этом она глазами показала, чтобы дачница вышла за калитку, и поспешно пошла со двора.
Злата Ионовна не поняла сигнала, но ее удивило, что странная торговка знает ее имя, и поэтому она крикнула вдогонку:
— Одну минуточку! Подождите.
Догнав торговку, она спросила:
— А сколько вы возьмете за курицу?
— А сперва поглядите, какая она.
Передавая курицу, Надежда Кондратьевна сунула в руку дачнице записку. Злата Ионовна, как бы взвесив курицу, узнала цену и поспешила сказать:
— Хорошо, я беру. Сейчас принесу деньги… подождите.
Она ушла в дом и вскоре выбежала оттуда взволнованная, готовая броситься целовать посыльную. Надежда Кондратьевна сделала строгие глаза: «Осторожней, не показывай радости».
Отдавая деньги, Злата Ионовна шепнула:
— Я поеду с вами… очень нужно видеть его.
— Нет, со мной нельзя, — ответила ей Надежда Кондратьевна. — А если очень надо — то под вечер.
Она объяснила, как без расспросов найти ее дом, и предупредила:
— Только шпика за собой не приведите. У меня семеро ребятишек.
В ожидании Надежды Кондратьевны Владимир Ильич предложил:
— Не будем попусту терять времени, надо написать во все газеты, почему мы не отдаемся в руки прокуратуры. Мы обязаны объяснить.
— Но кто сейчас напечатает? К тому же здесь нет ни стола, ни чернил, — заметил Зиновьев, — да и темновато.
Дневной свет на чердак проникал только через щели, так как хозяин не прорубил окна. Можно было бы открыть дверцу, выходившую на крышу сарая, но тогда с улицы всякий бы разглядел, что на чердаке находятся какие-то люди.
Владимир Ильич спустился вниз и попросил Николая Александровича что-нибудь придумать. Тот вскоре притащил на сеновал небольшой стол, а ребята — два венских стула и чернильницу со школьной вставочкой.
Чтобы стало немного светлей, Владимир Ильич приоткрыл дверцу и, поглядывая во двор, принялся диктовать:
— Товарищи! Мы переменили свое намерение подчиниться указу Временного правительства о нашем аресте по таким мотивам. Из письма бывшего министра юстиции Переверзева, напечатанного в воскресенье в газете «Новое время», стало ясно, что дело о шпионстве Ленина и других подстроено совершенно обдуманно партией контрреволюции.
Переверзев вполне открыто признает, что он пустил в ход непроверенные обвинения, дабы поднять ярость солдат (дословное выражение) против нашей партии. Это признает вчерашний министр юстиции, человек, вчера еще называвший себя социалистом! Переверзев ушел. Но остановится ли новый министр юстиции перед приемами Переверзева, Алексинского, никто сказать не возьмется…
Вернувшись из Тарховки, Надежда Кондратьевна на скорую руку приготовила обед: на первое суп из щавеля, на второе — чечевицу, заправленную жареным луком.
Накормив малышей, чтобы они не мешали взрослым, хозяйка накрыла стол скатертью и послала старшего сына Александра пригласить гостей.
— Одну минуточку, — попросил Владимир Ильич, — нам осталось дописать всего несколько слов.
Закончив статью, гости сразу же спустились вниз. Здесь их уже поджидал хозяин с чубатым пареньком, которому на вид было лет шестнадцать.
— Вот это и есть мой Кондратий, — представил сына Николай Александрович. — Ни в мать, ни в отца! Не зря ему дедовское имя дали, в старика пошел. Тот даже прозвище получил Поперечный.
— Значит, вы юноша с характером! Это хорошо, — похвалил Ильич, пожимая руку Кондратию. — Люди без характера редко чего добиваются. Но, говорят, в анархисты записались?
— У нас не записываются, мы не признаем организаций, — возразил парнишка.
— О, это любопытно! Хотелось бы узнать подробности. Вы не откажетесь рассказать?
— Что ж это вы его все на «вы»! — запротестовал Николай Александрович. — Мальчишка он, не заслужил, чтобы с ним такие люди на «вы» разговаривали.
— Почему же? Кондратий Николаевич вполне взрослый человек. Так когда мы с вами побеседуем? — вновь обратился Ильич к пареньку.
— Хоть сегодня, — ответил тот. — Только не здесь. Они не хотят слушать, — кивнул Кондратий в сторону родителей, — а только ругают.
За обедом Надежда Кондратьевна рассказала, как она «продавала» курицу и передала записку Злате Ионовне.
— А вот приглашать сюда не следовало, — заметил Ильич.
— Я не приглашала. Она сразу же хотела со мной поехать.
— Видно, ей очень надо, — заступился за жену Зиновьев. — К тому же Злата будет кстати: поможет переправить наши письма и статью.
Злата Ионовна примчалась к Емельяновым, не дождавшись вечера. Хозяйка, как бы показывая свой двор и пристройки, провела ее в баньку у пруда. Вскоре туда явился и Зиновьев.
Надежда Кондратьевна ушла готовить ужин. А ее Кондратий, уловив момент, когда Ленин остался в одиночестве, поднялся на сеновал.
— Очень хорошо, что пришли. Садитесь на стул или прямо на сено, — пригласил Ленин.
Парнишка сел рядом и, смущенно потупясь, ждал вопросов.
— Анархизм обычно — порождение буржуазии, — сказал Владимир Ильич. — Не понимаю, почему возникла ваша организация в рабочем поселке? Какие люди входят в нее?
— Разные. Больше из нашего коммерческого. Начальник училища у нас придира, а инспектор — сволочь. Нескольких ребят они выгнали с «волчьими» билетами. Те второй год никуда попасть не могут. И взрослые у нас есть. Из Кронштадта портной по кличке Веник приезжает. Вообще — мы против всякого начальства и правил.
— Ну, это как следствие дурного обращения начальства с учащимися. А какие идеи движут вами?
— Мы хотим быть свободными, не связанными законами и условностями. Выступаем против всякого подавления личности и любых притеснителей: государства, школы, партии, семьи.
— А вам что-нибудь о Марксе известно? О научном социализме?
— Мало. Если это наука — она нам не годится, так как давит человека, мешает быть свободным.
— Но вы хоть с теоретиками анархизма познакомились? Или, не узнав, какие учения существуют, доверились какому-то Венику?
— Подчиняться авторитетам — преступление. Поэтому нам не по пути с пролетариатом, он погряз в болоте конкретных требований, его давит дисциплина труда. А человек должен быть свободен от забот.
— Значит, если следовать вашим воззрениям, родители обязаны бросить вас и братьев на произвол судьбы и заявить: «Кормитесь и одевайтесь как хотите, мы желаем быть свободными личностями». Так?
— Н-нет. Родители — это от природы. Птицы и звери тоже заботятся. Но когда выкормят — не притесняют, не заставляют ходить в школу, работать. Их дети свободны..
Чувствовалось, что парнишка на веру повторяет чужие слова, не вникая в их смысл, что его нетрудно будет переубедить.
— Вы хотите, чтобы человек уподобился зверю и птице?
Кондратий замялся:
— Я, видно, не умею выразить как нужно… Вот вы бы послушали Веника, — продолжал он.
— Зачем же мне терять время на бредни вашего Веника, когда существуют тысячи умных книг? Человек прежде всего обязан быть человеком. Знания его не угнетают, а наоборот — возвышают, ведут дальше. Хотите узнать, почему ваши родители не превратились в обывателей, а думают о вашем будущем и идут на риск?
Кондратий молчал. Он чувствовал, что этот человек может научить его, как жить, чтобы не стыдно было смотреть в глаза отцу и матери, но он не мог вот так, сразу, отказаться от своей веры в товарищей, с которыми поклялся отомстить инспектору и начальнику училища.
Владимир Ильич, видя колебания парнишки, решил, что на первый раз хватит и такого разговора. Если юноша пытлив, то он придет еще раз.
— Не буду принуждать, если это против ваших убеждений, — сказал он. — Подумайте и, если появятся ко мне вопросы, без стеснения приходите. Условились?
— Хорошо, я еще приду, — пообещал Кондратий и поспешил уйти.
Владимир Ильич спустился вниз. Уже смеркалось. Над домом и деревьями с писком носились летучие мыши. Вечер был теплым, безветренным.
Владимир Ильич вышел к пруду. В это время вернулись с озера хозяин со старшим сыном.
— Смотрели участок Игнатьева, — сообщил Николай Александрович. — Словно для нас придуман. Почти на берегу озера. Кругом болото — с суши не подойдешь. И Валера недорого берет. В общем, скоро переберемся. Надо только шалаш соорудить. Время покосное.
Емельяновы захватили с собой «дорожку», чтобы не зря пересекать озеро. На обратном пути их блесну схватила щука.
— Фунтов шесть потянет! — похвастался Александр, поднимая на кукане еще живую, раздувавшую жабры хищницу.
— Великолепно… с уловом вас! — поздравил Ильич.
Около баньки они встретили Злату Ионовну.
Владимир Ильич поздоровался с ней и спросил, какими новостями она порадует. Но у той, оказывается, новостей не было, ей просто захотелось повидать мужа и узнать, что он намерен делать дальше.
— Для этого не следовало так спешить, — заметил Ильич. — Надеюсь, благоразумие вас остановит… повторных посещений не будет?
— А разве Надежда Константиновна к вам не приедет?
— Нет, исключено. Она у меня строгий конспиратор. Знает, что мы живем не на даче.
— Простите, но я сегодня вам пригожусь… отвезу письма.
— Ну, если так, тогда будем считать, что риск оправдан, — смеясь, согласился Ленин.
ШПИКИ ИЩУТ СЛЕД
В субботу Наташа пришла к Кате раньше условленного времени.
— Я, кажется, устроила пропуск в тюрьму, — сказала она. — Центральное бюро помощи политическим заключенным просило создать в районе Красный Крест и взять шефство над тюрьмами. Я подсказала выдвинуть тебя. Получишь право помогать заключенным. Здорово, да?
— Умница! Спасибо.
Вскоре появился и Дементий Рыкунов.
— Куда меня спрячете? — спросил он у девушек.
— Садись в столовой и жди, — сказала Катя. — В случае чего мы тебя позовем.
В восемь часов Аверкин не появился. Только минут через тридцать в прихожей раздался звонок. Катя выбежала открывать дверь. На пороге она увидела незнакомого мальчишку.
— Вы Алешина? — спросил он. — Вам письмо.
Мальчик отдал ей четвертушку бумаги, сложенную, как складывают в аптеке пакетики, и убежал.
Катя развернула записку. В ней было написано:
«Екатерина Дмитриевна!
Что же вы этак? Вроде засаду против меня устроили. А я хотел вам кое-что по секрету сообщить. Неладно получается, теряете Вы верного друга. Теперь уж не знаю, когда смогу прийти. Буду занят все дни.
Верный Ваш друг Виталий Аверкин».
— Выходи, Дема, — позвала Катя. — Аверкин, наверное, видел, как ты шел ко мне, и струсил. Посыльного прислал.
Прочитав полученную записку, Дементий пожалел:
— Эх, не так сделали! — сокрушался он. — Зря не послушался Савелия Матвеевича. Ловленый, конечно, без разведки не пойдет.
— Боюсь, что он нагрянет, когда тебя не будет, — сказала Катя.
— А ты не бойся его. Эти шпики трусливы. Хочешь, я свой браунинг тебе оставлю?
— Я же не умею с ним обращаться.
— Подумаешь, трудность какая! Вмиг научишься.
Достав пистолет, Дема разрядил его и стал показывать девушкам, куда надо закладывать обойму, как ставить на боевой взвод и стрелять. В это время раздался звонок.
— Прикрой пистолет журналом, — велела Катя и пошла открывать дверь.
На лестничной площадке стоял отдувавшийся, тяжело дышавший домовладелец.
— Дозвольте войти? — спросил он.
— Пожалуйста.
Тучный торговец вошел в прихожую, снял белую фуражку и, как бы интересуясь, не отсырели ли потолки, заглянул в комнату, на кухню и спросил:
— Когда же вы за квартиру начнете платить?
— Честно говоря, мы даже не знаем, сколько она стоит, — призналась Катя.
— Это надо было узнать при въезде, — заметил домовладелец. — Сейчас цены на квартиры поднялись. А так как вы занимаете одну из лучших, то придется платить по восьмидесяти рубликов.
— Восемьдесят рублей в месяц? — удивленно спросила девушка.
— А как же вы думали? К зиме еще больше возьму.
— Ноу нас же нет таких денег!
— Это меня не касается. Надо было выбирать квартиру по средствам. Не заплатите — в суд подам, выселю. Даю вам неделю срока.
Не прощаясь, домовладелец нахлобучил фуражку и ушел.
— Вот ведь шкуродер! — возмутился Дементий. — Его бы за глотку да тряхнуть покрепче. Узнал бы, как людей грабить!
— Не вздумайте только платить, — вмешалась в разговор Наташа. — На него надо жалобу в исполком написать.
— Я чувствую, что это все проделки Аверкина, — сказала Катя. — Вот ведь подлец! Домовладелец по его указке приходил. Не зря же он заглядывал в комнаты. Теперь даже страшно оставаться одной.
— Бери браунинг и не трусь! — подбодрил ее Дема.
Он ловко вставил в пистолет обойму с патронами и сказал:
— Помни, здесь семь патронов. Стреляет автоматически.
Аверкин в присланной Кате записке не лгал, ему действительно с трудом удалось освободиться на три часа. Все эти дни участвовал в облавах и обысках.
Старший брат вызвал его к себе и сказал:
— Бросай все мелкие дела, тебе поручается самое важное. Надо быстрей выяснить, куда мог скрыться главный руководитель большевиков Ульянов-Ленин. Вот его фотография и описание примет. Когда-нибудь ты его видел?
— Приходилось.
— В общем, учти: он перешел на нелегальное положение. Подбери старых агентов и действуй. Помни, ждет большая денежная награда и продвижение по службе. И не забывай: он человек опытный и умный. Сторонников у него не меньше, чем врагов. Особенно на флоте и в рабочих районах. Как нападешь на след, немедля сообщи.
Подобрав себе помощников, Аверкин прежде всего установил слежку за квартирой на Широкой улице, где до последних дней жил Ленин. Двух агентов он отправил на разведку в Кронштадт, а одного к дому Алешиной.
Собираясь к девушке, он решил намекнуть ей об опасности, грозящей Ульянову-Ленину. Он надеялся вызвать доверие к себе и получить хотя бы ниточку, по которой можно двигаться в верном направлении. «Алешина, конечно, предупредит своих, — рассуждал он. — Она — одному, тот — другому… появится цепочка. Только не упускай ее! И ты нащупаешь след».
Он сам видел, как к Алешиной прошел Рыкунов, и обозлился: «Вот ведь подлая! Не с одним, так с другим путается. Не засаду ли устроила?»
Написав Кате записку, Аверкин послал к ней мальчишку, а сам зашел к домовладельцу и попросил его припугнуть Алешину выселением. Домовладелец охотно выполнил его поручение и, вернувшись, услужливо доложил:
— Заметил, есть подозрительные: какой-то бугай здоровенный и барышненка невысоконькая.
Дождавшись ухода Ершиной и Рыкунова, Аверкин поднялся на второй этаж, достал свой ключ, сунул его в замочную скважину и дважды повернул. Дверь лишь едва приоткрылась, она была на цепочке. В образовавшуюся щель даже рука не проходила.
Аверкину казалось, что он возился с дверью осторожно, но Катя все же расслышала шум. В коридоре вспыхнул свет, и девушка появилась на пороге. Лицо ее было бледным, а руки она держава за спиной.
— Кто здесь? — окликнула Катя дрогнувшим голосом.
— Это я, — негромко ответил Аверкин. — Откройте, Екатерина Дмитриевна.
— Как вы открыли дверь? У вас ключ подобран?.. Черт знает что!
— Это потом… очень важное сообщение…
— У меня никого нет дома… я не могу вас впустить. Как вы не понимаете, что это неприлично?
— Понимаю, все понимаю, — зашептал в щель Аверкин. — Такое дело, что минуты нельзя… Вашего Ленина объявляют вне закона. На поиски пущены все тайные агенты… даже собака Треф. Сегодня начнутся облавы и обыски…
— А для чего вы мне все это говорите? — с деланным возмущением спросила Катя. — Я-то при чем?
— Тиш… тише! — зашикал на нее Аверкин. — Зачем так громко? Я ведь как друг… Откройте на минуточку.
— Уходите! — не снижая голоса, потребовала Катя. — Мне ничего от вас не нужно.
Захлопнув дверь перед его носом, она закрыла ее на крюк.
«Вот паршивка! — ругнулся про себя Аверкин. — Неужто догадывается? Но ей не выдержать. Сегодня же побежит к своим. А мы люди негордые, у нас терпения хватит».
Избавясь от Аверкина, Катя действительно задумалась: «Как же сообщить нашим? И это надо сделать быстрей. А вдруг провокация? К тому же он теперь следить будет. Ну и пусть! Я же войду в дом, где кроме райкома еще находятся отделы районной думы и Совета. Мало ли туда людей ходит».
Катя дождалась возвращения матери и бабушки, которые два раза в неделю ходили в госпиталь стирать белье раненым. Положив в сумочку оставленный Демой браунинг, она сказала матери, что скоро вернется, и пошла на Большой Сампсониевский проспект.
На сумеречной улице пешеходов было немного. Девушка шла быстрым шагом и временами оглядывалась. Один раз ей показалось, что какая-то тень мелькнула на той стороне улицы и прижалась к стене. «Идут следом», — решила Катя. Она вытащила из сумочки пистолет, сунула его за пазуху. Но по пути к ней никто не приставал.
В районном комитете партии шло какое-то совещание. В приоткрытую дверь Катя разглядела Гурьянова, сидевшего невдалеке от входа. Просунув голову в комнату, она поманила его к себе. Гурьянов без промедления поднялся и вышел в коридор.
— Что, от отца письмо пришло? — спросил он.
— Нет, нужно срочно посоветоваться с вами.
Девушка отвела Гурьянова в конец коридора к окну и рассказала ему об Аверкине, его домогательствах и последнем сообщении. Старый слесарь выслушал ее, нахмурился и спросил:
— Думаешь, что шел следом?
— Уверена.
— Хорошо, побудь здесь. Я сейчас со своими ребятами поговорю, надо проучить этого типа. Сегодня как раз мы толковали о патрулировании в районе. Пора отвадить шпиков.
Когда Гурьянов ушел, Катя прижалась к косяку окна и стала наблюдать за улицей. Но сколько она ни вглядывалась во мглу, никого подозрительного не заметила.
Гурьянов пропадал недолго. Вскоре он вернулся с тремя рослыми парнями и сказал:
— Растолкуй им, по каким переулкам ходишь.
Катя в нескольких словах объяснила дружинникам, где проходит кратчайший путь к ее дому, и сказала о приметах Аверкина. Парни тут же при ней договорились, в каком месте лучше всего устроить засаду, и по одному ушли. Девушка же осталась в помещении.
На улице она показалась минут через двадцать. Оглядевшись по сторонам, она пошла обычной дорогой.
Город уже готовился ко сну. Улицы опустели. Где-то на Неве прогудел буксирный пароход. Девушка настороженно прислушивалась ко всем звукам. Сердце билось учащенно. Казалось, что сейчас где-то рядом прогрохочут выстрелы. Но вокруг все было спокойно. Только звонко стучали ее каблуки о плиты панели.
Шагов за сто до поворота девушка услышала из темного подъезда шепот:
— Не пугайтесь, за углом наши. Идите, не останавливайтесь.
Катя повернула в переулок и, никого не заметив, прибавила шагу. Когда она отошла на изрядное расстояние, за спиной вдруг услышала шарканье ног и приглушенный говор. Девушка оглянулась. На углу трое парней, схватив длиннолицего, прижали его к забору.
Чтобы не видеть, что будет дальше, Катя бегом кинулась к дому.
ШАЛАШ ЗА ОЗЕРОМ
Еще во времена Петра Первого реку Сестру перегородили высокой плотиной и на берегу образовавшегося искусственного озера, названного Разливом, выстроили оружейный завод.
Мастеров на Сестрорецкий завод привезли из Тулы и, чтобы они не покинули новые места, дали тесу и нарезали каждому по два участка земли: один — для построек и огородов на высоком берегу вблизи от завода, другой — для пастбищ и покосов на затопляемой стороне озера.
Покос, арендованный Емельяновым у Игнатьева, находился верстах в трех от поселка. К этому островку суши, окруженному с трех сторон болотами, нужно было добираться на лодке по озеру не менее сорока минут.
Накосив с сыновьями сена, Николай Александрович просушил его на жарком солнце и, наметав стог, впритык к нему построил из: ветвей ивы и ольхи шалаш без задней Стенки. Чтобы жилье стало просторным, он выгреб из середины стога сено с таким расчетом, чтобы образовавшееся углубление было продолжением шалаша. Теперь в нем могли улечься человек пять.
Вечером, взяв удочки, подсачик и ведро, Николай Александрович усадил гостей в лодку и как бы отправился с ними в дальний край озера ловить рыбу. А его сыновья тем временем, погрузив в другую лодку посуду, полуведерный котел, чайник и одеяла, поплыли прямо к покосу.
Перетащив вещи из лодки в шалаш, парни занялись костром. Они очистили от дерна площадку, вбили в землю две толстые рогатины и между ними развели огонь. Потом бреднем наловили окуньков и ершиков, сходили за ключевой водой и, наполнив ею котел, подвесили его над пламенем.
Когда отец с гостями прибыли с дальнего края озера к огоньку, вода уже закипала.
Николай Александрович распорядился, чтобы ребята бросили в котел соли, горсть крупы, немного порезанной картошки, а сам принялся чистить пойманную рыбешку.
Свежий стог сена распространял удивительное благоухание. Миллионы хиленьких, порой почти незримых северных цветов, провяленных солнцем и горячим ветром, сохраняли нежнейший запах.
Владимир Ильич не любил садовых цветов. Аромат роз и жасмина быстро утомлял его. Зато едва ощутимый запах скошенного луга он воспринимал как родниковую воду, которую, чем больше пьешь, тем больше хочется пить.
— Григорий Евсеевич, ощущаете, как пахнет сено? — спросил Ильич. — Запах полевых цветов всегда успокаивает, бодрит и, если хотите, веселит. Я это по себе знаю. Пойдем взглянем, какое жилье нам приготовили.
«Спальня» оказалась довольно просторной. Только в нее набилась уйма комаров. Яростный писк несся со всех сторон. Комары вмиг облепили лица и руки.
— Здесь не уснешь, — определил Зиновьев. — Заедят. У меня и так уже кожа зудит.
— От зуда можно избавиться. Разве это комары! Вот в Шушенском мы от них натерпелись. Там без накомарника в лес не пойдешь. А этих пискунов мы живо выкурим.
Владимир Ильич вернулся к костру и стал выбирать головешку посырей, чтобы она больше дымила.
А Николай Александрович продолжал священнодействовать над котлом. Кинув в него по щепотке перца и лаврового листа, он вывалил из миски в кипящее варево рыбешек… И сразу на поляне остро запахло ухой.
На выкуривание комаров понадобилось немного времени. Емельяновские ребята вместе с Ильичем так надымили в шалаше, что закашлялись и поспешили выскочить на свежий воздух.
— Теперь закроем вход половиком, больше комары туда не полезут, — сказал Кондратий.
— А ну, работники, ужинать! — позвал Николай Александрович.
Расстелив на траве газету, он нарезал хлеба и, дав каждому по деревянной ложке, разлил уху в глубокие миски.
Насытившись, Николай Александрович протянул Ленину кисет с самосадом.
— Закурите, комар не будет липнуть.
— Спасибо, не употребляю… Из-за комаров не стоит привыкать.
Остальные не отказались от крепкого табака: свернув по цигарке, задымили.
Приятно было сидеть вот так у костра, глядеть на пламя, пожиравшее сухие, постреливающие ветви, и наслаждаться ночной тишиной.
— Ну как — нравятся вам наши места? — спросил Емельянов у Ильича.
— Очень, больше, чем в Швейцарии, — ответил тот. — Уж слишком там пышна растительность. Я бы сказал — по-кладбищенски упитана. Скромный север приятней, он не утомляет. Вот если установим свою власть, надо будет сделать так, чтобы каждый рабочий хоть раз в году мог покинуть пыльный и душный город и наслаждаться солнцем, рекой, природой. Что может сравниться вот с таким благоуханием луга?
Утром Владимир Ильич до завтрака выкупался в озере и стал подыскивать укромное место для работы.
Емельянов показал ему густые заросли ивняка.
— Если вот здесь вырубить середину кустарника, то может получиться довольно укромный закуток, — сказал Николай Александрович. — Ни с озера, ни с суши не разглядишь, кто в нем сидит.
Не откладывая дела, Емельянов принес топор, пробрался в гущу ивняка и принялся рубить лозу под корень.
Когда площадка была очищена от ветвей, корни вырваны, а земля заровнена и утоптана, получилось нечто похожее на комнату, имевшую живые стены из густо-зеленых хлыстов ивняка.
— Да вы мастер, прямо зеленый кабинет получился! — похвалил Владимир Ильич.
Чтобы «кабинет» стал кабинетом, Николай Александрович прикатил два чурбана. Толстый он поставил на середине и назвал «столом», а меньший — «табуретом».
Владимир Ильич хотел показать Зиновьеву оборудованный кабинет, но тот после бессонной ночи чувствовал себя разбитым. Он долго не мог заснуть из-за назойливого комариного гудения, а под утро ему помешали крики какой-то птицы.
— Нет, мне трудно привыкнуть к жизни на болоте, — сказал он.
— А вы относитесь ко всему философски, — посоветовал Ильич. — Ведь могли вы попасть на охоте в болото похуже этого. Вас бы не смутили шалаш и костер? Они были бы естественны, не так ли? Утром не ленитесь, проделайте несколько физических упражнений… только не до полного утомления. Я вам покажу каких. А потом выкупайтесь, поплавайте. Вода здесь прохладная, бодрит. Пока есть возможность — закаляйтесь, укрепляйте нервы, потом сложней будет.
— Думаете, в более глубокое подполье загонят?
— Наоборот, нам с вами придется управлять государством. А это дело хлопотливое, времени на променады не будет.
«О чем он говорит? — недоумевал Зиновьев. — Мы разбиты, загнаны в подполье. Каким государством будем управлять? Когда?»
Почти десять лет как привязанный он следовал за Лениным, выполняя черновую редакционную работу сперва в «Пролетарии», а потом в «Социал-демократе». Со сколькими людьми Ленин порвал, потому что не признавал идейных уступок и за ошибки не щадил. И статьи Зиновьева вылетали из нелегальных сборников. Ленин и с них был строг, как и с другими.
Довольно терпеть! Зиновьев больше не будет послушным исполнителем и, как Каменев, однажды скажет: «Обойдусь без учителей».
Разве нельзя было, вернувшись из Швейцарии, занять достойное место среди революционной демократии, стать уважаемым политическим деятелем и продолжать легальную борьбу на правах оппозиционной партии? А ему немедля подавай диктатуру пролетариата. А нужна ли сейчас диктатура? Своевременна ли она? Об этом еще надо подумать.
— Владимир Ильич, — обратился он к Ленину. — Вы знаете, я не согласен ни с Каутским, ни с Плехановым. Мне просто хотелось бы понять их по-человечески, не для разоблачений. Как вы для себя объясняете поведение этих марксистов? Ведь они были ортодоксальны и считали диктатуру пролетариата неизбежной фазой революции, знали, что социалистам придется прибегать к насилию, отвергая всякое сотрудничество с буржуазией, а вот когда решающие дни приблизились, оба заколебались. Что же встревожило и остановило их?
Прежде чем ответить, Владимир Ильич пытливо взглянул на Зиновьева.
Тот, в ожидании ответа, сидел напряженный и не поднимал глаз, боясь встретиться с колючим взглядом Ильича. Ленин сразу же уловит его колебания. Зиновьев знал, каким резким и беспощадным бывает Ильич с теми, кто вдруг начинал сомневаться в важнейших положениях марксизма. Ленин порывал с такими людьми, в каких бы отношениях с ними ни был, и не жалел об этом.
— Я не желаю понимать оппортунистов «по-человечески», — сказал Владимир Ильич сухо. — Их развелось слишком много. Почти все наши эсеры и меньшевики скатились к мелкобуржуазной болтовне о примирении классов государством. Для этих господ диктатура пролетариата, видите ли, противоречит революционной демократии. А то, что государство выражает волю определенного класса и не может мириться с антиподом, — этого они не желают понимать. Каутский, конечно, подлей и тоньше наших оппортунистов. Он не отрицает, что государство — орган классового господства и что классовые противоречия непримиримы. Он только против разрушения государственной бюрократии и поэтому извращает Маркса при помощи самого Маркса, приводя в спорах жульнически подтасованные цитаты. Каутский ратует за правительство, «идущее навстречу пролетариату», то есть за буржуазную парламентарную республику. А с Плехановым я давно мечтаю встретиться лицом к лицу и спросить: «Ну, как вы, ура-патриот, намерены дальше прикрываться Марксом? Мы ведь будем по Марксу добиваться разрушения всей государственной машины. Что вы скажете, когда вооруженный пролетариат придет к власти, а его полномочные представители станут властью?»
Владимир Ильич еще раз взглянул на Зиновьева и добавил:
— Сейчас крайне необходима марксистская книга, которая ответит на все эти вопросы. Я ее должен написать. Григорий Евсеевич, напомните, пожалуйста, пусть Надежда Константиновна добудет мою синюю тетрадь и пришлет сюда. Книге следовало бы дать название «Учение марксизма о государстве и задачи пролетарской революции», но оно слишком длинное, лучше будет из двух слов: «Государство и революция».
— Владимир Ильич, до книг ли сейчас?
— Именно сейчас-то и нужны книги! — не принимая возражения, увлеченно продолжал Ленин. — В управление страной мы вовлечем миллионы неискушенных людей, им необходимы будут направляющие теоретические труды.
— Но сумеют ли они их прочесть? И будут ли понятны простым пролетариям наши теоретические споры? Сперва надо подтянуть их до соответствующего уровня, а потом говорить о власти. Ведь сложней всего удержать ее. Да и кто теперь решится сбросить Временное правительство?
— А давайте поговорим с простым рабочим, — вдруг предложил Ильич и, подозвав к шалашу Емельянова, спросил: — Николай Александрович, как вы думаете, возьмем мы к осени власть в свои руки?
— Возьмем, — без тени сомнения ответил Емельянов. — Народ дольше терпеть не может.
— Верно. Но мы сможем ее взять, если хорошо подготовим вооруженное восстание. Вот только как мы удержим свою власть? Сами-то вы, Николай Александрович, намерены принять участие в управлении государством?
Емельянов замялся.
— Образования маловато, — с сожалением сказал он. — Не гожусь я. Пусть люди пограмотней…
— Вот видите, — не без злорадства заметил Зиновьев. — И этак многие скажут.
Владимир Ильич, как бы не слыша его, продолжал допытываться:
— Что же получается, Николай Александрович, власть возьмем с бою, а вы тут же отдадите ее в чужие руки?
— Почему же в чужие? Разве среди нас, большевиков, нет людей побашковитей да больше меня в государственных делах понимающих?
— А сами не решитесь? Или не сумеете?
— Суметь-то, может быть, и сумел, но не годится мне, слесарю, отрываться от своего брата мастерового. Скажут: все революцию делали, а Емельянов, вишь, к теплому местечку рвался. А если человеком честолюбие да корысть овладевают — грош ему цена. Наверху вмиг забудет, с кем водился. Власть, она портит человека.
— Верно рассуждаете, Николай Александрович, честные и преданные рабочему классу люди нам нужны. Как же мы без таких, как вы, будем страной управлять? Человек, конечно, может зазнаться, но мы ему напомним, кому он служит, а не подействует — встряхнем как следует и к станку лечиться отправим. А чтобы барство не зарождалось, заработную плату определим такую, какую получает квалифицированный рабочий. Нас ведь со всех сторон запугивают: не сумеете-де руководить государством, надо оставить бюрократию — всех старых чиновников, без них не обойдетесь.
— Ну, если так вопрос станет, то и я не лыком шит. Как староста справляюсь в цеху. Смогу и по заводу. Надо будет — подучусь. Но нельзя оставлять у власти прислужников буржуазии, их к старому потянет.
— Удивительное совпадение! — уже повеселев, воскликнул Ильич. — Мы с вами, Николай Александрович, не расходимся в мыслях. А вот некоторые товарищи сомневаются. Я думаю, что это у них от неверия в рабочий класс…
Сказав это, Ленин взглянул, в сторону Зиновьева. Тот сделал вид, что не заметил его насмешливого взгляда.
Разговор с Зиновьевым все же оставил у Ильича неприятный осадок: почему марксист вдруг хочет понять оппортунистов «по-человечески»? Правда, им и прежде не раз овладевали колебания…
Серго Орджоникидзе получил задание тайно съездить к Ленину и посоветоваться: как строить работу дальше?
Боясь привлечь внимание шпиков, Серго на нескольких трамваях доехал до Приморского вокзала и там, купив билет до Сестрорецка, выбрал вагон потемней и уселся в уголок.
Поезд по Приморской линии едва тянулся. Внутри вагона, переполненного дачниками, было душно, Серго вышел на площадку. Здесь дышалось легче.
В домах приморских поселков уже зажглись огни. Орджоникидзе почему-то вспомнилась французская деревенька Лонжюмо, где он учился в партийной школе. Ему тогда не удалось дослушать всех лекций. Владимир Ильич послал его в Россию восстанавливать разгромленные охранкой партийные организации. Как и теперь, приходилось остерегаться слежки. Даже своим товарищам по школе Серго не сказал, куда едет, а придумал какую-то неотложную операцию горла, которую якобы могли произвести только в Париже.
Сколько станций и полустанков увидел он, пересаживаясь из поезда в поезд! В каких только вагонах не приходилось ему бодрствовать по ночам, прислушиваясь ко всякому подозрительному шороху.
Сейчас, он чувствовал, никто за ним не следит.
Не доезжая одной станции до Сестрорецка, Серго спрыгнул и направился в малонаселенную часть поселка.
Под ногами хрустел песок. В темноте трудно было разглядеть название улиц. Серго плутал, опасаясь спросить у прохожих, где живет Емельянов.
На верандах особняков светились огни, играли граммофоны. Слышались смех и звон посуды. Дачники, несмотря на тревожное время, веселились.
Только через час или два Орджоникидзе нашел емельяновский дом. Пройдя во двор, он тихо постучал в стенку сарая.
Дверь открыла заспанная женщина. Серго шепнул заученные слова пароля. Она задала несколько вопросов и, убедившись, что перед ней не шпик, ушла в дом и вскоре вернулась с мальчишкой лет одиннадцати.
— Идите за Колей, — сказала женщина.
Орджоникидзе откланялся и пошел за босоногим проводником по каким-то закоулкам к озеру. Там стояла лодка. Они столкнули ее на воду. Мальчишка сел за руль, Серго — за весла, и они поплыли по темной глади спокойного озера.
Ночь была теплая и безветренная. Ничто не нарушало тишины, только в камышах всплескивала рыба.
Переправившись вдали от огней поселка на другую сторону озера, Коля пошел по едва приметной тропинке среди кустов. Орджоникидзе, решив, что Ленин с Зиновьевым живут на какой-то даче, доверчиво шагал за юным проводником.
Под ногами скользила влажная от тумана земля. Домов не было видно, только где-то вдали мигали огоньки. На небольшой поляне Коля остановился и, засвистев снегирем, позвал отца:
— Пап… а пап! К тебе кто-то приехал.
Из-за стога сена вышел человек в русских сапогах и рабочей куртке. Серго поздоровался с ним и, объяснив, зачем он явился сюда, попросил:
— Нельзя ли побыстрей отвести на дачу?
— На какую дачу?
— Ну, на ту, где живет Ильич.
— Я не знаю такой дачи…
Получался какой-то нелепый разговор. Из-за стога вышло еще двое в пальто, накинутых на плечи. Они негромко поздоровались. Орджоникидзе не хотелось ни с кем знакомиться, он сухо ответил им и, уже сердясь, обратился к мальчику:
— Коля, ты куда меня привел?
В это время невысокий незнакомец подошел вплотную к Орджоникидзе, хлопнул его по плечу и, смеясь, спросил:
— Что, товарищ Серго, не узнаете?
Перед Орджоникидзе стоял — безусый, с бритым подбородком— Ленин, а рядом с ним бородатый Зиновьев.
— Прошу к огню, — пригласил Орджоникидзе Владимир Ильич. — Мы как раз собираемся ужинать.
Он повел Орджоникидзе к потрескивающему костру. Там на газете, постланной на траве, лежала краюха хлеба, несколько картофелин и небольшая селедка.
— Прошу прощения… стола и стульев не имеем, — извинился Ильич. — Устраивайтесь как удобней.
При свете костра они съели разделенную на пять частей селедку с печеным картофелем, выпили по кружке горячего, попахивающего дымом чая без сахара и пошли беседовать в «апартаменты». Так Владимир Ильич шутливо величал шалаш.
Кругом было тихо, только пищали комары, да изредка слышался свист крыльев диких уток, перелетавших с болот на озеро. Серго стал рассказывать о Питере.
Вести не радовали. В городе продолжались обыски и аресты, Каменев уже был в тюрьме. Пулеметчиков, вызвавших волнения в столице, по приказу Керенского безоружных вывели на площадь перед Зимним дворцом и там заклеймили позором. Серго видел, как вели солдат без ремней, чтобы отправить на фронт, у наказанных лица были бледными, а глаза горели злобой.
— Теперь городской комитет обосновался на Выборгской стороне, — сообщил Орджоникидзе. — В наш район каратели не суются, боятся, что нос прищемим. Настроение постепенно улучшается. Даже есть такие, что поговаривают: «Вот увидите, Ленин в сентябре будет премьер-министром».
— Те, кто верит в это, близки к истине, — вставил Владимир Ильич. — Две недели назад Советы без особого труда могли взять власть, — не без горечи сказал он, — но меньшевики и эсеры испугались, выполнили требования кадетов. Этим они себя дискредитировали. Советы стали жалким придатком Временного правительства. Большевикам придется снять лозунг «Вся власть Советам» и готовить вооруженное восстание. Да, да. Мирный период развития революции кончился, наступает другой, чреватый взрывами. Будем накапливать оружие, обучать рабочих. Власть придется брать силой. Восстание, я думаю, назреет к сентябрю — октябрю…
Серго был потрясен: «Как же так? Нас только что расколотили, партия существует полулегально, а Владимир Ильич предсказывает через два-три месяца победоносное восстание. Вот здорово!»
Владимир Ильич заговорил о том, как следует действовать Петроградской организации, сообразуясь с обстановкой. Кроме подготовки боевых отрядов необходимо создавать подпольные типографии, и статьи, которые нельзя будет поместить в легальных изданиях, печатать в нелегальных листках…
Орджоникидзе покинул шалаш окрыленный. Провожать его вышел Зиновьев.
— Видишь, товарищ Серго, как сложно стало с Лениным, — сказал он. — Все только о восстании. Прямо одержимый!
— Очень хорошо, что у Ильича боевое настроение! Ты знаешь, как обрадуются наши товарищи, узнав об этом? Качать меня будут, — заверил Орджоникидзе. — После беседы с ним я прямо пьяный, петь хочется!
У лодки, спрятанной в камышах, их поджидал Николай Александрович. Орджоникидзе прошел на корму. Емельянов столкнул лодку на более глубокое место и, забравшись в нее, подналег на весла. Камыши зашуршали и скрыли их.
Возвращаясь, Зиновьев рассуждал: «Значит, Ленин всерьез думает о восстании. Хочет повторить недавние события. Это определенно безумие!»
Но когда он вошел в шалаш, Владимир Ильич уже крепко спал. А у него под боком посапывал Коля.
«Вот и поговорили!» — рассердился Зиновьев.
Выйдя из шалаша, он подбросил в угасающий костер несколько поленьев и, раздосадованный, уселся на чурбан.
Поднявшееся над лесом солнце позолотило край озера. Вокруг на разные голоса заливались пичуги, радовавшиеся теплу, а обросший бородой человек не замечал ликования природы. Его заботила лишь дума о том, как скорей покинуть этот лес.
В полдень к покосу приблизилась лодка. Встревожась, Зиновьев разбудил Ильича и Колю. Те, выбравшись из шалаша, поспешили к озеру и стали всматриваться.
— Наша, — определил Коля. — Кондратий, кажется, он так веслами машет.
Мальчик не ошибся. Это был Кондратий. Он привез судки с едой. День был жаркий, парень взмок за веслами. Лицо его покрывали капельки пота.
— Может, выкупаемся? — предложил Владимир Ильич.
— Хорошо бы, — обрадовался Кондратий.
Раздевшись, они втроем бросились в воду и почти одновременно нырнули… Коля первым появился на поверхности, Кондратий всплыл секунд через тридцать, а Ильич дольше всех пробыл под водой и вынырнул далеко в стороне.
Оставив Колю на отмели, Кондратий поплыл за Ильичем. Ныряя, они перекликались меж собой.
— А тут уже глубоко… дна не достать!
— Я достал… только вода холодней, ключи, видно, есть.
Потом, бултыхаясь, они принялись вытворять в воде такое, что Зиновьев, обеспокоясь, потребовал:
— Возвращайтесь-ка назад… довольно!
Но пловцы, видимо, не слышали его. Они удалялись то саженками, то на боку, то повернувшись на спину и работая лишь ногами.
Подхватив судки, Зиновьев пошел к шалашу. Коля же, натянув штанишки и рубашонку, несколько раз свистнул пловцам и побежал догонять его.
Пловцы показались на берегу минут через пятнадцать. Они прыгали то на одной ноге, то на другой, вытряхивая из ушей воду.
— Коля, зови их обедать, — приказал Зиновьев мальчику.
Коля засунул два пальца в рот, пронзительно свистнул. Ильич и Кондратий поняли его, замахали в ответ руками и стали одеваться.
Они приближались к костру словно давние друзья-ровесники. Владимир Ильич рассказывал что-то забавное, потому что Кондратий то и дело прыскал со смеху.
— Ну, что же вы так долго? — упрекнул Зиновьев. — Обед опять остыл.
— А вы почему не освежились? — спросил Ильич.
— Нет никакого желания резвиться, — буркнул Зиновьев.
Владимир Ильич посерьезнел, вгляделся в Зиновьева и спросил:
— Чем вы недовольны?
— Я уже говорил, лесная жизнь не по мне.
— А вы старайтесь не замечать неудобства. Держитесь естественней и свободней. Вы же молодой человек, не мне вас учить, как надо радоваться жизни. Встряхнитесь!
Николай Александрович вернулся на покос не один, он переправил на лодке члена Центрального Комитета Феликса Эдмундовича Дзержинского.
Владимир Ильич обрадовался Дзержинскому. Поспешив навстречу, он протянул обе руки.
— Очень хорошо, что вы здесь. О многом надо посоветоваться.
— А я к вам не с пустыми руками… Позвольте вручить… вышли первые пять тысяч.
Говоря это, Дзержинский вытащил из кармана еще пахнущую типографской краской небольшую брошюру и с поклоном преподнес ее Ильичу.
— Наконец-то! — бегло взглянув на обложку, воскликнул Ленин. — Многострадальная книжица, перемытая в семи водах!
Сколько он потратил труда на эту брошюру! Одних только выписок было двадцать тетрадей.
Владимир Ильич, полистав брошюру, стал разглядывать обложку, на которой крупными буквами было напечатано: «Империализм, как новейший этап капитализма».
— А почему не обозначен издатель? — спросил Ильич. — Кто решился выпустить ее?
— Максим Горький, в своем издательстве «Парус». Осторожность, видимо, заставила выпустить без эмблемы.
— Испугался?
— Не думаю. Горькому легче было отказаться от нее, а он выпустил — и в такой сложный момент. Кто прочтет брошюру, поймет, что обвинение в шпионстве — бред, для вас невозможны сделки с германским империализмом. Брошюра поступила на склад партийного издательства. Бонч-Бруевич намерен широко распространить ее.
— Спасибо… Большое спасибо. Очень приятный подарок, — поблагодарил Владимир Ильич. — Чем же мне вас угостить? Может, рыбной ловлей?.. Рыбацкой ухой?
— О том и другом мечтаю.
— Ну и замечательно. Коля, вытаскивай бредень, — попросил Владимир Ильич. — Будем гостя эксплуатировать.
Коля мгновенно выполнил просьбу и кликнул Кондратия.
Бредень был большим, каждому нашлось дело: Владимир Ильич с Кондратием, забравшись по горло на глубину, заводили крылья и тянули их к берегу, Николай Александрович следил за «маткой», а остальные шумно шли по краям, не давая рыбе уходить в стороны.
Сделано было три захода, и все удачные: рыбы наловили и на уху, и про запас, чтобы отправить Надежде Кондратьевне.
Вволю накупавшись, Дзержинский вышел на берег и сказал:
— Вот это жизнь! Соблазнили. Готов вместе с вами скрываться у этого озера до самой осени. Принимаете?
— Нет уж, походите в легальных, — возразил Ленин. — Вы нам в Питере нужней. Кто же будет восстание готовить, боевые отряды создавать?
— А уже назрело?
— Назреет.
Когда все собрались у костра, Владимир Ильич спросил у Емельянова:
— Николай Александрович, вы ведь в Пятом году добывали оружие. Как это делалось?
— Хитрить приходилось. Занумерованную винтовку не вынесешь. Таскали по частям. Одни по стволам специализировались, другие по затворам, а я деревянные ложа добывал. Ложевые сараи, как и теперь, почти не охранялись. Подгребешь на лодке к сараю, отогнешь подгнившие от сырости нижние доски и… давай выуживать. Трудней было с патронами. Но и тут приспособились. Каждое ружье заводом проверялось на стрельбище. Патроны выдавались по счету — двадцать пять штук на винтовку. Мой отец пристрельщиком работал. Контролер не мог проверить, сколько раз он выпалит. Оставшиеся патроны прятал и нам отдавал. Мы свой арсенал за озером имели.
— А сейчас такую добычу оружия нельзя наладить?
— Как нельзя? Можно, только постарели все. Нет уж прежней прыти.
— Я тебе, папа, помогу, — вдруг предложил Кондратий. — У наших ребят кое-что припрятано.
— Чудеса! — удивился Николай Александрович. — Владимир Ильич, что такое вы с ним сделали? Прямо колдовство! Ну что ж, сын, по рукам, таким ты мне больше нравишься.
НОЧНАЯ ТРЕВОГА
Мучаясь бессонницей, вновь и вновь обдумывал Зиновьев свое положение.
Ну сколько можно прятаться в этом лесу? Время покосов скоро кончится. Куда денемся? Ленин словно не замечает окружающего, живет на болоте как дома.
Зиновьев как-то намекнул Ленину об опасности, а у него один ответ:
— Разумный человек принимает меры предосторожности, чтобы свести опасность до минимума, но он обязан приучать себя не думать о ней и делать свое дело.
Белые ночи кончились. После захода солнца на лесную поляну наползала такая темень, что в пяти шагах ничего нельзя было разглядеть. В одну из таких ночей Зиновьев, забывшись на несколько минут, вдруг услышал стрельбу. Сердце тревожно забилось: «Напали на след… Вызваны войска… прочесывают лес… будут и здесь».
Выглянув из шалаша, Зиновьев увидел за озером мелькающие огни. «Так и есть — окружают».
Расталкивая Ленина, он свистящим шепотом сообщил:
— Мы окружены… Спасайтесь!
— Как окружены? Кем? — спросонья не мог понять Ленин.
— Не до расспросов… нужно уходить.
Быстро натянув на ноги ботинки, Зиновьев схватил пальто и выскочил из шалаша.
— Григорий Евсеевич, погодите, — окликнул Ленин, но в ответ услышал шелест кустарника.
Разбудив Колю, Владимир Ильич сказал:
— Одевайся, надо уходить.
— А чего там? — прислушиваясь к стрельбе в поселке, спросил мальчик.
— Юнкера, наверно. Тебе папа не говорил, куда надо уходить в случае опасности?
— Говорил… за ручей к косогору. В ту сторону, где солнце всходит. Но сейчас темно.
— Как-нибудь найдем. Пошли.
Залив водой едва тлевший костер, Владимир Ильич взял мальчика за руку и пошел с ним по болоту к ручью.
Шум в поселке не утихал. То и дело раздавались выстрелы. «Что там творится? — не мог понять Владимир Ильич. — Видимо, облава. Но кто же стреляет?»
Болотистый мох колыхался и оседал под ногами. Ветки густого ольшаника хлестали по лицам. Следовало бы окликнуть Григория, но опасно было подать голос.
Болото становилось зыбким. Ноги порой по колено проваливались в холодную жижу. Ботинки промокли насквозь. В них чавкала вода. А Коля тянул все дальше и дальше.
— Скоро будет косогор, — твердил он.
Николай Александрович ночевал дома. Услышав выстрелы, он вскочил с постели и у жены спросил:
— Кондратий дома?
— Нет, с оружием все возится. Не их ли там ловят?
Николай Александрович быстро оделся, разбудил старшего сына и вместе с ним вышел на улицу.
Беспорядочная стрельба доносилась с разных сторон. По всему поселку яростно лаяли собаки. В темноте мелькали огни. Происходило что-то непонятное.
Емельяновы поспешили к заводу. По пути к ним присоединялись проснувшиеся оружейники.
— Почему стреляют? Что случилось?
Но никто толком объяснить ничего не мог.
На перекрестке неожиданно появился парень в белой рубашке и выстрелил в воздух из берданки.
— Ты чего пуляешь? — остановил его Емельянов. — Ошалел, что ли?
— Ничего не ошалел, — обиделся парень. — Велено всех заводских будить. Из Питера поезд с юнкерами прибыл. Все улицы оцепили. Хотят с обысками по домам пойти. Завком приказывает не допускать.
— Правильно. Ишь новые жандармы объявились! Не позволим — в ночное время ребятишек пугать.
— А чего юнкерам надо?
— Начальство всполошилось. Много винтовок пропало. Думают, рабочие растащили.
«Ах, вот оно что! Тут, конечно, без моего Кондратия не обошлось, — подумал Николай Александрович. — Куда только они винтовки спрятали? Не в поселке же. Так юнкера и до покосов доберутся. Надо бы предупредить наших, подальше в лес увести».
У заводской проходной толпилось много народу. Ночная тревога возбудила рабочих. Они готовы были схватиться с юнкерами. Увещеваний никто не слушал. Каждый выкрикивал свое.
Видя, что споры затянутся до рассвета и юнкера не решатся пойти по дворам с обысками, Николай Александрович шепнул сыну:
— Сашок, ты побудь здесь и разведай все, а я к нашим на покос проберусь. Если какая опасность — Сергея или Толю присылай. А утихнет — пусть мать обед привозит. Понял? И Кондратию скажи, чтобы подальше от покоса был, а то хвост за собой потащит.
Вернувшись домой, Емельянов взял из двух лодок самую легкую и, осторожно гребя одним веслом, направился по затемненной части озера.
Стрельба в поселке стихла и огни больше не мелькали. Лишь изредка доносились невнятные выкрики у запруды.
Спрятав лодку в камышах, Николай Александрович поспешил к шалашу. Но в нем никого не оказалось.
«Куда они подевались? — недоумевал он. — Может, в кустах прячутся?»
Емельянов несколько раз свистнул по-снегириному. На свист никто не откликнулся.
«Вот те раз! И Колю не догадались оставить».
Досадуя, Николай Александрович свернул цигарку, подсел к костру и хворостиной поворошил угли. Но нигде не сверкнуло ни одной искорки. Пепел и угли были холодными. Значит, костер погашен давно.
«Через озеро перебраться не могли, не было лодки, — рассуждал Емельянов. — Значит, прячутся в лесу».
Дождавшись рассвета, он пошел на поиски. Сквозь заросли ивняка и ольшаника приходилось пробираться с предосторожностями, так как роса густо посеребрила листву. Стоило зацепить плечом ствол или головой ветку, мгновенно обдавало холодным дождем. Даже неприметная днем паутина так пропиталась росой, что всюду провисала бисерными гамачками.
В несколько минут у Емельянова промокли брюки на коленях и пиджак.
Вскоре лес несколько поредел, стали попадаться низкорослые сосенки. Прыгая с кочки на кочку, Николай Александрович по временам останавливался, тоненько свистел и прислушивался.
Минут через двадцать он наконец услышал такой же ответный свист. Навстречу выбежал Коля. На нем был пиджак Ильича.
— Вы что так далеко забрались? — спросил Николай Александрович.
— Чтобы не нашли, — ответил мальчик. — Ты сам велел прятаться за косогором.
Николай Александрович погладил сына по голове и похвалил:
— Молодец, только вот ты зря дядин пиджак взял.
— Я не хотел, он сам на меня надел.
Владимир Ильич сидел на стволе поваленной березы. Он был разут. Носки и ботинки сохли рядом.
— Ну как, Николай Александрович, нащупывают? — вглядевшись в Емельянова, спросил Ильич.
— Да вроде бы нет. Юнкера прибыли оружие у рабочих искать.
— Ах, вот, оказывается, в чем дело. И как вы думаете: отдадут его ваши товарищи?
— Навряд ли. Не на таких напали. Разве только получше спрячут. Без оружия нашему брату теперь нельзя. Зажмут, хуже чем при царе будет. А где же Григорий? — поинтересовался Емельянов.
— Мы без него. Он разбудил и куда-то исчез. Мы окликали, пытались искать — безуспешно.
Показав Ильичу, как выйти к озеру, Емельянов пошел на поиски Зиновьева. Он почти час бродил по болотным трущобам, пока не наткнулся на след, оставленный в росистой траве.
Вымокший и перепачканный в болотной тине, Зиновьев сидел в густом ольшанике.
— Почему вы не выходите? — спросил Николай Александрович.
— Мне пок-казалось, что это они ходят… Пром-мок насквозь, — стал оправдываться Зиновьев. — Несколько раз пров-валивался по пояс… Едва нашел сухое место.
Лицо Зиновьева потемнело, глаза воспалились.
Емельянов помог ему выбраться из зарослей на едва приметную тропку и старался идти быстрей, чтобы спутник хоть немножко согрелся в пути.
Когда они вышли на свой луг, у шалаша уже пылал костер, разведенный Лениным, и в закопченном котле закипала вода.
Обедали в этот день позже обычного. Надежда Кондратьевна пригребла на лодке только под вечер.
— Укатили вояки Керенского, — сообщила она. — Поначалу грозились: «Чтоб все оружие было к запруде принесено! Если к двенадцати часам не будет сдано, пойдем с обысками и будем судить на месте». Но никого не напугали. Наш Сашок говорит, что только две старухи явились: одна — с тесаком, который на огороде нашла, другая — со ржавым штыком. Так и убрались. И обысков не стали делать.
— Молодцы сестрорецкие рабочие, — похвалил Ильич. — Оружие не отдали, показали, что их врасплох не застанешь.
Выспавшись, Зиновьев сидел молча и держался как-то отчужденно.
«Видимо, чувствует себя неловко после ночного бегства», — подумал Владимир Ильич.
— Чего вы приуныли? — спросил он. — Стоит ли придавать пустякам значение?
— Меня тревожит, не слишком ли мы беззаботны? Не знаем даже ближайших окрестностей. При новой облаве нас схватят и утопят в этом болоте. Мы не знаем, как из него выйти.
— Что же вы предлагаете?
— Подыскать другое место, а пока тщательно исследовать: нет ли троп, по которым можно пройти.
— Ну что ж, это не помешает. Было бы неплохо начертить хотя бы примитивную карту. Обяжете, если исследуете окрестности.
На другой день Зиновьев надел высокие сапоги Емельянова, захватил охотничье ружье и пошел бродить по болоту. Он пропадал недолго, вернулся к шалашу с изменившимся, бледным лицом.
— М-мы обнаружены, — сказал он задыхаясь. — Я набрел на лесника. Охота запрещена. Он накричал и отнял ружье. Теперь, наверное, спешит к властям. За нашу поимку ведь обещано двести тысяч. Не сомневаюсь, что он воспользуется случаем. Надо уходить.
— Вы ему сказали, кто мы такие?
— Нет, конечно, но разве трудно догадаться?
— Если встретился Аксенов, паниковать не следует, я этого лесника хорошо знаю, — сказал Емельянов. — Вместе солдатчину отбывали, из одного котелка кашу ели. Михайлыч свой мужик. Зря доносить не будет. Надо сперва разузнать, что он задумал. Может, за простого браконьера принял.
— Верно, — вставил Владимир Ильич. — Надо бы переговорить с ним, пока он не успел в город сходить. Где ваш Аксенов живет?
— Отсюда недалеко: версты полторы, не больше.
— Отправляйтесь немедля и дождитесь его возвращения из леса.
— Так оно верней будет, — согласился Емельянов. — Хорошо бы, конечно, бутылочку прихватить, но, к сожалению, нет ее у нас.
Прямо с покоса Емельянов пошел по берегу к дому лесника. Пробыл он у него часа три и вернулся навеселе, неся на правом плече ружье.
Не спеша Емельянов вытер промасленной ветошью ствол и курок ружья, повесил тулку в шалаше, закурил и лишь затем принялся рассказывать:
— Прихожу, а его, конечно, еще нет дома. Заговорил с хозяйкой, жду. Вижу, идет с двумя ружьями на плече. «Михайлыч, — окликнул, — что ты у людей ружья отнимаешь?» — «Пусть не браконьерствует, — отвечает он. — Охота еще не объявлена». — «Михайлыч, а ружье-то ведь мое. Разве по-товарищески в казну забирать?»— «Какое оно твое? — не верит он. — Я его у чернявого чухны отобрал». — «Хочешь, номер скажу?» Называю номер тулки. Он проверил и удивляется: «Верно, как оно к чухне попало?» — «Да я его в косари нанял. Он втихомолку стянул ружье, видно, утятины захотел». — «Не из храбрых твой косарь, — говорит Аксенов. — Я боялся, что без драки не отдаст. Чухны, они скупые, а этот молчит, слова в оправдание не говорит». — «Так он же по-русски не горазд, — замечаю я, — да и напугал ты его своими усищами». — «Я его матюгаю, — хохочет Михайлыч, — а он ни бе ни ме. Вижу, толку не будет. Выхватил из его рук ружье, да и пугнул…»
— Очень хорошо, что вы не заговорили, — поспешил похвалить Ильич, видя, что емельяновский пересказ вогнал Зиновьева в краску. — Пусть лесник думает, что он на финна наткнулся.
— В общем, отдал Аксенов ружье. «Только косарям больше не давай, говорит, пришлым нечего тут охотиться». И на прощание даже угостил. Опасаться его нечего, — заверил Николай Александрович. — Михайлыч человек свой. Если и догадается, не выдаст, ручаюсь.
ПОЗДНИЕ ПАССАЖИРЫ
В конце июля чуть ли не каждый вечер, как только темнело, с озера доносились всплески весел. Это к шалашу на покос пробирались члены Центрального Комитета, готовившие Шестой съезд партии. По сообщениям становилось ясно — съезд будет большим: соберутся делегаты от двухсот сорока тысяч членов партии. Их всех надо нацелить на восстание. Владимир Ильич огорчился, что сам не сможет присутствовать на столь важном съезде.
— В доклады мы вложим ваши мысли, ваш дух. Быть идейным вдохновителем съезда важней, чем присутствовать на нем, — уверял Яков Свердлов.
Ильич соглашался с ним, но в глубине души примириться не мог.
Съезд проходил полулегально. Делегатам заранее не сообщалось, где нужно собираться, так как шпики Керенского давно мечтали одним разом захватить руководителей партии. Иногородних большевиков поселяли не в гостиницах, а на квартирах рабочих.
Съезд открыли на Выборгской стороне.
— Почему Ленина нет в президиуме? Где Ленин? — допытывались делегаты.
Яков Свердлов, председательствовавший на заседании, сообщил, что Владимир Ильич хотя и скрывается от ищеек Керенского, но руководит съездом.
Это сообщение в тот же день стало известно журналистам. Буржуазные газеты подняли шум: они обвинили прокуратуру в бездеятельности, требовали найти Ленина и арестовать.
За руководителями партии усилилась слежка. Пришлось удваивать охрану съезда и заседания проводить в разных частях города. Обычно за сутки до заседания Красная гвардия выставляла свои секреты и посылала патрули на соседние улицы, чтобы те следили: не окружают ли войска дом, в котором утром соберутся делегаты.
На одном из первых заседаний съезда решался вопрос: надо ли Ленину являться на суд? Докладывал Орджоникидзе. Он рассказал о своих переговорах в Таврическом дворце, о том, как замышлялось убийство Ленина, и сделал вывод: враги ищут и будут искать любые способы, чтобы вырвать вождей из рядов революционной партии. Ни в коем' случае нельзя выдавать товарища Ленина.
Вслед за Орджоникидзе на трибуну поднялся Феликс Дзержинский.
— Я буду краток, — сказал он. — Мы должны ясно и определенно сказать, что хорошо сделали те товарищи, которые посоветовали товарищу Ленину… не арестовываться.
Дзержинский потребовал заявить от имени собравшихся, что большевики не доверяют правительству Керенского, а поэтому — не выдадут Ильича. Его предложение было принято: съезд высказался против явки Ленина на суд.
Жизнь в шалаше усложнялась. По ночам поднимались туманы. От болот и с озера тянуло холодом. Старые пальто и куртки плохо согревали. И работать стало трудней: днем часто моросил дождь, а по вечерам надвигалась непроглядная темень.
А тут еще на шалаш набрели грибники, заплутавшиеся в болоте. Потом пристала лодка к берегу. К костру подошли рыболовы, спросившие у косарей: не найдется ли курева? Этак можно было и шпиков дождаться. Да и время покосов кончалось. Надо было перебираться в другое место. Но куда?
Решили, что спокойней всего Ленину будет за Сестрой-рекой в Финляндии.
Переправить Ленина через границу поручили Александру Васильевичу Шотману. Это был профессиональный революционер, имевший финское подданство.
Шотман представил несколько проектов перехода через границу. Их тщательно обсудили и пришли к выводу, что Ленину лучше всего перебраться через реку Сестру под видом сестрорецкого рабочего. Оружейники, жившие за рекой Сестрой, пользовались упрощенными паспортами, похожими на обычные удостоверения личности.
Емельянову поручили достать такие документы у товарищей. Но как их добудешь, у кого попросишь?
Зайдя в управление завода, Николай Александрович увидел, что у дверей начальства часовым стоит его давний приятель. Он поздоровался с ним и спросил:
— У себя помощник начальника Дмитриевский?
— Нет, куда-то вышел.
— Можно пройти… подождать его?
— Проходи, посиди.
Емельянов был старостой цеха, ему часто приходилось вести переговоры с администрацией завода, поэтому просьба не вызвала подозрений.
В кабинете Николай Александрович заметил на столе стопку пропусков. «Надо бы стащить парочку, — подумал он. — Но какие лучше взять? Совсем чистые не годятся, они без подписи и печати. Готовые — опасно, через день-два хватятся: куда-де они делись? — За массивной чернильницей Емельянов разглядел пропуска умерших и уволенных с завода рабочих. — Пропажу никто и не заметит».
Выбрав пропуска поновей, Емельянов спрятал их в задний карман брюк и, посидев еще немного, вышел из кабинета.
— Нет, не дождаться мне Дмитриевского, — сокрушаясь, сказал он часовому. — Когда спешишь, всегда так. Позже зайду.
Добытые пропуска Емельянов привез на покос и вручил их Ленину.
— Значит, меня хотите превратить в Константина Петровича Иванова? — спросил Владимир Ильич, внимательно осмотрев взятый наугад пропуск. — Ну _ что ж, подойдет. Иванов распространенная фамилия. Среди Ивановых нетрудно затеряться. Только, к сожалению, я абсолютно не похож на Иванова, изображенного на этой фотографии.
— Фотографию придется осторожно сорвать и наклеить другую. Печать подрисуем, у меня есть знакомый художник.
— Но где мы возьмем фотографии, чтобы я был без усов и бороды, а Григорий вот таким заросшим?
— М-да, действительно, — задумался Емельянов. — У нас в Сестрорецке не найдешь фотографа, чтобы на покос пошел. А если пойдет, то запросит столько, что не возрадуешься. Да и опасно звать — продаст.
— А мы из Петрограда пригласим, — предложил Владимир Ильич. — Я знаю человека, увлекающегося фотографией. Превосходный конспиратор, был у нас связным и не раз укрывал меня. И главное, живет недалеко от Елизаровых, на Лахтинской улице. Дмитрий Лещенко. Скажите, чтобы нашли его и передали мою просьбу. Он ко мне пробирался и не через такие преграды.
Лещенко нетрудно было найти: он работал одним из секретарей на съезде партии. После утреннего заседания к нему подошел Шотман и передал просьбу Ильича.
— Когда нужно выехать? — спросил Лещенко.
— Сегодня.
— Но мне надо съездить домой — захватить фотоаппарат.
— Хорошо. Встретимся на Приморском вокзале через три часа.
Придя домой, Лещенко задумался: какой же из фотоаппаратов взять? Аппараты в те годы были громоздкими: камера походила на большой черный ящик, а деревянную треногу-штатив носили, словно ружье, на плече.
Лещенко взял с собой «зеркалку». Она по тем временам была небольшой и выглядела, как нынешний спортивный чемоданчик. Штатив он оставил дома, чтобы не вызывать лишних подозрений.
На Приморском вокзале в условленном месте его встретил Шотман. Они вместе прошли в вагон, доехали до Разлива и в сумерки пришли к Емельяновым.
Через озеро Лещенко переправился на лодке с молчаливым подростком.
Владимир Ильич встретил позднего гостя как старого друга и пригласил к костру выпить чаю с брусникой.
За чаем Ильич стал расспрашивать: как идут дела на съезде? Лещенко охотно рассказывал и вдруг, приглядевшись к Ленину, спросил:
— Скажите, а почему вы не носите парика? Разве вам не доставили?
— Как же, получили… спасибо. Но здесь только примеряли, носить пока не для кого.
— А вы знаете, что из-за этих париков я чуть не попался, — сказал Лещенко. — Мне их передали вечером, сказали, что завтра до одиннадцати утра зайдет за ними нарочный. Дома я бросил сверток на диван и забыл о нем. Ночью просыпаюсь. Чья-то рука шарит под подушкой. Смотрю — надо мной человек в военном. Оружие искал, боялся, что стрелять буду. «В чем дело?» — спрашиваю у него. Военный отвечает: «Обыск, вставайте». Оказывается, пришли арестовать Анатолия Васильевича Луначарского. Он ведь в моей квартире жил. Заодно решили и меня потревожить. Я глянул на диван и обмер: парики лежат. Спросят: «Для кого?» Что я отвечу? Вскочил и, будто мне худо стало, — бух на диван. Прямо на парики уселся. Таращу глаза на юнкеров и ничего на их вопросы не отвечаю. А те потешаются: «Смотрите, что с ним от страху сделалось!» А я продолжаю изображать истукана. Даже с Анатолием Васильевичем, когда его повели, не вышел попрощаться из-за этих париков.
Спать улеглись на свежем сене. Всем было тесновато в небольшом шалаше: лежали плечом к плечу. Лещенко не мог заснуть от сильного запаха свежего сена, а когда вздремнул, его разбудил резкий крик козодоя за шалашом. Не понимая, чей это крик, Лещенко поднял голову и прислушался. Крик больше не повторялся.
Уже занималась заря.
«Светает. Сниму и уеду на первом поезде», — решил он и, осторожно тронув плечо Ильича, сказал:
— Вставайте, Владимир Ильич. Скоро солнце взойдет.
Ильич поднялся, чтобы отогнать сон, растер ладонями лицо, отряхнулся, а потом, захватив полотенце, первым выбрался из шалаша и пошел к озеру.
Лещенко думал, что Ильич там ополоснет лицо и вернется, а он вдруг разделся, растер мышцы и бросился в воду. Поплавав минут пять, Владимир Ильич вернулся бодрым и повеселевшим.
— А вы не боитесь простудиться? — спросил Лещенко. — Свежо ведь.
— Привык. Нашему брату полезно закаляться, так как неизвестно, что ждет впереди. Советую и вам поплавать. Совсем по-иному будете себя чувствовать.
— Спасибо, что-то не хочется.
Ильич был в сатиновой русской рубашке и рабочей куртке. Лещенко натянул ему на голову парик, разгладил его и кепку надел так, чтобы из-под козырька виднелись спадавшие на лоб волосы.
Таким Владимир Ильич и был снят. Лещенко спрятал использованные кассеты в карман летнего пальто и, распрощавшись с обитателями шалаша, пешком пошел вдоль озера на вокзал.
Он успел к первому утреннему поезду. В полупустом вагоне благополучно доехал до Новой Деревни и только на перроне вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд человека, стоявшего у газетного киоска. «Шпик», — определил Лещенко. Не оглядываясь, он поспешил нанять извозчика и сказал ему вполголоса:
— Быстрей гони, получишь двойную плату.
Шпик тоже нанял лихача. И поехал вдогонку не один: в пролетке с ним оказался еще какой-то тип в темных очках.
«Как быть?» — в тревоге раздумывал Лещенко. Он бы мог легко уничтожить негативы со снимками, но не хотел этого делать: «Вся работа пойдет насмарку, и назад не вернешься».
Вскоре на повороте показался трамвай, выходивший на Каменноостровскйй проспект. Лещенко сунул извозчику деньги и попросил догнать идущие впереди вагоны.
Извозчик задергал вожжами, и конь помчался.
На мосту через речку Карповку они поравнялись с трамваем, замедлившим ход. Лещенко, не раздумывая, прямо с пролетки прыгнул на подножку последнего вагона и, оставшись на площадке, стал наблюдать, что будут делать шпики. Те поднялись, что-то кричали своему извозчику, но догнать трамвай уже не могли.
На одной из остановок Лещенко пересел в другой трамвай, потом, уже за Невой, перебрался в третий. Часа три он ездил по городу и домой сразу не пошел, а отнес аппарат с кассетами к товарищу.
Лишь поздно вечером Лещенко перенес «зеркалку» домой. Проявив за ночь негативы и напечатав снимки, он отдал их утром Надежде Константиновне.
Прежде чем переправить Ильича в Финляндию, Александра Шотмана попросили проверить, насколько тщательно пограничники просматривают документы.
Шотман без особых хлопот добыл в Главном штабе пропуск в Финляндию. С разрешения Центрального Комитета он взял себе в помощники опытного подпольщика Эйно Абримовича Рахью, работавшего слесарем на авиационном заводе. У молодой жены этого рабочего — Люли Парвиайнен — родители жили в финской деревне под Терийоками. Удобней всего было укрыть Ленина у них.
Придя к Рахье, Шотман подозвал Люли и сказал:
— Нам надо спрятать одного человека. Ты можешь уговорить родителей, чтобы они приютили его?
— А кто он такой?
— Тебе можем сказать… Ленин. Но ни мать, ни отец не должны знать этого. Понятно?
— Понятно, постараюсь договориться, — пообещала Люли.
На следующий день и Рахья достал себе пропуск в Финляндию, и они вместе с Шотманом пошли обследовать границу от Сестрорецка до Майнева. Шагали берегом пограничной речки Сестры. Если попадались навстречу пограничники, то говорили, что идут домой, в Финляндию.
— А почему вы так далеко зашли? Там ведь остался хороший переход — мост через реку,
— Захотелось прогуляться. Мы живем тут недалеко, вброд перейдем.
— Вброд не разрешается.
На заставах у мостов пограничники строго проверяли документы. Они подолгу вертели в руках и рассматривали пропуска, вглядываясь в фотографии и в лица. У них, видимо, имелись размноженные снимки Ленина, потому что пограничники то и дело поглядывали на какие-то карточки, зажатые в кулаках, и на стоявших перед ними Шотмана и Рахью.
Стало ясно, что Ленину такой переход опасен. Решили переправить Ильича через границу на паровозе, как перевозили нелегалов в прежние времена. Но кто повезет?
— Гуго Ялава, — сказал Шотман. — Он мне друг с детства. Человек надежный.
Эйно Рахья тоже знал смелого машиниста Ялаву. Эйно работал у Гуго помощником на паровозе после Пятого года. В те времена они умудрялись перевозить через границу даже раненых товарищей.
— Хорошо, если Ялава согласится, — сказал Рахья.
Они с Шотманом поехали к машинисту и обо всем договорились. Надо было только с Приморской железной дороги переправить Ленина ближе к Финляндской. На это уйдет не менее суток, решили они. Чтобы иметь на всякий случай нелегальную квартиру, Рахья упросил Люли пойти к ее двоюродному брату — Эмилю Кальске, жившему недалеко от Финляндской железной дороги.
— Эту неделю твой брат работает в ночную смену, — сказал Эйно. — За его больной женой нужен присмотр, так что у тебя оправдание будет. Мы явимся, наверное, ночью. Ты не спи, поглядывай в окно. Как только появимся во дворе, сразу открывай дверь, чтобы стучать не пришлось. А то еще соседей всполошим.
На озеро к Ленину Рахья с Шотманом прибыли после обеда. Александр Васильевич принарядился на этот раз и даже пенсне на нос нацепил, чтобы походить на барина-дачника.
— Этот маскарад на всякий случай, — пояснил он. — Билеты покупать или с начальством разговаривать.
Емельянов сказал, что он знает тропы через лес на станцию Левашово.
— Верст пятнадцать-шестнадцать будет, не больше, — заверил он.
Решили пойти пешком. И вот под вечер, когда они уже собрались в путь, за кустами показался какой-то усач.
— Кто такой? — спросил Ленин.
— Сосед, — успокоил его Николай Александрович и пошел узнать, что тому нужно.
Соседу, оказывается, требовался косарь за небольшую плату.
— Кто у тебя работал? — спросил он у Емельянова. — У меня сын заболел, косить некому.
— Да финн тут один.
— По-русски говорит?
— Какое! Молчит, как все они.
— А не пойдет ли он ко мне работать?
— Не, не зови. Домой собрался, не удержишь.
— Жаль, жаль… Мне без поденщика зарез — травы перестояли.
Когда сосед ушел, Владимир Ильич поднялся и, низко поклонившись Емельянову, как это делали встарь, шутливо сказал:
— Спасибо, Николай Александрович, что в батраки не отдали. Век буду помнить.
Как только стало смеркаться, всей компанией двинулись по едва приметной тропке в лес. Впереди шагал Емельянов, за ним Рахья, а позади всех Шотман. Шли по чавкающему болоту, продираясь сквозь кустарник. Минут через тридцать выбрели на проселок. Тут стало веселей. Дорога была песчаная, сухая, навстречу — ни души.
Но вот Емельянов неожиданно свернул в сторону. Сначала он шел смело, потом начал неуверенно поглядывать по сторонам и вдруг остановился у какой-то речки, признался, что сбился с пути.
Речка от дождей разлилась. Пришлось всем раздеться догола и, держа одежду над головой переходить ее вброд.
На другом берегу Владимир Ильич И; его спутники оделись и принялись искать тропку. Но в сумеречной мгле они опять попали в болото, а из него в торфяное пожарище.
Дышать стало трудно. Торф горел под слоем земли. Через мох пробивался едкий и удушливый дым. От дыма было темно, ни неба, ни земли не видно. Спекшаяся земля потрескивала и колыхалась. Если кто-нибудь делал неосторожный шаг, из-под ног роем вырывались искры. Того и гляди провалишься и очутишься по пояс в раскаленной торфяной золе.
После долгих блужданий среди тлеющих сосенок и кустарников, кашляя и задыхаясь, они наконец почти ощупью пошли дальше. Темный лес, казалось, никогда не кончится. Но вот вблизи послышалось какое-то шипение. Все остановились, начали прислушиваться.
Там, впереди, пыхтел паровоз, выпускающий пар. Затрубил рожок стрелочника… Невидимый поезд тронулся, колеса застучали на стыках рельсов.
Послали Емельянова узнать, что это за станция, а сами уселись в ожидании под соснами. Всем хотелось пить и есть. Но никто не догадался захватить с собой еду. Только у Шотмана в кармане оказалось три огурца. Их разделили на всех и съели без соли.
Через несколько минут вернулся Николай Александрович.
— Кажется, Дибуны, — неуверенно сказал он.
— Как это «кажется»? Почему в точности не удостоверились? — с укоризной спросил Владимир Ильич. — В таких делах ничего нельзя делать на авось.
После Емельянова на разведку пошел Рахья.
Он приблизился к вокзалу, прочел на стене надпись и, возвратясь, уже твердо заявил:
— Станция Дибуны.
Странно получилось: они шагали в обратную сторону от границы, а вышли опять к ней. От Дибунов до пограничной станции оставалось не более семи верст. Здесь можно нарваться на патрули.
Стараясь не шуметь, вышли к перрону и уселись на скамейку. Емельянов сходил к стрелочнику и узнал, что последний поезд на Петроград пойдет в половине второго ночи.
Ждать оставалось минут пятнадцать. Шотман пошел в кассу за билетами. Но, не войдя даже в зал, вернулся.
— В зале много патрульных, — сказал он.
Патрульные в любой момент могли поинтересоваться, что за люди в такой поздний час появились на пустынном перроне.
Владимир Ильич, Зиновьев и Рахья отошли в кусты у насыпи, а Емельянов с Шотманом остались сидеть.
Не прошло и трех минут, как из помещения станции вышел военный с шашкой на боку. Оглядев перрон, он направился к сидящим на скамейке.
— Ваши документы? — козырнув, спросил он.
У Шотмана оказалось удостоверение служащего Финляндской железной дороги, а Емельянову, кроме заводского рабочего номера, показывать было нечего.
— Что ты здесь делаешь так поздно? — стал допытываться офицер.
— Сижу, поезда дожидаюсь, — ответил Николай Александрович. — А разве нельзя?
Он понял, что это комендант, и решил препираться, не отпускать его от себя.
— Иди за мной! — грозно приказал офицер.
— А зачем? Мне и здесь неплохо.
— Иди, говорят.
Офицер грубо толкнул его в плечо.
В помещении комендатуры было накурено. Здесь толклись гимназисты и юнкера, вооруженные винтовками.
Офицер уселся за стол и, сделав строгое лицо, уставился на Емельянова.
«Ага, разыгрываешь из себя грозное начальство. Это мне на руку. Только бы ты на перрон не вышел», — думал Николай Александрович и, не спросив разрешения, уселся на скамью, небрежно развалясь.
— Говори, кто ты? — стал допрашивать комендант.
— Сказано, рабочий Сестрорецкого завода.
— Рабочий, — с презрением процедил офицер. — А ведешь себя как? Встать, когда разговариваешь с комендантом! Обыскать его, — приказал он юнкерам.
Те обшарили карманы Емельянова и нашли депутатский билет, который Николай Александрович должен был передать одному из членов Петросовета.
— Твой билет? Ты депутат? — спросил офицер.
— Какой билет? Подобрал эту бумажку — думал, пропуск кто обронил.
Емельянов показал ветхую подкладку сильно поношенной куртки. Сунул руку в дырявый карман и в прореху показал указательный палец.
— Вот какой я депутат!
Все, кто был в комнате, расхохотались.
— На Сестрорецком заводе слесарем работаю. Понял?
— Сколько же лет ты там работаешь?
— Без малого — тридцать.
— Тогда ты все начальство должен знать. Назови фамилии.
Емельянов стал перечислять всех старых и новых начальников, чтобы затянуть допрос. «В случае чего — ударю, пойду на скандал, — решил он. — Владимир Ильич успеет уехать».
Офицер нетерпеливо перебил его:
— А кто старший врач на заводе?
— Гречин, конечно. Ох и взяточник же! Паршивый человек.
— Что? — комендант угрожающе поднялся и ударил кулаком по столу. — Как ты смеешь оскорблять моего дядю!
Он готов был избить Емельянова.
В это время подошел поезд. Несколько патрульных выскочили на перрон. Офицер, злобно выругавшись и пообещав: «Я тебя под расстрел подведу, сукина сына!» — начал что-то писать.
На перроне неожиданно появились военные и штатские. К Александру Шотману подошел вооруженный юнец в форме ученика реального училища и предупредил:
— Господин дачник, это последний поезд. Больше в Петроград ничего не будет, садитесь.
Растерявшемуся Шотману ничего не оставалось, как поспешить к вагону и при помощи юнца подняться на площадку.
Владимир Ильич все это видел из кустов. Как же быть? Оставаться в Дибунах до утра? Опасно. И к вагонам не подойдешь — арестуют.
Прозвучал сигнал к отправлению. Скудно освещенные вагоны один за другим медленно проплыли мимо. Раздумывать больше было нельзя. Владимир Ильич подтолкнул Рахью и сказал:
— Садимся.
Они нагнали последний вагон и один за другим на ходу вскочили на подножку, прошли в вагон.
В темном вагоне, на их счастье, пассажиров не оказалось. Вошедший кондуктор, осветив фонарем неожиданных пассажиров, спросил:
— Ваши билеты?
— У нас билетов нет, — сказал Рахья.
— Как так нет? Кто вы такие, что без билетов ездите?
— Мы сестрорецкие рабочие… нам денег давно не выплачивали.
— Ах, вот оно что! До ручки, значит, дожили при новом-то царе Керенском?
— Дожили, — согласился Рахья.
Кондуктор сочувственно вздохнул и, поставив фонарь на скамейку, сел напротив.
— Ну что с вами поделаешь, — сказал он. — Езжайте зайцами. Нам тоже уже второй месяц не платят.
По пути кондуктор стал допытываться:
— А правда ли, что большевики немецкие агенты, а Ленин на аэроплане за границу перекинулся и там с певичками гуляет?
— Вранье все, сплетни, никуда он не перекинулся, — возразил Рахья. — Здесь живет, статьи пишет. Не читал разве?
— Да грамотей я неважный, — признался кондуктор. — В нынешних газетах разве разберешься? А что у вас на заводе говорят? Вы ведь, сестрорецкие, все политиками стали…
Рахья стал объяснять словоохотливому кондуктору, что такое большевики и чего они хотят. Владимир Ильич, опасаясь, как бы железнодорожник не опознал его, сидел в темном углу и, опустив голову, делал вид, что дремлет.
Не доезжая одной остановки до Петрограда, они вышли из вагона и исчезли в темноте.
Арестованного Николая Александровича комендант продержал до прихода ночного поезда из Петрограда. Под дулами револьверов Емельянова вывели из комендатуры, посадили в вагон и заперли в служебном купе.
В Белоострове в вагон с арестованными пришел унтер-офицер Смирнов. Он был членом Сестрорецкого совета рабочих и солдатских депутатов и хорошо знал Николая Александровича.
— Ты как сюда попал? — не без удивления спросил Смирнов.
— Ваше начальство загребло.
— За что?
— Повздорили малость… и об офицерском дядюшке Гречине нехорошо отозвался.
Смирнов оглядел опустевший вагон, открыл пошире дверь служебного купе и сказал:
— Беги. А я скажу, что ты раньше в окно удрал.
Емельянов выскочил из вагона в темноту.
Жена Эйно Рахьи Люли не спала третью ночь. Она дежурила в квартире своего двоюродного брата — токаря завода «Айваз» Эмиля Кальске: ходила от окна к окну в темных комнатах и поглядывала на калитку, освещенную тусклым уличным фонарем.
Эмиль эту неделю работал в ночную смену. Люли, ухаживая за его туберкулезной женой, не поднимавшейся с постели, ночи проводила в тревоге: «Не выследил ли кто их? Может, уже убиты?»
Но вот в четвертом часу ночи у калитки появились три темные фигуры: двое мужчин в длинных пальто, третий — в куртке. Один за другим они прошли во двор. Впереди был Эйно.
Люли бросилась к дверям, откинула крюк и, пропустив мужчин в дом, хотела зажечь лампу.
— Света не надо, — предупредил Эйно. — Нам хватит уличного.
Кальске жил очень бедно, у него не оказалось лишней кровати и постельного белья. Пришлось прикрыть крашеный пол газетами, а под головы положить свернутые пальто и куртки.
Улегшиеся на полу мужчины долго не могли угомониться: вполголоса переговаривались, вспоминая, что с ними приключилось в пути.
— Все же куда мог деться Шотман? — недоумевал Ленин. — Почему он не сошел с поезда в Удельной?
Шотман появился в пятом часу. Решив, что Ленин с Рахьей остались в Дибунах, он так расстроился, что вышел из вагона на одну остановку раньше, а когда спохватился, то было поздно — поезд уже ушел. Пришлось шагать пешком.
— Как же вы раньше меня приехали? — удивился он.
Ленин и Рахья, словно не было никакой опасности, принялись весело хохотать.
— Мы видели, как вас штыком в вагон подсаживали, — сказал Владимир Ильич. — Горе, а не конспираторы!
На другой день Люли поехала в Петроград, чтобы предупредить машиниста Ялаву.
Вечером, собираясь покинуть дом Кальске, Владимир Ильич отдал Шотману синюю тетрадь и предупредил:
— Берегите пуще глаза. Здесь выписки для моей новой книги «Государство и революция». Без нее мне нечего будет делать в Финляндии.
— Хорошо, — ответил Шотман. — Спрячу в потайном кармане на груди.
В путь стал собираться и Рахья. А Зиновьев вдруг принялся читать старую газету.
— Ну, а вы что же? — спросил у него Ильич.
— Мне довольно скитаться, — ответил Зиновьев не поднимая глаз. — К тому же… по одному легче будет скрываться.
Прощаясь, Ленин спросил:
— Вы действительно убеждены, что ускользнете от ищеек?
— Убежден.
На станцию Удельная пошли втроем. В зал все не входили. За билетами отправился Шотман, а Владимир Ильич и Рахья пошагали к переезду и остановились в таком месте, куда свет фонарей не доходил.
Риволовский поезд пришел точно по расписанию. Гуго Ялава, как было условлено, остановил паровоз в самом темном месте. Владимир Ильич быстро вскарабкался по ступенькам в паровозную будку.
Кочегар, покинув паровоз, сел в первый вагон. Рахья — во второй, Шотман — в третий, а Люли находилась в четвертом. Все они из окон следили за паровозом, и на всякий случай мужчины держали в карманах заряженные револьверы. При необходимости они бы подняли стрельбу. Но все прошло благополучно, поезд тронулся и пошел дальше.
Несколько освоясь на паровозе, Владимир Ильич спросил:
— А что у вас делал кочегар?
— О, рапота нелегкий, — ответил Ялава. — Надо брать дрофа с тентера, бросать в топка… держать огонь. Но вам не надо, мы сами.
Ленин не согласился с ним. Сбросив пальто, он засучил рукава и стал к топке. Пар до самого Белоострова не снижался.
В Белоострове вагоны запирались: начиналась проверка документов. Подозрительных пассажиров пограничники забирали и уводили в комендатуру. Была опасность, что они доберутся и до паровоза.
Машинист решил перехитрить пограничников. Он отцепил паровоз от состава и погнал его к водокачке, где было совсем темно.
Они набирали воду до тех пор, пока не раздались звонки.
Дождавшись последнего сигнала, Гуго Ялава подкатил к вокзалу. Там его помощник прицепил паровоз к вагонам, и они, не дожидаясь свистка обер-кондуктора, тронулись в путь.
В ТЮРЬМЕ
В камере матросы завели корабельный порядок. Цементный пол они называли палубой, стены — переборками, а камеру — кубриком. Каждое утро слышался свист и раздавалась команда:
— Вязать койки!
До завтрака все занимались мокрой приборкой, а потом начиналось перестукивание.
Тюремный телеграф работал беспрерывно. Связь была установлена с соседями слева, справа и с теми, кто находился на другом этаже. Кронштадтцев беспокоили флотские дела. Каждая весть с воли вызывала у них то шумное одобрение, то проклятия и негодование. Больше всего их возмущали действия «социалиста» Керенского, который, распустив Центробалт, потребовал арестовать всех зачинщиков июльских волнений в Кронштадте и на линейных кораблях «Петропавловск», «Республика», «Слава». В случае неисполнения приказа Керенский грозился объявить команды непокорных кораблей изменниками родины и революции.
Ликование у заключенных вызвала смелость Кронштадтского совета и команд линейных кораблей, которые с достоинством ответили министру, что никаких контрреволюционеров в своей среде они не знают, а посему арестов производить не будут. В знак пренебрежения к грозным приказам Керенского моряки почти всюду избрали в новый Центробалт своих старых делегатов.
— Вот это утерли нос! — радовались матросы.
Василий Кокорев и его товарищи путиловцы завидовали морякам, добывавшим свежие новости о флоте, сами-то они ничего не знали ни о заводе, ни о товарищах. Тюремный телеграф лишь известил о том, что рабочим под угрозой судебного преследования приказано сдать оружие.
«Неужели наши ребята подчинятся?» — думал Василий. Он беспокоился о бабке: как там она? Не пропала бы с голоду. На работу такую старую не возьмут. Хоть бы записку передать Савелию Матвеевичу.
Ночами, лежа на нарах с открытыми глазами, Вася старался представить себе Катю. Она почему-то всякий раз вспоминалась такой, какой приходила на набережную Невы, — чуть задорной и насмешливой, пристально всматривалась и говорила: «Ну-ка покажись, какой ты в тюрьме?», а глаза при этом просили: «Ничего мне не говори, я все понимаю. Держись!»
«Надо скорей вырваться из тюрьмы, — говорил себе Василий. — Но как? Что они нам могут предъявить? Участие в вооруженной демонстрации? Тогда надо посадить в тюрьму тысячи. У нас отнято оружие? Но не мы же стреляли в народ, а те мерзавцы. Правда, в протоколе милиции все изложено по-иному. Но это же неприкрытый сговор. Мало ли что они напишут. У нас есть свидетели. Но где они теперь?»
По протоколу, составленному в милиции с помощью Аверкина, получалось, что бесчинствующие мастеровые Путиловского завода напали на офицеров, не позволявших осквернять божий храм и стрелять в народ. Откуда-то у начальника милиции появились золотые кресты и чаша, которые вместе с винтовками прилагались к делу как вещественные доказательства грабежа. Кроме того, в протоколе были записаны аверкинские провокационные вопросы: «Какая часть золота, вывезенного из Германии в запломбированном вагоне, попала в руки рабочих?»; «Кто подкупил их и подбивал на бесчинства?»; «Какими деньгами платили — бумажными или золотыми?»
Василий тут же, в милиции, сказал, что ни он, ни его товарищи не будут отвечать на вопросы шпика. Начальник отделения ухмыльнулся и записал: «Обвиняемый Кокорев В. С. запретил своим сообщникам отвечать следственным органам». При этом он подвинул протокол и предложил:
— Подпишите.
Вася внимательно прочитал милицейское сочинение и сказал:
— Ваши выдумки я не подпишу.
Подписывать протокол отказались и его товарищи.
«Это все мы сделали правильно, — рассуждал Вася. — Теперь надо только найти свидетелей, которые докажут вздорность обвинений. Двое из них известны — это Дема и его брат Филипп. Но их же могут притянуть к ответу как соучастников. В милицейском протоколе есть хитрая запись: «Офицеров избивали также и неизвестные матросы Балтийского флота». Обязательно надо посоветоваться с адвокатом. Но где его взять? Понадобятся большие деньги. Вот попались в непромокаемую!»
Однажды послышался тревожный стук в стену. Андрею Пронякову сообщили, что в одиночных камерах появились руководители Центробалта — Дыбенко и Измайлов, прибывшие в Петроград на миноносцах.
— Значит, хватают всех, кто показывается в Питере, — заключил Тарутин. — Надо поднять бузу — требовать прогулок и освобождения. Довольно втихаря отсиживаться.
Иустин схватил тяжелый табурет и, подойдя к двери, обитой железом, начал колотить в нее с такой силой, что по тюрьме покатился грохот, похожий на пушечную пальбу.
К дверям подбежали всполошившиеся надзиратели.
— Перестать! Кто там нарушает?
— Зовите сюда начальство! — потребовал Тарутин.
— Еще чего? Прекратить безобразие!
— Зови, говорят, а то тюрьму разнесем!
И в этот момент, словно по сигналу, начали с таким же грохотом барабанить в двери заключенные других камер. Старший надзиратель побежал за начальником тюрьмы. Тот появился минут через пятнадцать. Дверь открылась. Надзиратель скомандовал:
— Встать!
На пороге появился невзрачный прапорщик. За его спиной стояли стражники с винтовками наизготовку.
— Кто здесь безобразничает?
— С кем имеем честь?.. — поинтересовался Тарутин.
— Навытяжку, когда говоришь с начальником тюрьмы! — прикрикнул старший надзиратель.'
— А-а!.. — протянул моряк. — Слыхали… член партии эсеров Васкевич? Очень… неприятно. Почему вы не даете нам прогулок?
— Не имею на это соответствующих распоряжений.
— А сами не можете догадаться, что людей нельзя гноить в камерах, что им чистый воздух нужен? Еще себя социал-революционерами мните!
— Прошу не касаться моей партийной принадлежности и разговаривать в ином тоне. Иначе — в карцер!
— Во-во! Не зря буржуазия вам собачьи должности дала.
— Молчать! Посадить его на хлеб и воду.
Васкевич, взбешенный, выскочил в коридор. Но в соседних камерах он услышал такие же протесты.
— Если не измените тюремного режима, объявим голодовку, — грозились заключенные.
На другой день утром, когда уголовники принесли пайки черного ноздристого хлеба, Тарутин ногой подвинул к ним парашу и сказал:
— Бросай сюда.
Уголовники, недоумевая, поглядели на старшего надзирателя: «Как-де, мол, быть с этим чудаком — выполнять его просьбу или нет?»
— Бросай, раз просют, — равнодушно сказал тот. — Свиньям в охотку из такой посудины поесть.
И хлеб, которого все время не хватало заключенным, полетел в парашу. Путиловские парни невольно глотнули голодную слюну.
— Одну минутку! — остановил Иустин собравшегося уходить надзирателя. — Ты, кажется, сказал, что свиньи любят лакомиться из такой посудины? — матрос показал на парашу. — Можешь взять ее и в коридоре почавкать в охотку. Нам не жалко. Верно, братишки? — обратился он к сидящим на нарах.
— Верно! — ответили те.
И в других камерах «июльцы» не дотрагивались до хлеба.
Голодовка! Начальник тюрьмы, перепугавшись, немедля поехал к прокурору. Прокурор по телефону связался с министром юстиции, а тот, услышав о голодовке, всполошился:
— Это же политический скандал! Примите любые меры. Черт с ними, можно пойти на уступки, даже открыть камеры. Но никаких эксцессов, голодовки не допускать.
На другой день началась необычная для тюрьмы жизнь. Заключенные могли покупать газеты, ходить из камеры в камеру, делиться новостями. Надзиратели только следили за распорядком дня и раздачей пищи.
Среди арестованных в июльские дни было немало левых эсеров. Над ними в камерах потешались.
— Вам-то что! — говорили им. — У вас всюду свояки: Керенский чуть ли не сват, начальник не то кум, не то брат. Сиди да поплевывай.
А эсеры злились:
— Вот погоди, выйдем на свободу, мы этим буржуйским лизоблюдам покажем!
Однажды Кокорева вызвали в контору тюрьмы и сказали: «Просмотрите и распишитесь», при этом передали ему картонную коробку. В ней сверху лежали две растерзанные пачки легкого табака, а под ними — большой кусок разломанного пополам пирога с черничной начинкой, домашнее печенье и сухари.
— Кто передал? — спросил Василий. — Письма нет?
— Не знаю, я не приемщик, — ответил конторщик.
«Кто же приходил в тюрьму? — ломал голову Василий. — Такой пирог вроде от бабушки. Но печенье не ее изготовления. Неужели Катя? Хоть бы какую-нибудь весточку оставила!»
Вернувшись в камеру, Вася выложил на стол табак, пирог, печенье и стал осматривать коробку со всех сторон.
— Ну как? Что пишут? — поинтересовался Проняков.
— Хоть бы булавкой царапнули! Все гладко — ни одной черточки! Даже не знаю, кто обо мне заботится.
— Не горюй, надо внимательней съестное проглядеть. Если одному трудновато, можем помочь.
— Да я уж вижу, как вы слюнки глотаете.
Разделив пирог и печенье на всех, Кокорев пригласил товарищей к столу.
— Только зубами действуйте осторожней, — предупредил он. — Возможна начинка.
И действительно, Тарутину в корочке пирога попалась туго свернутая полоска пергаментной бумаги. Матрос развернул ее и прочитал:
— «Это третья передача. Обнаружил ли ты мои записки? Повторяю: о бабушке не беспокойся — с нею Дементий. О вас на заводе не забывают — послали протест, наняли адвоката. Я без тебя очень скучаю. Жди, скоро увидимся. К.».
— Вот так номер! — возмутился Иустин. — А где же две первые передачи? Видно, надзиратели сожрали. Надо сейчас же шум поднять.
— Стоп, не разводи паров! — остановил его Проняков. — Того, что они съели, уже не вернешь. А вот про записку — разболтаем… Передачи от «К» будут приходить в раскрошенном виде. Кто она тебе, сестра? — любопытствуя, спросил он у Кокорева.
— Знакомая… Катей зовут.
— Ну что ж, тогда давай закурим на радостях.
Все свернули по толстой цигарке и задымили, наслаждаясь табаком.
В субботу по всем камерам была произведена уборка и параши опрысканы карболовкой. Заключенных группами водили в баню, наголо постригли, выдали по кусочку мыла и чистое белье.
— Видно, начальство высокое приедет, — говорили матросы. — В таких случаях всегда авралят.
В воскресенье надзиратели стали вызывать заключенных в контору. Одним из первых пошел Иустин. Вернулся он рассерженным.
— Патронессы какие-то из общества защиты канареек, — с презрением сказал он. — Халаты раскрахмаленные, чепчики топорщатся. «На что жалуетесь? Какие претензии? Как себя чувствуете?» — «А вы что, Керенскому будете докладывать? — спрашиваю я. — Много он вашей сестры развел. Нам бы хоть десяточек для прогулок прислал». — «Как вам не стыдно! А еще моряк революционного флота! — говорит самая молоденькая. — Мы из Красного Креста». И показалось мне, будто я ее где-то видел прежде. А другая головой качает и вроде сожалеет: «Эх, морячок, морячок, видно, мало мать тебя в детстве секла!» И сует мне, словно кухаркиному сыну, какой-то кулек. А тут еще подхалим Васкевич ввязывается: «Не обращайте внимания, это же анархист из анархистов…» Ну, я его, конечно, обласкал по-флотски, вытряхнул все из кулька, надул его, хлопнул об ладонь так, что все вздрогнули, и ушел.
Другие заключенные возвращались из конторы повеселевшими и довольными.
— Чего Иустин выдумывает! — говорили они. — Симпатичные дамочки. И не игрушки выдают, а дельное. Сгодится нашему брату.
В их кульках были конверты, бумага для писем, туалетное мыло, махорка, курительная бумага, спички и леденцы.
Вскоре Кокорев услышал, как коридорный прокричал его фамилию. Не поверив, он переспросил:
— Меня?
— А то кого же? Живо в контору.
В тюремной конторе были распахнуты двери в соседнюю большую комнату. Там виднелся длинный стол, заваленный кульками, и две женщины в ослепительно белых халатах. Вася вгляделся в них и остолбенел: это были тетя Феня и Катя. Боясь, что он движением или возгласом выдаст их, они заговорили одновременно, приглашая его к столу.
«Умышленно не узнают, — понял юноша. — Но не слишком ли у них взволнованны голоса и лица?»
Катя, потрясенная его по-арестантски остриженной головой, бледным и голодным лицом, на котором выделялись трогательно жалкие юношеские усики, готова была расплакаться.
Василий, сделав несколько шагов, пристально взглянул в глаза девушки, стараясь прочесть в них, увидеть то невидимое, что угадывают и замечают лишь очень близкие люди.
«Милый, родной! Ну как тебе здесь? — как бы спрашивал ее взгляд. — Скажи. Я готова на все. Но будь осторожен».
— Вы не больны? — спросила тетя Феня.
— Не знаю, — ответил он.
— У вас очень истощенный вид. Тюремный врач осматривал?
— Нет.
— Пройдите к нашему.
Катя взяла его за руку и повела к женщине в пенсне, сидевшей за небольшим столиком у окна. По пути она стиснула ему запястье и предупредила:
— Докторша наша. Можешь говорить свободно… Нас интересует, как вас схватили и в чем обвиняют.
Докторша, взглянув на Кокорева сквозь пенсне, задала обычный вопрос:
— На что жалуетесь?
Тетя Феня в это время громко заговорила с глуховатым заключенным. «Их голоса заглушают мой», — сообразил юноша и ответил:
— Жалуюсь на Мокруху, — а тихим голосом добавил — Шпик в сговоре с церковным сторожем и начальником милиции Сенного рынка подстроил наш арест… Бывает, по ночам не сплю, кашляю… В протоколе обвиняют в нападении на офицеров, ограблении церкви и убийстве. Но мы его не подписали… Часто кружится голова… Найдите свидетелей. Там был Дементия брат, моряк с бородкой, и еще какие-то авроровцы…
— Потеете? Бывает жар? — допытывалась докторша.
— Бывает. Скажите, что нового на воле?
— Снимите рубашку!
Пока докторша выстукивала и выслушивала Василия, Катя, повернувшись спиной к сидевшим в отдалении надзирателям, торопливо шепотом сообщила:
— Существуем полулегально. Только что прошел Шестой съезд партии… Будем готовиться к восстанию. Постараемся вас выручить.
— Что с отцом?
— Было ужасно… приговорили к расстрелу. Свалили вину за отступление…
— Оденьтесь, — сказала докторша. — Сейчас я выпишу рецепт. Общество Красного Креста пришлет вам лекарство…
А Катя продолжала:
— Их вывели в поле… построили однополчан. Привели попа. Пока Рыбасов и Кедрин исповедовались, отец выкрикнул всего несколько слов товарищам по окопам…
— Будете принимать по две пилюли три раза в день… Микстуру по ложке перед едой…
— Получилось неожиданное: солдаты стали перебегать и становиться рядом с приговоренными: «Стреляйте и в нас!» В общем, взбунтовалась вся дивизия. Дело дошло до армейского комитета. Приговор пришлось отменить. Сейчас отец в комитете…
Вася надел рубашку и пошел с Катей к другому столу. Девушка как можно громче, так, чтобы слышали надзиратели, сообщила тете Фене:
— Нуждается в лечении и усиленном питании…
И тут голос ей изменил. Больше она не произнесла ни слова.
Вася видел тоску в ее глазах. Не зная, как выразить свое чувство, он схватил Катину руку и прижался к ней губами.
— Ишь интеллигент! — удивился надзиратель. — А ну, марш в камеру!
В камере Иустин спросил:
— Видел самую молодую?
— Так это же Катя.
— Слушай, не она ли в феврале листовки мне передавала?
— Все возможно.
— А я так нахамил. Эх, дурья голова!
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. БРАТ КАПИТАЛИСТА
В стороне от деревни Ялкала, меж двух озер, стоял приземистый финский дом, покрытый дранкой. К дому тянулась едва приметная проселочная дорога. По ней редко кто ездил. Кругом шумел высокий хвойный лес. Березы росли только у дороги и на болоте.
Здесь, у леса, жили Парвиайнены. Детей у них было много: шесть сыновей и две дочери. Впрочем, не все они жили с родителями, старших потянул к себе Питер. Там они работали и ютились в небольших дешевых комнатах.
Иногда к старикам из русской столицы приезжала старшая дочь — проворная крепышка Люли.
В последний раз Люли приехала всего на два часа. Она привезла малышам гостинцев, расцеловала мать и, уйдя с ней на кухню, шепнула:
— Мама, приготовь ту комнату, где молоко ставишь, она чистая. К нам очень хороший человек приедет, ему отдохнуть надо.
Люли так торопилась, что не сбегала даже на озеро покупаться. Сговорившись с братом Иоганном, где он будет встречать ее в субботу, она наскоро выпила кружку молока, сорвала несколько цветков, росших около дома, и уехала.
В доме пустовала небольшая комната с голыми бревенчатыми стенами. В ней обычно хранили молоко, творог, сметану. Анна Михайловна убрала комнатку, полы некрашеные вымыла, поставила кровать, столик, лампу и постлала пестрый половичок.
Вернувшись с поля, Парвиайнен поглядел на ее работу и нахмурился. Анна Михайловна знала крутой и несговорчивый характер мужа и ждала, что он сейчас рассердится, но старик молчал. Он любил свою старшую дочь и ради нее готов был принять гостя.
В субботу вечером Иоганн запряг коня и поехал на станцию Терийоки. Тучи заволокли небо. От порывов ветра сосны раскачивались, шумели вершинами. Молодой конь то и дело вздрагивал и, навострив уши, замедлял ход. Иоганну приходилось подстегивать его хворостиной.
Привокзальная площадь была освещена тусклыми фонарями. Юноша выбрал место потемней, как просила сестра, и стал ждать поезда.
Ветер не унимался. Начал накрапывать дождь. Иоганн, конечно, мог бы пройти в здание вокзала, где было светло и сухо, но он, накрывшись брезентом, не отходил от повозки: Люли строго наказывала никуда не отлучаться.
Паровоз прогудел вдали, когда уже совсем стемнело. Вскоре показались его огни. Пассажирский поезд подкатил к станции с таким грохотом и фырканьем, что конь от страха рванулся с места и понес. Иоганн, ухватившись за гриву, едва удержал испуганного дикаря на краю площади.
Пока парнишка возился с мелко дрожавшим конем и успокаивал его, на площадь высыпали пассажиры. Одни из них пошли пешком, а другие, усевшись в крытые извозчичьи пролетки, укатили в город.
Люли подошла к Иоганну, закутанная в дождевик.
— Где же гость? — поинтересовался он. — Не приехал?
— Ладно, помолчи…
Сестра почему-то говорила шепотом и с опаской поглядывала в сторону освещенного выхода вокзала.
Она села в повозку рядом с Иоганном, и они, не задерживаясь, двинулись в путь по темной, покрытой пенистыми лужами дороге.
Люли сперва торопила брата, а потом, когда скрылся из виду вокзал, тронула за плечо и сказала:
— Не гони, поедем шагом.
Она все время всматривалась в темноту и прислушивалась, точно ждала погони. Ее беспокойство передалось Иоганну, он тоже насторожился.
Так они проехали километра два. Темнота еще больше сгущалась. От ручья и с полей поднимался туман, в низинах он закрывал дорогу.
Дождь перестал накрапывать, только деревья изредка роняли капли на вздрагивающую листву кустарника.
Начался сосновый бор. Здесь дорога была суше. Под колесами заскрипел песок.
У поворота из леса вдруг вышел человек.
— Люли! — негромко позвал он.
Это был Эйно, Иоганн узнал его по голосу.
Как только Люли откликнулась, сразу же из леса вышел второй человек. Оба уселись в повозку, и Эйно сказал:
— Поезжай быстрее.
Всю дорогу гости и сестра разговаривали вполголоса.
— Константин Петрович, вам, наверное, сказали, что мы муж и жена? Об этом, пожалуйста, не говорите матери и отцу Люли, — попросил Эйно. — Мы для них жених и невеста. Они не признают гражданского брака. Рассердятся, если узнают, что мы не венчаны.
— Постараюсь не выдать, — пообещал Иванов и обратился к Люли: — А чем ваш отец занимается?
— Когда-то работал литейщиком, теперь крестьянствует, — ответила она.
— Почему же он изменил рабочему классу?
— Так вышло. Семья у нас большая — десять ртов. А у отца почки стали болеть. Кому нужен больной человек? Хозяин стал спрашивать: «Почему брат тебя к себе не возьмет? Он мог бы дать работу почище». Брат моего отца богач, владеет чугунолитейным заводом на Охте. Чтобы его не попрекали нуждающимся родственником, он купил дом в деревне Ялкала и сказал: «Дарю тебе с гектаром земли, хозяйствуй и в город больше не показывайся». Отец смирился, а я не поехала сюда. Сама себе на жизнь зарабатываю. Не люблю богатого Дядьку.
«Удивительное переплетение, — думал Ильич. — Как только Шотман сумел найти такую семью? Кому в голову придет, что меня будет скрывать брат крупного капиталиста?»
Когда подъехали к дому, стоявшему на отшибе в стороне от деревни, на крыльцо вышли Парвиайнены.
Первым с повозки соскочил Эйно. Он поздоровался с хозяевами и представил гостя:
— Знакомьтесь… Константин Петрович Иванов.
Иванов сначала подал руку старшим, а потом за руку поздоровался и с детьми. Старики сразу отметили: вежливый человек.
Гости стряхнули прилипшее к одежде сено и прошли в дом. Иоганн и старик остались распрягать коня.
Через некоторое время во двор вышел Эйно.
— Кто ваш Иванов будет? — спросил у него Парвиайнен.
— Писатель, — негромко ответил тот. — От полицейских прячется. Укрыть на время надо.
Старик молча отвел коня в хлев, задал ему корм и, видя, что Эйно не уходит со двора, стоит в ожидании, неохотно произнес:
— Ладно, пусть живет. Места всем хватит.
В большой комнате все сели за стол. Иванов у стенки, рядом с ним Люли, с другой стороны Эйно. Разговаривая, гость так прищуривался, что от его карих и очень живых глаз морщины разбегались наподобие лучей. Он, видно, два дня не брился: щеки и подбородок заросли золотящейся щетиной.
Старик внимательно приглядывался к нему. Одет Иванов был бедно: темная рубашка-косоворотка, старенький пиджак с потертыми рукавами. А по разговорам и манерам чувствовалось, что Иванов человек не обыкновенный. Всех он называл на «вы» и всякий раз, когда хозяйка подавала ему пирог или наливала в чашку кофе, благодарил ее.
Старик обратил внимание на руки гостя: небольшие, обветренные, но неогрубевшие, лишь кое-где в порах темнели следы неотмытой сажи или мазута.
Ел Иванов с аппетитом. Даже хозяину показалось, что жена сегодня приготовила ужин вкуснее, чем обычно.
«Что же такое этот человек мог натворить? — думалось старику. — За что его хотят арестовать? Наверное, политический, — строил он догадки. — Их всегда преследуют».
Когда старик работал литейщиком на заводе, он немало встречал рабочих-революционеров, не боявшихся ни тюрем, ни каторги. Он завидовал их независимости и бесстрашию, но сблизиться не решался.
После кофе гости еще немного посидели. Иванов заговорил о войне. Слушать его было интересно. Чувствовалось, что он многое повидал и многое знает.
«Пусть живет. Хороший человек», — решил старик.
Утром Иванов вымылся в бане, побрился и сразу стал моложе. Глаза заблестели, глубокие складки у рта разгладились.
— Впервые за этот месяц спокойно спал, — сказал он. — А после бани — словно двадцать лет долой!
После обеда Люли и Эйно уехали, а гость остался жить в каморке.
Вставал Константин Петрович рано, наскоро завтракал вместе со всеми на кухне и принимался за работу: сидел за столом и все писал и писал.
Первое время, когда к нему в каморку кто-нибудь заглядывал, Иванов прятал листки, потом перестал остерегаться хозяев. Писал он быстро и мелко, свободного местечка на листке не оставлял.
Странный был гость — без газет, казалось, он жить не мог. Иоганн с Эдвардом по очереди брали велосипед, мчались на вокзал в Терийоки и там покупали все вечерние и утренние выпуски. Газет выходило много, но Константин Петрович умудрялся все прочитывать.
Хозяин приглядывался к гостю и думал: «Что же он ищет в газетах?» Любопытствуя, старик сам стал читать газеты.
По вечерам, когда Константин Петрович отдыхал у большого замшелого валуна, Парвиайнен подсаживался к нему и заводил разговор о политике. Гость с готовностью объяснял ему непонятное.
«Светлая голова, — пришел к заключению хозяин. — Чего-то недоговорил мне Эйно».
И старик, работая в поле, с нетерпением ждал вечера, чтобы опять встретиться с Ивановым и потолковать с ним о жизни, о будущем.
Хозяйке тоже нравился своей вежливостью неунывающий и трудолюбивый гость. В еде он не привередничал: похваливал все, что она готовила, и в тарелке обычно ничего не оставлял. Больше всего ему полюбились финские ржаные пироги. Их пекли по субботам, но Иванов и в другие дни, лукаво прищурясь, спрашивал:
— Анна Михайловна, а сегодня, случайно, не суббота?
— Суббота, суббота, — улыбаясь, отвечала хозяйка и принималась замешивать тесто.
Спутниками во всех прогулках Иванова были хозяйские белобрысые мальчишки: шестилетний Вернер и восьмилетний Эверт. Ребята знали, в какой час Константин Петрович прекращает работу. Они молчаливо сидели на скамейке у дома и терпеливо поджидали его.
Когда Иванов с затуманенными от работы глазами показывался из своей каморки, мальчишки бросались ему навстречу.
Втроем, как закадычные друзья, чуть ли не бегом они отправлялись в лес или на озеро.
Ребята не умели говорить по-русски, а Константин Петрович — по-фински, и все-таки они как-то сговаривались, понимали друг друга. Иванов запомнил, что по-фински «пунайсет марьят» — «красные ягоды». Если ему хотелось поесть брусники, приятно холодящей рот, то он произносил эти два слова и ребята мгновенно мчались к брусничнику.
Веселей всего с Ивановым было на озере. Он любил плавать и часто давал команду:
— Вэси!
По-фински так называлась вода. Ребята знали: Константин Петрович зовет купаться. Они сбрасывали рубашонки и штанишки на траву и раньше Иванова прыгали В воду.
В воскресенье приехала из Петрограда Люли.
— О, да вы, Константин Петрович, за эти дни даже посвежели! — удивилась она.
— А как же! Друзей у меня много. Кругом раздолье. И работается хорошо, — ответил он. — Здесь я успел многое сделать. Когда-нибудь приеду к вам отдыхать с женой. Можно будет?
— Пожалуйста.
Отцу дочь опять ничего не сказала об Иванове. И он рассердился на нее за скрытность.
Уезжая, Люли получила от Константина Петровича какие-то письма, спрятала их в книгу, которую читала в дороге, и, прощаясь с матерью, шепнула:
— Мамочка, приглядывай за Константином Петровичем, пусть ему у нас будет хорошо.
— Без тебя знаю, — ворчливо ответила та, — не учи.
На другой день, выбрав минутку поудобней, когда никого вблизи не было, старик подсел к Иванову и смущенно сказал:
— Признафатесь… Вы ведь не Константин Петрович?
— Почему так решили? — чуть склонив голову, сощурясь, спросил гость.
— Разве я слепой и нетогадливый?.. В наших финских газетах часто о вас пишут.
Взгляд у гостя стал острым. Он настороженно всматривался в старика, словно хотел проникнуть в душу, узнать, что тот задумал.
— Не пойтесь, — успокаивающе сказал Парвиайнен, — живите сколько пожелается. Я на стороне рапочих. От меня никто не узнает, что вас зовут Лениным.
У ГЕЛЬСИНГФОРССКОГО «ПОЛИЦМЕЙСТЕРА»
Пока Владимир Ильич жил у Парвиайнена, Шотман отправился в столицу Финляндии. В Гельсингфорсе был у него давний друг — Густав Ровно. Этот веселый и отчаянный парень неожиданно взлетел на высокий пост. За смелость и решительность рабочие выбрали его в начальники милиции, а по положению начальник милиции считался старшим помощником полицмейстера. В Гельсингфорсе случилось так, что полицмейстер, испугавшийся нараставших событий, подал в отставку. И Ровно волей-неволей пришлось выполнять его обязанности.
Придя на прием к «красному полицмейстеру», Шотман вспомнил молодость, поговорил о питерских делах, а потом по секрету сообщил, что партия поручила ему переправить в Финляндию Ленина и надежно укрыть.
— Что ты говоришь? — удивился Ровно. — А я только что собирался писать ему письмо. Мы хотели пригласить Ленина на наш праздник, который проводим в последнее воскресенье августа. Он будет у нас главным оратором.
— Нет, теперь ему не до речей. Всюду шпики. И тебя прошу: никому ни слова. И подумай, где бы поселить Ленина.
— Зайди денька через два-три, — сказал Ровно, — что-нибудь подыщу.
— Мне надо сегодня знать.
— Ну, хорошо. Веди тогда прямо ко мне на квартиру. Только предупреждаю: никаких услуг. Жена уехала в деревню, так что жить придется по-холостяцки.
— Еще и лучше, — обрадовался Шотман. — Ему для работы тишина и покой нужны. А раз жены нет, значит, любопытные соседки заходить не будут. А то ведь эти сороки все вынюхают и по городу разнесут.
Они условились, что сигналом для встречи будет телефонный звонок из Лахти.
В один из августовских дней в Ялкалу приехали два финна и спросили Иванова. Отрекомендовавшись артистами Народного дома, они сказали, что Шотман поручил им загримировать Константина Петровича и отправиться вместе с ним в Лахти.
Ильич не возражал, он только попросил подождать Люли, которая должна была привезти письма из Петрограда.
Когда Люли приехала, Владимир Ильич передал ей записку для Надежды Константиновны и десятка два страниц книги «Государство и революция».
— Смотри, Люли, за эти листки отвечаешь головой. Если они пропадут, значит, и ты пропала, — в шутку пригрозил он. — В сохранности передай все Надежде Константиновне. А родителям скажи, чтобы мои бумаги из печки никто не брал, их нужно сжечь.
Было уже около двенадцати часов ночи, когда Владимир Ильич, загримированный под финского пастора, с двумя артистами и Эдвардом отправился на вокзал.
Лошадь шла плохо. Они едва не опоздали к лахтинскому поезду. Хорошо, что билеты были куплены заранее, Владимир Ильич успел сесть в вагон за минуту до звонка.
В небольшом и тесном вагоне было жарко. Старательные артисты наложили на лицо Ильича столько грима, что от жары он потек. Слабо приклеенная бородка отстала. Пришлось пойти в уборную, содрать бороду и смыть весь грим.
До Лахти доехали благополучно. Здесь их встретил Шотман. Александр Васильевич не сразу отправился в Гельсингфорс, сначала он повез Ленина к знакомому лахтинскому рабочему, а через два дня — к депутату сейма, жившему в пригороде столицы. Оттуда Шотман позвонил по телефону Ровно и сказал:
— Все благополучно. Завтра буду у тебя.
Они договорились встретиться в одиннадцать часов вечера у Хагнесского рынка.
В условленный час полицмейстер финской столицы вышел на улицу и, как бы недовольно присматриваясь к тускло горевшим фонарям, остановился в назначенном месте.
Из темноты вышли двое. В одном Ровно узнал депутата сейма Вийка, другой был ему незнаком.
— Господин полицмейстер! — как бы случайно встретясь, воскликнул Вийк. — Вышли прогуляться? Хороший вечер, не правда ли?
— Да, вечер прекрасный! Вот с освещением у нас плохо, не по-столичному. На такой площади должно гореть больше фонарей.
Вийк представил своего спутника, но так тихо, что Ровно не разобрал имени, но он понял, что перед ним стоит Ленин.
— Очень рад, — сказал он негромко и дружески протянул руку.
Вождь большевиков походил на скромно одетого сельского учителя или пастора. Он был невысок, гладко выбрит, носил широкополую черную шляпу, надвинутую на лоб.
Они пошли втроем вокруг площади. Вийк разговаривал с Лениным по-французски, Ровно их не понимал. Он шел рядом и с опаской посматривал по сторонам: не следит ли кто за ними? Риск был большой. Ведь он взялся укрывать человека, объявленного вне закона.
У скобяного магазина депутат Вийк покинул их, свернув в темный переулок. Ровно молча повел гостя к своему дому, не зная, как с ним держаться.
В подъезде они еще раз огляделись и поднялись на пятый этаж. Открыв дверь с цифрой 22, Ровно пропустил гостя в переднюю и зажег электрический свет.
У вновь испеченного полицмейстера столицы была весьма скромная квартира: одна комната и кухня.
— Располагайтесь как дома, — сказал хозяин по-русски. — Я здесь бываю редко. Надо только условиться… как вы будете питаться?
— Я не привередлив, — ответил Ленин. — Если вы достанете яиц, немного масла или сала, больше ничего не понадобится.
— Может, лучше приносить обеды из нашей кооперативной столовой? Повар Арви неплохо готовит.
— Спасибо. У вас же нет лишнего времени. К тому же обеды, которые носят в пустующую квартиру, вызовут излишнее любопытство. Лучше помогите мне с газетами. Когда они приходят в Гельсингфорс?
— Почтовым, в седьмом часу вечера.
— Вам придется каждый вечер ходить на вокзал и покупать все русские газеты. Кроме того, необходимо наладить пересылку почты через надежного человека.
— Такой человек будет. Есть знакомый в почтовом поезде. Он через день бывает в Петрограде.
Ровио и не заметил, как с первого часа знакомства был вовлечен в дела Ленина и стал его невольным сообщником.
Вскипятив на газовой плитке воду и заварив чай, хозяин выставил на стол засохшее печенье, оставшееся со дня отъезда жены. Никакой другой еды у него в запасе не было.
После чая Владимир Ильич помог убрать со стола посуду и посоветовал хозяину лечь спать.
— Мне еще нужно поработать, — виновато сказал он. — Статья не терпит отлагательства.
Несмотря на поздний час, Владимир Ильич уселся за стол, бегло просмотрел привезенные газеты и принялся писать. Писал он не задумываясь, только изредка бормотал фразы перед тем, как их записать.
Хозяина поразило это умение без всякой подготовки и освоения на новом месте садиться за серьезную работу.
«Вот это работоспособность! — с завистью подумал Ровно. — У такого есть чему поучиться».
Он так и уснул, не дождавшись, когда гость погасит свет.
Проснулся Ровио в девятом часу. Ленин спал, положив руку под щеку. Стараясь не разбудить гостя, хозяин ополоснул под краном лицо и взглянул на стол. Там лежали газеты, чуть потрепанная синяя тетрадь и стопка свежеисписанных листков.
«Видно, работал до рассвета, — решил Ровио. — Проснется не раньше двенадцати. Успею побывать на службе и купить чего-нибудь на завтрак».
В полицейском управлении, прежде чем просмотреть бумаги, он вызвал к себе уборщицу, дал ей денег и попросил купить на рынке сотню яиц, свежих помидоров, деревенского сыра, масла, сала.
— Что, уже жена приезжает? — спросила женщина.
— Нет, решил сам себе готовить завтраки, — ответил Ровио. — Натощак вредно курить.
— Да, курите вы много. Но лучше пить молоко, — посоветовала уборщица.
— Молока мне не надо, оно быстро прокиснет.
Когда Ровио принес продукты, он застал Ленина сидящим на корточках перед открытым книжным шкафом. Владимир Ильич просматривал на нижней полке самые толстые тома.
— У вас прекрасная библиотека, — похвалил Ленин. — Маркс и Энгельс на немецком языке. Мне они понадобятся для работы. Прямо повезло.
— Значит, не зря в шкафу стоят? Очень рад! Я вам тут яиц, сыру и сала принес, — показал Ровио на корзинку, сплетенную из ивовых прутьев. — Думаю, на несколько дней хватит.
— Сколько я вам обязан?
Ровно вслух подсчитал стоимость продуктов. Владимир Ильич достал из заднего кармана брюк аккуратно сложенную хрустящую бумажку.
— У меня только «катеринка».
«Катерниками» называли сторублевые купюры, на которых была изображена царица Екатерина Вторая.
— Необходимо скорей обменять, — посоветовал Ровно. — Курс рубля непрерывно падает. Есть только трудность: наш банк принимает русские деньги на сумму, не превышающую десяти марок. Если я приду с солидной суммой, меня заподозрят в валютной спекуляции. Газетчики это раздуют в сенсацию. Они следят за милицией. Так что мне сперва придется разменять «катернику», а потом просить товарищей по очереди ходить в банк.
— А у товарищей это не вызовет… ну, скажем, любопытства?
— Понимаю вас. Я буду иметь дело с такими, которые объяснений у меня не потребуют.
Ровно пропадал весь день. Владимир Ильич сам приготовлял завтрак и сразу же садился за стол.
В его отшельнической жизни свежие газеты были отрадой. По разрозненным заметкам, сообщениям с мест он восстанавливал истинную картину жизни России.
Газеты расписывали, как Керенский, получив власть, переехал жить в Зимний дворец и как он картинно держал руку за бортом кителя. На всех совещаниях за его креслом теперь стояли навытяжку два адъютанта.
Но не этот фигляр заботил Ленина. Он знал, что пустых болтунов революция быстро отметет. Все эти керенские, церетели, Черновы и даны были хлипкими краснобаями, скроенными по образцу русских интеллигентов-обывателей, не веривших в то, к чему сами призывали. Во много крат опасней стали Милюковы, рябушинские, терещенки, выражавшие волю крупных капиталистов. Решающий бой в конечном счете придется давать не Керенским, а им. Поэтому Владимир Ильич внимательно следил за поведением главных врагов.
Рябушинские не верили «социалисту» Керенскому, заигрывавшему с Советами. Они подыскивали себе человека «дела и сабли» — решительного генерала, который не постесняется применить оружие. Думая о диктаторе, лидеры буржуазных партий называли то жестокого черноморского адмирала Колчака, то бывшего начальника Генерального штаба Алексеева, а когда Временное правительство назначило главнокомандующим генерала Корнилова, поиски прекратились, диктатор был найден.
Свою решительность Корнилов уже показал. Это он, командуя Петроградским военным округом, приказал выставить против демонстрантов пушки на Дворцовой площади. Это он, а не кто-либо другой, восстановил на Юго-западном фронте палочную диспиплину и потребовал от Керенского введения смертной казни. Корнилов первый отдал приказ расстреливать из пулеметов воинские части, которые самовольно вздумают покинуть позиции. Генерала, конечно, надо было приукрасить, сделать национальным героем, поэтому немедля была выпущена брошюра под громким заголовком: «Первый народный главнокомандующий генерал-лейтенант Лавр Георгиевич Корнилов». В ней поражения и неудачи выдавались за успехи, а бегство из плена — за геройство.
Кроме рекламы сторонники Корнилова во всех крупных городах создавали тайные союзы.
В августе в Москве собрался торговый съезд. На него прибыли крупнейшие капиталисты России. Они открыто говорили о том, что надо принять решительные меры для обуздания бунтующей черни. Генералу Корнилову была послана приветственная телеграмма. В ней говорилось: «В грозный час тяжелых испытаний вся мыслящая Россия смотрит на Вас с надеждою и верой».
В эти же дни Временное правительство устроило в Москве государственное совещание. Московские рабочие, видя, что в городе собираются все темные силы России, объявили забастовку. Керенский был вынужден вызвать для охраны Большого театра войска и, открывая совещание, пообещал, что он «железом и кровью» подавит всякие беспорядки.
На другой день в Москву приехал главком Корнилов. На вокзале ему была устроена торжественная встреча. Офицеры на руках вынесли генерала из вагона на площадь, где миллионерша Морозова упала на колени перед будущим «спасителем России».
Главком, вообразив себя диктатором, предложил немедля «упразднить комитеты и Советы», а для наведения порядка ввести смертную казнь не только в армии, но и в тылу.
Государственное совещание превратилось в съезд заговорщиков. Пока меньшевики и эсеры уговаривали «живые силы» буржуазии войти в общую коалицию, банкиры и заводчики вели тайные переговоры с Корниловым.
РЫБАКИ
В августе горели хвойные леса, подступавшие к столице с севера и с юга. С неба не сходила мутная пелена. Прогорклый дым проникал в город и усиливал чувство беспокойства и тревоги.
А тревожиться населению Петрограда было из-за чего. Обычно в такую пору рынки ломились от изобилия фруктов, овощей, хлеба и мяса. Сейчас же на прилавках виднелись лишь жалкие кучки молодого картофеля, зеленого лука, редиса, огурцов и северных недозрелых яблок. Все это продавалось по очень высоким, недоступным простому человеку ценам.
Разруха на транспорте, порожденная войной, усиливалась. В столицу все меньше и меньше завозилось продуктов, угля и промышленного сырья. Чуть ли не каждый день газеты объявляли о закрытии то фабрики, то завода. Армия безработных росла.
Мастеровой люд охватывало отчаяние. Приближались осенние холода. Куда денешься? Что делать? Даже в деревню невозможно уехать: не вскарабкаешься же со всем скарбом и семьей на крышу вагона?
— Голодом хотят задушить, — сердито говорил Савелий Матвеевич. — Надо брать власть в свои руки, иначе пропадем.
На обед кузнец принес из дому котелок постных щей, заправленных подсолнечным маслом. Видя, что Дементий с унылым видом жует сухую солдатскую галету, Савелий Матвеевич предложил:
— Доставай ложку и подсаживайся. Щи — хоть кишки полощи!
За едой Лемехов вспомнил, как, разбирая в сарае всякий хлам, он наткнулся на рыболовные снасти Филиппа.
— Может, порыбачим в субботу? — спросил он. — Лодку, правда, мне дают для другого дела. Но кто нам помешает одно с другим совместить? И для маскировки лучшего не придумаешь. Только вот как с парусом? Ты умеешь управлять?
— Это Филька у нас мастер!
— А ты бы сходил на Франко-русский, авось ему увольнительную дадут.
После работы Дементий поехал к Калинкиному мосту. На Франко-русский завод его не пропустила охрана. Но один из матросов взялся вызвать брата с «Авроры».
Минут через сорок в проходной появился Филипп. Он был в рабочих холщовых штанах и такой же рубахе.
— С борта ржавчину очищали, — сказал он. — Через месяц-два в море выйдем. А ты чего — соскучился или по делу?
— По делу. Может, к садику пройдем? — предложил Дементий.
Филипп не возражал. Сказав матросам из охраны: «Ребята, я вот тут, в шептальнике, побуду, в случае чего — сигнальте», он прошел с братом в сквер. Там они уселись на скамейку и закурили.
— Ты помнишь моего товарища Васю? — спросил Дементий. — Ну, того, с ямочкой на подбородке… я тебя на демонстрации знакомил. Его арестовали. Он сейчас в тюрьме. Аверкинский Мокруха так подстроил, что его будут судить за стрельбу в народ и ограбление. Ты не помнишь, кто еще из ваших матросов тогда с нами в церкви был?
— Как же, известны. Только не пойму — при чем тут Мокруха?
— Он, видно, следил за нами. В милицию с церковным сторожем пришел. А когда ребят схватили, он им какие-то кресты и чашу подкинул.
— Значит, жив, паскуда, и дел своих не бросил? Надо бы его проучить. В общем, свидетели будут, не сомневайтесь. В воскресенье я зайду к вам.
— А пораньше… в субботу не можешь? — спросил Дементий. — Савелий Матвеевич на рыбалку собирается. Нам с парусом не управиться.
— Парус-то зачем? Перемет без него ставят.
— Не знаю. Видно, Савелий Матвеевич что-то другое задумал.
— Интересно! На рыбалку — яс полным удовольствием, — сказал Филипп. — Постараюсь отпроситься. Ждите часов до четырех.
В субботу Филиппу Рыкунову дали с обеда увольнительную на сутки. Моряк пришел к Савелию Матвеевичу, когда тот еще был на заводе. Вытащив из сарая снасти, Филипп стал осматривать их.
Крючки на переметах поржавели, но шнуры еще были крепкими. Зато бредень для ловли наживки оказался во многих местах порванным. Развесив его на стене сарая, Филипп попросил у Семеновны суровых ниток и занялся починкой.
За этим делом и застал его пришедший с работы Савелий Матвеевич.
— Бросай с рухлядью возиться, — сказал он. — Пойдем лучше перекусим на дорогу.
— Спасибо, я на корабле пообедал, — ответил моряк. — А без бредня мы ничего не поймаем. С червячным переметом и возиться долго, и рыба не та. Пока вы закусываете, я хоть стяну петли. Только живей управляйтесь. Перемет до наступления темноты надо поставить.
Вскоре пришел Дементий, он принес парус, четыре весла, два кубаса и помог брату скатать бредень, увязать лотки с переметами.
Надев на себя старые ватники и нагрузившись снастями, они втроем пошли к мутной Таракановке. На захламленном берегу к дуплистому дереву цепями были привязаны две рыбачьи лодки с высокими бортами.
— Вот эту, просмоленную, нам дают, — сказал Савелий Матвеевич. — Сгружайте все в нее.
Лодка оказалась большой и вместительной. Доска кормовой банки откидывалась. Дементий заглянул в чистый, хорошо проконопаченный ящик и, увидев в днище отверстие, заткнутое деревянной пробкой, удивился:
— Для чего же тут продырявлено?
— Чтоб вода свежая проходила, — объяснил Филипп. — Это садок для мелкой рыбешки.
Погрузив снасти в лодку, они по Таракановке на веслах прошли в другую речку — Екатерингофку, а из нее выгребли в устье Невы и по заливу стали огибать Васильевский остров.
День был безветренным. Вода в заливе лениво набегала на отмели, по которым бродили мелкие кулички.
Прошедшие дожди погасили вокруг города лесные пожары. С моря купол неба казался таким высоким, огромным, какого в городе не увидишь. На горизонте четко выделялись серые форты и остров Котлин, на котором можно было разглядеть трубы Пароходного завода, маяки и Кронштадтский собор. От морской шири и свежего пьянящего воздуха Дементий ощутил такой прилив сил, что готов был грести и грести без конца.
— Хорошо бы поставить перемет за свалкой, — сказал Филипп. — Там рыба всегда толчется. Только где мы живца возьмем? Придется к Лахте идти.
— Почему не подальше? — вставил Савелий Матвеевич. — Нам ночью надо повидаться с сестрорецкими оружейниками. Они к Лисьему Носу обещали подойти и кое-что передать.
— Ах, вот вы за какой рыбкой! — воскликнул моряк. — Тогда придется ветерка ждать. На веслах не скоро туда доберешься.
За Лахтой они пристали к песчаной отмели. До захода солнца еще оставалось часа три. Савелий Матвеевич уселся у большого камня разбирать и подготовлять переметы: он втыкал крючки в пробковую кромку лотка, а шнур укладывал так, чтобы он не путался при сбрасывании в воду. Парни же, скинув штаны и толкая перед собой лодку, отправились вдоль берега искать наживку.
Вода на отмелях была теплой, почти неощутимой. Рыбья мелочь у камышей ходила большими стаями, но оцепить ее коротким бреднем было трудно. Плотички и язики, блеснув серебром и взмутив воду, разбегались в разные стороны. В бредень попадали только колюшка да глупые одиночки пескари.
После долгих скитаний по отмелям братьям лишь у ручья удалось преградить рыбешке путь отступления в море. Здесь они разом подцепили штук четыреста узких, трепещущих уклеек. Сделав еще два захода, парни вернулись к Савелию Матвеевичу довольными.
— Наживки хватит на все семьсот крючков и на уху останется, — сказал Филипп.
Они оба подсели к старику разбирать второй перемет, так как надо было спешить. Солнце, окрасившее в золотисто-красный цвет край неба на западе, уже склонилось к воде.
Рыбаки вышли в море, когда с берега подул слабый бриз. Отойдя на полмили, они поставили на якорь первый кубас — высокий шест с флажком, поплавком и свинцовой оттяжкой, к которому был привязан конец перемета. Дементий сидел на веслах и подтабанивал, чтобы лодку не сильно гнало ветром, Савелий Матвеевич вытаскивал крючки и передавал их Филиппу, а тот короткими движениями насаживал на них живых уклеек и сбрасывал за борт. Наживленный перемет сажень за саженью уползал в глубины залива…
Они закончили работу в темноте.
— Суши весла! — весело крикнул Филипп и сбросил второй кубас.
Развернув парус, моряк водрузил невысокую мачту в гнездо и, определившись по мигающему маяку, взял курс на Лисий Нос.
Ночной бриз, попахивающий горьковатым дымом, хорошо вздувал парус. Лодка вскоре развила такую скорость, что вода зажурчала у ее борта.
Отдыхая, Дементий закурил и посмотрел на небо. Звезд не было видно, кругом стояла мгла, изредка прорезаемая светом маяков.
— Как же мы найдем оружейников?
— По кострам на берегу, — ответил Савелий Матвеевич. — Нам надо вооружаться. Близится лихое время. Читали в газетах? Самая крупная буржуазия, генералы да архиереи в Москву съехались. И меньшевички с эсерами там мельтешат. Государственное совещание! А под сурдинку — тайный сговор против нас. Генерал Корнилов германцами пугает, в диктаторы метит. И Керенский из кожи лезет, чтобы кадетам и октябристам понравиться. Бонапартишка паршивый!..
Минут через пятнадцать Филипп доложил:
— Справа по борту костры!
Вдали колебались два небольших красных огня.
— Давай на них, — предложил старый кузнец. — Проверим, если не наши, махнем дальше.
Выйдя на траверз огней, они свернули парус и к берегу подошли на веслах. Филипп остался в лодке, а Савелий Матвеевич и Дементий направились к ближайшему костру.
В седловине, прикрытой кустами от ветра, у весело потрескивающего костра лежали на песке шестеро рыбаков в потрепанных одеждах и о чем-то негромко разговаривали. Услышав скрип песка под ногами пришельцев, они умолкли.
— Можно к вашему огоньку? — спросил Савелий Матвеевич. — Спички подмочили, курить охота.
Рыбаки ничего не ответили, лишь один из них подвинулся и пропустил к костру. Савелий Матвеевич прикурил от уголька и, видя, что знакомых здесь нет, поинтересовался:
— Ну как рыбка?
— Вечером клевала, — ответил тот, что подвинулся. — А вот утром, видно, на якоре не удержишься. Моряна задует… Закат красноватым был. А вы что, с дорожкой ходите или перемет поставили?
— Перемет, авось судачишка набежит. Вы Володю сестрорецкого или Кондратия не видели?
— Вон их костер. Тоже перемет ставили и на блесну двух судаков подцепили.
— Значит, ходит рыбка! Пойду узнаю, где они ее нащупали.
К другому костру Савелий Матвеевич пошел без Дементия. В ожидании его братья собрали сухой плавник и развели небольшой костер.
— Давай оставшуюся наживку сварим, — предложил Филипп.
— Хорошо бы! — обрадовался Дементий. — А то живот подвело.
Он сбегал к ручью, наполнил котелок водой и подвесил его над пламенем, а Филипп тем временем принялся потрошить уклеек.
Не успела вскипеть вода, как Савелий Матвеевич вернулся.
— Гасите костер, — сказал он. — Оружейники на уху зовут.
— А нашу рыбешку куда?
— Коту на обед.
Вылив горячую воду на огонь, братья взяли с собой котелок, хлеб, ложки и пошли за Савелием Матвеевичем.
Сестрорецкие рыбаки только что сняли с рогаток закоптелый котел с дымящейся ухой, распространявшей острый запах.
— А ну, ребята, подсаживайтесь к ухе! — пригласил оружейник. — Жаль, для аппетита ничего подходящего не захватили.
— А у нас он и так неплохой… только бы побольше да погуще! — отозвался Филипп.
Уха, заправленная молодым картофелем, была на удивление вкусной. Пышные куски судака, казалось, таяли во рту.
Съев подчистую все, что было в: котле, рыбаки улеглись на рассыпчатый морской песок вокруг костра и закурили.
— Ну, как там у вас на Путиловце — много мастеровой гвардии набирается? — спросил круглолицый, которого все называли Володей.
— Боевого народу хватит, только считай, — ответил Савелий Матвеевич. — Да вот с оружием бедновато: с палками парни обучаться ходят.
— В следующую субботу мы вам еще подкинем, — пообещал оружейник.
Кончив курить, он посмотрел на карманные часы, похожие на большую луковицу, воскликнул:
— Ого! Время быстро бежит. Поднимайтесь, надо до рассвета сгрузиться.
Они прошли к своим лодкам, столкнули их на воду и на веслах двинулись в глубь залива.
Отойдя от берега на изрядное расстояние, рыбаки сблизились и, став борт к борту, начали перегружать винтовки, обернутые в просмоленную ветошь. Филипп их принимал, а Савелий Матвеевич аккуратно укладывал в носовую часть на брезент. Хорошо укрыв и замаскировав винтовки лотками, они еще раз закурили, пожали друг другу руки и на прощание одновременно выкрикнули:
— Ни пуха ни пера! Тьфу-тьфу…
Ветер переменился, он теперь дул с северо-запада. Филипп вновь водрузил мачту и, умело управляя парусом, лег курсом на юг, а сестрорецкие оружейники повернули на север.
На востоке высветилась тоненькая, едва приметная полоска. Она с каждой минутой ширилась, росла, принимая розоватый оттенок, потом неожиданно вспыхнула и пронизала полнеба золотистым светом.
Всходившее солнце зажгло далекий купол Исаакиевского собора, острые шпили Адмиралтейства и Петропавловской крепости. Заводские трубы, возникавшие из поредевшей мглы, казались черными, только что погашенными свечками.
Подходя к лахтинскому выступу, Дементий и Филипп стали вглядываться в поверхность моря, отыскивая свои кубасы. Утренний блеск волн слепил глаза.
Моряк вскоре заметил раскачивающийся над водой флажок. Убрав парус, он перебрался на нос лодки, вытащил нож, воткнул его в скамейку и — стал ждать, когда Дементий на веслах подойдет к кубасу. Как только флажок очутился у борта, он схватил его, вытащил из воды вместе с грузом и, передав Савелию Матвеевичу, начал не спеша выбирать шнур перемета.
Это был захватывающий момент рыбной ловли! Все с волнением уставились на вздрагивающий, затянутый зеленой тиной шнур: что сейчас покажется из глубины? Какая добыча?
Первые крючки были пустыми.
— Начисто объели, — хитрая рыба пошла, — бормотал Филипп. — Эге, задрыгала… попалась одна!
Шнур чуть повело в сторону, и на поверхности показался взъерошенный крупный окунь. Он сопротивлялся, рвался на глубину, но был выхвачен из воды и брошен в лодку.
Видимо, над этой частью перемета прошла большая стая окуней, они попадались через два-три крючка, все имели одинаковую изумрудно-полосатую окраску и по величине не отличались один от другого.
— Однолетки, — определил Филипп. — А вот и удавленник попался!
Он вытащил какой-то темный ком, покрытый белой слизью. Это был небольшой угорь, который, в попытках сорваться с крючка, так намотал на себя поводок и шнур, что был задушен ими.
Потом пошли крючки с уцелевшей наживкой. Филипп стряхивал мертвых уклеек в воду и приговаривал:
— Судачкам малым и чайкам на обед!
Неожиданно он ощутил тяжесть на перемете, показавшуюся ему мертвой.
— Никак, зацеп… А ну, Дема, притабань!
Моряк слегка поддернул шнур и вдруг почувствовал рывок.
— О-го! Никак, большая попалась… приготовьте сачок!
Вместе с мутью на поверхность всплывали клочки вырванной травы. На глубине металась какая-то сильная рыба. Боясь порвать ветхий перемет, Филипп вываживал ее с предосторожностями. Наконец на поверхности показался крупный судак с белесым брюхом. Заметив лодку, он всплеснув хвостом, рванулся, но угодил прямо в сачок, подведенный Савелием Матвеевичем.
— Ну и рыбина, — вытащив добычу, воскликнул старик. — Не меньше двенадцати фунтов потянет.
— Вы не возитесь с ним… срезайте с поводком, если далеко заглотнул, — посоветовал Филипп. — А то руки покалечите. Зубы у них цепкие. Эге! Кажется, еще такой же!
Второй судак был поменьше, но тоже доставил немало хлопот: рванувшись под лодку, он потащил за собой перемет. И как-то так получилось, что крючок соседнего поводка зацепился за киль. Пришлось Филиппу погрузить руку по плечо в воду и пустить в ход нож.
В течение получаса рыбаки наполнили садок доверху и с добычей двинулись к дому.
ТРЕВОЖНЫЕ ДНИ
Старый церковный сторож, вымаливая себе прощение, часто оставался после богослужения у алтаря, бросался на колени перед распятьем и, отбивая поклоны, просил:
— Господи Иисусе Христе, прости мя, грешного, не покарай…
Изнывая от страха, он каждый день ждал, что придут с дальней заставы мстители и спросят: «Ты зачем подкинул нам украденное из алтаря?»
— Не по своей воле, — бормотал старик. — Долговязый бес попутал. И кресты-то были старые из серебра… на чаше позолота стерлась. Без толку лежали. Не прогневайся, пощади мя…
В воскресенье после обедни старик не погасил свечей, а, как всегда, встал перед изображением распятого на кресте Иисуса Христа и, закрыв глаза, начал повторять свою каждодневную просьбу.
В церкви стояла такая тишина, что слышно было, как капает оплывающий воск, слегка потрескивает пламя свечей и попискивают бегающие в просвирной мыши.
Вдруг до слуха молящегося донесся скрип тяжелой двери главного входа. «Кто бы это мог быть? — вздрогнув, подумал сторож. — Не вернулся ли отец Анатолий?» Дряхлый настоятель церкви ушел последним, по рассеянности он мог что-нибудь забыть. Нет, по гулким плитам явно шагало несколько человек. Слышно было, как у одного из них цокали подковки.
Боясь оглянуться, старик торопливо стал отбивать поклоны и бормотать молитвы.
Шаги вскоре затихли, но сторож чувствовал, что пришедшие не ушли, а стоят где-то невдалеке и наблюдают за ним. Он лишь чуть скосил глаза и, заметив трех матросов, державших снятые бескозырки, рослого милиционера с красной повязкой на рукаве и сгорбленного отца Анатолия, упал ниц и в голос завопил:
— Матерь божья, великомученица, заступись!
— Ладно, хватит канючить, — сказал грубый голос. — Поднимайся.
Чьи-то сильные руки подхватили обомлевшего старика и подвели к аналою.
— Раб божий Лука, клянись на святом Евангелии, что будешь, как перед богом, говорить только правду, — подняв руку с тремя вытянутыми вверх пальцами, произнес отец Анатолий.
— Клянусь, — слабым голосом отозвался сторож, перекрестился и поцеловал край толстой книги с золотым обрезом.
Матрос, усевшийся на приступку алтаря писать протокол, строгим голосом спросил:
— Как зовут тебя?
— Лука Афанасьевич Субботин.
— Где проживаешь? Уроженец какого села? Уезда, губернии?
У старика затряслись ноги. Ему вдруг стало холодно, захотелось сесть. Словно сквозь сон он слышал вопросы, машинально отвечал на них и думал: «В тюрьму посадят… и отец Анатолий разгневается, прогонит меня».
— Правду ли говорят, что ты со злым умыслом выкрал церковную утварь, окропленную святой водой, и подкинул мастеровым?
— Каюсь, дьявол попутал.
И Лука Афанасьевич, утерев рукавом глаза, стал рассказывать, как после ареста переодетых военных к нему пришел их долговязый начальник и стал нашептывать: «Богоугодное дело свершишь. Они слуги антихриста, идут против царя и бога. Каторжники будут разорять церкви, измываться над верующими. Бог вознаградит того, кто поможет правосудию вернуть их в тюрьму».
— Видел ли ты, что арестованные мастеровые избивали кого-нибудь? — вновь стал допрашивать матрос.
— Каюсь, не видел.
— Кто стрелял с колокольни?
— Переодетые военные, которых арестовали мастеровые и матросы.
— Ими командовал Аверкин?
— Да, он потребовал, чтобы я впустил их в божий храм.
— Больше вопросов у нас нет, — сказал моряк. — Прошу свидетелей подтвердить, что насилия над гражданином Субботиным не было, что после клятвы над Евангелием он сообщил нам чистую правду.
Закончив протокол, Филипп Рыкунов записал адреса свидетелей, дал им расписаться и поблагодарил дряхлого настоятеля.
Милиционер хотел было взять протокол себе, но матрос сказал:
— Нет, брат, он нам самим пригодится.
Виталий Аверкин встревожился, узнав, что брат срочно вызывает его к себе.
«Разнос устроит, — решил он. — Целый месяц, как собаки с высунутыми языками, носимся по городу и — никакого следа. Словно в воду канул. Пусть сам попробует найти Ленина, если такой ловкий».
Виталий весь июль и начало августа не давал себе отдыха: он участвовал в ночных облавах, выслеживал делегатов Шестого съезда большевиков, выезжал в Кронштадт, где, по слухам, на линейном корабле «Заря свободы» прятался вождь большевиков.
О Кате Алешиной он не мог вспоминать без злости. Из-за нее его схватили какие-то парни и бросили в Неву. Он тогда чуть не захлебнулся. Сейчас на Выборгскую сторону лучше и не суйся: рабочие задерживают всех, кто им кажется подозрительным.
Явившись к брату, Виталий начал жаловаться на трудности работы. Тот слушал его как-то рассеянно, потом махнул рукой и перебил:
— Охотно верю. Сейчас не это главное. Тебе придется срочно заняться другим делом.
Всеволод, видимо боясь, что их подслушивают, подошел к двери, выглянул в приемную, защелкнул замок и, вернувшись, заговорил вполголоса:
— Керенскому, кажется, грозит отставка. Во всяком случае, он уже не котируется. Появился новый претендент в диктаторы — Лавр Корнилов. Генерал уже засылает в Петроград офицеров резерва и подтягивает к столице казачьи части. Двадцать седьмого августа отмечается полугодовщина революции. По этому поводу устроят манифестацию. Тебе с твоей группой придется изображать громил.
— А нас не перестреляют? — спросил Виталий, недовольный новым заданием.
— Не бойся, это исключено. В провокациях примут участие кроме вас еще и переодетые офицеры. Они позаботятся о безопасности.
Матросы, сидевшие в «Крестах», читали газеты, прославлявшие генерала Корнилова, и возмущались:
— Знаем мы этого героя. Против солдаток и стариков пушки выставляет, а как артиллерию противника увидит, так от страха штаны и войска теряет. В самом начале войны в плен угодил. Да к кому? К австрийцам, которые сами тысячами сдавались!
Как только газеты стали намекать о генеральском заговоре, Васкевич, державший нос по ветру, вдруг вновь стал запрещать свидания, передачи с воли и приказал коридорным не выпускать заключенных из камер.
Кончились прогулки по коридору, споры и хождения в гости. Вновь заработал тюремный телеграф.
Газетные заметки и статьи вызывали тревогу у заключенных. Генералы не без умысла стягивали к столице казачьи корпуса и конников «Дикой дивизии». В любой момент они могли устроить на улицах столицы резню.
«Нам будет хуже всех, — рассуждал про себя Кокорев. — Там, в городе, можно хоть камнями обороняться. А в тюрьме чем? Как вырваться отсюда?»
Неожиданно двадцать седьмого августа тон многих газет круто изменился. Они вышли с крупными заголовками, призывавшими население выйти на защиту революции, и требовали чрезвычайных полномочий для Керенского.
На другой день с утра в контору тюрьмы стали вызывать политических заключенных и выпускать на волю. Первыми тюрьму покидали матросы. Только Тарутина задерживали.
— Ишь как оборачивается: вас выпускают, а мы за решеткой остаемся, — помрачнев, сказал Иустин.
— Не печалься, и до тебя очередь дойдет, — успокаивали его уходящие. — Видно, сперва левых эсеров и большевиков отправят, а потом и вашего брата… анархистов попросят.
— Да какой же я, к черту, анархист, если делаю и говорю то же самое, что и вы?
— Что правда, то правда. Давно бы тебе пора к нам переходить.
— В общем, не тревожься, ребята, ежели вас не выпустят, то мы такую бучу на воле поднимем, что они не возрадуются, — пообещал на прощание Проняков. — На всякий случай дайте-ка адреса, может, к вашим зайду, расскажу, как вы здесь…
К вечеру в больших общих камерах осталось по два-три человека. Заключенные как тени бродили по коридору, надеясь, что, может быть, и их вызовут, но стражники молчали.
— Видно, на завтра отложили, — сказал Кокорев. — Пошли спать.
На следующий день в контору больше вызова не было. «Заложниками нас оставили», — решили заключенные.
Днем пришли газеты. Василию удалось купить «Новую жизнь», а Иустину достались «Биржевые ведомости». Наткнувшись на сообщение о том, что рабочие Обуховского завода, «Анчара», «Старого Лесснера» требуют немедленного освобождения всех, кто был арестован в июльские дни, Василий повеселел:
— Наши действуют!
— Чудеса какие-то! — вдруг воскликнул Тарутин. — Буржуйская «Биржевка» матросов хвалит.
И он вслух прочитал заметку о прибытии в столицу пяти тысяч кронштадтцев.
— «Вчера Петроград впервые после революции увидел дисциплинированные части. Это были стройные колонны кронштадтских моряков. На эти части Временное правительство может положиться в своей борьбе против изменников революции». Значит, балтийские моряки стали нравиться? Здорово получается! — сказал Тарутин.
В других заметках сообщалось, что войска мятежников все ближе и ближе подходят к Петрограду.
Перепуганный Керенский искал защиты у рабочих и матросов. Он видел в них наиболее организованную силу, способную выстоять против корниловских войск.
Вокруг Петрограда рылись окопы, строились заграждения. Революционные отряды занимали ближние подступы к городу, разбирали железнодорожные пути и высылали своих агитаторов навстречу казакам.
Аверкин несколько дней готовил группу погромщиков, которым поручалось спровоцировать беспорядки, но, когда накануне празднования он поздно вечером явился к брату, тот вдруг сказал:
— Завтра ничего не будет. Воздержимся. Людей пока не распускай, пригодятся. Очередная истерика! Керенский, который знал о заговоре, вдруг решил стать разоблачителем: арестовал представителя Корнилова и на заседании Совета министров потребовал для себя чрезвычайных полномочий. Видимо, произошло идиотское недоразумение. Надеюсь, через день-два выяснится. Ты жди.
— Кто же нам теперь платить будет?
— Наша жизнь с тобой вроде картежной игры. Вот тебе двести рублей, прибавь свои и… пошли ва-банк. Надо рисковать.
Виталий выдал агентам деньги, а те от скуки в два вечера пропили их.
Пьянствовали в столичных ресторанах и офицеры, засланные из ставки в Петроград. Все они ждали сигнала, а его все не было.
Наконец брат вызвал Виталия к телефону.
— Немедля распусти свою группу и исчезни, — приказал он. — Ко мне не приходи, позову, когда понадобишься.
СКОРЕЙ В ПИТЕР
Приехавший из Петрограда в Гельсингфорс Александр Шотман был необычайно возбужден.
— Мы на коне! — похвастался он Ильичу. — Почти всех выпустили из тюрем, кончается подполье. Скоро вас опять встретит почетный караул.
С забавными деталями он рассказал, как перетрусивший Керенский позволил большевикам открыто вооружать рабочие отряды.
— Мы оказались самыми деятельными, — продолжал радоваться Шотман. — Теперь у большевиков небывалый авторитет. Меньшевики и эсеры, видя, как трясутся их вожаки, рвали свои партийные билеты. «У вас народ дружней, — говорили они нам. — Заодно драться будем». Корниловцы не дошли до Питера. Наши агитаторы распропагандировали их в пути. «Дикая дивизия» отказалась драться с рабочими, а казаки взяли да и арестовали своего генерала Крымова.
— Все же из подполья выходить еще рано, — заметил Ленин. — Керенские быстро опомнятся, раз опасность миновала. Нужно сделать так, чтобы все оружие осталось у рабочих, тогда мы сумеем не только взять власть, но и отстоять ее.
На радостях Владимир Ильич приготовил омлет с сыром и заварил крепкий чай. Когда пришел Ровно, они вместе уселись ужинать. Разливая чай, Владимир Ильич поинтересовался: почему враждебная «Биржевка» расхваливает кронштадтских моряков?
— Да, да, матросов встречали с радостью, — подтвердил Шотман. — Поставили охранять самые важные пункты. Произошла забавнейшая история. Керенский, приметив вооруженных моряков в Зимнем дворце, решил, что кронштадтцы одумались. Благосклонно улыбаясь, он принялся пожимать им руки и лукаво спросил: «Я только не понимаю, как у вас совмещается несовместимое: охраняете меня, а подчиняетесь Ленину?» Один из матросов вскинул руку к бескозырке, щелкнул каблуками и с невозмутимым видом ответил: «Простите, господин министр-председатель, мы не вас охраняем, а стоим на революционной вахте и смотрим, чтобы кто-нибудь из тех, кто сейчас во дворце, не переметнулся бы к Корнилову». Говорят, Керенский прямо взвился по лестнице и приказал адъютанту: «Убрать матросню! Она мне на нервы действует».
На следующий день Шотман сходил к депутату Вийку и сказал:
— Надо бы найти для Ленина жилье с хорошей хозяйкой, а то ведь стыдно, что за ним некому присмотреть.
Вийк, нахмурив лоб, задумался.
— Может, к Усениусам поселить? — спросил он. — У них пока пустует комната. Мария обедом накормит и белье постирает.
Они сходили к Усениусам, договорились об оплате и вдвоем помогли Владимиру Ильичу перебраться в новую квартиру.
Но в гостеприимной семье гельсингфорсского рабочего Владимир Ильич пожил недолго. Неожиданно появился постоянный жилец Усениусов, поэтому пришлось спешно собрать свои пожитки и отнести обратно на Хагнесскую площадь. А у Ровно вот-вот должна была вернуться из деревни жена.
Стали подыскивать другое жилье. Наконец нашли удобную комнату в квартире железнодорожника-машиниста Артура Блумквиста. Железнодорожник состоял в рабочей организации финских шведов и считался надежным товарищем. Блумквисты детей не имели. Жена машиниста Эмилия с готовностью согласилась принять жильца. Хозяйка не знала русского языка, а Ильич — финского и шведского. Объясняться приходилось жестами или ждать вечера, когда появится с газетами Ровио.
У Блумквистов жилось лучше, чем у Ровио, но здесь одолевало чувство одиночества. Эмилия была заботливой хозяйкой. Она содержала квартиру в чистоте, готовила вкусные обеды и делала все, чтобы Ленину хорошо работалось. Но добрая женщина была чрезмерно стеснительной, казалось, будто ее вовсе нет дома. Владимиру Ильичу не с кем было перекинуться словом, отвести душу, посмеяться. И так целые дни, потому что Ровио теперь забегал лишь на несколько минут.
В один из вечеров Владимир Ильич меж ничего не значащих строк приветствий молоком написал Надежде Константиновне, чтобы она приехала к нему хотя бы на один-два дня. В нижнем углу письма начертил план: по каким улицам нужно идти, чтобы без расспросов попасть к Блумквистам.
Получив «химическое» письмо, Надежда Константиновна принялась нагревать его над стеклом керосиновой лампы, чтобы невидимые молочные буквы приняли коричневый оттенок и их можно было прочитать. По неосторожности она передержала тонкий листок над лампой, и он обуглился именно в том месте, где был чертеж. Это сильно расстроило Надежду Константиновну. «Как же теперь быть? Русских в Гельсингфорсе немного, да и расспрашивать нехорошо. А он будет ждать и волноваться. Рискну, — решила она, — нашла же я Володю в Германии, хотя совсем не знала, у кого он живет, а тут адрес есть и фамилия хозяев».
Надежда Константиновна съездила в Разлив к Емельяновым и спросила: не смогут ли они добыть ей пропуск в Финляндию?
Жителям Сестрорецка, не работавшим на заводе, пропуска выдавал волостной староста. Емельянова сходила к жене старосты и попросила, чтобы та помогла ей выправить пропуск тетке Агафье Атамановой, живущей в Райволе.
— Сама бы похлопотала, да некогда. Семеро ребятишек, едва по дому управляюсь.
Старостиха взялась помочь и велела принести две фотографии.
Надежда Константиновна оделась по-деревенски, повязала голову платком и так сфотографировалась. Потом она уехала в Петроград готовиться в дорогу.
Через два дня пропуск был получен. Надежда Константиновна приехала в Разлив с дорожной сумкой. Вытащив из нее деньги, завернутые в платок, она достала три двадцатипятирублевые бумажки и протянула их Емельянову.
— Возьмите, пожалуйста, у нас не было денег, теперь я получила…
— За что мне их? — удивился Николай Александрович.
— Ильич у вас так долго жил, питался, — начала было Надежда Константиновна. Но Емельянов перебил ее:
— Он у меня гостем был… товарищи ему еду привозили. Что вы, как можно, не возьму.
Емельяновы пошли провожать Крупскую. Они повели ее через дюны на станцию Олилла. Там купили билет в вагон третьего класса и посадили в поезд.
В душном и тряском вагоне Надежда Константиновна доехала до Гельсингфорса.
В столице Финляндии, никого не расспрашивая, она ходила по улицам до тех пор, пока не нашла домик Блумквистов.
Владимир Ильич очень обрадовался приезду жены. Он не знал, куда ее посадить. Глаза Ильича сияли почти так же, как девятнадцать лет назад в селе Шушенском, когда она невестой вместе с матерью приехала к нему в ссылку,
— Проголодалась? — спросил Ильич.
— Очень, — призналась она. — Правда, мне на дорогу достали баночку паюсной икры, но я знаю, как ты ее любишь, — не тронула.
— Тогда мы сейчас устроим пир!
Взяв икру, Владимир Ильич отнес ее хозяйке на кухню и попросил открыть к обеду.
Эмилия не поняла, что он сказал. Ей не доводилось прежде пробовать паюсную икру. Решив, что в банке вакса, она достала сапожную щетку, сняла с икры крышку и все принесла жильцу.
Владимир Ильич в комическом ужасе схватился за голову. Он жестами объяснил, что в баночке не сапожная вакса, а лакомство, изысканная еда. А когда Эмилия поняла его и, смущенно улыбаясь, вытащила из буфета две ложечки для варенья, он принялся так заразительно хохотать, что рассмеялась и Надежда Константиновна.
Питерские дела радовали. Большинство арестованных товарищей уже было на свободе. Центральный Комитет собирался почти в полном составе. Правда, еще не открыто, а на конспиративных квартирах, но действовал и руководил борьбой.
Надежда Константиновна с обычной своей усмешкой рассказала, как в горячке событий руководители Петроградского исполкома оказались за бортом:
— Им выразили вотум недоверия, и… прошла наша резолюция. Эсеров и меньшевиков полно, а победили большевики! Скандал. Чтобы исправить положение, меньшевики выпустили на трибуну Церетели. Ты представляешь, какую тот может подпустить слезу, с демагогией расписывая страдания Чхеидзе в царской тюрьме? Под конец, чтобы пристыдить депутатов, Церетели призвал: «Пусть тот, кто не доверяет убеленному сединами каторги товарищу Чхеидзе, поднимется и стоя проголосует против него!» Расчет был верным. Таких, конечно, не оказалось. Тогда меньшевики закричали: «Надо переголосовать поименно». Наши особенно не возражали, только заметили, что большевиков тюрьмой не удивишь: многие сидели больше Чхеидзе и каторжными сединами не хвастаются. Поименное голосование, когда каждый вставал и переходил на ту или иную сторону, ничего не изменило: три четверти присутствующих выразили недоверие. Оскорбленный Чхеидзе и члены президиума демонстративно покинули зал. В новый состав президиума попали те, кто был настроен по-большевистски.
— Эта новость первостепенной важности, — отметил Ильич. — Теперь мы вновь можем требовать всей власти Советам.
Два дня, которые провела Надежда Константиновна в Гельсингфорсе, пролетели незаметно. Дела требовали возвращения в Питер. Владимир Ильич надавал ей столько поручений, что она не знала, сумеет ли выполнить их.
Прощаясь, он взял с нее слово, что недельки через две она опять приедет.
Ильич собрался проводить Надежду Константиновну до вокзала, но она воспротивилась:
— К чему? Нарушишь только конспирацию.
Но Владимир Ильич все же дошел с нею до углового дома улицы, а там они расстались как незнакомые.
Вторично собравшись к Ильичу, Надежда Константиновна решила не заезжать к Емельяновым. Зачем отрывать людей от повседневных дел? Ведь нелегко сейчас прокормить семерых ребят.
Она хорошо запомнила путь, по которому они шли первый раз. Перейдя без препятствий границу, лесом направилась к станции.
В смешанном лесу осень ощущалась острей: все березы уже позолотило, а сосны шелестели листвой, словно объятые бездымным пламенем. Рдела рябина, и чернели ягоды шикши и вороньего глаза. От палого листа земля пестрела.
Боясь сбиться с тропы, Надежда Константиновна вышла на открытое место и пошла вдоль желтевших дюн. Здесь пахло морскими водорослями. Ноги утопали в песке.
Темнота надвигалась быстрей, чем в прошлый раз. Боясь опоздать, Надежда Константиновна ускорила шаг. К станции она подошла запыхавшейся, с трудом переводила дыхание.
На перроне собралось много солдат и матросов. Как только подошел поезд, они, толпясь, ринулись к вагонам. Надежда Константиновна чуть ли не последней пришла в вагон. Сидячих мест не оказалось, и ей пришлось стоять.
Как только поезд тронулся, в вагоне начались громкие разговоры. Казалось, едут не пассажиры, а любители митинговать. О чем только здесь не говорили солдаты и матросы. Всем был ненавистен Керенский, обещавший одно, а делавший другое.
— Махорки не стало. Пайку хлеба урезали. Овсом кормят. Сам бы попробовал воевать на пустое брюхо!
— А за что воевать? — спрашивал молодой солдат. — За то, что моего батьку и деда каратели избили? Не смей помещичью землю трогать! Жрать-то что будем? Коней в деревне не осталось…
— Не один Керенский шкодит. Всю шайку-лейку пора шугануть.
— И Корнилов еще себя покажет, — уверял рябоватый матрос. — Ему место в тюрьме, а он в гимназии живет, которую его же Текинский полк охраняет.
— Верно, — поддержал его другой матрос. — Он там себе новую армию соберет.
— Черного кобеля не отмоешь добела.
— Чего большевики ждут? Почему власти не берут? — кипятясь, спрашивал рыжеватый пехотинец. — Народ же за них!
— Говорят, погодить надо. Синтуация не назрела, — вставил бородач из ополчения.
— Какая такая «синтуация»?
— Да вроде чирья, что ли. Ждут, когда нарвет, потом стукнут по нему, чтоб лопнул.
— Дождутся, что самих за глотку схватят и на холку сядут. Тут зевать нельзя…
От шума и духоты, запаха стеариновых свечей, горевших в фонарях, и махорочного дыма у Надежды Константиновны закружилась голова. Сердце стало биться учащенно, как во время приступов «базедки», но никто из спорщиков не заметил, что «деревенской тетке» стало дурно, и не предложил ей места.
Она с трудом выбралась в тамбур и там, глотнув свежего воздуха, уткнулась лбом в холодную стенку и приказала себе: «Не распускаться».
Какой-то щеголеватый военный, с подстриженными усиками, заглянул в вагон, но, услышав, о чем говорят солдаты, тотчас же вернулся в тамбур и на остановке исчез.
А шумный разговор в вагоне продолжался, он окончился только в Гельсингфорсе, потому что нужно было выходить.
Отдохнув на вокзальной скамейке, Надежда Константиновна с трудом доплелась до дома Блумквистов. Увидев в прихожей Ильича, она пожаловалась:
— Я вся пропахла махоркой. Зверски устала… хочу только спать…
Но она все же рассказала, о чем говорили солдаты и матросы в вагоне.
Весь следующий день задумчивость не сходила с лица Ленина. Он уже не удерживал Надежду Константиновну в Финляндии, а просил скорей подыскать в Питере конспиративную квартиру. Ленин стремился туда, где должно было начаться главное.
Прощаясь, Владимир Ильич сказал:
— Больше в Гельсингфорс не приезжай. На днях перебираюсь в Выборг, хочу быть ближе к Питеру.
Владимир Ильич написал два письма в Центральный Комитет партии. В письме, озаглавленном «Большевики должны взять власть», он уверял, что, имея большинство в Советах, большевики добьются успеха, только надо действовать решительно. Именно сейчас легче всего повести за собой революционно настроенные массы, сломить противника, победить его и, взяв власть в свои руки, удержать ее.
В другом письме — «Марксизм и восстание» — он предупреждал, что с восстанием играть нельзя, к нему надо относиться как к военному искусству, готовить выступление с такой тщательностью, чтобы оно обязательно принесло победу. Он даже набросал примерный план действий в Петрограде и советовал, не мешкая, создать штаб боевых отрядов.
Отправив оба письма сестре Марии, Владимир Ильич попросил перепечатать их на машинке в десяти экземплярах и передать на обсуждение в Центральный Комитет.
Готовясь к поездке в Выборг, Ленин внимательно осмотрел свою одежду. Костюм и ботинки еще сохраняли хороший вид, а старый парик рискованно было надевать: он лоснился и обтрепался по краям. Как же приобрести другой?
Вечером Владимир Ильич попросил помощи у Ровно. Густав, отыскав в финских газетах объявление театрального парикмахера, позвонил к нему по телефону. Парикмахер заверил, что он может сделать любой парик по заказу, только для этрго нужно прийти лично.
Рано утром Ровио зашел за Владимиром Ильичем и повел его по безлюдным переулкам на Владимирскую улицу.
Парикмахер когда-то работал гримером в Мариинском театре. Он принялся рассказывать, как он «омолаживал» князей «и графов.
— Хотите быть брюнетом, блондином? — неожиданно спросил болтливый мастер.
— Мне нужен парик с сединой, — ответил Владимир Ильич.
Парикмахер был потрясен: до сих пор никто из клиентов не желал стариться.
— Зачем такой парик? Что он изменит? — принялся отговаривать он. — Вам сейчас больше сорока не дашь, а у меня вы будете выглядеть тридцатилетним.
— Сколько времени потребуется на изготовление парика? — спросил Ленин, чтобы прервать поток слов.
— Недели две, не больше.
— Меня такой срок не устраивает. А нет ли у вас готового?
— Боже мой! Да разве у готового парика будет приличный вид? Я ведь волос к волосу укладываю… а цвет подкладки? Мой парик украсит голову. Вы меня благодарить будете…
Владимир Ильич не стал слушать его. Пройдясь вдоль застекленных шкафов, в которых лежали образцы изделий, он остановился у крайнего и, указав на седенький парик, попросил:
— Покажите мне вот этот.
Парикмахер с сокрушенным видом достал парик и отдал его примерить странному покупателю.
Парик оказался подходящим, следовало лишь немного подправить, чтобы он плотней прилегал на висках. Мастер взялся это сделать к вечеру, но очень сожалел, что клиент оказался таким упрямым.
В Выборге Владимир Ильич устроился жить на окраине города у редактора местной социал-демократической газеты Юко Латукки. С помощью журналиста легче было связываться с Петроградом и получать свежие газеты.
Вести не радовали. Посланные в Петроград письма, как передали Владимиру Ильичу, вызвали странные разговоры на заседании Центрального Комитета. Особенно изощрялся Каменев. Он предлагал уничтожить письма о восстании.
— Ленин оторвался от жизни, — убеждал всех Каменев, — прячется в Финляндии и представления не имеет о том, что творится в стране.
Он предложил в протоколе записать:
— «Центральный Комитет, обсудив письма Ленина, отвергает заключающиеся в них практические предложения, призывает все организации следовать указаниям только Центрального Комитета и вновь подтверждает, что Центральный Комитет находит в текущий момент совершенно недопустимыми какие-либо вооруженные выступления».
Это предложение хотя и отклонили, но принятая резолюция мало чем отличалась от него. Решено было обсуждение вопроса на время отложить, членов партии с ленинскими письмами не знакомить, а копии их уничтожить, оставив только по одному экземпляру.
«Да, сидеть в Финляндии больше нельзя, — решил Владимир Ильич, узнав о судьбе писем. — На решающих заседаниях надо присутствовать самому».
Тревогу вызвало и другое. В Петроградском совете после забаллотированного Чхеидзе председательствовал Лев Троцкий. Правда, внешне он вел себя как ярый большевик, но Владимир Ильич не доверял герою звонкой революционной фразы.
За этим необузданным интриганом и фракционером, вносившим в рабочее движение элементы авантюризма, необходимо было следить в оба глаза. Троцкий никогда не признавал партийной дисциплины. Теперь же, находясь на высоком посту, он может так все обострить и запутать, что оттолкнет не только крестьян, которых не считает революционной силой, но и рабочих.
«Скорей, надо скорей перебираться в Питер», — твердил себе Ильич.
ГОЛОДОВКА
Требования заключенных, протесты на воле и тревожная политическая обстановка заставили прокуратуру зашевелиться— предъявить «июльцам» обвинение. Подготовлено оно было наскоро, на основании показаний весьма сомнительных свидетелей. Но другого выхода у Временного правительства не оставалось: надо было хотя бы как-нибудь опорочить большевиков.
Заключенных по нескольку человек вызывали в канцелярию тюрьмы. Кокорев, Лютиков и Шурыгин попали в одну группу с моряками.
Следователь, нацепив на нос пенсне, первым делом ознакомил обвиняемых с постановлением правительства от 6 июля о привлечении к судебной ответственности «всех участвовавших в организации и руководстве вооруженным выступлением против власти».
Моряки и путиловцы выслушали его спокойно, только один из них спросил:
— Скажите, пожалуйста, а почему не всех демонстрантов арестовали?. Тюрем не хватило, что ли?
Заметив, что шутки в тюрьме неуместны, следователь насупил брови и монотонным голосом стал зачитывать общую формулу обвинения, а затем показания прапорщика Ермоленко.
— Ложь! Мы не желаем слушать эту гнусную клевету! — возмутились матросы. — Вы, чего доброго, еще измышления Алексинского качнете читать?
— Спокойней, спокойней, господа, — повысил голос следователь. — Вы обязаны выслушать до конца.
Все остальное он читал скороговоркой, словно боясь, что его перебьют и не пожелают больше слушать. Закончив, снял пенсне и спросил:
— Какие у вас есть вопросы, возражения?
— У меня есть, — поднимаясь, сказал один из моряков. — Почему в ваших протоколах так много нелепостей? Свидетель контрразведки утверждает, что он собственными ушами слышал старика Зиновьева. А Зиновьев, кстати говоря, никакой не старик, ему всего тридцать три года. И никогда его не звали Георгием. Все имена у вас перепутаны: Луначарского, например, зовете Павлом, а он — Анатолий. Нельзя такую чепуху выдавать за серьезные обвинения.
Поднялся матрос с «Гангута».
— Не признаю прочитанного, — сказал он.
— Точно, — поддержали его другие матросы. — Грязновато работаете.
Обозленный следователь, видя, что с этими людьми не сговоришься, вызвал конвойных и приказал всех развести по камерам.
Опять потянулись длинные и нудные дни заключения. Раньше, когда в тюрьме сидело больше народу, как-то веселей и незаметней пролетало время. Интересно было слушать политические споры, узнавать новости, читать газеты, наводить с матросами чистоту в камере. Теперь не было надежды на быстрое освобождение, и все осточертело. Не хотелось ни разговаривать, ни прогуливаться по коридору. Василию невыносимыми стали голые нары, гнетущие серые стены и решетки на узких окнах.
Кормить стали еще хуже. В обед выдавалась только бурда, сваренная из затхлой солонины. Хорошо, что Катя догадывалась посылать в передачах лук, редиску и морковь, иначе путиловских парней одолела бы цинга.
«Откуда она берет деньги на передачи? — не раз думал Василий. — Наверное, сама голодает. Надо написать, чтобы больше не присылала, на нас не напасешься».
Но ему никак не удавалось переслать письмо.
Кате жилось нелегко. Мать с бабушкой лишь изредка находили поденную работу и с трудом зарабатывали на хлеб. Бабушка часто ездила в Дибуны и в лесу собирала бруснику, клюкву, грибы, чтобы хоть чем-нибудь подкормить семью.
А тут, как назло, домовладелец подал жалобу в суд. Катя была на работе, когда пришли судейские исполнители. Хозяин так напугал мать и бабушку, что те при нем же перенесли все вещи обратно в подвал.
Придя поздно вечером, Катя увидела на дверях пристанской квартиры наклейку и сургучную печать. «Обыск, что ли, был? — подумала она. — Не меня ли искали? Где же наши?»
Девушка осторожно спустилась в подвал. Мать и бабушка занимались уборкой, расставляя свою убогую мебель на старые места. Узнав о судейских чиновниках, Катя возмутилась:
— Что же вы меня не дождались? Он не имел права выселять без суда.
— А ну его! Все равно житья не будет, — ответила мать. — В очереди говорят, что все к старому идет. Лучше не связываться. Перезимуем и тут, не господа.
Тошно было устраиваться в сыром и затхлом подвале.
Узнав от Кати о новом переселении, тетя Феня рассердилась:
— Не буду больше в ваши дела вмешиваться. Старух не переделаешь, на всю жизнь рабыни.
А Гурьянов отнесся сочувственно.
— Не горюй, — сказал он. — Есть у меня на примете приличное жилье, только надо кой с кем поговорить.
Через день он отозвал Катю в дальний угол мастерской и спросил:
— Слыхала? Нашего Михаила Ивановича в председатели лесновской Думы выбрали.
— Да, мне девчата говорили. И вы ведь в подрайонную Думу попали?
— Собрал ваши голоса. Но там кроме нас еще кадеты и эсеры с меньшевиками. Хотелось бы в думском особнячке своих людей поселить. Как ты смотришь на то, чтобы перебраться туда с матерью и бабушкой? Мы тебе платную должность подберем, а они уборщицами будут.
— Я хоть завтра. Но вот как мои? Вы бы поговорили с ними.
Вечером Гурьянов зашел в подвал и как бы невзначай поинтересовался: не желают ли женщины получить службу с казенной квартирой?
Катина мать, подробно расспросив о работе, довольно быстро согласилась, а бабушка, вздохнув, отказалась:
— Перебирайтесь одни. Куда я от малых внучат уйду? Пропадут они без меня.
Алешиным пришлось переселиться в Лесной без бабушки. Им дали комнату с кухней в двухэтажном думском особняке, стоявшем среди высоких елок, тополей и кленов. Катя числилась комендантом здания и кассиром. Она занималась всем думским хозяйством и ездила в банк за жалованьем служащим, а ее мать убирала помещение.
Воздух в этой части города был чистым. По утрам девушка чувствовала себя отдохнувшей и бодрой.
Заморозки серебрили траву. Пожелтевшие листья медленно кружились и падали на землю. Приятно было пройтись по шуршащим дорожкам и вдыхать бодрящую осеннюю прохладу.
Встретиться с Васей ей больше не удавалось, а переписываться стало рискованно: если бы тюремщики обнаружили хоть одну записку в передачах, Катя подвела бы Красный Крест и лишила бы других заключенных помощи.
В начале октября, когда над Петроградом нависло серое небо и Холодные, пронизывающие ветры нагнали с моря туманы и промозглую сырость, тетя Феня вдруг передала Кате газету, в которой было напечатано воззвание узников, сидящих в «Крестах».
«Мы ждали долго! Нас, как и вас, товарищи, успокаивали сказками, говоря, что дела скоро будут рассмотрены и невиновные выпущены. Но это была ложь. Прошли месяцы, а мы по-прежнему в «Крестах».
Арестовали нас в июле. Юнкера и офицеры издевались над нами в Главном штабе. Об этом мы еще расскажем, когда выйдем на волю.
Потом начались пытки моральные. При поддержке эсеров и меньшевиков буржуазия, возглавляемая Керенским, начала обливать нас бесконечно гнусным потоком грязной клеветы, обвиняя в предательстве, в государственной измене, сообщничестве с германским штабом, в контрреволюционных действиях.
Но налетел шквал корниловщины, и сразу все разоблачено. Когда большевистские полки остановили под Ригой неприятеля и восстановили фронт, открытый генералами, стало ясно всем, что не большевики содействуют германскому штабу, а буржуазия и наши штабы предают народ для того, чтобы, свалив свое предательство на большевиков, раздавить их и утвердить свое господство над трудящимися.
Довольно! Пора положить предел бесстыдству.
Мы долго ждали.
Довольно! К голодовке!
Если к вечеру понедельника 9 октября мы не будем освобождены, то начнем голодать и не прекратим, пока не выйдем из тюрьмы все».
— Зачем же они это делают? — воскликнула Катя. — Ведь истощат и погубят себя. И Вася упрямый, он скорей умрет, чем сдастся.
Тюремщики берегли дрова для себя, поэтому камеры не отапливались. От каменных стен веяло сыростью и холодом.
Узники тридцать восьмой камеры, арестованные в жаркую летнюю пору, теплой одежды не имели. Чтобы как-нибудь согреться, они лежали на двух матрацах, тесно прижавшись друг к другу, а двумя матрацами укрывались, стараясь поменьше шевелиться.
Шли третьи сутки голодовки. Сосущая, ноющая боль в желудке не давала покоя ни днем ни ночью. А тут еще стала мучить жажда, так как воду голодавшие берегли: разделив ее по кружкам, они пили по два глотка в часы завтрака, обеда, ужина.
Кокорев лежал в полузабытьи между Иустином Тарутиным и Ваней Лютиковым. Ему почему-то казалось, что он плывет по мутной речке Екатерингофке на слегка покачивающейся лодке, а серое небо сеет мелкий осенний дождик, от которого вся одежда напиталась тяжелой сыростью.
«Не попить ли воды? — думал он. — Нет, здесь она грязная, заболеешь. Надо выбраться на Неву, на взморье».
Юноша ждал, что сквозь низко нависшие тучи вот-вот пробьется солнце, покажется синева неба, станет теплей. Он соберет силы, перешагнет через борт, выбежит на берег залива, упадет на горячий песок и начнет сгребать его под себя… Как он соскучился по солнцу, по теплу! Неужели холод заполнит все его тело? Он окоченеет, мысли оборвутся… Что же будет с Катей, с бабушкой? Нет, надо сопротивляться. Но как? «Июльцы» дали слово: «Свобода или смерть». Не брать же его назад? У них хватит характера. Голодовка не прекратится, пока всех не выпустят.
Василий шевельнул плечом и открыл глаза. Невольным толчком он, видимо, прервал мысли Тарутина, потому что тот вдруг заговорил:
— Я вот лежу и думаю: для чего мы под пулями шли, власти Советам требовали, а те, кто заседает в Советах, нас чуть из пушек не расстреляли?
— Это делали не Советы, а подлецы, захватившие власть, — возразил Василий. — Из президиума Петросовета меньшевиков уже выгнали…
— А какая мне радость от этого? Для чего я страдаю, спрашивается? Стоит ли овчинка выделки?
— Стоит. Тысячи людей во все времена боролись за народ и не боялись смерти, верили в будущее…
— А я, живой матрос, Иустин Тарутин, желаю насладиться свободой при жизни!
— Стерпи. Собери все силы… Иначе не добьемся свободы.
Тарутин умолк. Василий опять закрыл глаза. Сосущая — боль внутри не унималась. Казалось, что какая-то жесткая рука сдавливала желудок. Чтобы отвлечься от этой непрестанной боли, Василий начал думать о Кате. Камера, словно лодка, раскачивалась и плыла. Вскоре юноша потерял всякое представление о месте и времени.
Он очнулся от грубого выкрика:
— Эй, Кокорев, Лютиков и Шурыгин! Собирайте свое барахло и — в канцелярию!
— Зачем?
— Выпускают вас троих, следствие прекращено, — сообщил надзиратель.
— А остальных?
— Больше ни о ком не говорено.
— Мы одни не выйдем. Будем голодать, пока всех не выпустят.
— Значит, отказываетесь?
С какой бы радостью Василий остановил бы его и сказал: «Нет, подождите, мы сейчас соберемся». И сердце выстукивало: «За этими стенами свобода, солнце… ты увидишь Катю». Но разве мог он изменить клятве? Видя, как у Лютикова что-то дрогнуло в глазах, что он не выдержит испытания и закричит о своем желании выйти на волю, Василий поспешил отрезать пути отступления.
— Мы не предатели, — сказал он. — Скажите: путиловцы отказываются.
Надзиратель неодобрительно покачал головой и ушел. Оставшиеся молча смотрели на Кокорева: Тарутин с явным восхищением, а Лютиков и Шурыгин недоумевая: «Неужели ты способен еще голодать? Нас же выпускают! Следствие прекращено, мы невиновны!» Но вслух они не решились признаться в своей слабости.
— Ребята, вы, наверное, сердитесь, что я за себя и за вас отказался? Но мы же не можем подводить других. Это же было бы подлостью!
— Кто тебе что говорит? Сказал, и ладно, — пробормотал Шурыгин.
А Лютиков тяжело вздохнул. Они опять улеглись на нары и закрыли глаза. Тарутин, нащупав Васину руку, крепко пожал ее.
— Эх и чудесный же вы, путиловцы, народ!
Не прошло и получаса, как в камере появился рассерженный начальник тюрьмы. Он был не один, с ним пришли надзиратель и пятеро казаков, вооруженных карабинами.
— Кто здесь отказывается покинуть тюрьму? — спросил Васкевич.
— Мы, — ответил за всех Кокорев.
— Прошу покинуть камеру! Я не имею права держать посторонних.
— Мы не посторонние. Мы политические заключенные.
— С сегодняшнего дня вы уже не числитесь на довольствии. Посему ваша голодовка недействительна.
— Все равно одни мы не уйдем.
— Это что же — бунт? Да я вас в карцере сгною… Могу на месте расстрелять. Вон из камеры!
Парни не шелохнулись. Они с презрением смотрели на раскричавшегося прапорщика. Упорство путиловцев привело Васкевича в бешенство. Он вдруг затрясся, изменился в лице и начал отдавать казакам команды.
Казаки щелкнули затворами, вскинули винтовки и взяли на прицел.
— Считаю до трех! — каким-то петушиным, не своим голосом выкрикивал Васкевич. — Раз!..
Иустин Тарутин, исподлобья наблюдавший за происходящим, чутьем понял, что если он сейчас не вмешается, то произойдет непоправимое. Начальник тюрьмы был в таком взвинченном состоянии, что мог выкрикнуть и слово «пли!». Его надо было остановить.
— Два!.. — резко поднимаясь, скомандовал матрос. — Дайте я этому психу по морде съезжу. А вы что в людей целитесь?! — прикрикнул он на казаков. — Отставить!
Растерявшиеся казаки не знали, как им быть. Одни опустили карабины, другие держали наизготовку. Задохнувшийся от ярости Васкевич не способен был подать команду. Он, словно рыба, вытащенная на сушу, беззвучно открывал и закрывал рот.
Иустин поспешно спустился с нар, подошел к начальнику тюрьмы и коротким движением звонко хлестнул его ладонью по щеке. Васкевич поднял локоть и попятился. Матрос больше его не трогал. Брезгливо вытерев руку о фланельку, он, как бы оправдываясь перед товарищами, сказал:
— Так в шахте психов успокаивают, тех, кто при обвалах теряет рассудок.
Васкевич вдруг как-то по-бабьи запричитал:
— Что со мной делают, подлецы! Всю душу изорвали! Всех в карцер… до одного!
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
В зашифрованной записке Владимир Ильич попросил жену ускорить подготовку конспиративной квартиры, о которой бы никто не знал.
Надежда Константиновна надумала поселить его у своей хорошей знакомой — Маргариты Васильевны Фофановой. Вместе они создавали на Выборгской стороне школы для неграмотных рабочих, а когда задерживались допоздна, Маргарита Васильевна говорила:
— Нельзя же ночью идти пешком на Петроградскую сторону, переночуйте у меня, квартира ведь пустует.
У Маргариты Васильевны хорошо можно было отдохнуть и поработать в тишине. Кроме того, фофановская квартира была удобна тем, что находилась вблизи от станции Ланская. Если Владимир Ильич приедет, то доберется за три-четыре минуты. Но как к его приезду отнесется хозяйка?
Надежда Константиновна намекнула, что Ильича устроила бы фофановская квартира, но можно ли на нее рассчитывать?
— Ну конечно, какие могут быть разговоры, — просто ответила Маргарита Васильевна.
Она только не знала, как ей быть с ребятами. Дочь Галя училась в коммерческом училище, а Сережу в этом году следовало отвести в школу, в первый класс. Годится ли держать детей в квартире, где будет скрываться подпольщик?
— Может, их временно поселить у тетушки? — спросила Фофанова.
— Нет, — сказала Надежда Константиновна. — Не сочтите меня жестокой, но ребят нельзя оставлять в городе. Если здесь поселится Владимир Ильич, предстоит напряженная, связанная с большим риском работа, а дети, конечно, будут мешать.
Маргарита Васильевна решила отправить ребят к своим родителям в Уфимскую губернию. Там им будет лучше, в Питере уже становится голодно.
Женщины прошлись по комнатам, обдумывая: в какую же поместить Владимира Ильича? Самой подходящей оказалась спальня. Она была светлой и находилась в конце узкого коридора.
Получив запасные ключи от квартиры, Надежда Константиновна решила, что Ильичу лучше сойти с поезда не на Ланской, где всегда людно, а на Удельной. Она специально прошла пешком весь маршрут, запоминая переулки, приметные дома и заборы.
Прошла неделя, вторая, а Ленин с Крупской не показывались.
«Видно, нашли другое пристанище», — подумала Фофанова.
Обычно у нее по пятницам собирались преподаватели рабочих школ и устраивали нечто похожее на педагогический совет. Дважды Маргарита Васильевна откладывала заседания, но в третью пятницу, полагая, что Владимир Ильич не появится, назначила коллегам встречу.
И вот, когда в столовой шло шумное обсуждение школьных дел, кто-то ключом открыл дверь и, не задерживаясь в передней, быстрым шагом прошел по коридору.
«Он!» — догадалась Маргарита Васильевна. Она выглянула в коридор, освещенный тусклым ночником, и увидела человека в шляпе с поднятым воротником. Ни слова не говоря, он метнул взгляд в столовую. Фофанова моментально прикрыла дверь. В полумгле она разглядела и Крупскую. Надежда Константиновна, услышав голоса в столовой, с укоризной покачала головой и прошла за Ильичем.
«Что же я наделала! Как быть? — растерялась Маргарита Васильевна. — Надо скорей спровадить гостей».
Вернувшись в столовую, она сказала, что неожиданно приехали родственники и ей теперь придется заняться ими.
Видя ее озабоченность, учителя заспешили домой.
— Безусловно… конечно, — говорили они, поднимаясь. — О других делах мы поговорим в следующий раз.
Проводив всех, Маргарита Васильевна, огорченная своей оплошностью, прошла на кухню приготовить ужин. Вскоре туда явилась и Надежда Константиновна.
— Что же вы, милая, так подвели? — с укоризной сказала она. — Володя успел разглядеть в столовой очень болтливую женщину. Она была эмигранткой в Париже, могла узнать его.
Видя, что Фофанова и без ее укоров расстроена, она принялась успокаивать ее:
— Ну что вы, не огорчайтесь, вина и на мне. Следовало прийти и предупредить, а я боялась опоздать к поезду. Поэтому так все и случилось. И чаю не надо. Володя страшно устал, сразу лег. У него одна просьба: утром достать свежие газеты, какие только будут.
На другой день рано утром Фофанова купила несколько газет, добыла ситного и, вернувшись домой, приготовила завтрак.
Владимир Ильич и Надежда Константиновна в столовую вошли вместе. Крупская, улыбаясь, сказала:
— А теперь знакомьтесь по-настоящему. Это Владимир Ильич.
Ленин был без усов, в седом парике. Пожимая руку, он шутливо поправил Надежду Константиновну:
— Вот и неверно. Вовсе не Владимир Ильич, а рабочий Сестрорецкого завода Константин Петрович Иванов. Прошу запомнить и по-иному не называть.
За завтраком Фофанова спросила: как Ильич привык питаться, какие будут требования?
— Никаких! — ответил он. — Ем, что дадут.
Позавтракав, Владимир Ильич заинтересовался расположением квартиры и соседями.
Квартира Фофановой находилась на четвертом этаже, выше был чердак. Слева и справа жили довольно скромные люди, но в одной семье, этажом ниже, был шестнадцатилетний парень, который нигде не учился, связался с такими же шалопаями и часто бездельничал дома. Днем, когда все на работе, он мог расслышать, что у Фофановой кто-то ходит.
— Тебе, Володя, придется отвыкать от привычки расхаживать из угла в угол, — сказала Надежда Константиновна. — К тому же при этом ты любишь бубнить какой-нибудь мотив, а тут нельзя. И ботинок не надевай — нижние соседи шаги услышат.
В окно виднелась высокая насыпь железной дороги, небольшой пруд в низине, клетки птичьего питомника и осыпающиеся деревья старого парка.
Ильич вышел на балкон и посмотрел, где проходят водосточные трубы. Ближняя была у левого окна в столовой.
— Это окно, прошу вас, не замазывайте на зиму, — попросил он Фофанову. — Черного хода у вас нет, а мне, может быть, придется разок спуститься и не по парадной лестнице. Кстати, нельзя ли в заборе раздвинуть две доски, устроить лаз? Там, кажется, птичий питомник?
— Да, держат каких-то особых гусей и породистых кур.
— Значит, удирать придется под гусиный гогот? Ничего, они и нас предупредят, если шпики вздумают окружить.
Тут же они условились: дверей по звонку не открывать, а делать это только после условленного стука.
Надежда Константиновна, чтобы не навести шпиков на след, продолжала жить на Петроградской стороне. Кроме нее условленный стук в квартиру Фофановой знали только сестра Ильича Мария и Эйно Рахья.
Днем хозяйка квартиры уходила на работу в издательство и не возвращалась до вечера. Весь день Ильич был в одиночестве. Он ходил по квартире в мягких тапочках, сам на примусе подогревал суп, жарил яичницу, колбасу, кипятил воду и старался как можно меньше производить шума.
На свежем воздухе ему удавалось бывать только по вечерам. В темноте он выходил на балкончик, прижимался к стенке и, дыша полной грудью, всматривался в манящие огни железной дороги, вслушивался в неумолчный шум города.
• Порой с большой высоты доносились голоса птиц, летевших на юг. Им отзывались на зов гуси, находившиеся в питомнике. В такие минуты хотелось спуститься вниз, пройтись по рабочей окраине, выйти к Неве и побывать в центре города. Но он сдерживал себя. Глупо было бы в столь важный для революции момент попасть в руки ищеек Керенского.
Квартиру Фофановой Владимир Ильич покидал только для очень важных встреч. Ходил не один, а с Эйно Рахьей, которого партия обязала охранять Ленина.
На десятое октября было Назначено тайное заседание Центрального Комитета. Вечером за Владимиром Ильичем зашел молчаливый Эйно и они вместе отправились по окраинным улицам к речке Кар. повке. Там на набережной, в доме против женского монастыря, находилась конспиративная квартира, подготовленная Яковом Свердловым.
Приходивших встречала хозяйка квартиры — большевичка Суханова — и, удостоверившись, что это свои, пропускал в комнату с занавешенными окнами.
Некоторые члены Центрального Комитета впервые после июльских дней видели Владимира Ильича, безбородого, в седеньком парике. На радостях они крепко жали ему руку.
Каменев тоже кинулся было приветствовать Ленина, но осекся. Владимир Ильич был сух с ним. Не ответив на его вопрос о здоровье, он повернулся к Свердлову и, пожимая тому руку, не без укоризны спросил:
— Яков Михайлович, что ж это вы, а?.. Уничтожили копии моих писем.
— Каюсь, Владимир Ильич, чрезмерно дисциплинирован… выполнял решение большинства, хотя голосовал против, — ответил Свердлов, глядя сквозь пенсне прямо в глаза. Отведя Ильича к окну и несколько понизив голос, он добавил: — По секрету могу сообщить: с содержанием ваших писем все же знакомы крупнейшие организации. И подготовка к восстанию идет…
— Если так, снимаю обвинение, — с улыбкой сказал Ильич, — спасибо.
Владимир Ильич подошел к Коллонтай. Она была очень бледной.
— Слышал, вы, Александра Михайловна, болели?
— Да, в тюрьме расхворалась. Вызволили Горький и Красин. Внесли залог в пять тысяч рублей. Но Керенский держал меня под домашним арестом. Солнца не видела. На улице не была.
Последним пришел Феликс Дзержинский. Всего собралось двенадцать человек.
Свердлов доложил о положении на фронтах. Его внимание привлекли странный отвод войск на Северном фронте и подозрительные переговоры Ставки со штабом фронта. К Минску стягивались казачьи части, видимо для разоружения солдат, настроенных по-большевистски. Там достаточно одной искры — и вспыхнет восстание. Надо это учитывать.
Слово по текущему моменту было предоставлено Ленину.
Владимир Ильич не напоминал о своих сентябрьских письмах. К чему ворошить прошедшее? Не время для обид и упреков. Но он все же отметил недопустимое равнодушие к подготовке восстания.
— На нас, руководителей партии, революция возложила большую ответственность, — оказал Ленин. — Всякое промедление смерти подобно. К решительным действиям призывает и международная солидарность. Всемирная революция нарастает. Взрыв возмущения чехов подавлен с невероятным зверством…
Он рассказал о кровавой расправе в Чехии и Моравии с голодными людьми. В Италии нехватка макарон и мяса вызвала гнев рабочих. В Турине бастовало более сорока тысяч. Но разительнее всего бунты на военных кораблях в германском флоте.
В морской крепости Вильгельмсгафен в сентябре восстали матросы четырех броненосцев. Они выбросили за борт офицеров и высадились на берег. Моряки с других кораблей отказались атаковать восставших, их усмиряли пехотинцы. Матросы броненосца «Нюренберг» повели свой корабль в Норвегию, но, окруженные миноносцами, вынуждены были сдаться.
— Подумайте, в каком положении оказываемся мы теперь перед немецкими революционерами, — продолжал Ленин. — Они могут сказать нам: мы имеем одного Либкнехта, который открыто призвал к революции. Его голос задавлен каторжной тюрьмой. У нас нет ни одной газеты, нет свободы собраний. У нас нет ни одного Совета рабочих и солдатских депутатов. И мы все же сделали попытку восстать, имея всего лишь один шанс из сотни. А вы, русские, выпускающие свои газеты, победившие в Советах обеих столиц, уверенные в поддержке Балтийского флота и войск Северного фронта, не отвечаете на наш призыв, не свергаете вашего Керенского, имея девяносто девять победных шансов.
Да, мы будем настоящими изменниками Интернационала, если в такой момент, при таких благоприятных условиях ответим только… резолюциями, — говорил Ильич. — Добавьте к этому — мы все прекрасно знаем о сговоре империалистов против русской революции, знаем, что они хотят задушит ее общими усилиями, и… почти ничего не предпринимаем. Это особенно опасно. Я бы сказал, преступно с нашей стороны медлить с восстанием!
Керенский и корниловцы готовы сдать Питер немцам. Для спасения Питера необходимо свергнуть Керенского. Только немедленное движение Балтийского флота, войск, находящихся в Финляндии, в Ревеле и Кронштадте, способно спасти русскую и всемирную революцию.
По всей стране крестьяне берутся за топоры и вилы, добывают винтовки и идут на помещиков. Кадеты и всякие прихвостни умаляют значение этого движения, пишут о «мелких стычках», «бунтах», «анархизме», а на самом деле — разгорается крестьянское восстание…
Владимир Ильич и в подполье изучал жизнь: он приводил столь поражающие факты настроений на фронте и в тылу, что Свердлов невольно взглянул на Каменева. Тот сидел рядом с Зиновьевым и слушал Ленина со снисходительной ухмылкой: «Зря-де стараешься, все равно мы разобьем твои умозаключения и оставим в силе старое решение».
— Мне известно, что в партии… и даже среди членов Центрального Комитета существует течение, или, скажем, мнение, против немедленного восстания и взятия власти. Некоторые товарищи предлагают подождать: одни— Учредительного собрания, другие — съезда Советов. А задумываются ли эти товарищи над тем, что лозунг «Вся власть Советам» — сейчас призыв к восстанию? Кто употребляет его, не сознавая этого, пусть пеняет на себя. Наша нерешительность похожа на измену пролетарскому делу. Неужели мы, имеющие большинство в Петроградском и Московском советах, подведем крестьян: позволим залить кровью пламя восстаний в деревнях? А что мы скажем немецким товарищам?
Не слыша ответа, Ленин заключил:
— Будем опозорены на века! Честь партии большевиков под вопросом. Все будущее русской революции поставлено на карту. И еще могу с твердым убеждением сказать: ждать съезда Советов — идиотизм. — Это значит пропустить недели. А теперь недели и даже дни решают все. Если мы сейчас трусливо отречемся от власти, то в ноябре ее уже не возьмем. Ко дню глуповато назначенного выступления корниловцы соберут силы и прихлопнут всех, кто прибудет на съезд. А если мы сейчас начнем подготовку, то можем внезапно ударить из нескольких пунктов. Мы имеем лозунги, обеспечивающие поддержку масс. Никто не пойдет против правительства, давшего мир, землю, свободу…
Вывод Ленина был ясен: восстание неизбежно и вполне назрело. Ждать больше нельзя, враг может опередить. Надо воспользоваться моментом, когда войска противника разбросаны. Восстание может начаться в Москве, в Минске, в Гельсингфорсе, но решающий бой надо дать в Питере — политическом центре страны.
С возражениями первым выступил Каменев. Он стремился убедить собравшихся, что Ленин неверно оценивает международную и внутреннюю обстановку.
— Она неблагоприятна для нас, — уверял он, потрясая поднятыми руками. — Пролетариат Франции и Англии не поддержит нас, а немецкие моряки подавлены. Мы будем изолированы, а империалисты пойдут на сговор против революции и, объединясь, обрушат на нас всю свою мощь…
Каменев подкреплял слова старыми примерами, повторял то, что говорил в сентябре. Чувствовалось, что он не очень-то разбирается в событиях последних дней.
Зиновьев, попытавшийся поддержать его, говорил тускло и как-то по-торгашески мелочно:
— Буржуазия не осмелится больше откладывать Учредительное собрание, она его соберет. У нас будет треть мест, — уверял он. — Мелкая буржуазия заметно склоняется в нашу сторону. Вместе с левыми эсерами мы составим правящий блок. Нам надо занять оборонительную позицию.
Другие члены ЦК не согласились с их доводами и проголосовали за ленинскую резолюцию. Против поднялось только две руки — Каменева и Зиновьева.
По предложению Дзержинского было выбрано Политическое бюро для подготовки восстания. Все условились, что его возглавит Ленин.
После голосования Владимир Ильич подошел к Зиновьеву.
— Григорий Евсеевич, что с вами творится? — обеспокоенно спросил он. — Почему вы решили поддерживать Каменева?
— Это мое собственное мнение! — вдруг тонким, раздраженным голосом стал возражать тот. — Я так не оставлю… Мы обратимся с письмом ко всем партийным организациям… не позволим ставить на карту судьбу партии и революции!
— Я бы вам не советовал нарушать партийную дисциплину, — негромко сказал ему Ленин. — Возьмите себя в руки. Как не стыдно! Нельзя же так распускаться!
Больше они ни о чем не говорили. Владимир Ильич повернулся к окну, отодвинул краешек занавески и взглянул на улицу.
У ворот женского монастыря, покачиваясь, тускло светил фонарь. Темная вода Карповки пузырилась и, казалось, кипела от крупных капель сильного дождя.
— Взгляните, какая погода! — воскликнул Ильич и в досаде невольно признался: —А я не сообразил захватить пальто.
Зная, что Ленину придется проделать немалый путь, Дзержинский снял с вешалки свой непромокаемый плащ и накинул ему на плечи. Владимир Ильич начал было отказываться, но Дзержинский настоял на своем:
— Никаких отговорок! Извольте надеть, иначе я вас не выпущу.
Идти пешком до Ланской было далеко, а дождь все хлестал и хлестал. Рахья предложил переночевать у него — он жил в Певческом переулке. Владимир Ильич согласился.
Мокрые, они вошли в небольшую комнату, где Люли и ее брат Эдвард уже спали. Ленин не позволил Рахье будить жену. Развесив плащи, они устроили постель на полу и, положив под головы пачки книг, улеглись отдыхать.
Эдвард должен был уходить на работу рано утром. Люли проснулась первая. Стараясь не разбудить гостя, она на цыпочках прошла в кухню, приготовила чай, напоила брата и, когда тот ушел, начала собираться сама на службу.
Минут через пять Эдвард вернулся с побледневшим лицом.
— Дом оцеплен шпиками, — шепнул он. — Ходят с собаками.
Люли моментально разбудила мужа и Владимира Ильича.
Встревоженный Рахья посоветовал Ленину пройти с Эдвардом на площадку черной лестницы и там подождать, а сам отправился вниз на разведку.
Ходил он недолго и вернулся веселым.
— Зря переполошились, — сказал он. — Это в соседнем доме каких-то грабителей ищут.
Досыпать уже не ложились, пора было собираться в путь. В потоке рабочих, спешивших на заводы, они могли пройти безопасно.
НОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Из тюрьмы Василий добрался до Чугунного переулка. Он так устал за день, что в глазах все туманилось, а ноги с трудом передвигались. У юноши не хватило сил подняться на высокое крыльцо своего дома, и он опустился на ступеньку.
Игнатьевна, возвращавшаяся от колодца, наткнулась на зябко ссутулившегося человека, сидевшего с непокрытой головой. Решив, что на крыльце примостился какой-то подвыпивший мастеровой, она тронула его за плечо и посоветовала:
— Вставай, вставай, милый! Нечего здесь… Остынешь.
А когда парень, услышав ее голос, медленно поднял голову, старушка обомлела.
— Васек? Ой, горюшко мое!
Игнатьевна засуетилась, поставила ведро, помогла Василию подняться и, поддерживая, повела в дом. В своей каморке, при свете пятилинейной лампы, она еще раз вгляделась в него и поняла, что он не пьян, а от истощения и слабости едва держится на ногах.
— Что же они с тобой сделали, проклятые!
Бабушка прильнула к его груди. Василию показалось, что она стала маленькой, сгорбленной.
— Наголодался я… три дня не ел.
— Чего же я, дура старая, стою, — спохватилась Игнатьевна. — У меня же уха свежая, разогреть только.
И она кинулась разжигать керосинку. Василий уселся на топчан и здесь, в домашнем тепле, почувствовал, как он продрог. Стало клонить ко сну.
— Ложись-ка ты, дружок. Вот ведь как иззяб!
Игнатьевна помогла ему снять ботинки, раздеться, уложила на топчан и укрыла ватным одеялом.
В постели Василия стало так трясти, что он не мог сомкнуть зубы, они мелко стучали. Потом дрожь унялась и наступило странное забытье: он все слышал, понимал, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.
Юноша очнулся лишь от приятной теплоты, растекавшейся внутри. Бабушка, приподняв его, поила с ложки, как в раннем детстве.
— Не надо, бабушка, я сам, — слабо запротестовал он.
Но Игнатьевна не слушала внука. Накормив крепким рыбным отваром, она сняла с него рубашку, натерла грудь и спину скипидаром и опять уложила в постель.
От горячей ухи и растираний Василий словно опьянел: на исхудавшем лице появился румянец, глаза заблестели.
— Ну вот, отходить начал, — обрадовалась Игнатьевна. — А то белей полотна пришел.
Наступило блаженное состояние покоя и тепла. До чего ж хорошо сознавать, что ты дома, что тюрьма позади и завтра увидишься с Демой, с Катей и Савелием Матвеевичем! Снова вольная птица! Но как там Иустин и товарищи? Они же просили пойти на съезд. Надо немедля одеваться.
Василий поднялся, взял брюки и спросил:
— Бабушка, куда вы ботинки дели?
— Господи, царица небесная! Никак, уходить собрался?
— Надо. Там умирают товарищи.
— Да ты сам еле языком ворочаешь. До трамвая не доберешься. Хоть Дему-то дождись. Они тут с твоим матросом переодевались… обещал скоро вернуться.
— С каким матросом?
— Андреем, что ли, звать. Про вашу жисть тюремную рассказывал.
— A-а, Проняков, наверное. Это хорошо, что он здесь, я его и попрошу пойти.
Василий опять улегся и, закрыв глаза, стал думать, что же еще нужно сделать для спасения оставшихся в тюрьме.
Вскоре на крыльце послышался топот тяжелых сапог. Дверь в каморку распахнулась, и на пороге показались Дементий, а. за ним — Андрей Проняков. Вид они имели необычный: на Деме неуклюже топорщилась солдатская шинель, на макушке едва держалась фуражка с лихо заломленным верхом, а моряк, словно для парада, был затянут ремнями портупеи и придерживал палаш, висевший на боку.
— Бабушка, разогрей уху! — еще с порога весело сказал Дементий. — Смерть есть охота!
Но тут Рыкунов увидел лежавшего на топчане Василия.
— А ты откуда взялся? — изумился он. — Из тюрьмы выпустили? Вовремя!
Здоровяк сгреб Васю в объятия и так принялся тискать и мять, что Игнатьевна переполошилась:
— Отпусти ты парня, медведь! Все косточки переломаешь. И так чуть живым пришел.
— Ничего, мы его откормим.
На топчан подсел и Андрей.
— Ну как там Иустин?
— Голодать остался. И в карцер, видно, попал. А другие просили на Северном съезде выступить. Я вот ослаб. Не смог бы ты пойти и выступить?
— Какой может быть разговор! Пойду, конечно. Там мой лучший друг погибает, а я молчать буду? — Моряк решительно поднялся. — Пошли, Дементий.
— Нет, вы сперва ухи отведайте, — задержала их Игнатьевна. — Зря, что ли, я ее разогревала?
Старушка заставила Дементия и моряка снять шинели, поставила перед ними миски, наполненные ухой.
— Ешьте на здоровье.
За едой Дементий рассказал о поездке в «Марьину рощу».
— Эх, жаль, тебя, Вася, с нами не было! Ловко мы их облапошили. Трудовикам и эсерам из Петропавловки оружие против Корнилова выдали: больше двух сотен карабинов. Они сложили их в трактире и хранят. А мы разнюхали и давай соображать — как реквизировать. У нас инструктор по военному делу, ты, наверное, знаешь, Гиль его фамилия. Он и говорит: «Давайте я офицером из Петропавловки прикинусь, только найдите мне помощников». Я и попросил Андрея. Сегодня мы нарядились, взяли грузовичок и поехали к «Марьиной роще». Гиль с Андреем в трактир пошли, а мы, как солдаты, команды ждем…
— Входим мы с этаким важным видом, — подхватил рассказ моряк, — козыряем и спрашиваем: «Разрешите посмотреть, как у вас хранится оружие». Эсерчики засуетились. «Пожалте», — говорят и ведут нас в какой-то каземат. Карабины там черт те знает как сложены! Я беру один в руки, Гиль второй… Снимаем затворы, заглядываем в стволы, цокаем языком и головами покачиваем: «Э-э, за такое содержание оружия на флоте в момент под суд бы!» Гиль тоже шумит: «Грязь, ржавчина… все карабины погибнут!» Эсеры давай оправдываться: «Сырость, мол, плохое смазочное масло». А мы непреклонны: «Понимаем-де, сочувствуем, но не имеем права нарушить приказ командующего… Карабины придется забрать в хранилище Петропавловской крепости». «Единственное, что я могу пообещать, — говорит Гиль, — это числить карабины за вами. Я дам расписку, и вы получите их по первому требованию». Он уселся за столик писать расписку, а я мигнул солдатам, чтобы они живенько перенесли оружие в машину. Эсеры и очухаться не успели, как мы им ручки пожимаем… Щелк-щелк каблуками — и к автомобилю. Шофер ручку крутанул, завел мотор — и наше почтение!
— Двести семь штук карабинов! — вставил Дементий. — На целую роту хватит.
В райкоме Катя узнала от тети Фени, что по требованию съезда Советов северных губерний голодовка в «Крестах» прекращена. Это обрадовало девушку, но, подсчитав, сколько дней прошло, она ужаснулась:
— Больше недели! Они, наверное, с нар подняться не могут?
— Лежат все, — подтвердила тетя Феня. — Подкормить бы надо. Узнала бы у себя в управе — не выделят ли Красному Кресту хоть немного продуктов? Люди за всех страдали, пусть сил наберутся. Ведь скоро их освободим. — И она шепнула на ухо — Ленин письмо прислал на съезд. Призывает к восстанию. Пишет, что медлить больше нельзя…
Катя пошла к председателю лесновской Думы Михаилу Ивановичу Калинину и передала ему просьбу Красного Креста. Тот выслушал ее, потеребил бородку и сказал:
— Много не обещаю, но кое-что дадим. Скажи Гурьянову, чтоб к концу дня заглянул ко мне. И сама никуда не уходи. Сегодня вечером очень важное заседание. Никто не должен знать про него. Так что будь начеку. Входных дверей не закрывай и вокруг поглядывай.
В четыре часа в леоновской Думе заканчивался прием посетителей. Так было и в этот день: в пятом часу все помещения опустели, только наверху поскрипывало кресло Михаила Ивановича.
Думский звонок был очень громким и мог привлечь внимание дворника. Чтобы приходящие не звонили, Катя закрепила защелку замка и, оставив дверь чуть приоткрытой, стала из окна поглядывать на аллею, идущую от ворот к главному подъезду.
Погода была по-осеннему пасмурной и дождливой. К вечеру поднялся ветер. С деревьев облетали последние листья. Они кружились и падали в лужицу у освещенного входа.
«Надо погасить лампочку, а то еще дворник полюбопытствует, зачем столько народу проходит», — подумала Катя.
Она выключила свет не только у входа, но и во всех комнатах первого этажа.
Сад сразу погрузился в темень.
Катя сидела в пустой прихожей и ждала. Ждала долго. Но вот наконец стукнула калитка. В аллее появились двое мужчин. Они шли уверенно — значит, свои.
Катя поднялась навстречу. Пришедшие спросили, как пройти к товарищу Калинину. Она негромко объяснила им.
Теперь через каждые пять минут в аллее, кто-нибудь появлялся. Одни шли от Лесной улицы, другие показывались со стороны Муринского проспекта. Стараясь не стучать тяжелыми, набухшими сапогами, они поднимались наверх и там снимали пальто и шинели.
Наверху уже собралось человек пятнадцать, и в это время, как назло, в кухню ввалился дворник. Старик любил вечерами покалякать с Катиной матерью. Его нужно было немедля выпроводить. Дворник мог сболтнуть кому-нибудь о ночном заседании в Думе.
К счастью, пришел Гурьянов. Оставив его у дверей, Катя поспешила в кухню. Дворник, не торопясь, набивал махоркой трубку. Он, видимо, намеревался просидеть здесь весь вечер. Попросив мать заняться стиркой, девушка начала растапливать плиту.
Старик, видя, что ему не с кем будет посудачить, сердито раскурил трубку и, кряхтя, поднялся с табуретки.
— Пойти спать, что ли? — ни к кому не обращаясь, сказал он.
В это время наверху задвигали стульями. Дворник прислушался.
— Чего это сегодня в Думе? — спросил он.
— А ну их, работать остались… Уходили бы скорей, а то опять придется ночью убирать, — с притворным недовольством проворчала Катя.
Она проводила старика до дверей и, убедившись, что он поплелся к себе, вернулась к главному подъезду. Дверь оказалась захлопнутой на замок. «Значит, все собрались», — решила она, и ей стало вдруг неспокойно.
На всякий случай она открыла в первом этаже окно, через которое товарищи могли бы выпрыгнуть в глухой угол сада и скрыться через забор в переулке.
Сверху послышался шум сдвигаемых стульев.
«Началось», — подумала Катя.
Осторожно обойдя комнаты нижнего этажа и еще раз убедившись, что там никого нет, она вернулась в кухню и поставила на плиту чайник.
В те дни настоящий чай был редкостью. Его берегли, но Катя на свой риск решила напоить чаем собравшихся товарищей. Она собрала все стаканы, их оказалось больше дюжины. Сахару у нее было лишь несколько кусочков. Девушка подсластила четыре стакана и на подносе понесла наверх.
Лестница скрипела, Катя старалась ступать как можно легче. Она прошла по темному коридору и остановилась у дверей. Из комнаты доносился чей-то бас:
— Оружия, правда, маловато, Владимир Ильич, но на нас можете рассчитывать, не подведем…
«Владимир Ильич!.. Ленин здесь, — обрадовалась девушка. — Значит, заседание действительно очень важное».
Она постояла немного. И как только выступавший кончил говорить, толкнула дверь и вошла.
В комнате было не очень светло. Горела лишь одна висячая лампа. Владимир Ильич устроился в дальнем углу за маленьким столиком. Вокруг него сидели и стояли товарищи. Все очень обрадовались, увидев на подносе стаканы с дымящимся чаем.
— Только без сахару, — виновато сказала Катя.
— Ничего, ничего, у нас свой есть, — ответило несколько голосов, и руки протянулись к подносу.
Когда Катя пришла со второй порцией чая, выступал Феликс Дзержинский. Девушка узнала его по особому разрезу глаз. Ей довелось его слышать на митинге, но тогда он был спокоен, а сегодня горячился, обвинял кого-то из присутствующих в капитулянтстве, в желании без конца отступать. Катя невольно подумала: не слышен ли его голос на улице! Она спустилась вниз, накинула на себя пальто, платок и вышла в сад.
С беззвездной вышины сыпалась ледяная крупа. Дорожка стала слякотной. Порывами дул ветер. Все заволокла такая темень, что в пяти шагах ничего нельзя было разглядеть.
Катя остановилась под окном и прислушалась. Сверху иногда доносились невнятные голоса, но о чем там говорили, она понять не могла.
Окна были хорошо завешены, только в одном месте через узенькую щелку проникала бледная полоска света. Катя, осторожно шагая, обошла вокруг дома.
Нигде никого. Даже сердитый сторожевой пес спал, забившись в свою конуру.
Катя решила оглядеть дом с улицы, вышла за калитку и пошла вдоль ограды. На углу она остановилась, прислушалась. Улица казалась вымершей, только на другой стороне мелькнула и будто прижалась к забору какая-то темная фигура. «Не Аверкин ли?» Кате сделалось страшно. Она чуть ли не бегом вернулась назад, захлопнула тяжелую, набухшую калитку и с колотящимся сердцем стала вслушиваться — не гонится ли кто за ней. И вдруг сверху до нее донесся громкий голос кого-то из заседавших. «Надо сказать, чтобы они были потише».
Катя поспешила в дом, поднялась по лестнице и распахнула дверь. Гурьянов увидел, что девушка не может выговорить слова, в тревоге спросил:
— Что случилось?
— Говорите не так громко, на улице слышно.
Сразу раздалось несколько голосов:
— Тише! Спокойней, товарищи.
Гурьянов вышел с Катей в коридор.
— Чего ты так перепугалась? — спросил он.
— Мне показалось, что на Муринском шпик.
— Пойдем посмотрим. Там наш патруль должен быть. Неужели прозевали?
Гурьянов накинул на себя пальто, надел шапку и вышел с Катей за калитку.
— Постой здесь, — сказал он, — я один пройдусь.
Минут через пять он вернулся.
— Свои, — успокоил он Катю. — Но ты все же поглядывай. Чуть что — вызывай меня.
— Хорошо, — шепнула она.
Вопрос о вооруженном восстании уже был решен, но люди не расходились. Они толпились в председательском кабинете, в коридоре и на лестницах.
Катя не думала о сне, она бродила вокруг дома, вслушивалась в вой ветра и всматривалась в темноту.
«Скоро начнет светать, — подумала девушка. — Не забыли ли они об этом?»
Она пошла разыскивать Ленина. Он стоял у окна, беседуя с кем-то из военных.
— Владимир Ильич, светает, — негромко напомнила девушка.
Ленин, как бы недоумевая, посмотрел на Катю, потом, поняв, о чем идет речь, устало провел рукой по глазам.
— В самом деле… кончаем, товарищи!
В полутемном коридоре Ленин надел на себя парик, широкополую шляпу и ушел вместе с Рахьей.
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Владимир Ильич вставал так же рано, как и Маргарита Васильевна. Пока хозяйка квартиры ходила за хлебом и газетами, он раскрывал окно и занимался гимнастикой.
Октябрьское утро было туманное и прохладное, Владимир Ильич все же распахнул настежь окно и проделал каждое упражнение по нескольку раз, затем, обнажась до пояса, ополоснулся холодной водой и растерся полотенцем.
Вчера вечером, встретясь с руководителями «военки» — Подвойским, Невским и Антоновым-Овсеенко, он поинтересовался: как идет подготовка к восстанию? можно ли рассчитывать на успех?
— Мало времени на подготовку, — пожаловался Подвойский. Он не очень был уверен, что в Петрограде большевики смогут собрать больше сил, чем противник.
Антонов-Овсеенко стал возражать ему. Особые надежды он возлагал на моряков Балтийского флота.
— Балтийцы настроены весьма решительно и определенно, — заверил Антонов-Овсеенко. — Неоценимую помощь, как это ни странно, оказал Керенский. Этот фигляр догадался в день немецкого наступления у Эзеля и Даго послать телеграмму, в которой сообщал, что наступил грозный час испытаний, и требовал: «Пора опомниться. Нужно прекратить вольно или невольно играть на руку врагу».
Антонов-Овсеенко оставил на память и текст телеграммы, и ответы моряков на нее. Владимир Ильич подошел к столу и, взяв листки, еще раз прочитал резолюцию Второго съезда Балтийского флота.
«Требовать от Центрального Исполнительного Комитета немедленного удаления из Временного правительства авантюриста Керенского, позорящего своими бесстыдными действиями и наглым политическим шантажом, в угоду буржуазии, Великую революцию.
Тебе же, продавшему революцию, Бонапарту-Керенскому шлем проклятие в тот момент, когда наши товарищи гибнут под пулями и снарядами и тонут в волнах Балтийского моря, призывая защищать революцию…»
А воззвание моряков к народам всего мира Ленин с удовольствием стал читать вслух:
— «Братья! В роковой час, когда звучит сигнал боя, сигнал смерти, мы возвышаем к Вам свой голос, мы посылаем Вам свой привет и предсмертное завещание. Атакованный превосходящими германскими силами, наш флот гибнет в неравной борьбе. Ни одно из наших судов не уклонится от боя, ни один моряк не сойдет побежденным на сушу. Оклеветанный, заклейменный флот исполнит свой долг перед Великой революцией. Мы обязались твердо держать фронт и оберегать подступы к Петрограду. Мы выполним свое обязательство. Мы выполняем его не по приказу какого-нибудь жалкого русского Бонапарта, царящего милостью долготерпения революции. Мы идем в бой не во имя исполнения договоров наших правителей с союзниками… Мы исполняем верховное веление революционного сознания.
Мы идем на смерть с именем Великой революции…»
— Великолепно! В балтийских моряках можно не сомневаться. Они будут ударной силой революции.
Чтобы представить себе соотношение сил, Владимир Ильич попросил подробней рассказать, на какие воинские части могут рассчитывать большевики. Подвойский, развернув карту, стал показывать, где расположены в городе полки, отдельные батальоны и сводные отряды, готовые выступить на стороне восставших.
— Это же силища! — воскликнул Владимир Ильич. — Только нам не следует основную ставку делать на военных. Солдаты солдатами, а в социалистической революции главная сила — пролетариат. Пусть питерские рабочие будут на решающих участках, сами берут власть, а потом отстаивают ее.
Подвойский стал рассказывать об отрядах Красной гвардии, и тут выяснилось, что он не очень хорошо знает, как подготовлены командиры.
— Ай-я-яй, вот так председатель военной организации! — невольно вырвалось у Ленина. — Как же вы будете руководить восстанием, если не уверены, умеют ли ваши командиры владеть оружием, знакомы ли с тактикой уличных боев. Восстание — острейший вид войны. Великое искусство! До мелочей все нужно выверить. Да, да.
Подвойский обиделся, снова заговорил о трудностях и спросил:
— Нельзя ли хоть на несколько дней отложить выступление?
— Ни в коем случае! Всякое промедление с нашей стороны поможет противнику подготовиться. А внезапность дает преимущество.
Вчетвером они еще раз выверили соотношение сил, наметили, какие красногвардейские отряды необходимо усилить опытными командирами и куда послать, для успеха дела, своих агитаторов и комиссаров.
Они просидели на квартире рабочего Павлова допоздна и разошлись, уверенные в успехе.
Хорошее настроение у Владимира Ильича не исчезло и утром. После того как хозяйка ушла на службу, он закрыл дверь на крюк и, сняв ботинки, остался в носках. С этого часа полагалось ходить бесшумно.
Он любил, когда в квартире наступала тишина и на свежую голову хорошо работалось. Начав писать давно продуманную статью, он не заметил, как пролетело время. Поднялся из-за стола, только когда послышался условленный стук в дверь. Так обычно стучала Надежда Константиновна.
Владимир Ильич поспешил в коридор и открыл дверь.
Надежда Константиновна выглядела усталой. Сняв пальто, она первым долгом спросила:
— Ты, конечно, еще не обедал?
— Собирался… но одному скучно. Посиди, отдохни, а я сейчас налажу примус. Надо только разогреть.
— Ладно уж, сама займусь. На вот, читай.
Отдав пачку свежих газет, Надежда Константиновна отправилась на кухню. Она пришла с недобрыми вестями и не решалась сразу выкладывать их. Пусть спокойно пообедает, а то еще от еды откажется.
Они вместе не спеша съели по тарелке разогретого супа, жареную колбасу с картофелем и стали пить чай. Надежда Константиновна как бы невзначай спросила:
— Ты, надеюсь, читал «Новую жизнь»?
— Нет, не добрался еще. Опять новожизненцы что-нибудь выкинули?
— Напечатали интервью Каменева, в котором этот… не могу даже подыскать названия… сообщает, что им совместно с Зиновьевым разослано по партийным организациям письмо с протестом против вооруженного восстания.
— Не может быть!
— Прочти сам.
Надежда Константиновна нашла «Новую жизнь» и подала ему. Владимир Ильич развернул газету и, найдя интервью Каменева, впился глазами в строчки.
По мере чтения лицо его сперва покраснело, затем кровь схлынула, и оно стало таким, каким бывало только в минуты большого волнения и возмущения.
— Неслыханно! Этому действительно нет названия, — бормотал он. — Впрочем, есть… Штрейкбрехерство… Измена!
Ленин сжал кулаки от негодования. Он ждал всего, по не предательства. И от кого? От соратников, членов Центрального Комитета! Теперь враг предупрежден, Керенский насторожится, восстание будет сорвано. Временное правительство, конечно, уже бьет тревогу и действует. Большевики поставлены в тяжелое положение. Надо немедля что-то предпринимать. Но что? Не писать же опровержение? Этим внесешь смуту и колебания.
— Ну и мерзавцы! Самый отъявленный враг этакое бы не придумал..
На последнем заседании Центрального Комитета с руководителями питерских партийных организаций Каменев и Зиновьев вели себя так, что их обоих нужно было немедля выгнать из партии, а их лишь предупредили, надеясь на порядочность. И вот результат: предатели выступили с нападками на Центральный Комитет в болтливой интеллигентской газетенке и выдали тайну.
А как они нагло держались на этом заседании! Сперва задавали каверзные вопросы: «Можно ли победить без почты и железных дорог? Сумеем ли дать хлеб повстанцам?» Потом обрушились с демагогическими нападками: «Подготовка пущена на самотек… с момента решения ЦК прошла неделя, а ничего еще не сделано, дали только возможность сорганизоваться противнику».
Они понимали, что такие обвинения невозможно опровергнуть. Не раскроешь же на расширенном заседании карты восстания и не расскажешь, что уже предпринято, какие силы будут собраны, как и где расставлены? Поэтому они изощрялись: один уверял, что борются две тактики— тактика заговора и тактика веры в движущие силы революции, а другой запугивал:
— Мы недостаточно сильны, чтобы уверенно идти на восстание. Вопрос должен решаться в первый же день, ибо начнется деморализация. На подкрепления из Финляндии и Кронштадта рассчитывать не приходится, а в Питере у нас недостаточно сил. У противника же огромный, четко действующий штаб…
— Партия не опрошена, — твердил Зиновьев. — Такие вопросы не решаются келейно. Нужно, не откладывая подготовительных шагов, запретить выступления с оружием впредь до совещания с большевистской частью съезда Советов.
Он уговаривал подождать хотя бы пять дней, а Каменева устраивала даже трехдневная отсрочка. Уже тогда, видно, был задуман подлый ход. Почувствовав, что они остаются в меньшинстве, трусы потребовали немедленно по телеграфу созвать пленум Центрального Комитета, а когда и это сорвалось, Каменев заявил, что он больше в ЦК не состоит.
Удобная позиция! В случае поражения есть возможность оправдаться: «Я-де был против восстания». А если победа, нетрудно будет доказать: «Простите, не учел… ошибся». Полностью обезопасил себя! Где же предел вероломства?
— С ними надо поступать так, как поступают рабочие во время стачки со штрейкбрехерами, — сказал Владимир Ильич. — Иначе предатели не только будут разлагать других, но и сорвут восстание.
— И Троцкий хитрит, — вставила Надежда Константиновна. — Голосовал за восстание, а во всеуслышание говорит, что до открытия съезда вооруженное выступление не планируется. Это-де вопрос компетенции съезда.
— А когда у Троцкого были устойчивые взгляды? Ты права, эта игра в формализм весьма похожа на предательство.
— Есть еще одна неприятная весть, — сказала Надежда Константиновна. — Меньшевики и эсеры из ЦИК, видимо уловив суть наших споров, перенесли открытие съезда Советов с двадцатого на двадцать пятое.
— Ну конечно же! Мы разглашаем секретные решения. Что же им остается? Этого и нужно было ожидать. Значит, хотят, чтобы Керенский успел подготовиться? Ловкий ход!
Расстроенный Владимир Ильич стал ходить из угла в угол, что-то бормоча про себя. Потом ушел в соседнюю комнату, сел за стол и взял перо.
«Товарищи! — написал он. — Я не имел еще возможности получить питерские газеты от среды, 18 октября. Когда мне передали по телефону полный текст выступления Каменева и Зиновьева в непартийной газете «Новая жизнь», то я отказался верить этому…»
Из конспиративных соображений Владимир Ильич вынужден был придумывать, будто он пишет в этот вечер не из Петрограда, а из какого-то другого города, куда звонили товарищи по телефону. Высказав возмущение, он продолжал:
«Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю и всеми силами и перед ЦК и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии.
Ибо рабочая партия, которую жизнь все чаще и чаще ставит лицом к лицу с восстанием, не в силах решать эту трудную задачу, если неопубликованные постановления центра, после их принятия, оспариваются в непартийной печати и в ряды борцов вносятся колебания и смута.
Пусть господа Зиновьев и Каменев основывают свою партию с десятками растерявшихся людей или кандидатов в Учредительное собрание. Рабочие в такую партию не пойдут…»
Ленин ни на мгновение не сомневался в победе, поэтому письмо закончил призывом:
«Трудное время. Тяжелая задача. Тяжелая измена.
И все же таки задача будет решена, рабочие сплотятся, крестьянское восстание и крайнее нетерпение солдат на фронте сделают свое дело! Теснее сплотим ряды, — пролетариат должен победить!»
На другой день буржуазные газеты затрубили о готовящемся вооруженном выступлении большевиков. Некоторые из них даже называли сроки восстания, но более солидные пришли к выводу, что раньше двадцать пятого ничего не будет. Газеты требовали решительных действий со стороны правительства и подсказывали: «Пора обуздать и обезвредить большевиков». Казалось, что после удара, нанесенного предателями, намеченное выступление невозможно будет выполнить. Беда непоправима.
И вдруг большевикам удалось перехватить секретный приказ штаба, разосланный командирам частей Петроградского военного округа. В нем указывалось, какие полки по тревоге должны немедленно выступить и в каких частях города занять оборону до подхода войск с фронта.
Стало ясно, что в ближайшие дни главную роль в планах Керенского будут играть только войска Петроградского округа. Это несколько обнадежило. Ведь можно сделать так, чтобы названные полки не выполняли приказов Керенского. Для этой цели во все казармы и на военные склады по совету Владимира Ильича были направлены комиссары-большевики, а на собрании представителей частей гарнизона в Смольном проведено решение: выполнять только приказы, подписанные Военно-революционным комитетом.
На следующий день штаб округа убедился в силе солдатского решения: ни один склад не выдал снарядов и патронов. Накладные возвращались обратно, так как на них не было подписи комиссара Военно-революционного комитета. Это, конечно, встревожило Керенского.
В последние дни он выбился из сил, собирая верные ему войска. Съездил на фронт, чтобы заручиться поддержкой генералов, оберегал от большевистского влияния юнкерские школы, сколачивал «ударные» батальоны. Но видел, что время работает не на него. Красногвардейские отряды растут, а значительная часть столичного гарнизона уже не подчинялась ему.
Премьер-министр собрал секретное совещание военных и потребовал принятия крутых мер. Командование округа было уверено, что до начала Всероссийского съезда Советов большевики не начнут восстания, так как не могут меж собой договориться о дне выступления. Поэтому решено было за день до съезда нанести сокрушительный удар: разослать приказ об аресте большевистских комиссаров, закрыть рабочие газеты, поставить усиленные караулы в государственных учреждениях, занять вокзалы, развести в городе мосты и, вызвав войска с ближайшего фронта, двинуть их на штурм Смольного, где обосновался Военно-революционный комитет.
ГДЕ ЖИВЕТ КАТЯ?
Кокорев два дня не поднимался с постели. Бабушка поила его горячим отваром липового цвета, ставила горчичники, кормила тертой морковью и крепким бульоном.
На третий день, когда Игнатьевна ушла в очередь за хлебом, в каморку заглянул Ваня Лютиков. Он был еще бледен, но по насмешливым глазам чувствовалось, что молодость взяла свое — юноша оправился после голодовки.
— Еще н-не очухался? — спросил Лютиков, остановившись у порога. — А я уже в-вчера выскакивал. Показалось, б-будто один из тех, что из церкви стрелял, по нашему п-переулку шел. Он и сейчас на углу, из вашей кухни видно.
Василий живо поднялся, натянул на себя брюки и вышел в кухню. От быстрых движений у него закружилась голова. Боясь упасть, он ухватился за Лютикова.
— Т-ты что? — встревожился тот.
— О половик зацепился, — соврал Василий. — Ну, где этот твой?
— В-вон около Полуефима стоит.
На углу Чугунного переулка в тележке сидел безногий солдат, продававший открытки, песенники, леденцы и подсолнухи. Война его, по солдатскому выражению, «окоротила», поэтому инвалида звали не Ефимом, а Полуефимом. Около его лотка стоял невысокий человек с продолговатым подбородком и с непостижимой ловкостью щелкал подсолнухи. При этом незнакомец исподтишка поглядывал по сторонам и о чем-то разговаривал с солдатом.
— Да, — согласился Василий, — вроде наш пленник… Он в ризнице тогда переодевался. Надо последить за ним — чего он тут высматривает? Ты сам не показывайся, а подговори наших мальчишек. Возьми самых шустрых, пусть издали понаблюдают. Если подозрительный, Деме скажи.
— А ты что же?
— Мне на Выборгскую нужно… дело там. В общем, в клубе вечером буду.
— П-понятно, — улыбнулся Лютиков.
Кокорев смутился. Но что он мог поделать с собой? «Катя не знает, что я вышел из тюрьмы, и тревожится, — думалось ему. — Надо обязательно показаться, и как можно скорей».
Когда Лютиков ушел, Василий причесался, оделся потеплей и вышел на улицу.
Подозрительного человека на углу уже не было. Полуефим, в ожидании покупателей, со скучающим видом сам грыз семечки.
Подсолнухи в те дни были ходким товаром. Людям, лузгавшим их в очередях, на митингах и в трамваях, казалось, что они утоляют голод. Шелуха от семечек трещала под ногами везде.
Вася тоже купил стакан жареных подсолнухов и поехал на Выборгскую сторону.
Подойдя к Катиному дому, он поднялся на второй этаж и здесь на двери пристанской квартиры увидел сургучную печать.
«Не арестована ли?» — встревожился юноша. Он спустился во двор и заглянул в подвальное окно бабушкиного жилья. Там все вещи стояли на прежних местах. «Переселились, — понял Вася, и от этой мысли стало легче дышать. — У ворот, что ли, подождать ее? Впрочем, чего я боюсь? Надо пойти узнать».
Он прошел в подвал и в кухне застал двух женщин — молодую и старую.
— Вы не скажете, когда Катя будет дома?
Женщины с явным подозрением оглядели его. Молодая нехотя ответила:
— Ее здесь не бывает. Она переехала куда-то на Васильевский остров.
— Адреса ее не скажете?
— Не знаем, милый, не знаем, иди с богом, — уже не глядя на него, буркнула старуха.
«Вот так так! Даже адреса не хотят сообщить. Неужели Катя велела? Но по какой причине?» Вася почувствовал небывалую усталость: ноги вдруг одеревенели и не держали его. Боясь упасть, он невольно прислонился к стене спиной и закрыл глаза.
— Что с ним? Смотри… кровинки в лице не осталось, — услышал он встревоженный голос старухи. — Припадочный, что ли?..
— Ничего, не беспокойтесь… пройдет. Это после голодовки в тюрьме.
Подслеповатая старуха вгляделась в него.
— Да ты, никак, бывал у нас? К Катюше ходил… Васей, что ль, зовут?
— Да, Кокорев моя фамилия.
— То-то, я смотрю, будто знакомый. Катюше ведь покоя не дают. Заходил тут какой-то с усиками, так мы его насилу выпроводили. А тебе, думаю, можно. — И, понизив голос, старуха сообщила: — На Лесную она перебралась… Вместе с матерью в казенном доме живет.
Катя из окна увидела идущего по аллее Василия. «Он… ну конечно! Выпущен… Ищет меня!» Она хотела выбежать навстречу, но ее внимание привлек человек, остановившийся на углу. Он явно наблюдал за Василием сквозь редкий забор.
В подрайонной Думе рабочий день уже кончился, ни наверху, ни внизу никого не было. Катя прошла в сени и слегка приоткрыла дверь. Василий приближался к дому медленно, какой-то несвойственной ему походкой. «Как он похудел и словно еще больше вытянулся», — с жалостью подумала девушка. Ей хотелось окликнуть и поторопить его, но она подала голос, лишь когда он поднялся на крыльцо:
— Входи, я жду.
Юноша, недоумевая, поднял брови: «Что за игра? Почему Катя прячется?» Он заглянул в приоткрытую дверь, и… здесь девушка не утерпела, схватила его за руку, втянула в сени и защелкнула замок. Она прижалась к нему и, порывисто обняв, горячо поцеловала.
Василий не успел опомниться, как девушка мгновенно отстранила его и спросила:
— Ты с кем пришел?
— Один.
— Так я и думала. Значит, за тобой шпик увязался. Иди посмотри в окно.
Она провела Василия в свою комнату. Там, не отгибая занавески, они стали всматриваться. На углу уже никого не было. Незнакомый человек сидел на скамейке у калитки и, как бы отдыхая, курил.
— Знаешь его?
— Впервые вижу. Зачем им за мной следить? Нас ведь почти силой выпроводили из тюрьмы. Пойду узнаю, что ему надо.
— Подожди, наш дом должен остаться вне подозрений. Лучше сделай вид, будто ты не нашел, кого искал. Подойди к нему и спроси: «Где портниха Нюра живет?» Если он местный, то покажет тебе… Только совсем не уходи, мне надо поговорить с тобой. Когда выпроводишь его, вернись через пролом в заборе… вон с той стороны. Я буду наблюдать сверху и ждать тебя. Если все благополучно, на стекло веранды наклею бумажку.
Сойдя с крыльца, Василий, как бы недоумевая, оглядел дом, пожал плечами и побрел к калитке.
Незнакомец не уходил. Он сидел на скамейке и, обжигая пальцы, нервно докуривал махорочную цигарку. Глаза у него были блекло-серые с очень маленькими и острыми зрачками.
— Вы не знаете, где тут портниха Нюра живет? — обратился к нему юноша.
Тот ответил:
— Не могу сказать, незнаком с таковой.
— Вот беда! Куда это я ее адрес дел?
Василий уселся на скамейку и, обшаривая свои карманы, вытащил пистолет. Оружие в руках юноши не понравилось незнакомцу. Он боязливо покосился на браунинг и как-то по-стариковски сказал:
— Отдохнул малость и побреду дальше.
Прихрамывая, он заковылял к Муринскому проспекту.
«Шпик, — понял Василий. — Сейчас завернет за угол и притаится».
Не теряя времени, юноша двинулся к Лесной улице. Найдя небольшой пролом в заборе, он быстро пролез в сад, спрятался за толстым деревом и стал ждать, когда появится бумажка на окне верхней веранды. Как только Катя ее наклеила, перебежал к дому.
— Шпик! — твердо определила девушка. — Он в соседнем дворе на крышу сарая залез и озирается вокруг. Видно, не может понять, куда ты делся.
— Что же с ним делать?
— Я позвоню по телефону в райком. Наши ребята его вмиг обезвредят.
ЖДАТЬ БОЛЬШЕ НЕЛЬЗЯ
Рассвет двадцать четвертого октября зарождался в туманной мгле. Над Петроградом нависло серое непроглядное небо. Моросил мелкий, почти неприметный дождик. Панели и мостовые лоснились от влаги.
Это был вторник — обычный трудовой день. Мастеровне, подняв воротники курток и пальто, спешили на работу, а хозяйки с раскрытыми зонтиками — в очереди за хлебом, воблой, картошкой.
У типографии большевистской газеты «Рабочий путь» толпились мальчишки — продавцы газет. Часовые в юнкерских шинелях не пропускали их во двор.
— Газет сегодня не будет, — говорили они.
— Как не будет? Что же нам продавать?
У ворот останавливались прохожие.
— Что тут стряслось? — интересовались они.
Но никто толком не мог объяснить происходящего.
На панели вдруг без пальто и кепки появился растрепанный наборщик.
— Товарищи, — .негромко сказал он, — выручайте. В типографию недавно ворвались ораниенбаумские юнкера… остановили машины, рвут газеты, разбивают стереотипы… Надо сообщить в Смольный.
В толпе оказались красногвардейцы Рождественского района. Один из них побежал в аптеку и по телефону сообщил в райком партии о случившемся.
Через несколько минут и в Смольном раздался тревожный звонок.
— Юнкера, прибывшие из Ораниенбаума, громят нашу типографию, — сообщил дежурный по райкому. — «Рабочий путь» не выйдет.
— Сколько их там?
— Небольшой отряд с офицером.
— Хорошо, сейчас вышлем подмогу.
Стало ясно: Керенский спешит опередить события. Ему важно лишить большевиков газеты. Пришла и другая весть: оказывается, штаб округа кроме ораниенбаумских юнкеров ночью вызвал в Петроград петергофцев, ударников Царского Села и гвардейцев-артиллеристов Павловска.
Было созвано экстренное заседание Центрального Комитета. Без прений и длинных речей вынесли постановление: никому из Смольного не отлучаться, создать дополнительный штаб в Петропавловской крепости, Свердлову следить за действиями Временного правительства, а Дзержинскому— подготовиться к захвату почтамта и телеграфа.
Во все концы города из Смольного помчались связные мотоциклисты с секретным распоряжением Военно-революционного комитета: привести отряды в боевую готовность.
Владимир Ильич плохо спал ночью и утром не мог унять волнения. «Все ли сделают так, как позавчера договорились с Подвойским? Что послужит толчком к выступлению? Только бы действовали решительно».
Он послал Маргариту Васильевну на улицу, чтобы та пригляделась: не началось ли? Но Фофанова ничего особенного не приметила. На Выборгской стороне жизнь шла по-обычному: из парка один за другим выползали трамваи и мчались к центру города, работали булочные и парикмахерские, у продуктовых магазинов скапливались очереди.
Владимир Ильич попросил хозяйку не ходить на службу, но Маргарита Васильевна ответила, что у нее неотложные дела, она постарается быстро их закончить и отпроситься.
— Хорошо, — согласился Ильич. — Прошу по пути внимательно приглядываться к тому, что творится в городе. Если будут продавать какие-нибудь газеты — покупайте.
Маргарита Васильевна ушла на Васильевский остров, а Ильич, приоткрыв дверь на балкон, стал ходить из угла в угол в ожидании выстрелов. Сегодня он не мог сесть за стол. Разве можно в такой день спокойно работать?
Ему следовало бы сегодня находиться в Смольном. Зря он не настоял на этом. Там — мозг восстания, оттуда пойдут приказы. Надо непрерывно наращивать силы и идти от успеха к успеху. Кто проверит и вовремя поправит? Ведь советчиков, как всегда, окажется много. И среди них могут оказаться такие, как Каменев и Зиновьев. Очень плохо, что этих трусов не исключили из партии. Был бы урок другим. Таких нельзя ни терпеть, ни прощать, а некоторые члены Центрального Комитета отнеслись к ним примиренчески.
Редакция «Рабочего пути», без согласования с ЦК, опубликовала письмо Зиновьева со всяческими увертками и оправданиями, а кроме того напечатала примечание «от редакции», что этим-де письмом и устным заявлением Каменева в Петроградском совете вопрос можно считать исчерпанным. «Резкость тона статьи тов. Ленина не меняет того, что в основном мы остаемся единомышленниками».
Хороши единомышленники! И на заседании Центрального Комитета двадцатого октября штрейкбрехеров не исключили из партии, а лишь приняли «отставку» Каменева и потребовали обещаний не выступать ни с какими заявлениями против решений ЦК. Вот так наказали!
— Нет, этого простить нельзя, — машинально сняв парик, рассуждал Ленин. — Пусть нас разбирает партийный суд. Я не остановлюсь… буду клеймить трусов и требовать исключения. Колебания в такие моменты преступны. Партия, не карающая изменников, придет к гибели…
Днем стало известно, что разведен Николаевский мост. Маргарита Васильевна, отпросись с работы, сделала большой крюк, чтобы пройти на Выборгскую сторону по Гренадерскому мосту. Все остальные проходы были закрыты. Через Неву перевозили на яликах лодочники.
— Ну, как в городе? Много ли солдат на улицах? Что делают рабочие? — принялся расспрашивать Ленин вошедшую в дом хозяйку.
Маргарита Васильевна видела вооруженных людей, но их было немного. Они ни на кого не нападали, а стояли лишь на охране мостов. Ни у кого она не могла узнать, с какой целью и по чьему приказу разведены мосты на Неве.
— Не раздевайтесь, пожалуйста, — попросил Ильич. — Отнесите в райком записку. Пусть получат от ЦК разрешение, я не могу больше сидеть дома.
Фофанова сходила в Выборгский райком партии и передала записку. Пока секретарь райкома Женя Егорова связывалась со Смольным, прошло немало времени.
Из Смольного был получен устный ответ: Ленину не разрешали покидать конспиративную квартиру.
Вернувшись домой, Фофанова рассказала Ильичу обо всем, что она услышала в райкоме.
— Значит, еще не началось, — определил он. — Они там совещаются и разглагольствуют, когда надо действовать и захватывать. Завтра будет поздно! Идите к ним снова! — потребовал Ленин. — Нельзя ждать, можно потерять все.
— Ладно, я пойду, — согласилась Фофанова, — но только при одном условии: вы должны сесть за стол и хоть немного поесть. Я готовила, старалась, а вы даже попробовать не хотите.
Владимир Ильич вздохнул.
— Хорошо, я поем, но вы обязательно еще раз сходите. Я сейчас напишу письмо.
Маргарита Васильевна поспешила на кухню разогревать обед.
«Товарищи! — четким почерком вывел на бумаге Ленин. — Я пишу эти строки вечером 24-го, положение донельзя критическое. Яснее ясного, что теперь, уже поистине, промедление в восстании смерти подобно».
Он еще раз объяснил, что революции делаются не на съездах, а вооруженной силой, что ждать больше нельзя, можно потерять все.
«.. ни в коем случае не оставлять власти в руках Керенского и компании до 25-го, никоим образом; решать дело сегодня непременно вечером или ночью.
История не простит промедления революционерам, которые могли победить сегодня (и наверняка победят сегодня), рискуя терять много завтра, рискуя потерять все.
Взяв власть сегодня, мы берем ее не против Советов, а для них.
Взятие власти есть дело восстания; его политическая цель выяснится после взятия.
Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября, народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой; народ вправе и обязан в критические моменты революции направлять своих представителей, даже своих лучших представителей, а не ждать их.
Это доказала история всех революций, и безмерным было бы преступление революционеров, если бы они упустили момент, зная, что от них зависит спасение революции, предложение мира, спасение Питера, спасение от голода, передача земли крестьянам.
Правительство колеблется. Надо добить его во что бы то ни стало!
Промедление в выступлении смерти подобно».
Закончив письмо, Владимир Ильич вынес его на кухню, где его уже ждал разогретый обед.
Быстро поев, Фофанова помчалась в райком. Там шло какое-то заседание. Передав письмо Егоровой, она стала ждать ответа. Вскоре из комнаты заседаний вышла обеспокоенная Надежда Константиновна.
— Владимир Ильич очень гневается? — спросила она.
— Очень.
— И все же передайте ему: пока еще нельзя выходить, пусть ждет. Письмо мы немедля перешлем в Центральный Комитет.
Фофанова надеялась, что после совета Надежды Константиновны Владимир Ильич несколько успокоится, а он еще больше рассердился и потребовал, чтобы Маргарита Васильевна в третий раз пошла в райком.
— Спросите у них твердо: почему не хотят? чего боятся? — настаивал Ильич. — И попутно узнайте: есть ли у них хоть сотня верных солдат или красногвардейцев с винтовками? А то подумайте, лишь позавчера Подвойский хвастался: у него такой-то полк и такой. А что же сегодня этих полков не видим? Куда они делись? Почему мне нельзя выходить? Город захвачен юнкерами, что ли? Узнайте все это и возвращайтесь с определенным ответом. Если к одиннадцати часам вас не будет, волен действовать сообразно своему разумению.
В Смольном письме Ленина обсудили на экстренном заседании Центрального Комитета. Оно было столь убедительным, что возражающих не нашлось. Никто уже не питал иллюзий. Временное правительство без вооруженной борьбы не уйдет со сцены. Надо его опередить: начинать выступление не медля ни минуты.
Когда было принято это решение, Военно-революционный комитет стал действовать по намеченному плану.
Нарвские дружинники собирались у деревянного здания Путиловского театра. Здесь шла раздача подсумков, наполненных патронами, и пулеметных лент. Однозарядные берданки заменялись густо смазанными винтовками, привезенными с Охтинских складов.
У стен театра рабочие счищали смазку с винтовок, прилаживали к ним ремни, переобувались и, по-походному подпоясавшись, шли разыскивать своих командиров.
Со всех сторон доносились слова переклички:
— Рубахин!
— Здесь.
— Васильев!
— Я.
Отряды, собравшиеся полностью, получали предписания и строем уходили: одни в Смольный, другие к перекресткам дорог и к разъездам на железнодорожных путях.
Отряд, в котором находились Дементий Рыкунов, Василий Кокорев и парни с Чугунного переулка, собрался полностью, но его почему-то никуда не посылали. Молодые кузнецы пошли к начальнику районного штаба и с обидой спросили:
— Что же о нас не вспомните?
— А вы раньше батьки в пекло не лезьте, — ответил тот. — Нам молодой крепкий дубняк в резерве нужен. Начнет где-нибудь припекать, мы скомандуем вам: «В ружье!.. Становись. Бегом марш!» Ну и поспевайте со всех ног туда, где наших теснят, сшибайте врага и гоните. А пока можете идти в свой клуб. Когда понадобитесь — вызовем!
Комиссар только что отремонтированного крейсера «Аврора» матрос Белышев получил предписание вывести корабль на Неву и любыми средствами восстановить движение по Николаевскому мосту, захваченному юнкерами.
Кочегары без возражений подняли в котлах пар, механики прогрели машины, а новый командир крейсера — обрусевший швед, старший лейтенант Эриксон, — вдруг заартачился.
— Помилуйте, — сказал он, — у нас нет навигационных карт. Мне неизвестен невский фарватер. Река с начала войны в пределах города не углублялась, а она известна илистыми отложениями. У нас большая осадка, сразу же сядем на мель. Кроме того, не следует забывать о ненависти правительства к флоту. Вы знаете, что нас ждет за самовольные действия?
— Знаю, — ответил Белышев. — Но приказ выполню.
Комиссар пошел посоветоваться в судовой комитет. Там старшина рулевых, узнав об опасениях Эриксона, вызвался промерить фарватер ручным лотом.
— И я пойду, — сказал Филипп Рыкунов. — Мне Нева с детства знакома.
Подобрав гребцов, они спустили шлюпку на воду и, взяв аккумуляторный фонарик, так заклеенный черной бумагой, что оставалось лишь крошечное отверстие, отплыли в кромешную тьму.
Комиссар не уходил с верхней палубы. Около него толпились матросы. Они прислушивались, не поднимется ли стрельба со стороны Николаевского моста, но кругом было тихо.
Военно-революционный комитет отправил в базу Балтийского флота в Гельсингфорс условленную телеграмму из трех слов: «Центробалт, высылай устав». Это означало, что в Петроград надо немедля двинуть боевые корабли и отряды моряков.
Нужно было вызвать и кронштадтских матросов, но с ними не договорились о шифре. А в телефонограмме с открытым текстом многого не скажешь. Решили с нарочным послать секретный пакет. Но кто его доставит? Это мог сделать лишь смелый и опытный моряк, который сумел бы обмануть юнкеров, занявших мосты на Неве, и на катере прорваться к морю.
Подвойскому доложили, что в Смольный прибыл матрос, привезший листовки кронштадтцев, призывающие к восстанию.
— Зовите его сюда.
Вскоре в комнате Военно-революционного комитета появился моряк со шрамом на подбородке, на его бушлате поблескивали дождевые капельки.
— Матрос Проняков прибыл в ваше распоряжение! — доложил он и вытянулся, как полагалось по уставу.
Моряк не вызывал сомнения. «Такой прорвется», — решил Подвойский. Он вытащил из стола пакет и предупредил:
— Кронштадтцы должны прибыть завтра не позже полудня. «Авроре» приказано стать на Неве… Впрочем, все это изложено в приказе Военно-революционного комитета. Пакет надо доставить немедля и в полной сохранности.
— Есть, — вскинув руку к бескозырке, ответил Проняков. Он запихал пакет в боковой карман бушлата, круто повернулся и, придерживая рукой висевший на правом боку маузер, поспешил к выходу.
Через десять минут по темной Неве, вздымая пену, помчался буксирный катер с погашенными ходовыми огнями.
Темнота над рекой сгущалась. Пошел мелкий снег. В окнах вдоль набережной загорелись огни, отражавшиеся на воде рябыми бликами.
Катер благополучно миновал Литейный мост, Троицкий… Оставалось еще два. Проняков, напрягая глаза, вглядывался в туманную мглу. Огромный мост, перекинутый через Неву, казался пустым, но моряк на всякий случай сказал рулевому:
— Подбавь ходу!
Тот нагнулся к раструбу переговорной трубы и вполголоса произнес:
— В машине!
— Есть в машине, — донесся снизу ответ.
— Подходим к Дворцовому. Пар не травить, приготовиться к полному.
— Есть к полному!
Патрулей на середине моста не оказалось, заставы юнкеров были на дальних концах. Катер проскочил под высоким пролетом и помчался дальше, оставляя за собой серебристый след.
Последний мост был разведен у правого берега. Рулевой направил катер в средний пролет.
На мосту сразу же забегали темные фигуры в шинелях, послышались грозные голоса:
— Стой! Нельзя под мост!
— Как это нельзя? — притворно возмутился Проняков. — Мы по приказу!
— Пароль?. Стрелять будем.
Моряк, не слушая юнкеров, скомандовал:
— Полный вперед!
Катер дернулся и, обдавая патрули дымом, влетел под мост.
Через несколько секунд он выскочил с другой стороны и, разбрасывая воду, понесся дальше.
Вслед раздался выстрел, за ним другой, третий… Пули звякали по железу, с визгом проносились над рубкой. Но катер не останавливался.
Вскоре он был так далеко, что с моста его уже трудно было различить.
— Пронесло! — облегченно сказал Проняков. — Теперь дойдем без происшествий.
Он пощупал пакет в кармане и рукавом бушлата вытер пот со лба.
Прошло больше часа, как от «Авроры» отвалила шлюпка. Комиссар и еще несколько матросов, поджидая ее, укрылись от ветра за трубой.
Резкий ледяной дождь то затихал, то вновь начинал хлестать. Офицеры не показывались на верхней палубе, сидели в кают-компании.
Неожиданно со стороны Николаевского моста послышалась частая стрельба, но она быстро стихла.
— Не по нашим ли стреляли? — забеспокоился комиссар. — Что они так долго?
Наконец наблюдатель известил:
— С Невы сигналят!
— Запроси: кто?
Сигнальщик защелкал заслонкой фонаря. В ответ несколько раз мигнул тусклый огонек.
Вскоре из темноты выплыла шлюпка и подошла к борту.
Матросы в несколько рук подхватили старшину рулевых и втащили на палубу.
— Так что… вызывай командира на мостик, — прерывистым голосом сказал продрогший старшина. — Промерил почти до моста. Глубины подходящие, даже с запасом...
И он протянул комиссару чуть подмокший чертеж реки, испещренный только что нанесенными цифрами.
С этим листком члены судового комитета пошли в кают-компанию. Но Эриксон и на этот раз отказался вести корабль.
— Я против насилия и не намерен участвовать в гражданской войне, — заявил он.
Офицеры насмешливо поглядывали на комиссара и на матросов, стоявших за их спиной: «Попробуйте, мол, обойтись без нас».
— Это ваше последнее слово? — спросил Белышев.
— Да.
— Часовых к дверям!.. Иллюминаторы задраить на броняшку. Из кают-компании никому не выходить! — сведя брови, распорядился комиссар и вышел.
Он решил вести корабль с помощью старшин. Риск, конечно, большой. Попробуй пройти во тьме по извилистому фарватеру реки без лоцмана и штурмана на такой махине! Но у Белышева другого выхода не было. Он не мог нарушить приказа Военно-революционного комитета. Для победы следовало рисковать.
Когда к «Авроре» подошли два буксира, комиссар поднялся на командирский мостик и приказал:
— Всех свистать наверх!
На корабле раздались звонки, заголосили дудки. Матросы, стуча тяжелыми сапогами, бегом устремились на свои боевые места. На палубе загрохотал втаскиваемый трап…
Эриксон, услышав команду: «По местам стоять... со швартовых сниматься!», испугался. Он был уверен, что матросы посадят корабль на мель. В последнюю минуту офицер потребовал пропустить его на мостик.
Став к телеграфу машинного управления, он, с плохо скрываемой неприязнью, заявил комиссару:
— Веду «Аврору» по необходимости… И не дальше Николаевского моста. Вы слышите? В насильственном захвате власти участвовать не желаю.
— Есть, — сказал Белышев, — там без вас обойдемся.
С помощью буксиров выйдя в Неву, крейсер развернулся и осторожно, обшаривая воду лучами прожекторов, малым ходом двинулся вверх по темной реке.
В три часа тридцать минут впереди показались контуры Николаевского моста. Эриксон задвигал рычажками машинного телеграфа, застопорил ход и приказал отдать якорь.
Не дождавшись, когда «Аврору» развернет по течению, офицер снял кожаные перчатки, бросил их в сторону и ушел с мостика.
«Теперь катись, без тебя обойдемся», — подумал комиссар и, став на его место, скомандовал:
— Осветить мост!
С «Авроры» взметнулся длинный луч, заскользил вдоль перил моста, выхватывая из тьмы фигуры убегающих офицеров и юнкеров.
— Чесануть по ним! — предложил кто-то из матросов.
— Не надо, сами уйдут.
ЛЕНИН ИДЕТ В СМОЛЬНЫЙ
Фофанова долго не возвращалась. Вместо нее в дверь постучал Эйно Рахья. Владимир Ильич обрадовался гостью. Он пригласил его поужинать и начал расспрашивать о последних событиях.
Но что мог рассказать Рахья? Он ведь не был членом Военно-революционного комитета. Знал лишь, что вооруженное выступление началось. Рабочим роздано много оружия. По его соображениям, если войскам Керенского удастся развести мосты и захватить подходы к ним, то рабочие районы будут разъединены. А по частям, известно, противника легче бить. Лишь в Выборгском районе положение ясное: власть фактически в руках Красной гвардии. Керенский к выборжцам боится сунуться. Народ крепкий, спаянный…
Владимир Ильич слушал рассказ, расхаживая по комнате, хмурился, о чем-то думал. Вдруг остановился и в упор спросил:
— А вы бы могли разыскать в Смольном нужного мне человека и привести сюда?
Рахья подумал и развел руками:
— Навряд ли. Трамваи, поди, уже не ходят. Значит, пешком туда и обратно, а это верст пятнадцать будет. Времени много уйдет, да и пропуска нужны. Правда, есть у меня две штуки, но они резинкой потерты… подделка будет грубой.
— Два пропуска у вас? — спросил Ильич. — Очень хорошо! Тогда мы сами пойдем в Смольный.
Рахья начал было отговаривать его, но Владимир Ильич не желал ничего слушать:
— Никаких рассуждений, идем!
Ленин на минутку присел и написал Фофановой записку: «Ушел туда, куда Вы не хотели, чтобы я уходил. До свидания. Ильич».
Без маскировки выходить было опасно. И Ленин, надев парик, повязал еще щеку платком, будто у него болели зубы, а на голову натянул старую завалявшуюся кепку.
— Ну, в путь! — наконец сказал он. — Гасите свет.
Рахья потушил лампу. Они вышли на лестницу и спустились вниз.
Улицы были безлюдны. В парк спешил последний трамвай. Владимир Ильич нагнал его и вскочил на подножку. Рахья едва успел прицепиться рядом.
В вагоне пассажиров не было. Владимир Ильич сел против кондукторши и начал расспрашивать ее, куда идет трамвай. А та с тревогой поглядывала в темноту за окном.
— Молчите, — шепнул Рахья. — Если она когда-нибудь слышала ваш голос, узнает.
,Но Владимир Ильич не унимался.
Той, видимо, надоели расспросы пассажира, и она сердито буркнула:
— В парк.
— А почему?
— А ты кто такой, что тебе все надо знать?
— Рабочий.
Кондукторша с недоверием оглядела пассажира и сказала:
— Тоже мне рабочий! «Куда», «почему», — передразнила она. — Или не чуешь, что делается? Буржуев бить будем, вот куда едем!
Ее ответ Владимиру Ильичу очень понравился.
На углу Боткинской и Нижегородской трамвай свернул к парку. Пришлось оставить вагон и дальше двигаться пешком.
Вход на Литейный мост охраняли рабочие Выборгской стороны. Они не задерживали «вольную» публику. Но на другом конце стояли солдаты. Они никого не пропускали в центр.
Около заградительного отряда скопилось много народу. Люди, живущие в центре, возмущались, ругали порядки, патрульных, стоящих на пути. При этом стремились прорваться сквозь живую цепь. Кое-кому это удавалось.
Рахья отвел Ленина к левому краю и, уловив момент, толкнул его вперед, а сам прошмыгнул за ним мимо солдата, сдерживавшего напор публики.
Они прошли немного по Литейному и свернули на Шпалерную улицу.
Длинная и прямая улица точно вымерла. Ворота домов были наглухо заперты. Впереди — ни дворников, ни пешеходов. Где-то в начале Шпалерной в июльские дни офицеры растерзали рабочего Воинова, продававшего экстренный выпуск «Листка «Правды». Но сейчас, казалось, никакой опасности до самого Смольного не будет.
Владимир Ильич с Рахьей прошли уже изрядное расстояние, как вдруг из-за угла показались двое верховых. Они было проскакали мимо, но, заметив пешеходов, остановились. Это были юнкера артиллерийского училища.
— Идите вперед быстрей, — шепнул Рахья Владимиру Ильичу. — Я их задержу.
Юнкера, поговорив меж собой, повернули к Рахье.
— Пропуск!
— Какой такой пропуск? — словно не понимая их, удивился Рахья. — Где его дают? Что за новые порядки?
А Владимир Ильич тем временем уходил все дальше и дальше.
— Пропуск или…
Юнкер замахнулся нагайкой.
— А ну, дай, дай! Если ты такой храбрый! — начал пьяно выкрикивать Рахья и, засунув руку в карман, где был револьвер, шагнул к коню.
Конь пугливо шарахнулся в сторону.
— Брось этого пьяницу! — трусливо сказал второй верховой. — Ну его, не связывайся!
Юнкер хлестнул нагайкой по воздуху и, повернув коня, поскакал вслед за приятелем к Литейному проспекту.
Рахья чуть ли не бегом кинулся догонять Владимира Ильича, а тот не спеша шагал вперед и даже был весел:
— Ловко вы их провели!
Шпалерная кончилась. Показалось белое здание Смольного. Окна трех этажей ярко сияли. Около ворот под деревьями стояла трехдюймовая пушка. Невдалеке у костра грелись солдаты с красными повязками.
У центрального входа скопилось много делегатов Второго Всероссийского съезда Советов. Меньшевики, заседавшие в мандатной комиссии, в последние часы изменили цвет пропусков: вместо белых они выдали своим сторонникам красные и приказали часовым пропускать делегатов только с новыми мандатами.
Собравшиеся шумели. Какой-то рабочий, потрясая своим белым пропуском, спрашивал:
— То есть как не пропустите… Делегата задержите?
И он напирал грудью на растерявшихся часовых. Стоявшие рядом поддерживали его:
— Что за безобразие! Напутают, а потом не пропускают. А ну, посторонитесь!..
И толпа хлынула в вестибюль, увлекая за собой Ленина. Поднимаясь по лестнице, он смеялся:
— Где наша не берет!
Смольный гудел от топота солдатских сапог, громких голосов, лязга оружия. За все свое существование этот институт, выпускавший дворянских дочек, воспитанных «в послушании богу и преданности монарху», еще не видел в своих длинных сводчатых коридорах столько простого народа. Сюда стекались прибывшие из разных селений, городов, фронтов делегаты съезда Советов и связные боевых дружин питерских рабочих.
Остановившись на широкой лестничной площадке, Владимир Ильич послал Рахью разыскивать кого-нибудь из руководителей Военно-революционного комитета, а сам присел на край скамейки в полутемной части коридора.
Мимо него беспрерывно сновали люди. Одни разыскивали регистратуру, другие — комнаты для ночлега, третьи мчались с поручениями, четвертые солидно вышагивали, с неодобрением поглядывая на суету.
Владимир Ильич вглядывался в посетителей Смольного и старался угадать: кто и по какому делу находится здесь?
Вон тот в кожанке, придерживающий рукой кобуру тяжелого кольта, явно командир отряда, получивший задание. Не зря же он бегом спускается по лестнице. Тот, испачканный в грязи парень, с защитными очками на шапке, скачущий через две ступеньки, бесспорно связной, принесший хорошую весть. Солидные господа — один в форме лесничего, другой с повязкой Красного Креста на рукаве — без сомнения эсеры. Они чем-то недовольны, идут к кому-то высказать свое возмущение. А тот, в пенсне… будто бы знаком. Ну конечно! Это же швейцарский эмигрант… из меньшевиков. Только бы он не подсел. Еще рано раскрываться.
Владимир Ильич отвернулся и, словно страдая от зубной боли, прижал ладонью повязку к щеке. Но меньшевик, устремившийся к скамейке, видимо, узнал его, потому что круто изменил направление и, засеменив в обратную сторону, то и дело оглядывался.
«Сейчас начнет разносить новость, — подумал Ильич. — Жди теперь любопытных».
Он поднялся, вышел на лестничную площадку и там столкнулся с Рахьей, который разыскивал его.
— Нашел, — коротко сообщил Эйно. — Там все.
Они пошли по коридору третьего этажа к покоям классных дам.
В узкой прихожей и большой приемной Военно-революционного комитета было сильно накурено. Вооруженные люди толклись около столов и сидели прямо на полу в ожидании приказов. Пахло кожей и мокрым сукном.
Владимир Ильич и Рахья подошли к двери, охраняемой часовыми.
— Велено пропустить, — сказал Рахья.
Часовой без возражений толкнул дверь и пропустил Ленина.
Войдя в ярко освещенную комнату, Владимир Ильич остановился на пороге. На него никто не обращал внимания. Находившиеся здесь товарищи, склонясь над планом города, о чем-то совещались.
Владимир Ильич молча снял пальто, бросил его на груду шинелей, лежащих на столе, потом сорвал с лица повязку и громко произнес:
— Приветствую! С началом пролетарской революции, товарищи!
Услышав знакомый голос, товарищи обернулись и несколько секунд стояли словно ошеломленные, не веря своим глазам, затем с радостными возгласами кинулись пожимать ему руку.
Быстро войдя в курс дел, Владимир Ильич первым делом послал сводный отряд навести порядок на Литейном мосту, потом попросил стакан горячего чая и принялся проверять достоверность донесений о захвате вокзалов, мостов, почты и телеграфа. Он не верил на слово и требовал подтверждений.
Телефоны в Смольном по приказу штаба военного округа еще днем были выключены. Связь приходилось поддерживать с помощью полевых телефонов, через связных на мотоциклах и лошадях. Войска Временного правительства серьезного сопротивления не оказывали, хотя и были стычки на мостах и у телеграфа. Кончились они победой восставших. Если так пойдет дальше, то скоро все важные пункты в городе будут в руках Военно-революционного комитета.
В пятом часу утра вдруг стали действовать телефоны Смольного. Владимир Ильич вместо тонкого голоса телефонистки услышал в трубке простуженный боцманский бас:
— Вот закавыка! Как их тут соединяют, сам бес не поймет. А барышни в обмороке лежат, — жаловался моряк, захвативший телефонную станцию. — Стрельбы испугались, сомлели. Но мы их сейчас поднимем, — пообещал он.
ГРОМ НАД НЕВОЙ
Молодые дружинники, чтобы не скучать в ожидании, притащили в клуб гитары, мандолины, губные гармошки и под этот разноголосый оркестр принялись отплясывать. Плясали они самозабвенно, не жалея ни подметок, ни ладоней. От стука каблуков, хлопанья по голенищам, лихих высвистов и выкриков дребезжали стекла и пол ходил ходуном.
Заехавший в клуб председатель районного исполкома Иван Егоров даже крякнул от удивления:
— Молодцы, в бой как на праздник идут! — Но тут же заметил командирам, что особо на пляс нажимать не следует. — Берегите силы, — посоветовал он, — а то выдохнетесь раньше времени.
— А когда нас вызовут?
— Может, ночью, а может, утром. Съезжу в Смольный и узнаю. У телефона оставлен Ваня Газа. Он вроде адъютанта будет. В случае чего — обращайтесь к нему.
Дружинники, получив приказ отдыхать, стали устраиваться на ночь — одни на сцене, другие на стульях и скамейках, третьи просто на полу.
Поздно ночью из Смольного вернулся Иван Егоров. Собрав членов исполкома, поджидавших его, и других активистов района, он сказал:
— Товарищи, я только что разговаривал с Лениным. Он уже в Смольном и руководит восстанием. Похудел вроде Ильич, но ничего! Еще бодрей стал, решительно действует. Вызвал нас и давай расспрашивать, что сделано на местах. Отвечай не как-нибудь, а подробно: какие силы подняты, как вооружены, что говорят бойцы, верят ли в победу… Выслушал нас и говорит: не растеряйте боевого пыла, создавайте новые отряды и выпускайте побольше пушек, понадобятся…
Керенский метался: он то появлялся в штабе и, угрожая сместить командующего, требовал решительных действий, то связывался по прямому проводу со Ставкой и узнавал, где и почему застряли посланные с фронта войска, то возвращался в Зимний дворец и успокаивал министров.
— Большая часть гарнизона верна мне, — заверял он. — Я только что говорил с казаками, они выступят по нашему сигналу.
Во втором часу ночи министры Временного правительства разъехались по домам, во дворце остались бодрствовать Керенский и его заместитель Коновалов.
Они вызвали к себе командующего военным округом, начальника штаба и комиссара ЦИК. Доклады военных еще больше встревожили. Положение в городе с каждым часом усложнялось: все меньше и меньше оставалось воинских частей, которые еще подчинялись приказам, остальные же были ненадежны и серьезного сопротивления рабочим не оказывали. Большевистские отряды без стрельбы и столкновений захватывали важнейшие пункты в столице.
Вскоре стало известно, что в Неву без разрешения входят корабли и что Николаевский мост захвачен моряками.
Керенский, не надеясь больше на командующего Петроградским военным округом, сам принялся командовать. Он связался со Ставкой, требуя войск с ближних фронтов, отдавал грозные приказы, но их мало кто выполнял. Командовать уже было некем. Даже верные казаки обнаглели и отвечали: «Без пехоты выступать не можем».
На рассвете, опасаясь худшего, Керенский вернулся в свой кабинет, чтобы собрать переписку и укрыть в надежном месте. Но здесь силы оставили его: во френче он упал на оттоманку и пролежал на ней более получаса в каком-то полубредовом забытьи.
Из обморочного состояния его вывел фельдъегерь. Он доложил, что большевики захватили Центральный телеграф и телефонную станцию. Многие телефоны дворца выключены…
Керенский поднялся с оттоманки, подошел к окну и раздвинул портьеру.
Занималось хмурое утро. Из кабинета был виден нависший над Невой Дворцовый мост, торцовая набережная и гранитный парапет.
Правее, на другой стороне реки, в тумане вырисовывались тускло поблескивающий шпиль и серые стены Петропавловской крепости. «Там уже враг, — думал Керенский. — Штаб округа без боя уступил большевикам такую могучую крепость. Только за одно это надо сместить командующего».
Премьер вновь взглянул на набережную и почувствовал внутри неприятный холод. Он ясно увидел, как по мосту спешили два матроса, катившие пулемет, а за ними, пригнувшись, бежал парень с винтовкой.
«Неужели они уже так близко?» — не мог поверить Керенский. Он протер глаза. Ненавистные ему матросы продолжали продвигаться. «Окружают», — понял Керенский. И головная боль сразу же прошла. Осторожно пятясь, он отошел от окна, вызвал адъютанта и приказал:
— Усилить охрану Дворцового моста, и держите наготове автомобиль!
Керенский направился в штаб военного округа. Выяснив положение, он принял твердое решение прорваться через большевистские заставы и встретить войска, идущие с фронта.
Чтобы это было легче сделать, ему добыли в американском посольстве легковую машину.
Вскоре с площади Зимнего дворца выкатились две поблескивающие лаком машины и направились в сторону Исаакиевского собора. Патрули Военно-революционного комитета, видя на их радиаторах полосато-звездные американские флажки, расступились. Иностранные автомобили пользовались правом неприкосновенности.
После тревожной ночи министры собрались во дворце к двенадцати часам. На своем заседании они сместили командующего военным округом Полковникова и возложили на министра призрения Кишкина исключительные полномочия по наведению порядка в столице. Кишкину в помощники были приданы бывший заместитель командующего округом Рутенберг и новый генерал-губернатор Петрограда инженер Пальчинский.
Кишкин и его помощники первым делом взялись за укрепление обороны дворца. Открытая широкая площадь хорошо простреливалась. С трех сторон ее замыкали громады зданий. Восставшие могли прорваться со стороны Миллионной, Невского проспекта, Александровского сада и Адмиралтейства. Следовало соорудить укрепления перед входами.
На площади около дворца оказалось много дров, завезенных на зиму. Решили их использовать. Артиллеристы и юнкера из тяжелых плах стали воздвигать на площади укрытия с проходами и амбразурами для пулеметов и пушек.
Пальчинский, отвечавший за оборону, первым делом захотел взглянуть на план Зимнего дворца и его пристроек, но ему ответили, что такого плана не нашли. Вот и обороняй как хочешь, когда только одних лестниц во дворце сто семнадцать, а комнат более тысячи!
Тут же выяснилось, что для войск, прибывших во дворец, не завезено продовольствие. Продовольствие оказалось лишь в Главном штабе, но им можно было прокормить только человек пятьсот, а во дворце и на площади уже скопилось более полутора тысяч.
Владимир Ильич к утру написал обращение «К гражданам России». В нем говорилось, что восстание в Петрограде победило и государственная власть перешла в руки Военно-революционного комитета.
Впервые в истории восставшие по радио передали свое обращение ко всем народам.
В третьем часу дня, сбросив с себя парик, Ленин неожиданно пришел на экстренное заседание Петроградского совета.
Увидев похудевшего, с еще не отросшей бородкой, словно помолодевшего Ильича, депутаты повскакивали с мест и в радости устроили такую овацию, что председательствующий долго не мог угомонить их.
Наконец зал постепенно утих. Владимир Ильич поднял руку и внятным, звонким голосом сказал:
— Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
Слова Ленина покрыло «ура».
На Путиловский завод приехал представитель Военно-революционного комитета. Поздоровавшись с дежурными завкома, он сказал:
— Нам нужно захватить Зимний дворец, и как можно скорей. Требуется ударный отряд путиловцев. Поставим его впереди солдатских цепей. Поэтому в отряде
должны быть только храбрецы, которые сумеют повести за собой других. Найдете у себя таких?
— Найдем, — заверил Иван Егоров, вспомнив отплясывающих парней. — Куда высылать?
— На Морскую улицу, к арке Главного штаба.
Через полчаса в Петергофско-нарвском клубе молодежи послышалась команда:
— Поднимайся... в ружье!
Молодые путиловцы мгновенно построились на улице и, взяв винтовки на ремень, быстрым шагом двинулись в центр города.
На крейсере «Аврора», стоявшем у Николаевского моста, по всем кубрикам шли разговоры о ночных сражениях с юнкерами и о предстоящем штурме Зимнего дворца. Матросы, готовясь к десанту, одевались потеплей.
Вдруг по кораблю тревожно заверещали звонки громкого боя. Они призывали матросов и старшин на боевые посты к пушкам, машинам, топкам, к механизмам управления.
Матросы бегом помчались на свои места. На мостик взбежал комиссар Белышев.
— Что случилось? — спросил он. — Почему боевая тревога?
Вахтенный молча показал на устье широкой реки.
Белышев схватил бинокль и стал вглядываться. По Неве, поднимая буруны, шли против течения миноносцы, тральщики и еще какие-то небольшие корабли. На их мачтах колыхались красные флаги, палубы были заполнены вооруженными матросами.
— Наши! — громко объявил комиссар. — Отставить боевую тревогу!
— Ур-ра-а! — закричали матросы крейсера, подбрасывая вверх бескозырки. — Молодцы кронштадтцы, не опоздали!
Корабли подходили к пристаням, к гранитным стенкам правого берега Невы и высаживали десантников.
Набережная покрылась потоками моряков в черных бушлатах. На бескозырках золотились имена кораблей, как боевые вымпелы, трепетали и щелкали на ветру длинные ленточки.
Перейдя Николаевский мост, десантники вышли к Исаакиевскому собору и окружили Мариинский дворец, где заседал предпарламент, по Александровскому саду подобрались к Адмиралтейству и с ходу захватили Главный морской штаб.
С дальних улиц солдаты и рабочие осторожно подходили к площади Зимнего дворца.
Юнкера, следившие за продвижением головных отрядов, то и дело открывали огонь из винтовок и пулеметов. Особенно трудно было продвигаться по Миллионной улице. Она насквозь простреливалась. Приходилось наступать короткими перебежками, укрываясь за выступами домов и под арками ворот.
С Невы дул пронизывающий ветер. Временами он приносил то дождь, то ледяную колючую крупу.
Окоченевшие бойцы развели на прилегающих улицах костры.
Марсово поле походило на лагерь кочевников, приплясывающих у множества костров, от которых летели искры. Дым стлался между деревьями по Летнему саду.
Оперативная тройка Военно-революционного комитета — Подвойский, Антонов-Овсеенко и Чудновский — еще ночью заслала на площадь Зимнего дворца своих разведчиков. Рабочие прошли туда небольшими группами под видом санитаров, сторожей, дежурных пожарников и водопроводчиков. Разведчики высмотрели, как обороняются дворец и Главный штаб, установили, что в Зимний можно проникнуть через лазарет, находившийся в первом этаже здания, и со стороны Эрмитажа. Кроме того, во внутреннем дворе Зимнего они обнаружили много простых и бронированных автомобилей. Чтобы сделать эти машины небоеспособными, рабочие изъяли из моторов важные детали и спрятали их в колодцах канализации. Часть разведчиков вернулась еще затемно, а часть — осталась «дежурить» с тем, чтобы их «законно» могли сменить другие.
Днем оборона дворца усилилась: казаки, юнкера и «ударники» построили из березовых и сосновых плах перед дворцом баррикады.
Это обеспокоило Подвойского. Пришлось послать на смену разведчикам агитаторов.
Юнкера артиллерийского Михайловского училища получили приказ за подписью комиссара и начальника училища покинуть позиции. Скучавшие артиллеристы обрадовались. Захватив свои четыре пушки и никому ничего не доложив, они ускакали с площади.
Позже, якобы для заправки бензином, так как во дворце его не было, укатили машины броневого дивизиона. У Зимнего дворца остался только броневичок «Ахчырец».
«Может, нашим агитаторам удастся распропагандировать и других, — думал Подвойский. — Авось сдадутся без сопротивления».
Наспех на пишущей машинке был отпечатан ультиматум, в котором говорилось, что если Временное правительство не сдастся, то по дворцу будет открыт артиллерийский огонь из Петропавловской крепости и с крейсера «Аврора».
Парламентеры, размахивая белым платком, надетым на штык, прошли в штаб округа и вручили ультиматум министру Кишкину.
— На размышления даем двадцать минут, — предупредили они.
— А вам известно, что во дворце госпиталь? — спросил Кишкин. — Ив охране находятся ударницы… Будете стрелять в раненых фронтовиков и женщин?
— Эта хитрость вам не пройдет, — ответили парламентеры. — Мы министров отыщем.
Кишкин велел ждать, с двумя офицерами он ушел во дворец.
Прошло больше двадцати минут, а ответа все не было. Среди солдат первого самокатного батальона кто-то пустил слух, что в штабе расправляются с их товарищами-парламентерами. Самокатчики немедленно выделили группу решительных бойцов, чтобы те отправились на выручку.
Когда разведчики подобрались к зданию Штаба, то у входа увидели своих невредимых парламентеров. То стояли на улице и вглядывались, не идут ли с ответом министр и офицеры. Обрадовавшись подмоге, один из парламентеров предложил:
— Раз они волынку тянут, давайте захватим штаб. Сговорившись, как действовать в здании, они ворвались в штаб и в несколько минут разоружили и арестовали офицеров. Но это ничего не изменило. Зимний дворец, утопавший во мгле, молчал.
Марсово поле занимали резервные отряды. Катя и Наташа застряли здесь с группой дружинниц Красного Креста. Было холодно. Легко одетые девушки, спасаясь от пронизывающего ветра, с набережной перебежали на Миллионную улицу и, став под балконом старинного особняка, прижались друг к другу, чтобы хоть немного согреться.
— Окоченеем здесь. Скорей бы! Чего тянут? — слышались нетерпеливые голоса.
— Говорят, парламентеров послали. Во дворце кроме юнкеров и министров еще и госпиталь есть. Чего зря кровь проливать, может, так сдадутся.
Невдалеке горел костер. К нему прибегали погреться и обсушиться бойцы из цепей.
— Идем погреемся, — предложила Наташа подруге, — а то уже пальцы не разгибаются. И послушаем, что говорят.
Девушки подошли к ближнему костру и протянули над пламенем озябшие руки.
— А вы, красавицы, чего здесь мерзнете? — спросил у них человек в кожанке, расставлявший отряды выборжцев среди солдатских цепей. — Вам ведь в атаку не идти? А ну, живенько соберите своих, я вам место потеплей найду.
Он пошел с дружинницами Красного Креста по набережной Мойки, выбрался с ними на Невский и привел их в только что захваченное восставшими помещение Главного штаба.
— Располагайтесь здесь, любую комнату забирайте под перевязочную, — сказал он.
Девушки заняли две смежные комнаты. В приемной они нашли штабную аптечку и шкафчик, наполненный бинтами и индивидуальными пакетами.
Дружинницам пришлось разделиться на две группы: одни остались в здании, другие отправились к арке Главного штаба, поближе к бойцам.
На Морскую улицу пришел с отрядом и Андрей Проняков. Узнав, что впереди стоят путиловцы, он пробрался к ним и, разыскав Кокорева с Рыкуновым, сказал:
— Ну, братцы, судьба нас снова свела. Даже у Зимнего встретились. Тогда и на штурм вместе. Не разлучаться же в бою!
— Конечно, — подхватил Дементий. — Подтягивай матросов поближе.
Пока Проняков ходил к путиловцам, кронштадтские матросы вместе с красногвардейцами Выборгского района захватили артиллерийскую батарею, прибывшую из пригорода на помощь Временному правительству.
Одну из трехдюймовок матросы и солдаты-артиллеристы подкатили к арке Главного штаба. Отсюда видна была широкая площадь с высокой гранитной колонной посредине и баррикадами, воздвигнутыми юнкерами перед Зимним дворцом.
— Вот для нее самое подходящее место, — сказал Проняков. — Заряжай и пали прямой наводкой.
Катя Алешина, ждавшая начала штурма невдалеке от арки Главного штаба, пошла взглянуть на пушку. И здесь вдруг она заметила Василия. Он вместе с Дементием помогал артиллеристам устанавливать трехдюймовку. Девушка обрадовалась парням, но подошла к ним только после того, как пушка была заряжена и нацелена на ярко освещенное окно Зимнего. Схватив Василия за рукав куртки, она потянула его к себе. Увидев Катю, Василий оторопел:
— Ты зачем сюда пришла?
— Хочу с вами, — ответила она.
— С нами женщинам нельзя, мы на прорыв пойдем.
— Не бойся, — засмеялась Катя. — Я тут как сестра милосердия. Наш пункт первой медицинской помощи вон у той стены. Видишь, где флаг с красным крестом?.. В случае чего — тьфу-тьфу, только бы вас не ранило — разыскивайте нас. А перевязочный пункт в здании Главного штаба. Там Наташа.
Покидая парней, она шепнула Василию:
— Когда Зимний возьмете, разыщи меня, буду ждать.
Восставшие стали занимать исходные позиции для штурма. И тут вдруг пришло сообщение, что артиллеристы Петропавловской крепости отказываются стрелять по Зимнему. Подвойский немедля выехал к ним.
— В чем дело? Почему отказываетесь? — строго спросил он.
Артиллеристы, не глядя ему в глаза, сбивчиво оправдывались:
— Наши пушки стары, годятся лишь для салютов… Давно не чищены, поржавели стволы… Нет прицелов.
— Боевые снаряды не подойдут… если выстрелишь, разнесет ствол. Надо быть самоубийцами, чтобы стрелять из таких пушек.
Видя, что местные артиллеристы ненадежны и могут подвести, Подвойский позвонил в Смольный и потребовал замены.
— Хорошо, подыщу вам более решительных, — пообещал Свердлов и попросил — Только вы, пожалуйста, не тяните со штурмом. Владимир Ильич и так сердится. Из-за вас затягивается открытие Всероссийского съезда Советов. Кончайте быстрее!
Не успел Подвойский переговорить со Свердловым, как прибежавший наблюдатель доложил:
— Зимний вроде бы сдался. С площади доносится «ура»… Никто больше не стреляет.
Приказав подготовить камеры для приема арестованных министров, Подвойский, захватив с собой коменданта крепости, поспешил к Зимнему дворцу.
Автомобиль с зажженными фарами мчался по Миллионной улице. На горбатившемся каменном мосту канавки его вдруг обстреляли. Пули, взвизгивая, защелкали по камням, по железу.
Хорошо, что шофер не растерялся, успел затормозить и дать задний ход. Машина скатилась вниз по уклону и стала недосягаемой для пуль.
Погасив фары и развернув автомобиль, шофер сумел выйти из опасной зоны.
Оказывается, ко дворцу дважды ходили парламентеры. Сперва матрос с солдатом, а позже, по приглашению ораниенбаумских юнкеров, за баррикады ушел член тройки Григорий Чудновский.
Придя во дворец, Чудновский принялся объяснять сгрудившимся вокруг него юнкерам, что их положение безнадежно, так как весь город захвачен восставшими и участь Зимнего предрешена.
— Тот, кто без кровопролития уйдет сейчас из дворца, будет пропущен в свою часть беспрепятственно, — пообещал он. — Ну, а остальных ждет позорная смерть…
В это время в зале появился генерал-губернатор Пальчинский. Выстроив юнкеров, он приказал арестовать агитатора и собирался тут же перед строем расстрелять его, но в ответ услышал грозный стук прикладов о паркет. Один из юнкеров от имени всех доложил:
— Мы дали честное благородное слово, что парламентер уйдет отсюда невредимым.
Пальчинский понял, что возбужденные юнкера не позволят расправиться с большевиком, надо было успокоить их. Он подошел к Чудновскому и сказал:
— Вы свободны, можете идти!
Но парламентер остался на месте.
— В вашу честь я не верю, — сказал Чудновский. — Вы арестовали меня, несмотря на слово юнкеров. Теперь прикажете всадить пулю в спину. Без конвоя я не уйду.
Пришлось дать ему конвой и выпустить из дворца невредимым, а юнкерам соврать, что ждать осталось недолго, войска подходят… Они уже в Луге. Но из рядов послышалось ехидное:
— Надо хоть изредка заглядывать в железнодорожный справочник… от Луги сто тридцать семь верст.
Пальчинский призвал исполнить долг до конца. Юнкера, потупясь, молчали. Лишь после повторного вопроса они без всякого воодушевления разрозненно ответили: «Исполним!»
Потом пришлось уговаривать казаков, которые решили не рисковать жизнью, а уйти «поживу-поздорову». Всякие высокие слова их не трогали. «Мы не знаем, чего нам здесь ждать», — отвечали они.
Крики «ура» раздались, когда за баррикады вышли сдаваться казаки и увязавшиеся за ними юнкера.
Надеясь таким же способом обезвредить и остальных защитников Временного правительства, Чудновский, еще раз переговорив с юнкерами, проник в Зимний, но там снова наткнулся на Пальчинского и был арестован.
Свердлов связался с морским полигоном и вызвал к телефону комиссара. Объяснив ему, для какой цели понадобились моряки, Яков Михайлович спросил:
— Ну как — ваши комендоры не откажутся?
— Если стрелять по Керенскому — мы всегда готовы, — ответил моряк.
Прибыв в Петропавловскую крепость, моряки выкатили трехдюймовки прямо на пляж под деревья и стали разглядывать их. Пушки действительно оказались в плохом состоянии. Прицелов ни на одной из них не было.
— Н-да, из этих старушек много не настреляешь, — определили комендоры. — Но ничего, на Керенского сгодятся и такие. Мы в него хоть из водопроводных труб стрелять будем.
Комендоры «Авроры» толпились у шестидюймовой пушки и напряженно вглядывались в серую, едва приметную в густой мгле громаду Петропавловской крепости. Они ждали сигнала. Там впереди должен был загореться красный фонарь, извещающий о начале штурма.
Ветер усиливался. На взъерошенной поверхности Невы появились барашки. Склянки пробили половину десятого.
— Чего там в Петропавловской крепости копаются? — недоумевали авроровцы. — Сколько можно ждать?
Но вот с мостика послышалось:
— Сигнал… вижу огонь на стене крепости!
В темноте за мостом показался багровый огонь. Он колыхнулся и медленно поплыл вверх.
— Носовое, пли! — раздалась команда.
Длинное жерло шестидюймовой пушки рявкнуло так, что, казалось, дрогнул озаренный вспышкой мост, и грохот, похожий на все сотрясающий весенний гром, прокатился над вспененной Невой, над набережными, над площадью Зимнего дворца.
Словно эхо, из-под арки Главного штаба отозвалась пушка и послышалось далекое «ура».
Восставшие одновременно с трех сторон пошли на штурм.
Юнкера, засевшие за штабелями дров, не давали продвигаться вперед — стреляли из винтовок. На ровной и голой площади наступающим негде было укрыться.
Катя, прижавшаяся к стене под аркой, видела, как десятка три путиловцев устремились вперед. Они пробежали шагов двадцать и, приникнув к мостовой, дождались, когда подтянутся другие. Затем вновь вскочили, пригнувшись сделали несколько шагов и опять упали. Дальше их не пропускали пули, взвизгивающие над головой.
В это время красногвардейцам, наступавшим со стороны Александровского сада, удалось пробиться к высокой, искусно выкованной решетке Зимнего дворца. Они уже приближались к крайней баррикаде… И вот тут вдруг застрочил пулемет.
Красногвардейцы, не выдержав огня, залегли.
Моряки, притаившиеся за углом дома на Невском проспекте, видя, что атака срывается, сбросили с себя шинели, взяли в руки гранаты и, пригибаясь, бегом устремились к баррикаде.
Юнкера открыли частую пальбу. Матросам пришлось залечь. Но они не оставались на месте, а, по-пластунски извиваясь, подползали все ближе и ближе к дворцу.
Воспользовавшись замешательством юнкеров, головная группа путиловцев и матросов прорвалась за баррикады и через ворота ринулась во двор Зимнего дворца.
В пылу атаки храбрецы не заметили, как оторвались от всей массы наступавших и оказались в тылу у противника. Их было немного — человек двадцать. Им бы следовало повернуть назад и пробиться к своим, но они не думали об отступлении.
Обойдя часовых, они по двум лестницам проникли в главное здание. Где-то здесь в одной из комнат скрывались министры Временного правительства.
За баррикаду больше никто не пробился. Наступавшие откатывались назад. Стрельба ослабела.
— Где же те, что прорвались? — спрашивала Катя у пробегавших бойцов.
Но ей никто не мог толком ответить. Одни утверждали, что человек сорок пробились к Эрмитажу на Миллионную улицу, а другие нехотя говорили:
— Остались за баррикадами, видно, в плен попали.
Заседание Второго Всероссийского съезда Советов открылось поздно вечером, но Владимир Ильич не спустился в актовый зал, он оставался на третьем этаже в комнате Военно-революционного комитета. Сейчас на съезде делать нечего. Было бы, конечно, здорово явиться всей фракции большевиков и объявить: «Временное правительство арестовано… Вся власть перешла в руки Всероссийского съезда Советов!» Но Зимний еще не взят, и неизвестно, когда это произойдет.
Неясность положения тревожила Ильича: «Ну, что там тянет Подвойский со своей тройкой? Неужели не понимает, что выжидание опасней всего: разлагаются не только обороняющиеся. То, чего без всяких потерь можно добиться сегодня, завтра станет недоступным. Бескровных революций не бывает. Эх, надо было послать более энергичных людей! Сейчас решают не дни, а минуты и даже секунды. Меры истории, когда неделя не срок, нужно отбросить, сейчас действуют меры войны. Необходимо наступать и наступать. Министры каким-то способом еще связаны с внешним миром. Они договариваются о помощи. В городской Думе уже началась истерика: там призывают пойти умирать вместе с Временным правительством. То же самое может произойти и на открывшемся съезде Советов. Ведь прибыло много бундовцев, эсеров, меньшевиков».
Владимир Ильич написал еще одно письмо Подвойскому и, послав с нарочным, открыл окно, стал вслушиваться.
В городе, казалось, шла обыкновенная будничная жизнь. Еще кое-где ходили трамваи, высекая дугами искры, мирно светились окна домов и уличные фонари. Только вокруг Смольного пылали костры, под деревьями стояли кони, двуколки, походные кухни, легкие пушки. Сновали люди, с треском подкатывали мотоциклы. Где-то на западе колыхалось зарево и по облакам скользили лучи прожекторов.
Еще недавно оттуда доносилась пальба, взрывы, неясный стрекот пулеметов. И вот опять все стихло. «Неудача, что ли? Или вмешался кто-нибудь? Хоть сам отправляйся туда!»
— Владимир Ильич, — окликнул вошедший Свердлов. — Есть донесение. В Зимнем во время обстрела началась паника… дворец покинули ударницы женского батальона, и, воспользовавшись переполохом, за ними выскочило много юнкеров и прапорщиков. На баррикадах остались самые отъявленные.
— Нечего с ними церемониться. Взять приступом. Нельзя больше тянуть.
— Я так и сказал нашим. Есть новости о противнике. После истерических воплей деятели городской Думы вышли на улицу и процессией двинулись по Невскому. Впереди городской голова Шрейдер. Шли с фонарями и зонтиками. На мосту у Казанского собора их задержали матросы. «Куда?» — спросил один из них. «Мы идем ко дворцу умирать вместе с нашими избранниками-министрами», — трагическим голосом ответил Шрейдер. Но матрос не понял его. «Умирайте дома, — сказал он. — Здесь болтаться с зонтиками нельзя!» И что вы думаете? Думские деятели, стеная и оглашая улицу проклятьями, погасили фонари и повернули назад.
— Так с ними нужно поступать и впредь. Категоричность матросов мне нравится. А что сейчас на съезде?
— Продолжается говорильня. Бундовцы и правые эсеры истошными голосами требуют прекратить стрельбу по Зимнему. Они называют нас зачинщиками гражданской войны.
— Вот к чему приводит выжидание! — укорил Ильич. — Надо во что бы то ни стало опрокинуть… Сегодня же взять Зимний! Завтра будет трудней.
Отряд смельчаков, прорвавшихся в здание Зимнего дворца, настороженно продвигался из зала в зал. Шедший впереди Проняков дернул на себя резную дубовую дверь и шепотом передал:
— Не заперта… Давай все сюда!
Стараясь не греметь винтовками, красногвардейцы устремились за ним. Надо было спешить, так как внизу уже слышались голоса преследователей.
Зал, в который проникли за матросами рабочие и солдаты, был освещен хрустальной люстрой. Здесь все сверкало: и причудливо расписанный потолок, и стены с лепными позолоченными украшениями, и натертый воском паркетный пол.
Жители окраины и деревень озирались по сторонам, шагали по паркету с такими предосторожностями, точно они попали на гладкий лед.
— Запирай двери и гаси свет! — распорядился Андрей. Дождавшись, когда его приказание выполнят, моряк повел красногвардейцев дальше по затемненному коридору.
Следующий зал был также освещен: свет пробивался из щели чуть приоткрытых дверей.
Опасаясь засады, Проняков шепотом передал: «Приготовить гранаты» — и, пройдя к дверям, рывком распахнул их.
И здесь все увидели мчавшуюся на них конницу.
Солдат в рваной шинелишке, шедший впереди Кокорева, мгновенно метнулся в сторону и, видимо забыв, что он находится в здании, закричал:
— Спасайтесь, братцы… Кавалерия!
И этот панический крик так подействовал, что многие, не разобрав, в чем дело, ринулись назад.
— Стой! Стой! — требовал Проняков.
Но бегущих невозможно было остановить. У раскрытых дверей осталось лишь несколько рабочих с Выборгской стороны и Василий с Дементием. Огромное зеркало отражало висевшую на стене картину. Художник с таким искусством написал всадников, скачущих во весь опор, что люди и кони казались живыми.
— Вот ведь черти неотесанные! Выдали себя и нас, — злился моряк. — Картины испугались.
И как бы в подтверждение его слов послышались выстрелы. Солдаты, выбежавшие на лестничную площадку, наткнулись на юнкеров. Там завязалась свалка.
— Стойте здесь, — посоветовал Андрей. — Я посмотрю, нет ли другого выхода.
Он прошел в зал и, найдя за портьерами дверь, приоткрыл одну створку, но тут же захлопнул ее и бегом вернулся назад.
— Прапоры, — сказал он. — Если сюда кинутся, стойте спокойно, а потом — рвите напролом.
Большое зеркало, занимавшее простенок, отразило появившихся прапорщиков. Их было пять человек. Они шли с оголенными саблями.
Красногвардейцы, стоявшие в темноте, притаились, сжимая в руках винтовки.
Прапорщики, увидев, что в соседней комнате темно, остановились у дверей, не решаясь идти дальше.
— Надо включить свет, — сказал один из них.
И в этот момент моряк, державший винтовку наперевес, с криком «полундра!» ринулся на столпившихся «ударников». За ним устремились и путиловцы.
Разбросав прапорщиков, путиловцы проскочили в дверь за портьерой, пересекли две комнаты, попали в длинный коридор со многими дверями, а из него на узкую лестницу.
Андрей Проняков, бежавший впереди, исчез, видимо, он еще раньше свернул куда-то.
— Надо найти его, — сказал Дементий, утирая рукой кровь с виска.
— Что у тебя? — встревожился Василий.
— Чепуха, кожу содрали.
— Где же мы его найдем? Слышишь, топот, шпоры звенят? За нами гонятся.
— Может, здесь схлестнемся с ними?
— Не справиться, много их. Спускайся вниз.
Чтобы не греметь сапогами по лестнице, путиловцы съехали по перилам на животах.
В темном подвале они прижались в угол. Звон шпор приближался.
— Посмотри, нет ли какого выхода, — сказал Дементий.
Вася зажег спичку. Слева оказалась широкая дверь. Ее, видимо, кто-то взломал, потому что пробой был вырван.
— Давай сюда, — позвал он.
В большом подвальном помещении пахло вином и сыростью. Вдоль стен виднелись какие-то бочки и ящики. А далеко впереди тускло светилась лампочка.
— Винный склад, — определил Кокорев. — Если здесь спрячемся, не скоро найдут.
Неожиданно из-за какого-то закоулка вышли в полосу света два юнкера, нагруженные бутылками в серебристой обертке. Заметно покачиваясь, они стали удаляться.
— Вино воруют, — догадался Дементий. — Там, наверное, другой выход есть. Идем, может, найдем лазейку на улицу.
Услышав стрельбу из пушек, министры Временного правительства, сидевшие в Малахитовом зале, перешли в ротонду и широкий внутренний коридор без окон.
Вдруг откуда-то сверху посыпались стекла. В застекленном квадрате потолка, откуда днем поступал естественный свет, показался матрос и, крикнув «полундра!», бросил гранату.
Юнкера, охранявшие «темный коридор», метнулись врассыпную и попадали на пол.
Граната стукнулась в стену, откатилась в угол и разорвалась. Все обволокло дымом. Взрывом контужен был часовой, а министры лишь отделались испугом.
Послышались голоса:
— Как попал на третий этаж матрос? Расстрелять мерзавца!
Но попробуй поймай его, когда он где-то затаился, да и вооружен до зубов — не подойдешь.
Более безопасной была Малая столовая. Ее окна выходили во двор. Перед ними высилась каменная стена. Снаряды сюда попасть не могли. Министры стали собираться в Малой столовой и усаживаться за стол.
Рыкунов и Кокорев, поблуждав по темным подвалам, поднялись по лестнице и попали в бывшую фрейлинскую половину дворца, в которой был размещен лазарет. Здесь они увидели людей на костылях, в марлевых повязках и халатах. Раненые толпились в вестибюле. Они помогали матросу натягивать юнкерскую шинель.
«Свои», — понял Кокорев.
— Давай выходи, — сказал он Дементию.
Выздоравливающие солдаты, чтобы хоть чем-нибудь помочь восставшим, открывали в палатах окна и впускали к себе пробиравшихся с Невы матросов. Балтийцы по переходам проникали в бывшую царскую половину дворца и там поднимали стрельбу.
В дежурке сидел рослый пожарник в сверкающей медной каске. Рыкунов предложил ему поменяться куртками, но пожарник заартачился:
— Не имею права… При исполнении службы обязан быть в полной форме.
— Чего его спрашивать, — сказал один из раненых. — Раз подобру не дает — пускай по приказу революции… А ну, скидывай амуницию! — прикрикнул он на пожарника.
Тот неохотно отдал каску и снял брезентовую куртку.
Переодевшись в форму пожарника, Рыкунов спросил у Кокорева:
— Ну как?
— Прямо брандмайор! Пропустят куда хочешь.
— Схожу на разведку в царскую половину, — сказал Дементий. — А ты, Вася, проберись к нашим. Скажи, что через госпиталь можно окружить. Я тут погляжу, по каким коридорам легче пройти.
— Только не очень зарывайся, — предупредил Кокорев. — Оружие на виду не носи.
— Не бойся, на виду у меня только пожарницкий топорик будет, — пообещал Дементий.
Кокорев вылез в окно и по водосточной трубе спустился на панель. Стараясь прижиматься к стене, он перебежал к дворцовому саду.
С Невы светили прожекторы кораблей, по голым верхушкам деревьев струился то голубой, то фиолетовый свет.
Кокорев перелез через высокую железную ограду и, отыскав у Салтыковского проезда второй отряд путиловских дружинников, стал звать их к лазарету.
— Поздно, — сказал командир отряда. — Есть приказ прекратить стрельбу и ждать сигнала к штурму. Пристраивайся к нам.
Всюду штурмующие примолкли, лишь над площадью свистел ветер да колыхались лучи прожекторов.
В тишине из-под арки вдруг раздался выстрел, а затем крик:
— Вперед!
Его подхватили на Миллионной улице, у Александровского сада и Салтыковского проезда.
Одновременно с трех сторон с протяжным «ур-р-ра-а!» лавиной ринулись на дворец рабочие, матросы и солдаты. Они ворвались на баррикады, на мраморные лестницы и, отбрасывая юнкеров, рассыпались по многочисленным залам и комнатам…
В ожидании донесений Владимир Ильич занялся проверкой обороны дальних подступов к столице. Очень хорошо, что кронштадтцы поставили в Морском канале линкор «Заря свободы». Его двенадцатидюймовые пушки пригодятся против войск Керенского.
Поручив нескольким членам Военно-революционного комитета проверить, окружены ли красногвардейцами казармы юнкеров и казаков, верных Временному правительству, Владимир Ильич перешел в соседнюю комнату, чтобы еще раз взглянуть на большую карту, разостланную на столе.
Он только на минуту присел и, подперев рукой щеку, закрыл глаза… И сразу почувствовал, что проваливается во тьму и никак не может подняться… Тело словно потеряло вес…
Сказались волнения и усталость двухсуточного бодрствования.
Сквозь это неожиданное забытье Владимир Ильич вдруг услышал приближающийся рокот, похожий на шум морского прибоя. «Что же это такое?» — не понимал он. «Гонец с доброй вестью», — словно подсказал кто-то. Но Ильич никак не мог прервать оцепенение, очнуться. И только когда из соседней комнаты послышался громкий голос: «Из Зимнего… от главнокомандующего Подвойского! Донесение. Требуется Ленин», — он наконец стряхнул с себя забытье и поднялся.
В комнату пропустили забрызганного грязью самокатчика.
— Что скажете, товарищ? — спросил Владимир Ильич.
— Вы… вы и есть Ленин? — не мог сперва поверить самокатчик, но, видя, что все в ожидании умолкли, отбросил сомнения, решительно отстегнул клапан сумки, достал сложенный листок и, протянув его, коротко отрапортовал:
— Донесение!
— Благодарю, товарищ…
И Владимир Ильич протянул ему руку. Самокатчик смутился: никогда после вручения донесений начальники не приветствовали его. А тут вдруг благодарит Ленин! Солдат двумя руками схватил небольшую руку Ильича, сжал ее и радостно встряхнул.
Владимир Ильич взглянул на строчки донесения, выпрямился и торжественным голосом стал читать вслух:
— «Зимний дворец взят. Временное правительство арестовано, отведено в Петропавловку. Керенский бежал!»
Сразу же раздалось «ура», его подхватили в соседней комнате… И «ура» покатилось по Смольному.
Владимир Ильич вышел из комнаты и направился по широкому, переполненному красногвардейцами коридору в зал на митинг. Радостные бойцы, приветствуя его, расступались.
Бонч-Бруевич, шагавший позади, заметил, что Ильич не снял парика, он догнал его и предложил:
— Давайте парик, я его спрячу… может, еще понадобится.
— Ну, положим! — хитро подмигнув ему, возразил Ленин. — Мы берем власть всерьез и надолго.
МИР ВСЕМ НАРОДАМ
Повесив винтовку на плечо, Василий Кокорев проходил по ярко освещенным и богато убранным царским покоям, в которых толпились солдаты, блуждал по коридорам, по переходам и наконец понял, что во дворце, где более тысячи комнат и зал, не скоро найдешь Дементия.
Вспомнив о Кате, Кокорев пробился к главному выходу. На широкой лестнице из белого мрамора он увидел, как матросы сквозь толпу цепочкой выводили под конвоем арестованных министров.
Василий сбежал за конвоирами по лестнице, стороной обошел толпившихся у входа красногвардейцев и направился к арке Главного штаба.
Катя ждала его в условленном месте.
— Я вся застыла, — сказала она. — Думала, не придешь.
— Дема куда-то исчез.
— Дема здесь проходил, я видела, он матроса вел в перевязочную.
Идти домой не хотелось. Разве уснешь в такую ночь! И Катя предложила пойти к Неве.
Обогнув садик, юноша и девушка свернули на набережную и пошли к Зимней канавке. Навстречу им беспорядочно двигались отряды дружинников, солдаты, катившие по мокрым торцам мостовой пулеметы, и матросы. На Неве виднелись силуэты кораблей, сновали катера. Над стеной Петропавловской крепости, словно багровая звезда, светился сигнальный огонь.
— Не верится… с рассветом начнется новая жизнь! — сказала Катя. — Какая она будет? Я думала, когда власть станет нашей, — все люди подобреют и даже солнце начнет сиять по-другому. А сейчас — и радостно и тревожно. Юнкера говорили, что Керенский с утра уехал за войсками. Могут напасть ночью.
— Не беспокойся, врасплох не застанут. А мы теперь всегда будем вместе? — спросил вдруг Вася.
— Конечно.
Катя протянула ему руку.
Ветер не унимался, он рвал полы пальто и время от времени сек лица колкой ледяной крупой, но девушка и юноша не чувствовали холода. Им легко было шагать, тесно прижавшись друг к другу.
На Троицком мосту Катя вдруг заметила, что у Василия распахнута тужурка и расстегнут ворот рубахи. Она повязала его шею своим шарфом, застегнула куртку на все пуговицы и решительно сказала:
— Пойдем к бабушке. Я напою тебя горячим чаем.
— Но сейчас же ночь!
— Ночь прошла, скоро начнет светать. А бабушка встает рано.
И действительно, когда они постучались в подвальную дверь, бабушка уже суетилась на кухне у весело потрескивающей плиты.
— Откуда это вы, полуночники? — удивилась она.
— Погреться пришли, — ответила Катя.
— А отца-то видела, гулена?
— Он здесь?
— Как же, на съезд приехал. Выбрали, говорит, всей дивизией. Некогда было ему даже поесть, так с ружьем и ушел. Я постель приготовила, а его все нет и нет. Не на Лесную ли пошел?
— Я ведь дома не была, — призналась Катя.
— А где же ты всю ночь колобродила?
— Вот с ним министров из Зимнего выживали.
— Вам все хаханьки, а там, говорят, из пушек стреляли.
— Разве? — переспросила Катя. При этом она с таким лукавством взглянула на Васю, что он не удержался, и они вместе расхохотались.
— А ну вас, озорники! — притворно рассердилась на них бабушка. — Садитесь лучше за стол. Кроме бруснички к чаю, не обессудьте, ничего не будет.
Молодые гости с большой охотой пили горячий чай с брусникой и никак не могли утолить жажду. От кухонного тепла Катю так разморило, что глаза начали слипаться.
— Э-э! Да вы оба носами клюете, — заметила бабушка. — Укладывайтесь-ка спать. Ты можешь на мою постель, — сказала она внучке. — А он пусть устраивается на той, что я Дмитрию Андреевичу приготовила.
Василий и Катя, добравшись до постелей, быстро уснули.
Сон был неспокойным: они как наяву слышали взвизгивание пуль, грохот корабельной артиллерии, завывание ветра, крики «ура», видели вспышки разрывов… Но чувство радости не покидало их даже в забытьи.
Спали долго. Лишь в полдень первой проснулась Катя. Узнав от бабушки, что отец еще не появлялся, она быстро оделась и пошла будить Василия.
Он спал сладко, как-то по-детски разбросав руки. И девушке вдруг стало жалко его. «Пусть поспит», — решила она.
Оставив Василия в постели, Катя поехала на Лесную улицу, но и туда, оказывается, отец не приходил.
Это встревожило ее: «Не был ли он у Зимнего? Может, ранен или убит? Надо идти на поиски в центр города».
Боясь, что Вася без нее проснется и уйдет домой, Катя поспешила вернуться к бабушке. Юноша уже был на ногах. Узнав, чем встревожена девушка, Кокорев стал успокаивать ее:
— Ничего не случилось. Он на съезде. Я слыхал, что делегаты собираются в Смольном и живут там. Хочешь, вместе поедем и узнаем?
Смеркалось. Трамваи по Выборгской стороне не ходили, уличные фонари не горели.
Катя и Василий в темноте добрались до Литейного моста. Там стояли патрули — солдаты и рабочие с красными повязками на рукавах.
— Вам куда?
— В Смольный по вызову, — ответил Василий.
Старший из патрульных, посмотрев на его винтовку, висевшую на плече, ни о чем больше не стал расспрашивать и приказал:
— Пропустить двоих!
Площадь у Смольного походила на военный лагерь. То и дело подъезжали грузовые машины с вооруженными красногвардейцами. Цокали по булыжной мостовой подковы конников, грохотали колеса повозок.
На каменной площадке у главного входа виднелась пушка. Справа стояли часовые. Увидев знакомых путиловцев, Василий подошел к ним и сказал:
— Эта девушка с Выборгской стороны, отца разыскивает. Он делегат съезда.
— Ладно, проходите.
Длинные коридоры Смольного были заполнены бойцами. Пахло махоркой и свежим хлебом, который разносили по отрядам.
Узнав, что съезд Советов происходит на втором этаже в Белом колонном зале, Кокорев пошел в комендатуру. Там он встретил матроса с «Азии», с которым сидел в «Крестах».
— A-а, корешок! Ну, как на свободе гуляем?
Расспросив, по какому делу он пришел, матрос подумал и сказал:
— В зал заседаний я провести не сумею, а вот к барышням, которые регистрируют делегатов, — пожалуйста. От них вы и узнаете, явился ваш папаша сегодня или нет.
Моряк служебным ходом провел их на второй этаж в длинный коридор, заполненный народом. Левое крыло его было менее людным. Вдали виднелись столики регистраторов.
Не успели они приблизиться к закоулку, ведущему в Белый колонный зал, как позади послышался нарастающий шум.
По коридору шли какие-то люди. Красногвардейцы расступились, освобождая дорогу.
— Кто такие? — спросила Катя.
— Ленин… Ленин на съезд идет, — послышалось рядом.
И девушка узнала Владимира Ильича по его невысокой, коренастой фигуре, выпуклому лбу и отрастающей бородке. Он был в том же потертом костюме, что и на совещании в лесковской Думе. Идя по узкому проходу впереди своих соратников, Владимир Ильич время от времени взмахами руки приветствовал рабочую гвардию. Глаза его сияли.
Кокорев с Алешиной, чуть отступив к стене, пропустили вперед Ильича и сразу же устремились вслед за ним. Часовые не успели их задержать, и юноша с девушкой попали в зал, заполненный делегатами съезда.
Остановившись у белой колонны, они видели, как сидящие в зале поднялись со своих мест, встречая Ленина.
Вождь революции неторопливым шагом прошел по правой стороне зала и поднялся на трибуну…
В зале так хлопали в ладоши, что на люстрах тряслись подвески.
Ленин стал на трибуне и, слегка наклонясь вперед, начал говорить, но новый взрыв оваций заглушил его…
Владимир Ильич поднял руку. Но и это не помогло. Он выразительно поглядел на председателя: «Нельзя ли успокоить зал? Ведь времени у нас мало». Но из президиума улыбались ему и тоже хлопали в ладоши.
Но вот наконец наступила тишина.
Владимир Ильич заговорил о самом жгучем и насущном — о мире! И стал читать декрет. Его голос зазвучал громко и ясно:
— «Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией двадцать четвертого — двадцать пятого октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим народам и их правительствам начать немедленно переговоры о справедливом демократическом мире…»
Катя вслушивалась в то, что читал Ленин, и про себя повторяла: «Да, да… истерзанные, истощенные, измученные войной ждут мира… самого простого, человеческого, без всяких захватов, насилий и контрибуций. Как долго люди ждали этой вести! Сколько их здесь, в шинелях!»
Вдруг Катя стиснула руку Василия и шепнула:
— Смотри, у той колонны отец. Как он похудел и оброс!
Дмитрий Андреевич стоял невдалеке от трибуны и с волнением слушал Ильича.
Декрет о мире был принят большинством голосов.
Делегаты повскакивали с мест. Вверх полетели кепки, фуражки, бескозырки. Незнакомые люди обнимались и целовались, поздравляя друг друга.
— Конец войне, конец! — кричал бородатый солдат, потрясая винтовкой.
Впереди кто-то запел «Интернационал». Пролетарский гимн подхватили слева и справа. Люди пели громко, с радостным воодушевлением. Катя крепче стиснула руку Василия и, не чувствуя слез, катившихся по щекам, запела вместе со всеми:
Мы наш, мы новый мир построим.
Кто был ничем, тот станет всем.
Ленинград, 1967