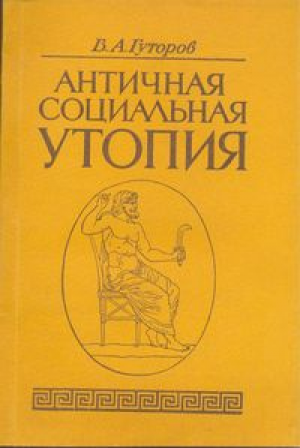
ПРЕДИСЛОВИЕ
Если попытаться окинуть хотя бы беглым взглядом процесс изучения социальных утопий со второй половины XX в., то можно сразу же отметить его исключительную интенсивность. В 20-е годы историки утопий (в там числе и ставшие впоследствии очень известными — например, Дж. О. Герцлер, Л. Мамфорд) еще могли сетовать на невнимание ученых к этой отрасли гуманитарного знания.[1] Ныне же «утопиеведение» превратилось в важнейшее направление социологической мысли.
Это и неудивительно. Зародившись еще в глубокой древности, утопизм пустил крепкие корни в общественном сознании, до сих пор выполняя важнейшие гносеологические и социальные функции, что во многом определяется прогностическим характером утопии. «Люди, как известно, всегда интересовались будущим, связывая с ним свои интересы, надежды, идеалы. Это объясняется том, что человеку органически присущи целесообразная деятельность, ее мысленное продолжение в будущее, согласование средств и целей, ожидание непосредственных и более отдаленных результатов его активности».[2]
«Утопический бум», возникший в Западной Европе и США в 60 — 70-е годы, создал атмосферу повышенного внимания к проблеме утопии. Так, появились работы, в совокупности составившие новую научную дисциплину, которую на западе стали называть «социологией утопии».[3] В ее рамках и начался пересмотр всей предшествующей традиции интерпретации утопических идей. Не осталась в стороне и античность.
Подобно тому, как «в многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше, в процессе возникновения, почти все позднейшие типы мировоззрений»,[4] на протяжении более чем тысячелетнего периода существования античной цивилизации, в процессе эволюции и борьбы многообразных идейных течений возникли, а в ряде случаев получили (классическое воплощение различные формы социальных утопий. Созданные античной мыслью утопические образы постоянно волновали воображение мыслителей и ученых последующих веков. Так, например, Платона не случайно называют «духовным отцом» утопической мысли, а созданную его фантазией Атлантиду продолжают искать и в наши дни.
Хотя сам факт внутренней связи европейской утопической традиции с общественной мыслью Древней Греции и Рима был осознан уже в эпоху Возрождения, это не повлекло за собой, однако, адекватного осмысления природы античной утопии, особенностей ее генезиса и социальных функций. Достаточно отметить, что в научной литературе пока не существует общепринятой классификации античных утопий, предполагающей определение их исторической специфики, отношения к другим формам общественного сознания —к мифологии, философии, этике и, наконец, к общественной практике, к социальным движениям в древнем мире и связанной с ними политической теории.
Что касается подобного «отставания», то оно обусловлено многими причинами как объективного, так и субъективного характера. Попытаемся выделить лишь некоторые из них, являющиеся, на наш вгляд, главньими.
Для современной немарксистской научной литературы второй половины XX в. характерен внеисторический подход к социальной утопии, тесно связанный с идеями исторического циклизма, сформировавшимися в основном под влиянием концепций О. Шпенглера и А. Тойнби, но появившимися в буржуазной исторической науке еще во второй половине XIX в.[5]
Большое влияние на современную «социологию утопии» оказал и психоаналитический метод исследования памятников культуры. Стремление рассматривать утопизм абстрактно (как изначальное свойство психологии «человека вообще», как «архетипическую модель» сознания, порождающего миф о «потерянном рае», или «компенсативный проект» утопии)[6]находит известную параллель у сторонников циклической теории, усматривающих в античных проектах общественных преобразований реакцию на развитие «капиталистических тенденций» по аналогии с коммунистической мыслью эпохи Ренессанса. Яркое выражение подобный подход нашел уже у видного немецкого историка Р. Пёльмана, автора в ряде аспектов новаторской для своего времени книги «История античного коммунизма и социализма» (1893— 1901).[7]
Хотя по богатству собранного материала труд Пёльмана до сих пор сохраняет важное значение для историка античных утопий, все же исходное намерение автора — доказать бесперспективность и иллюзорность современного ему социалистического движения на примере краха «аналогичных» идеям XIX в. «коммунистических учений» и социальных движений древности — по существу было основано на игнорировании исторических особенностей возникновения антиэксплуататорских настроений в классовых обществах и поэтому не выдерживает критики.
После выхода в свет работы Пёльмана в буржуазной науке возникла устойчивая традиция подобного сравнительно-исторического анализа античных социальных утопий, в дальнейшем ставшая одной из идейных основ современной «социологии утопии».[8]
Среди других факторов, существенно повлиявших на характер исследования античных утопических идей на Западе, необходимо выделить следующие: усиление антиутопических мотивов в художественной литературе и социологии и ускоренное формирование во второй половине XX в. различных вариантов концепции тоталитаризма.[9] Например, у таких социологов, как Р. Кроссман, Л. Мамфорд и К. Поппер, античная утопия, особенно «Государство» Платона, стала мало чем отличаться от антиутопических романов Е. Замятина, Дж. Оруэлла и О. Хаксли.[10]
Общий мировоззренческий кризис, в котором оказалось обществоведение в крупнейших капиталистических странах, способствовал проникновению антикоммунистических идей и концепций даже в те области истории социально-политической мысли, которые до недавнего времени считались объектом беспристрастного научного исследования.
Разумеется, указанные тенденции не могли полностью подчинить себе столетиями складывающуюся традицию изучения античных памятников культуры на основе методов классической филологии и позитивных достижений исторической науки. Но они представляют собой существенное препятствие для адекватного изучения античной утопической мысли, требующего соединения филологической критики источников с социологическим анализом исторических особенностей античного утопизма.
Остановимся теперь на вопросе о развитии исследований античных утопий в марксистской общественной науке. Хотя в отечественной и зарубежной марксистской литературе возникла насчитывающая уже многие десятилетия традиция изучения античного общества, его экономики, культуры и идеологии, приходится тем не менее согласиться с оценкой известного историка античной общественной мысли Р. Мюллера, согласно которому «анализ социально-утопической мысли в античности на основе исторического материализма находится еще в самом начале и до сих пор применялся только по отношению к отдельным ее периодам».[11]
Действительно, пока еще не появились работы, сколько-нибудь полно освещающие генезис и основные этапы эволюции утопической мысли в Древней Греции и Риме на основе марксистского метода. Первой попыткой систематического применения данного Метода к анализу античных утопий (можно считать работу К. Каутского «Предшественники новейшего социализма».[12] Будучи составной частью серии трудов, подготовленных идеологами немецкой (и международной) социал-демократии пол общим названием «История социализма в отдельных очерках», эта книга не только «стала на долгое время распространенным пособием, откуда черпали факты — а с ними зачастую и концепции — многие советские историки 20 — 30-х годов»,[13] но и продолжает «в той или иной форме влиять и на отдельные высказывания современных советских исследователей».[14]
Книга Каутского была отмечена чертами схематизма, во многом определявшегося абстрактным представлением ее автора о коммунизме как коренном свойстве «природы человека», социальной основе «большинства народов земного шара» с момента возникновения человечества.[15]
В целом сформулированная в работе Каутского Концепция служила, конечно, весьма шаткой основой для выполнения такой важной задачи, как критика буржуазных фальсификаций истории античной общественной мысли, задачи, вставшей перед советскими исследователями в 20 — 30-е годы.[16]
И хотя многие из теоретических положений, выдвинутых Каутским при исследовании социально-утопических учений, отвергнуты советской наукой, анализ распространенных в античности идей об общности имущества в качестве «элементов социализма» в древнем мире сохраняет пока довольно прочные позиции. Об этом свидетельствуют многие из современных справочных изданий. «В Европе, — отмечается, например, в статье H. Е. Застенкера в „Философской энциклопедии”, — важнейшие элементы утопического социализма сложились в античной Греции и Риме: легенда о „золотом веке” (общинно-родовых отношениях, не знавших неравенства, эксплуатации и собственности) и ее многочисленные рационалистические переработки утопистами прошлого; дискуссии древнегреческих мыслителей вокруг проблем имущественного неравенства и „естественного состояния” общества; легендарные уравнительные реформы в Спарте и платоновская утопия кастового рабовладельческого коммунизма, сочетавшаяся с критикой частной собственности, а также критика этой утопии Аристотелем».[17]
Даже если перечисленные в этой статье элементы «античного социализма» и не исчерпывают всего богатства утопических идей данного периода, невыясненными остаются, однако, следующие принципиальные вопросы: насколько эти «элементы» соотносятся с определениями утопического социализма и коммунизма, даваемыми в научной литературе, и, наконец, каковы те критерии, в соответствии с которыми античная утопия может рассматриваться в плане генезиса социалистической идеологии?
Следует отметить, что вплоть до 70-х годов подобные вопросы вообще редко ставились учеными. Между тем, на наш взгляд, уже давно назрела постановка и других не менее важных вопросов. Например, можно ли ограничиваться рассмотрением античных утопических идей исключительно в рамках истории социалистической мысли, равно как и истории политико-правовых учений? Не обедняется ли анализ античного утопизма вследствие того, что он оказывается изначально подчиненным исходным принципам и методам, характерным для конкретных научных дисциплин, понятийный аппарат которых вырабатывался в основном на изучении идей и учений, находящихся за пределами античной эпохи?
Гораздо более плодотворным, соответствующим принципу историзма, является, с нашей точки зрения, исследование древних утопических идей и проектов в контексте всей античной общественной мысли. При этом, разумеется, нельзя игнорировать ни позитивных результатов анализа природы утопического сознания, достигнутых «социологией утопии», ни многочисленных верных наблюдений, сделанных представителями других общественных наук — философии, социальной психологии, политэкономии, этики и эстетики, историками политических учений, архитектуры и градостроительства и т. д. Уровень, на который поднялись данные науки, в значительной мере облегчает задачи исследователя античных утопий. Во всяком случае, он уже не будет считать себя «первопроходцем», как это было еще в конце XIX в.,[18] даже если вопросы, разработанные в рамках конкретных дисциплин, нуждаются подчас в качественно новой трактовке.
Сформулированные выше задачи позволяют наметить общие контуры предлагаемого читателю исследования. Как уже видно из заглавия данной книги, автор отнюдь не претендует на всестороннее освещение всех без исключения аспектов развития более чем тысячелетней античной утопической традиции. Ограниченный объем книги побуждает избрать путь комбинированного анализа исторических и теоретических вопросов, с тем чтобы конечным его результатом стало выявление закономерностей генезиса, основных этапов эволюции утопических идеи в древнем мире, раскрытие особенностей их идеологических функции, соотношения с другими формами общественного сознания.
Подобный комплексный подход, естественно, не может не наложить отпечатка и па структуру книги. Многие принципиальные теоретические положения нашего исследования сформулированы уже во вводной главе и, таким образом, имеют итоговый характер. Конечно, большинство определений может быть раскрыто только в ходе анализа конкретного материала; впрочем. и здесь известные ограничения оказались необходимы. Хотя в работе рассматриваются уже не раз привлекавшие внимание ученых памятники утопической мысли, следует иметь в виду, что их сопоставление требует постоянно привлекать все новые и новые свидетельства античных авторов для подтверждения тех или иных моментов интерпретации основных первоисточников. Такой метод «нюансирования», связанный в том числе и с задачей филологической критики античных источников, немыслим без обращения к специальной литературе, подробный анализ -которой не укладывается в рамки данной работы.
Учитывая все вышесказанное, а также богатство исследований, посвященных отдельным античным писателям, автор счел необходимым взять в качестве непосредственного объекта для дискуссии лишь те работы, обсуждение которых отвечает общему замыслу данной книги. Так, в отдельном параграфе рассматриваются утопические идеи Древнего Востока. Это было сделано не столько для подтверждения бесспорного в целом положения, согласно которому сам феномен социального утопизма появляется в период разложения первобытнообщинного строя и складывания раннегосударственных структур, сколько для характеристики типологической близости многих утопических идей античности к древним ближневосточным, с одной стороны, и выявления уникальности рационалистической утопической традиции, возникшей в Древней Греции в эпоху культурного переворота, — с другой. Этот контраст становится тем ярче, чем больше современной наукой вскрывается теснейшая взаимосвязь в развитии греческого и ближневосточных обществ,[19] требующая изучать историю Греции «как часть истории Ближнего Востока».[20]
За пределами нашего исследования оказалась история утопической мысли Древнего Рима. Причина состоит не в том, что мы разделяем категорические суждения о полной противоположности «римского духа» всякому утопизму[21] или же об отсутствии в римской утопии какой бы то ни было новизны по сравнению с греческой[22] и т. д., но исключительно в ограниченном объеме нашей книги. Круг затрагиваемых в ней вопросов и без того оказался слишком широким. Автор полностью отдает себе отчет в том, что каждый из этих вопросов мог бы стать предметом для отдельного обстоятельного исследования. Но даже не способный избежать некоторой поверхностности анализ общих проблем, встающих перед современными учеными, является, на наш взгляд, необходимым звеном в цепи той многогранной работы, которая завершится лишь в результате совместных усилий специалистов из разных областей гуманитарной науки.
Глава I. (ВВОДНАЯ) ПОНЯТИЕ «УТОПИЯ» И АНТИЧНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ МЫСЛЬ
Даже при самом первом приближении к проблеме содержания понятия «утопия» мы сталкиваемся с парадоксальной ситуацией. Огромное количество существующих интерпретаций данного понятия как бы спонтанно порождает необходимость появления новых, почти не оставляя надежды на достижение единства в научном мире. У современного исследователя мнение о том, что в основе противоречивых оценок утопии лежит изначально двойственный смысл, вложенный в этот термин его творцом Т. Мором, может вызвать в лучшем случае скептическую улыбку. Ведь многих социологов и литературоведов уже давно не удовлетворяет «двойное прочтение», возможно, нарочитой игры греческих слов, созданной Мором при их передаче в латинской транскрипции — «несуществующая страна» (ou—topia) или «благословенная страна» (eu—topia). Эта неудовлетворенность выражается, в частности, в усилении многозначности этого понятия, во введении все новых словообразований.. Так появились «какотопия», «антиутопия», по смыслу противоположные утопии; «энтопия», характеризующая реализованный идеальный проект; «контратопия» — выбор наилучшего из двух воображаемых обществ; «дистопия», употребляемая в смысле либо аналогичном антиутопии, либо как образ государственной организации, демонстрирующий крах любых утопические иллюзий, и т. д.[23]
Указанные понятия, созданные главным образом для характеристики утопических произведений XX в., играют важную конституирующую роль в «социологии утопии» и постоянно проецируются обратно па предшествующую историю утопической мысли. Подобная тенденция, вызывая потребность в новых толкованиях понятия «утопия», нередко создает у исследователей негативное отношение к каким бы то ни было дефинициям. «Нет ничего удивительного в том, — писал нидерландский социолог Ф. Полак, — что многие авторы просто проходили мимо определений или потому, что они считали невозможным свести многообразие предлагаемого им материала к однозначной формуле, или по совсем иной причине — они рассматривали определение как самоочевидное. Другие просто предпочитали описывать основные характеристики утопии вместо попытки дать широкое, но бессодержательное или же краткое, но смутное определение».[24]
Но такой декларативный отказ от определений общего характера часто весьма искуствен по своему происхождению. Излишняя драматизация возникающих противоречий, как правило, используется для модернизаторских трактовок содержания понятия «утопия» или же просто в утилитарных целях для закрепления за ним условного значения, наиболее подходящего для построений того или иного автора.[25] Однако независимо от возросшего числа словообразований, общеупотребительный смысл понятия «утопия» остается достаточно ясным и полностью сохраняет свое значение как описания вымышленной страны, образца совершенного государственного и общественного устройства, противопоставленного действительности в целях социальной критики и обоснования идеала счастливой жизни.[26]
Вместе с тем, если бы анализ утопии ограничивался исключительно сферой художественной фантазии или же описаниями умозрительных проектов, он не порождал бы столько трудностей как теоретического, так и методологического характера. Главные проблемы начинают возникать, как только этот анализ переносится из литературной сферы в социологическую. Речь идет не о социологической интерпретации различных произведений, по об оценке утопической мысли в ее совокупности, прежде всего о характере утопизма как специфического типа общественного сознания, его исторических и психологических корнях, идеологических и вообще мировоззренческих функциях. А они многообразны. Ведь «утопическое сознание, как и любой другой тип сознания, „говорит” на многих „языках” — на ..языке” искусства, науки, философии, религии — словом, на „языках” «культуры, каждый из которых имеет свои особенности, детерминированные как спецификой находящегося в поле зрения объекта сознания, так и традиционно сложившимися в данной сфере культуры приемами творчества».[27] Принцип «полифункциональности» утопизма сохраняет фундаментальное значение и для древнего мира. Уже в сравнительно ранние исторические триоды человеческой истории отношение утопии к различным формам общественного сознания предстает в довольно сложном виде. Возникнув вместе с цивилизацией как реакция на углубляющиеся социальные антагонизмы, утопизм становится неотъемлемым элементом сознания различных слоев древнего общества. В условиях преобладания религиозного сознания он первоначально обнаруживает себя в мифах и фольклоре, в эсхатологически окрашенных картинах грядущего и, наконец, играет важную роль в социальных движениях, в формировании их идеологии, а также в программах ряда древних реформаторов.
Вот почему утопизм как определенный тип индивидуального и общественного настроения и сознания, отрицающего или мистифицирующего действительность во имя иллюзорного, абстрактного идеала, не может функционировать вне связи с идеологическими течениями той или иной эпохи, с общественной психологией.[28]
Проблема взаимодействия утопии и идеологии в современной западной литературе до сих пор наталкивается на известные трудности, с одной стороны, вследствие изначально противоречивой постановки данной проблемы К. Маннгеймом, книга которого «Идеология и утопия» оказала большое влияние на формирование «социологии утопии» во второй половине XX в., а с другой —из-за многочисленных и далеко не однозначных интерпретаций самого понятия «идеология». Противопоставление утопии и идеологии как феноменов сознания, имеющих, с точки зрения Маннгейма, абсолютно разные социальные функции, исходило прежде всего из широко распространенного взгляда на идеологию как «ложное» апологетическое сознание, играющее по отношению к «наличному бытию» роль стабилизирующего охранительного фактора.[29]
Определяя утопическую мысль как «трансцендентную по отношению к действительности» ориентацию, которая, переходя в действие, частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок вещей,[30] Маннгейм, кроме того, стремился разрушить ставшее не менее традиционным представление об утопии как фантазии, которую невозможно реализовать на практике.[31] Но, оставив сначала без внимания в рамках своей концепции традиционное понимание утопии, немецкий социолог отчасти переносит его на анализ идеологии (последняя также рассматривается как «трансцендентное» по отношению к бытию сознание).[32] Таким образам, Маннгейм оказался вынужденным в дальнейшем говорить о невозможности в принципе заранее предвидеть, какую идею «следует рассматривать в качестве истинной (т. е. реализуемой также в будущем) утопия восстающих классов» и какую — «в качестве чистой идеологии господствующих (но также и восстающих) классов».[33] Такое перенесение социологического анализа идеологии и утопии в область исключительно исторической ретроспекции весьма наглядно показывает несостоятельность предложенной Маннгеймом схемы.
Гораздо более плодотворной в книге немецкого социолога была постановка вопроса о соотнесении утопических проектов,, созданных отдельными мыслителями, с настроениями и сознанием широких социальных слоев. «... Если на первый взгляд,— писал Маннгейм, — утопию какого-либо социального слоя создает изолированный индивид, то в конечном итоге оказывается, что ее можно с полным правом отнести к тому слою, чьи коллективные импульсы были конформны идеям этого индивида».[34]· Однако ценность предложенного Маннгеймом решения вопроса о роли индивидуального и общественного факторов в формировании утопического сознания во многом снижалась исходным замыслом книги, в соответствии с которым утопизм рано или поздно должен стать достоянием преобразующих действительность массовых движений. В результате такого телеологического подхода утопия оказалась фатально соединенной с политическим действием. Поэтому неудивительно, что «оргиастический хилиазм анабаптистов» стал первым достойным внимания свидетельством утопического сознания, и за пределами исследования оказались не только утопическая традиция эпохи греческой классики, но и хилиастические идеи раннего христианства. Более того, и рационалистические проекты античности, и утопии Ренессанса превратились в «идеологические конструкции», поскольку, с точки зрения Маннгейма, «они были скорее дополнительными красками в картине действительности, чем противодействующими ей, разрушающими данное бытие утопиями».[35]
В целом безуспешной оказалась попытка преодолеть противоречия концепции К. Маннгейма, предпринятая немецким философом Э. Блохам в книге «Свобода и порядок. Очерк социальных утопий». Вводимое им различие между «абстрактной» и «становящейся конкретной» утопиями, которым соответствуют «утопическое» сознание, стремящееся улучшить общественные отношения «непосредственно из головы», и «утопистическое» сознание, предлагающее для такого улучшения «также и наружный строительный материал»,[36] по-прежнему основывалось на принципе потенциальной реализации утопии в будущем.[37] К абсолютизации данного принципа как Блоха, так и Маннгейма подталкивала скрытая (а нередко и явная) полемика с марксизмом. Вот почему построения обоих авторов с самого начала носили довольно резкий отпечаток догматизма.[38]·
Однако анализ утопических произведений показывает, что» ни принцип реализации, ни, наоборот, мысль о невозможности осуществления идеального замысла на практике в силу своей субъективности не могут стать критериями для разработки научной социологической концепции утопизма (ни тем более основой для классификации утопий). Равным образом и «трансцендентность» утопического сознания на любом его уровне не является главным конституирующим признаком утопии. По справедливому замечанию Э. Я. Баталова, «суть дела... не в самом факте ,,несоответствия” (утопической ,мысли реальной действительности.— В. Г.), а в его природе. Только специфика природы .„несоответствия” и трансцендентности данного типа сознания (раскрывающаяся в способе продуцирования) позволяет выявить и зафиксировать его .качественную определенность».[39]
Специфика утопизма заключается не в его противопоставлении идеологии (говорить об этом можно только в сравнении утопии с научной идеологией, т. е. с марксизмом), но в той роли, которую он играет в общественном сознании. Социальный утопизм, как и идеология, может рассматриваться как проявление «специализированного общественного сознания» в отличие от «массового сознания», т. с. общественной психологии.[40] В этом плане он выступает как специфическая форма идеологии, «фокусируя» философские, политико-правовые, экономические, этические и другие взгляды в направлении разработки радикально отличного от действительности, противостоящего ей общественного идеала.
Вместе с тем социальный утопизм может рассматриваться и как элемент массового сознания, как своеобразная «надстройка» над общественной психологией, формируя уже на самых ранних этапах развития цивилизации основу такого феномена, как «народная утопия». Если «идеологические концепции, выступая в форме специализированного сознания, первоначально являются, как правило, достоянием немногих»,[41] то для социального утопизма в историческом плане характерен путь развития от спонтанного распространения в широких слоях общества различного рода утопических настроений к своей высшей стадии — индивидуально окрашенным литературным утопиям.
Разумеется, функции утопического сознания можно исследовать и выводить в отрыве от «массового субстрата», опираясь только на анализ собственно утопических произведений. Но, на наш взгляд, было бы большой ошибкой рассматривать эти функции исключительно в качестве «законов жанра». А такой подход, заметим, имеет очень широкое распространение, порождая целый ряд противоречивых суждений, касающихся прежде всего вопросов типологизации социального утопизма и классификации самих утопических сочинений. Так, например, бельгийский исследователь Р. Труссон в обширном труде «Путешествия в страну Нигдею. Литературная история утопической мысли» выражает крайне отрицательное отношение к самому понятию «утопическое сознание».[42] В качестве решающего им выдвигается следующий довод: было бы абсурдным предполагать существование утопистов, которые не были бы вместе с тем авторами утопий.[43]
Но именно подобный довод и обнаруживает слабость позиции Труссона. Отстаивая приоритет литературного жанра как якобы единственного, способного претендовать на выражение полноты содержания утопий, бельгийский ученый проходит мимо многократно уже отмеченного в истории литературы явления, когда в условиях достаточно широкого распространения этого жанра он используется писателями (отнюдь не утопистами по своему умонастроению) как художественный прием в целях более образного, наглядного выражения той или иной идеи. Иными словами, можно создавать утопии и не будучи утопистом.[44]
Еще большие противоречия свойственны концепции Ф. Полака, также во многом основанной на абсолютизации литературной формы утопии. Наиболее ярко эти противоречия проявляются в противопоставлении исследователем утопии и политики. Объявляя их «смертельными врагами», считая специфически-политические черты утопии, присущие описаниям идеального государственного устройства, «аномальными» и находящимися на периферии утопической мысли, Полак буквально восстает против защищаемого многими учеными положения о статичности и антипрогрессивном характере многих утопических проектов. По его мнению, истинные черты утопии — это социальный критицизм и «систематическая реконструкция», благодаря которым она становится символом исторической веры в вечность гармонического мироустройства, направленной «через головы соотечественников писателя ко всему миру: не только к его современникам в каждой стране, но и к человечеству будущего.. .».[45]
В качестве конечного вывода Полак постулирует существование «непроходимой пропасти» «не только между утопической идеей и политикой» в целом, но и между утопией и политикой социальных реформ.[46] Не случайно поэтому Платон предстает в книге Полака истинным утопистом только при описании древних Афин и Атлантиды, но не в проектах «Государства» и «Законов», не в «Политике».[47] Увлеченный собственной патетикой, исследователь не замечает теснейшей взаимосвязи всех без исключения платоновских «утопических диалогов» и напрасно стремится опровергнуть тот очевидный факт, что и проекты афинского мыслителя, и в известном смысле утопии Т. Мора и Т. Кампанеллы были «зеркалом для монархов», т. е. картиной такого устройства, которое могло бы послужить примером для современных им правителей, заставить последних задуматься над вопросом об улучшении существующих порядков при помощи политических реформ.[48]
Во все эпохи утопического творчества насыщенность литературной традиции политической проблематикой проявлялась и в широком распространении жанра «государственного романа», в котором проект идеального общественного устройства вставлялся в рамку экзотического рассказа о путешествии в неведомые страны. Социально-политическая тенденция в истории утопий вплоть до XX в. была преобладающей и хорошо осознавалась как самими утопистами, так и читателями их произведении. Научный анализ утопической мысли не может поэтому основываться ни на противопоставлении утопии политике, ни на их абсолютном отождествлении, на игнорировании специфического характера трансформации отношений действительности в идеальных построениях.
Прежде чем непосредственно перейти к характеристике античной традиции, необходимо отметить глубокое типологическое единство развития и функционирования социального утопизма в классово-антагонистическом обществе, наглядным примером становления которого была история греческого и римского полисов. Предварительным условием изучения свойственных античности утопических идей будет, следовательно, выделение типологических уровней, характеризующих генезис, а также социальные и идеологические функции социальной утопии.
На наш взгляд, наиболее удачный анализ этих уровней был дан советским философом — исследователем утопической мысли США Э. Я. Баталовым, использовавшим наряду с американским материалом ценные результаты, полученные специалистами в области изучения европейской утопии. Так, Э. Я. Баталов выделяет три та;ких уровня: 1) литературная и социально-теоретическая утопия, «создаваемая усилиями писателей, философов, проповедников, — словом, деятелей культуры»; 2) народная утопия, т. е. «представления масс, точнее говоря — трудящихся .классов, о желаемом социальном мире, их мечты и надежды — мудрые и наивные, глубокие и поверхностные — на создание здесь, на земле, иного, лучшего мира». Специфика данного типа утопий состоит в том, «что она создается... самим народам, т. е. непрофессионалами из трудящихся классов, имена которых остаются зачастую неизвестными» и воплощаются «в фольклоре, лозунгах и программах, стихийно рождающихся в повседневной жизни и особенно в процессе массовых движений...»; 3) «официальная утопия», «под которой понимается совокупность социально-утопических идей, лозунгов, проектов, программ, провозглашаемых официальной инстанцией (в лице государства, партии ...) в качестве национальных идеалов и целей .. .» [49]
Рассмотрение литературной и социально-теоретической утопии как первого типологического уровня вполне правомерно для периодов, когда данные типы утопического творчества при разнообразных связях с народной утопией тем не менее не ведут от нее своего непосредственного происхождения. Иное соотношение структурных уровней мы встречаем в Древней Греции, где можно наблюдать уникальный процесс возникновения теоретической утопии из народной наряду с формированием философии, художественной литературы, политической теории в эпоху культурного переворота, начавшегося в VIII в.
Появление в V в. рационалистических проектов идеального общества знаменовало собой переход общественной мысли человечества на качественно новый этап, выражающийся в первой попытке теоретического осмысления природы социально-политических процессов, стремлении преодолеть негативные последствия развития цивилизации (с характерным для нее разделением общества на борющиеся сословия и группы — прямое следствие товарно-денежных отношений), опираясь не на помощь сверхъестественных сил, а на человеческий разум.
Вместе с тем для античной общественной мысли на протяжении всех этапов ее исторического существования чрезвычайно характерна тесная взаимосвязь народной и литературной (в широком смысле этого слова) утопии. Разумеется, такую связь можно обнаружить в рамках практически любой культуры.[50] Но ни в одной из них «народный пунктир» не пронизывал столь глубоко даже такие теоретические проекты, которые на первый взгляд были ей глубоко противоположны, а иногда и враждебны.
Далее мы покажем, что основная причина этого феномена скрывается не столько в неполноте процесса секуляризации общественного сознания в древнем мире, сколько в особенностях полисной идеологии вообще. Но прежде необходимо определить основные черты первого пласта античной утопической мысли. Его ядро составляет чрезвычайно распространенный по всему земному шару миф (или легенда) о «золотом веке», т. е. совокупность представлений о счастливом существовании людей в далеком прошлом. Исключительное многообразие картин «золотого века» в мифологиях различных народов свидетельствует, во-первых, об общих социально-психологических механизмах их формирования, а во-вторых, о трудности систематизации этих народно-мифологических сюжетов, их приведения к какому-то общему знаменателю.
Характерно, что и античной эпохе свойственна та же двойственность взгляда на прошлое, которую можно найти у наиболее отсталых народов. Поверию «о предках, живших лучше, чем теперешние люди, и наделенных особыми чудесными способностями»[51] противостоит изображение предков как беспомощных «недоделанных» существ (например, у аборигенов Австралии).[52] Аналогичным образам в древнегреческой мифологии картине жизни людей «золотого века», столь ярко изображенной в поэме Гесиода «Труды и дни», противостоит, например, миф о Прометее, рисующий существование брошенных богами на произвол судьбы (и спасенных титаном) людей как жалкое и звероподобное.
Но проблема не исчерпывается только одной противоречивостью взгляда на прошлое. Уже в первобытную эпоху можно встретить зародышевую форму представления о будущем в образе счастливой жизни в потустороннем мире, :куда «человек переносит не только фор)мы своей жизни», но и «свои интересы и идеалы».[53] Так, например, собранный советским фольклористам В. Я. Проппам материал об описаниям счастливой жизни на там свете, в «стране мертвых» и т. п. указывает на столь же раннее происхождение мотива страны Кокейн, «»молочных рек с кисельными берегами», Schlaraffenland, составляющих основу народной утопии,[54] как и (мотива посмертного воздаяния, легшего в основание эсхатологических мифов, хилиастических пророчеств о грядущем «тысячелетнем царстве». Эта дихотомия мысли (прошлое — будущее), обусловленная ее изначальной противоречивостью, связана, на наш взгляд, с особенностями формирования социального опыта человека на ранних стадиях развития, бессильного противостоять природным и общественным катаклизмам. В примитивных обществах «формирование представлений о будущем опиралось на наблюдения природных явлений и стихийных бедствий — пожара, бури, потопа, голода, т. е. постепенно и в обыденной прогностике пробивала себе путь ориентация в будущее».[55] Но эти же наблюдения, равно как и попытка найти в области религиозной фантазии средство избавления от постоянно возраставших (особенно с возникновением неравенства) тягот повседневной жизни, создавали предпосылку для парадоксального на первый взгляд совмещения идеализации прошлого (например, в библейской картине «земного рая»)[56] со стремлением вновь обрести «потерянный рай» в недалеком будущем.
У древних греков и римлян типологически близкий к картинам «земного рая» мотив, бытовавший в форме легенды о царстве Кроноса и Сатурна, рассказывавшей о том времени, когда люди были подобны богам и вели беззаботную жизнь, наслаждаясь дарами, приносимыми природой, когда не существовало ни рабов, ни господ, был тесно связан с ежегодными ритуальными празднествами в честь этих богов — крониями и сатурналиями.[57] Такие праздники, во время которых «господа и слуги менялись своими обязанностями, воцарялось безудержное веселье карнавального типа ... рассматривались как воспоминания о веке изобилия, всеобщей свободы и равенства .. .».[58]
О народно-утопическом характере легенды о царстве Кроноса — Сатурна говорит не столько даже картина «перевернутых отношений» (получившая исключительно богатую разработку в древней аттической комедии[59]), сколько отношение к труду. Отсутствие необходимости трудиться — характерная черта утопии, роднящая «царство Кроноса» со страной Кокань эпохи средневековья и Ренессанса.[60] Эта черта возникает тогда, когда сам труд приобретает подневольный характер и свидетельствует не о стремлении к изменению социальных отношений, но скорее о негативном отношении к ценностям основанного на эксплуатации общества.[61] Как справедливо заметил А. И. Клибанов, «теоретическое содержание народной социальной утопии ограничено религиозной формой, но не сводится только к ней».[62]
Приоритет социального содержания в становлении народноутопических легенд подтверждается также их поразительной структурной устойчивостью в различных культурах. Так, исследователь русской народной утопии К. В. Чистов выделяет три ее основных типа: легенда о «золотом веке» (социальноутопические идеи проецируются в идеализируемое прошлое); легенда о «далеких странах» (для которой характерна проекция утопических идей за пределы известного людям географического пространства); и, наконец, легенда об «избавителях»> представляющая собой «своеобразную форму политически активного утопизма»[63] и, в отличие от двух первых, связывающая надежду на изменение общественных порядков с каким-либо богом, «культурным героем», идеализируемым первопредком, популярным в народе правителем и т. д.[64]
На основе анализа многочисленных социально-утопических легенд, бытовавших в русском фольклоре, К. В. Чистов делает принципиально важный, на наш взгляд, вывод об их «трехмерности». «Сюжеты социально-утопических легенд, — подчеркивает исследователь, — развиваются, как правило, в трех хронологических измерениях. В каждой легенде есть часть, повествующая о прошлом. Она имеет объяснительный, этиологический характер и играет подчиненную роль по отношению к двум другим составным частям (как „избавитель” спасся от опасности, кто и каким образом хотел его погубить, как возникла „далекая земля” и т. д.), одна из которых содержит сообщение о существовании „избавителя” или „далекой земли” в настоящем, а вторая включает мотивы, связанные с предсказанием будущих событий».[65] Таким образом, уникальность народной утопии состоит в том, что возникающие в ней «социально-утопические легенды отличаются от других фольклорных произведений ... более широким характером политического и социального идеала и утверждения возможности его обретения в настоящем и ближайшем будущем».[66]
Правильность выводов К. В. Чистова вполне подтверждается и античным материалом. Так, элементы социально-утопических легенд, обнаруживающиеся уже в гомеровском эпосе, становятся явными в мифе о «пяти поколениях» у Гесиода, в римских легендах о «чудесном спасении» и бегстве Сатурна в Италию, а также в мессианских мифах раннего христианства. Что касается последних, то они составляли ядро милленаристских (хилиастических) движений, достигших особенно большого размаха в период упадка и гибели Римской империи.
В конечном счете народную утопию можно рассматривать в плане актуализации легенды о «золотом веке». Если в рассказах о путешествиях в далекие страны (также широко представленных в античной литературе) как бы открывается возможность достичь счастливой жизни в настоящем[67], то в мессианских идеях «золотой век» находится в ближайшем будущем и, следовательно, возникает надежда на обретение «потерянного рая». Нетрудно заметить, что эсхатологическая, картина райского блаженства является также проекцией в будущее мотивов «перевернутых отношений», отразившихся, например, в ритуальных празднествах в честь Кроноса — Сатурна.[68]
Таким образом, народно-утопическая мысль движется как бы по кругу: представления о «золотом веке» в далеком прошлом могут под влиянием тех или иных причин приобретать черты настоящего (в виде проекции на какое-либо «чудесное пространство»), перемещаться в будущее в форме эсхатологического ожидания возобновления идеального состояния и, наконец, снова отодвигаться в прошлое, сталкиваясь с неосуществимостью утопических надежд.
Во всяком случае, нет ничего более далекого от понимания природы утопического сознания, чем гипотеза А. Дорена о противоположности утопии и эсхатологии. Ограничивая утопию понятием «желаемое пространство» (Wunschraum) с характерной для него «приближенностью к миру (Weltnähe), Дорен противопоставляет ее «желаемому времени» (Wunschzeit), запредельному по отношению к миру (Weltferne)—свойство, присущее, по его мнению, эсхатологии.[69]
С нашей точки зрения, всякая попытка догматически противопоставлять временные и пространственные аспекты утопического сознания не только противоречит элементарным законам человеческой психики,[70] но и несовместима с разделяемым большинством исследователей фундаментальным принципом — «где бы утопист не помещал конструируемое им общество — в прошлом, настоящем или будущем, оно в любом случае представляло собой попытку заглянуть именно в будущее (сознавал это сам утопист или нет)».[71]
Следовательно, проекция идеала в будущее является не только исключительным свойством эсхатологии, но и коренным свойством утопизма вообще. Представление о наступлении в недалеком будущем «конца мира», как свидетельствуют не только письменные источники (начиная с Древнего Египта), но и приводимые этнографами примеры возникновения «милленаристских идей» в современных национально освободительных движениях,[72] лишь в редких случаях ограничивается апокалиптическими предсказаниями всеобщей гибели и разрушения. Как правило, это представление является важнейшим средством именно актуализации мечты о «золотом веке», перенесения самого мифа из прошлого в будущее. Тем самым эсхатология приобретает утопические черты, становится формой утопического сознания.[73] При этом она, естественно, не может мыслиться вне пространственных характеристик, поскольку утопическое сознание всегда имеет пространственно-временные координаты, хотя их взаимодействие принимает подчас крайне произвольные причудливые формы.
Вот почему выдвигаемое как в зарубежной, так и в отечественной научной литературе мнение о «пространственном мышлении» древних греков, в отличие от «временного мышления», свойственного «библейским народам», представляется столь же неприемлемым, как и предлагаемые А. Дореном дефиниции.[74]
Несколько формальной, на наш взгляд, является и концепция Б. Гатца, противопоставляющего «антрополого-генеалогический» аспект восприятия греками мифа о «золотом веке» «политико-историческому» его восприятию в Древнем Риме.[75] Ведь подобно тому, как отсутствие термина «утопия» в греческой и римской лексике не может служить препятствием для исследования самого феномена утопического в античной культуре, так и тот факт, что понятие «золотой век» (aureum saeculum) и его эквиваленты появляются только в римской поэзии эпохи Августа, вовсе не лишает греческих легенд о «жизни при Кроносе» (о έπί Κρόνου ριος)[76] политико-исторического звучания, которое достаточно отчетливо проявляется уже в самом начале истории Афин, например, в прославлении крестьянами Аттики правления Писистрата (Arist. Ath. Pol., 16, 7).[77]
Приведенные нами возражения против размежевания греческих и римских утопических идей, так сказать, в «онтологическом» аспекте вовсе не исключают постановки вопроса о различных формах их выражения в идеологии и литературе этих древних народов. Но поиск действительных причин различий греческих и римских (а также греческих и древнееврейских) утопических представлений лежит не в области «феноменологии культуры», а в конкретно-историческом исследовании важного вопроса — почему эсхатологические настроения, столь рельефно выраженные древнееврейскими пророками, оказались преобладающими и в римском общественном сознании в эпохи кризисов республики и империи, тогда как в Древней Греции подобные настроения оказались на периферии идеологии и общественной мысли?[78] Ведь в развитой своей форме и библейская эсхатология, и теоретическая утопия возникают в 1 тыс. до н. э., т. е. в период грандиозных сдвигов, затронувших практически все сферы общественной жизни. Анализ в этом направлений поможет объяснить также и особенности, свойственные литературной утопии и заставляющие некоторых ученых квалифицировать построенные в соответствии с геометрическими пропорциями проекты идеального общества как образец «пространственного мышления».
Трудности, встающие на пути решения всех указанных вопросов, связаны в основном с неоднозначностью взаимодействия литературной и народной утопии в античную (как, впрочем, и в любую другую) эпоху. С той же неоднозначностью мы сталкиваемся и при рассмотрении соотношения этих двух утопических пластов с «официальной утопией», являющейся типичным продуктом классового общества, существование которого поддерживается и обеспечивается в немалой степени и идеологической монополией господствующего эксплуататорского сословия или класса. Последняя, однако, невозможна без частичного включения в официальную идеологию в более или менее преобразованном виде мечтаний и устремлений широких народных масс (что, конечно, не означает стремление осуществить их на практике).
Вероятно, зародышевой формой «официальной утопии» является обрисованная В. Я. Проппом ситуация, когда народноутопическими «представлениями об ином мире, как о стране осуществленных чаяний и желаний, овладевает сословие жрецов, утешая народ перспективой на награду за долготерпение в этом мире».[79]
Классическим примером «официальной утопии» можно считать имевшую совершенно отчетливую политическую направленность эксплуатацию «партией» Октавиана-Августа, стремившегося к созданию автократического режима, эсхатологических и мессианских настроений римского плебса.[80]
Вместе с тем в античном мире в условиях господства политеистической религии и отсутствия церковной иерархий не могла, конечно, возникнуть характерная для средневекового общества «официальная эсхатология»,[81] ядром которой было учение о страшном суде», ставшее важнейшим церковным догматом. В античном мире элементы «официальной утопии» (рождение которых теснейшим образом связано с идеологией эллинистических монархий и присущей последней тенденции к обожествлению личности правителя) существовали преимущественно в специфически политическом варианте, проявляясь, например, в ставшем уже в эпоху ранней Римской империи почти безличным штампом сравнении правлений быстро сменявших друг друга императоров с «золотым веком».
Разумеется, в таком виде «официальная эсхатология» не могла успешно конкурировать с христианскими милленаристскими учениями. Но в первые века нашей эры, когда эти учения стали теснить традиционные языческие представления, практически была уже отодвинута на задний план и теоретическая утопия, возникшая в период расцвета Древней Греции.
По своей форме данная разновидность утопии (от которой, как уже отмечалось, ведет свое происхождение утопическая мысль Ренессанса и Просвещения) первоначально выступает как совокупность различных проектов идеального полиса. В связи с этим природа античного полиса заслуживает самого кристального внимания.
Распространенное в научной литературе определение полиса как города-государства (Stadtstaat, city-state) во многом способствовало закреплению в современной «социологии утопии» представления об античной рационалистической утопии как о разновидности «спекулятивного мифа», получающего выражение в «видении упорядоченного города и общества, над которым господствует город (city-dominated society)».[82]
В наиболее полном виде аргументация в пользу такой точки зрения содержится в работах видного американского социолога Л. Мамфорда." Его концепция происхождения утопии определялась стремлением не ограничиваться «простым историческим объяснением» того факта, что «утопии от Платона до Беллами рассматривались преимущественно в рамках города»[83] (эта тенденция a limine связывается Мамфордом с преобладанием греческой утопической традиции), но поставить вопрос глубже, а именно — «почему города так часто становятся «местом утопий?».[84]
Отьет на поставленный вопрос дается Мамфордом в свойственной ему парадоксальной манере. «Концепция утопии, — утверждает американский социолог, — является не эллинистической спекулятивной фантазией, а выводом из того исторического события, что на деле первой утопией был сам город».[85] Возникнув в эпоху неолита, город по своей природе с самого начала был призван стать «политическим и религиозным центром», способным справляться с «огромным производительным изобилием неолитической культуры».[86] Грандиозным порождением последней были, по Мамфорду, и древневосточные города, ставшие «посредствующим звеном между космическим порядком, открытым жрецами-астрономами, и унифицирующей деятельностью царской власти».[87]
Важнейшим признаком, свидетельствующим о функциональной роли города как «архетипа» утопии, американский социолог считает прежде всего закрепление в городских структурах так называемого «царского мифа». Возведение величественного храма внутри огороженного священного участка и сооружение самой городской стены отвечают стремлению включить подчиненные царю общины в рамки «сакрального целого» — города. Симметрия кварталов и ирригационных каналов, планировка домов и гробниц соответствуют «космическому порядку», установленному на земле царем — «богоподобным воплощением коллективной власти и общинной ответственности».[88]
В свою очередь, осуществление царской властью своих функций невозможно без создания соответствующей «машины»— бюрократического аппарата, характеризуемого Мамфордом как «координированный утопический институт, необходимый для любой системы строгой регламентации в общине ...».[89]
Прообраз большинства утопий представляется американскому социологу как воспроизведение в сознании утописта тоталитарной по своей природе структуры, восходящей к древневосточному городу с его неотъемлемыми атрибутами — бюрократической машиной, мелочной регламентацией общественной жизни, униформизмом, авторитаризмом, изоляционизмом, строжайшей специализацией трудовых функций, постоянной готовностью к войне и т. д.[90] Таким образом, город неизбежно «порождает» утопию, будучи одновременно и ее реализацией на практике и «последовательным отражением (after-i) в человеческом уме собственной „идеальной” формы».[91]
Подобная гипотеза, согласно Мамфорду, позволяет объяснить сходство многих черт древневосточной деспотии с утопическими конструкциями античности и нового времени. Так, например, сакрализация власти идеального правителя (царя), центральное положение храма, тенденция к симметризации и геометризации пространства, роль мифотворчества в системе идеологического воздействия на массы — все эти элементы объявляются американским социологом настолько же реальными, насколько и утопическими.
Разумеется, невозможно полностью отрицать внешнего сходства отдельных утопических проектов (вернее, отдельных черт в проектах, например, Платона и Кампанеллы) с описанной Мамфордом структурой «утопического города». Ориенталистские тенденции вообще свойственны многим античным утопиям. Влияли они и на разработку некоторыми греческими политическими теоретиками концепции идеальной монархии. И все же, помимо откровенно произвольных гипотез, концепция Мамфорда оказывается несостоятельной прежде всего в своем главном пункте — в отождествлении античной утопии с идеальным городом. Постулировав подобное тождество, американский социолог оказался не в состоянии объяснить сформулированную им же самим проблему — почему «Государству» Платона «в высшей степени недостает конкретного образа города, за исключением той предусмотрительной меры, что он (город. — В. Г.) должен быть ограничен в численном отношении для поддерживания целостности и единства».[92]
Вероятно, чтобы разрешить поставленную проблему, Мамфорду следовало бы предварительно рассмотреть следующие вопросы — отождествляли ли сами греки государство и город, и если да, то каким образом данное отождествление отражалось в утопических произведениях?
Названные вопросы являются до сих пор остродискуссионными как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Причем высказываемые суждения часто диаметрально противоположны. Например, если с точки зрения Г. А. Кошеленко, проекты Платона и Аристотеля необходимо рассматривать и «как памятники теории урбанизма», поскольку они «посвящены не только вопросам наилучшего социального и политического устройства, но и проблеме наиболее рациональной архитектурной организации городского пространства»,[93] то по мнению Д. В. Панченко, «город в его архитектурной конкретности занимает место на периферии античной общественной мысли и даже утопической и близкой ей литературы».[94]
На наш взгляд, последняя точка зрения представляется более обоснованной. В самом деле, античная литература дает картину, во многом радикально отличную от ренессансного утопизма. Идеальный полис — это в первую очередь образ совершенного государства, а не города. Очевидно, причина этого скрывается в особенностях как полисной организации, так и античной общественной мысли в целом. В представлении древних греков полис ассоциировался прежде всего с определенным типом государства — объединением свободных граждан, противостоящих рабам и чужестранцам.[95] По Аристотелю, полис — это «сообщество свободных людей», принимающих участие в суде и народном собрании, обладающих правом занимать и исполнять государственные должности (Arist. Pol., III 4, 4; III 1, 5).
Tакое «внутреннее» противопоставление полноправных граждан неполноправным категориям населения дополнялось у политических теоретиков противопоставлением «внешним», поскольку большинство из них всегда подчеркивало исключительность полисной организации. По справедливому замечанию А. И. Зайцева, «полис как характерная форма совместной жизни эллинов, противопоставляемая племенам и царствам варваров, занимал центральное место уже в греческой классической политической теории, прежде всего в сочинениях Платона и Аристотеля».[96]
Хотя первоначально термином «полис», вероятно, обозначался укрепленный поселок (крепость) (об этом говорит, например, название афинского Акрополя), уже сравнительно рано возникает различие между политическим объединением — πόλις и населенным пунктом—άστυ,[97] получившее классическое выражение в словах Фукидида: «Ведь государство — это люди, а не стены и не корабли» (VII 77, 7).
Вместе с тем распространенный среди исследователей взгляд относительно того, что античный город, возникая первоначально на базе земельной собственности и сельского хозяйства, в дальнейшем превращается в центр промышленного (ремесленного) производства, выделяясь из собственно аграрной сферы и таким образом противопоставляя себя деревне,[98] до сих пор вызывает возражения. Так, например, В. Н. Андреев обосновывает положение, согласно которому «одной из особенностей греческого общества было отсутствие четкой границы между городом и деревней...», а также имело место их взаимопроникновение, и различия между ними «оказывались в значительной мере „стертыми”».[99] Развитие этой точки зрения приводит некоторых ученых к сомнению в самой возможности употребления понятия «город» по отношению к раннему полису и даже к периоду его расцвета.[100]
Конечно, каждое из приведенных мнений имеет вполне определенную опору в античных источниках. Но именно это и заставляет предполагать, что вопрос о соотношении города и деревни внутри полиса вообще не может быть решен однозначно. Вероятно прав М. Финли, подчеркивающий сложность «полисной модели», поскольку «изолированная единица город-деревня существует только в примитивных обществах или в воображении утопических писателей».[101]
Так или иначе, при всем различии существующих точек зрения для классического периода можно вполне определенно говорить о процессе формирования города внутри полиса[102] игследовательно, о приоритете последнего над первым в эпоху, когда появляются рациональные утопические конструкции.
Проекты идеального полиса, созданные Фалеем Халкедонским, Гипподамом Милетским, Платоном и Аристотелем, не имеют аналогов в общественной мысли, предшествующей древнегреческой. Поэтому можно предположить, что в V — IV вв. создаются предпосылки для качественно новой формы утопического творчества, процесс возникновения которого является следствием размежевания между традиционными мифологическими представлениями и рациональным обоснованием общей картины мира.
Попытка всеобъемлющего анализа генезиса рационального утопизма в мировом культурно-историческом контексте была предпринята К. Ясперсом. Характерно, что введенное им понятие «осевое время» (т. е. величайший переворот в мировоззрении людей, возникновение в ходе борьбы «логоса против мифа» нового типа личности, свободного индивидуума,, впервые осмелившегося искать опору в самом себе) немецкий философ связывал с городской культурой I тыс. до н. э. (800 — 200 гг.). В существовавшем в данный период в Китае, Индии, на Ближнем Востоке и в Греции множестве небольших городов-государств, отмечает К. Ясперс, «шла борьба всех против всех, и при этом оказалось возможным поразительное процветание, рост могущества и богатства».[103] В таких социальных условиях «люди ощущают близость катастрофы, стремятся помочь пониманием, воспитанием, введением реформ ... Создаются теории, которые должны определить, как наилучшим образом устроить совместную жизнь людей, управлять и править ими. Реформаторские идеи подчиняют себе деятельность людей. Философы переходят из государства в государство, выступают как советники и учителя, их презирают и вместе с тем ищут, они полемизируют и соревнуются друг с другом. В социологическом аспекте существует прямая аналогия между неудачами Конфуция при императорском дворе государства Вэй и Платона в Сиракузах, между школой Конфуция, где воспитывались будущие государственные деятели, и академией Платона, которая ставила перед собой ту же цель».[104]
Рисуя широкое историческое полотно, Ясперс проходит, однако, мимо глубоких и качественных особенностей, отличавших полисную государственность от древневосточной. В результате параллель между Платоном и Конфуцием имеет слишком внешний, абстрактный характер. В данном случае мы сталкиваемся с трудностью особого характера. Ведь отмечаемый учеными «удивительный параллелизм в развитии»[105] отдельных областей общественной мысли в цивилизациях I тыс. до н. э., первоначально развивавшихся без контактов друг с другом, вполне мог возникать и при глубоких различиях самих типов мировоззрений.
Специфика античного мировоззрения, безусловно, определяется характером культурного переворота, начавшегося в Древней Греции, как уже отмечалось, в VIII в. Так, в книге А. И. Зайцева «Культурный переворот в Древней Греции VIII—V вв. до н. э.», во многом по-новому осветившей широкий круг аспектов «греческого Чуда», особо выделяется (неоднократно уже обсуждавшийся в научной литературе) вывод, согласно которому «возникновение как специфических форм систематизированного знания науки и философии, художественной литературы, качественно отличной от фольклора и от долитературных форм письменной словестности, наконец, революция в области изобразительных искусств» в конечном счете связаны с полисной демократией.[106]
Для понимания природы античной рациональной утопии не менее важное значение имеет не только этот бесспорный вывод, но и сам характер процесса зарождения полиса. Своеобразие данного процесса заключалось в том, что он был связан с целой серией стихийных «экспериментов» (растягивавшихся иногда на целые столетия), завершившихся созданием гражданской общины с характерной для нее «античной формой собственности» и непосредственным участием большинства граждан в решении государственных дел.
Рассматриваемому процессу была свойственна также крайняя неравномерность. В сложившихся к началу «архаической эпохи» (VIII в.) на развалинах микенской цивилизации раннегреческих полисах, в условиях господства родовой аристократии и возникновения ростовщичества стала углубляться имущественная дифференциация принявшая, например, в Аттике к концу VII в. такие размеры, что появилась вполне реальная «угроза превращения некогда свободных земледельцев в зависимых людей».[107] Однако и здесь, и в других областях Греции такое развитие было остановлено рядовыми общинниками — демосом. И произошло это потому, что при всем росте политического могущества греческая аристократия, представлявшая собой родо-племенную верхушку, еще не превратилась в полностью замкнутую, противостоящую демосу корпорацию; она обладала довольно ограниченным политическим опытом, так как после гибели микенской монархии «весь курс политической грамоты и государственного строительства грекам пришлось осваивать практически заново».[108]
Вот почему линия эволюции в направлении создания бюрократического аппарата подавления, наподобие древневосточного, оказалась сравнительно безболезненно (в исторических масштабах, конечно) прерванной, и восторжествовала тенденция, определяемая рядом исследователей как реставрация «на новой основе норм жизни времен родового строя».[109]
Таким образом, власть перешла в руки народного собрания, т. е. гражданского коллектива, составлявшего основу гоплитской фаланги — народного ополчения. «Фаланга и полис, — отмечает В. Г. Яйленко, резюмируя результаты исследования М. Детьяна, — это идентичные модели, обладающие одинаковой структурой. Самое существенное в типе человека, выдвинутого фалангой, — его „похожесть”: унифицированное вооружение, равенство позиции, одинаковая военная роль... Она адекватна полису, где каждый гражданин уподоблял себя остальным. Словом, военная и политическая модели совершенно одинаковы.. ,»[110]
Решающую роль в данном случае сыграло распространение в странах Средиземноморского бассейна в I тыс. до н. э. железа, что укрепило в Греции семейные (ойкосные) хозяйства как экономически, так и социально, значительно снизив стоимость вооружения воина-гоплита. И, безусловно, прав Г. Мюллер, писавший, что «железо было потенциально великой демократической силой».[111]
Осуществленная в такой форме реставрация оказалась не мимолетным эпизодом в жизни древнегреческого общества. Наоборот, она способствовала созданию долговременных в исторической перспективе предпосылок «античного пути развития», в ходе которого полис приобрел черты, коренным образом отличавшие его от городов Ближнего Востока, ставших важным элементом и опорой древневосточной деспотии.[112]
Экономические изменения, вызванные распространением железных орудий, оказали революционизирующее воздействие на всю совокупность общественных отношений, дав толчок развитию частной собственности и рабского труда. Но в рамках полисных структур, сложившихся к началу VI в., частнособственнические отношения развивались также в весьма специфической форме. Эта специфика была отчетливо выделена К. Марксом и Ф. Энгельсом в таком понятии, как «античная общинная и государственная собственность», внутри которой «наряду с общинной собственностью развивается уже и движимая, а впоследствии и не движимая, частная собственность, но как отклоняющаяся от нормы и подчиненная общинной собственности форма. Граждане государства лишь сообща владеют своими работающими рабами и уже в силу этого связаны формой общинной собственности. Это — совместная частная собственность активных граждан государства, вынужденных перед лицом рабов сохранять эту естественно возникшую форму ассоциации. Поэтому вся основывающаяся на этом фундаменте структура общества, а вместе с ней и народовластие, приходит в упадок в той же мере, в какой именно развивается недвижимая частная собственность».[113]
В этой сжатой, но глубокой характеристике подчеркнута внутренняя связь полисной демократии с «античной формой собственности». «Совместная частная собственность» означала не только право на вмешательство государства в хозяйственную деятельность граждан, право контроля над распределением земельной собственности,[114] но и активное участие большинства в осуществлении такого контроля. Этим целям отвечала система полисной демократии.[115]
Античные источники рисуют ясную картину государственных мер, направленных на регулирование социально-экономических отношений внутри полиса. Это и солоновская сейсахтейя (отмена долговых обязательств) и приписываемая Ликургу уравнительная земельная реформа в Спарте, систематические запреты и ограничения на продажу и покупку земли, регулярно устанавливаемые налоги на состоятельных граждан (в виде литургий или прямых конфискаций), законы против роскоши, бесплатные раздачи зерна малоимущим, наделение их землей за счет государства, введение платы за исполнение магистратур (вплоть до выдачи денег за посещение народного собрания в Афинах IV в.), регулирование численности населения путем выведения колоний и т. д.
Экспансионистская внешняя политика, порабощение соседних полисов, завоевательные экспедиции с целью приобретения рабов «естественно» дополняли меры, предпринимаемые общиной в конечном счете для поддержания внутри нее относительного имущественного равенства, без которого была немыслима политическая активность граждан.[116]
Все указанные тенденции и черты общественного развития, способствовавшие укреплению рабовладельческой демократии, создали экономические и социально-политические предпосылки для необычайного культурного расцвета.[117] Решающее значение в этом плане имел огромный прогресс политических и личных свобод по сравнению как с всеобъемлющей системой жестких,, не допускающих отклонения от установленных норм мелочных предписаний, регулирующих жизнь примитивных обществ дописьменной эпохи, так и бюрократической регламентации, характерной для государств Древнего Востока.
Повсеместное применение рабского труда[118] давало гражданам не только необходимый досуг для активного участия в решении государственных дел, но и открывало возможности для реализации интеллектуальных потребностей в самых различных сферах культуры. Последнему немало способствовали отсутствие в Древней Греции жречества как особой корпорации, обладающей монополией на «производство идей», относительно слабая роль традиционных религиозных представлений в регулировании повседневного поведения.[119]
Широкое развитие политических и культурных контактов между полисами, а также между греками и другими древними народами, достигшими высокого уровня цивилизации, расширяло умственный кругозор, вырабатывая активное отношение к жизни, предприимчивость, склонность к восприятию полезных изобретений и новшеств.[120]
Возникновение нового общественного и духовного климата, поощряющего творческие достижения на самых различных поприщах, стимулировалось и «агональным характером» греческой культуры, ведущим свое происхождение от гомеровской эпохи из образа жизни аристократии и распространившимся в процессе демократизации на другие социальные слои.[121] При всем огромном значении агона (т. е. духа соревнования; соперничества, постоянной борьбы за первенство) в самых различных сферах жизни греков нас интересуют прежде всего его политические аспекты, связанные с той ролью, которую он играл в реальной политической практике, значение, какое он имел для развития философии вообще и рационалистической утопии в частности.
Известно, что важнейшим оружием демоса в борьбе с аристократией явилось требование записи и кодификации правовых обычаев и норм. Реализация данного требования превращала «божественное» установление (θέμις) в человеческое — закон (νόμος), который «приобрел характер рациональной правовой идеи, подлежащей обсуждению».[122]
Полисная демократия, предоставлявшая каждому гражданину право высказывать свое суждение о законах, политических вопросах вообще, закрепляла принцип свободы критики и борьбы мнений. Уверенность в том, что «истина рождается р споре», стала у греков необходимым условием постановки и решения политических, юридических, философских и нравственных проблем.[123] Традиция прямой демократии в политической системе, небольшие размеры самих полисов, ограниченная численность гражданского коллектива усиливали указанные выше тенденции, закрепляя их на идеологическом и социальнопсихологическом уровнях. Философия и рациональная политическая теория едва ли смогли бы вообще возникнуть вне созданного полисом духовного климата, самого «стиля» полисной жизни.
Во всяком случае, трудно ставить под сомнение справедливость положения о неразделимости «диалога, диалектики и античной демократии»,[124] учитывая ту роль, которую в жизни древних греков играли ораторское искусство, живая речь вообще, становящаяся, по образному выражению Ж.-П. Вернана, «политическим орудием по преимуществу, ключом ко всей власти в государстве .. ,».[125]
В архаическую и классическую эпохи полисная идеология, безусловно, была основой, ядром общественной мысли, общественного сознания в целом. О воздействии полисной идеологии на формирование ранней античной философии вполне убедительно свидетельствуют уже космологические идеи досократиков. В научной литературе многие десятилетия продолжается дискуссия о том, насколько данные идеи обязаны своим происхождением древним космогоническим мифам, и в какой мере они отражают процесс становления рациональной картины мира. По многим аспектам этой дискуссии трудно прийти к определенному заключению из-за незначительности дошедших до· нас философских фрагментов VII — VI вв. В настоящее время многие исследователи разделяют точку зрения, обоснованную еще в 30-е годы В. Йегером и Р. Мондольфо, согласно которой появление «социоморфной модели космоса» у философов милетской школы было результатом проекции на природу принципов, сформировавшихся в русле общественно-политических (гражданско-правовых) отношений.[126]
Последовательно развивая указанную точку зрения, Ж.-П. Вернан видит основу возникновения греческой философии в самом процессе «секуляризации политической мысли».[127] Несмотря на очевидное преувеличение, такая постановка вопроса позволяет понять важнейшую сторону генезиса рационалистической утопии в. Древней Греции. Возьмем, например, знаменитый (единственный из дошедших до нас) фрагмент Анаксимандра: «А из каких (начал) возникают вещи, в те же самые они уничтожаются, согласно необходимости. Ибо они несут наказание и получают друг от друга возмездие в установленный срок времени» (В1 D-К). Присущий данному фрагменту налет «архаического синкретизма», обнаруживающий связь с мифопоэтической традицией, не скрывает вместе с тем в себе какого-то особого теологического подтекста.[128] Милетский философ очень образно сформулировал принцип законосообразности природы, вероятно, взяв в качестве аналогии судебную процедуру в полисе.[129]
Подобно привлеченным к суду на агоре людям, все вещи в мире как бы находятся перед судом вечной справедливости, неся наказание и получая возмездие за нарушение «божественного закона». «Эта имманентность закона возмездия в человеческой сфере, — отмечает Р. Мондольфо, — приводит Анаксимандра к мысли о такой же имманентности во всей природе», к: идее «универсальной законности».[130]
В конечном счете концепция космической справедливости как нравственно-правовой нормы, принципа правосудия основана на аналогии между космосом и государством, а также на представлении о человеке как элементе, частице космоса, целиком подчиненной его законам. Такой взгляд на природу вещей имеет ярко выраженную этическую направленность. В античном общественном сознании и политической мысли. связь этики и политики отражала нерасчлененность государства и общества, редкое для ранних ступеней развития цивилизаций единомыслие внутри гражданской общины. «В социальнопсихологическом плане чрезвычайно важно, что ни в одной прежней общине других типов чувство солидарности ее членов не было так сильно, как в полисе; полисная солидарность была одновременно и правом и обязанностью граждан, вплоть да того, что они в массовом порядке, не на словах, а на деле... ставили интересы полиса выше личных или узкосемейных».[131]
Принятие и обсуждение законов народным собранием вовсе не противоречило в сознании большинства греков мысли о неотделимости человеческих законов от «священной справедливости». В эпоху кризиса полиса такая внутренняя связь справедливости и закона нашла всестороннее отражение в утопической мысли. Так, развивая идеи Сократа об объективной природе справедливости, Платон видел ее идеальное воплощение как в космической по характеру иерархии в проекте, нарисованном в «Государстве», так и в совершенной системе законодательства в проекте «Законов».[132] По замыслу же главной героини комедии Аристофана «Женщины в народном собрании» Праксагоры, задуманный ею «коммунистический эксперимент» в Афинах мог быть осуществлен только в результате политического переворота путем принятия экклесией нового закона, передающего женщинам всю полноту власти.
Далее на конкретном материале мы увидим, что «парадокс» большинства античных утопических проектов заключался в: том, что в их рамках были доведены до крайности, до абсолюта (а подчас и до абсурда) основные черты полисной идеологии,, в том числе абсолютизация роли закона, его «обожествление». Чем радикальнее выглядели эти проекты по форме, тем более выступали на передний план их глубоко консервативные содержание и направленность.
Поэтому для античной утопии в неменьшей степени, справедлива характеристика, данная К. Марксом «фундаментальному заблуждению» утопистов нового времени. Объектом критики было прежде всего «непонимание необходимого различия между реальной и идеальной структурой буржуазного общества и вытекающее отсюда желание предпринять совершенно излишнее дело: претворить опять в действительность само идеальное выражение, просветленное ... и самой действительностью как таковой из себя отбрасываемое рефлектированное отображение [этой же действительности]».[133]
Такого же рода «непонимание» было свойственно авторам наиболее полно разработанных утопических систем — Платону и Аристотелю, не только проецировавших на действительность свои представления об идеальном полисе, но и страстно желавших их осуществления на практике в эпоху, когда сама эта действительность уже начинала отрицать сложившуюся в классический период полисную государственность.
Вместе с тем следует подчеркнуть, что механизм абсолютизации полисных черт в античных утопиях был детерминирован и особенностями «футурологических» взглядов их создателей. Большую часть деталей для своих построений они черпали из идеализируемого ими прошлого. Именно в этом в своеобразной форме проявлялся консервативный, традиционный характер полисной идеологии, нередко в сознании современных исследователей вступающий в противоречие с общим направлением развития греческой культуры. Предпочтение, отдаваемое утопистами исторической ретроспекции, нельзя, однако, рассматривать изолированно, вне связи с экономическим базисом, с основными тенденциями развития античного общества.
Как верно заметил Э. Д. Фролов, «парадокс греческой истории состоит в том, что основной ее тенденцией было непрерывное и в общем малоуспешное стремление к преодолению полиса: непрерывное в силу несоответствия однажды установившихся полисных принципов (экономическая автаркия, политический партикуляризм, сословная исключительность и т. п.) дальнейшему общественному прогрессу, а безуспешное ввиду того, что попытки преодоления полиса осуществлялись на полисной же основе ... Можно сказать, что жизнь древнегреческого общества была жизнью полиса, но что самая эта жизнь проходила в форме непрерывного ее отрицания».[134]
Большинство утопических проектов IV в. не «преодолевали» полис, а, наоборот, стремились как раз преодолеть отрицающие его исторические тенденции, выступая тем самым в качестве одного из важнейших идейных средств полисной реставрации. В этом плане очевиден параллелизм между развитием утопической мысли и теми реальными общественными движениями в античности, участники которых воодушевлялись теми же реставраторскими целями.
Как уже отмечалось, гарантом политической стабильности внутри греческих государств было поддержание относительного равенства прав собственности на землю в гражданском коллективе. Именно на это была направлена большая часть мер, ограничивающих куплю-продажу земельных участков, ростовщичество и т. д. Непосредственной целью таких мер было сохранение независимости «самодовлеющих» (автаркических) ойкосов — основы личной свободы индивида и независимости полиса как государственного целого. Например, отнюдь не случайно Аристотель сравнивает семейное хозяйство с монархией, отмечая в «Политике», что «каждый ойкос управляется монархически» (I 2, 21).
Исключительное значение идеала автаркии (полиса и личности) в античной философской и политической мысли было непосредственно связано с консервативным экономическим базисом. В условиях крайней ограниченности технического прогресса целью античного производства было не богатство (хотя его значение вовсе не отрицалось античными писателями[135]), но, как писал Маркс, «воспроизводство образующих общину индивидов как собственников».[136] Такая ориентация производственной деятельности предопределяла глубокий традиционализм массового сознания и «античной правовой психологии».[137]
Вполне понятно, почему в эпоху становления классического полиса (Афины времен Солона и Писистрата) и в период его кризиса в IV в. борьба против разрушающих небольшие ойкосные хозяйства ростовщичества и крупной земельной собственности в идеологическом плане выражалась в виде лозунга восстановления «республики крестьян»,[138] призывов к «реформе под флагом реставрации» порядков, существовавших в «старые и добрые времена» у предков. Политика Солона и Писистрата в Афинах, а также реформы Агиса и Клеомена в Спарте проводились под лозунгом возврата к «древней справедливости». Вторжение в отношения собственности, перераспределение земли закреплялись в законодательном порядке, основными принципами которого были принятие и проведение в жизнь нового закона под видом старого, либо при помощи приема, названного С. Я. Лурье «консервативной юридической фикцией», когда «новый закон формулируется как разъяснение или дополнение к старому, которому он, по существу, часто прямо противоречит».[139]
Прославление тирании Писистрата аттическими крестьянами как «золотого века», с одной стороны, и идеализация афинскими политическими теоретиками IV в. «отеческого государственного устройства» (πάτριος πολιτεία)[140] и «нрава предков» (mos maiorum) в Риме в конце II — первой половине I в. — с другой, при всем различии идеологических уровней лишь воспроизводили основные полисные социально-психологические стереотипы.
И осуществляемые реформы, и предлагаемые мыслителями проекты преобразований касались исключительно свободных граждан, оставляя без внимания положение огромной массы непосредственных производителей — рабов. Спорадически встречающиеся в античной общественной мысли идеи равенства «по природе» рабов и свободных не могли получить сколько-нибудь широкого распространения в обществе, в котором «равенства всех людей — греков, римлян и варваров, свободных и рабов, уроженцев государства и иностранцев, граждан государства и тех, кто только пользовался его покровительством, и т. д. — представлялось ... не только безумным, но и преступным .. .».[141]
Гражданский коллектив в полисе независимо от формы правления всегда выступал как обособленная от всех других прослоек населения корпорация.[142] Основанная на таком фундаменте политическая и социальная «гармония», конечно не могла существовать долго. Прогрессирующее развитие частной собственности в IV в. сделало кризис полиса перманентным. Выстояв на раннем своем этапе (благодаря прочной военной организации) в борьбе с гигантской персидской державой, греческие города-государства в новую историческую эпоху не смогли защитить свою независимость, столкнувшись с агрессией окрепшего македонского царства.
Появление утопических проектов явилось важнейшим симптомом углублявшегося кризиса. Однако предложенные в них средства спасения не выходили, в сущности, за рамки традиционного реформаторства. «... Каждый античный социальный реформатор,—писал С. Я. Лурье,—какого бы высокого мнения он ни был о своей свободной воле и какою бы „историческою личностью” он себя ни считал, обычно давал „своему свободному уму” „влечь себя” только во внешней форме своих реформ, в теоретических введениях, во фразеологии или же в мелочах; в главном и основном он либо шел по течению, либо выбирал линию наименьшего сопротивления, т. е. проводил под видом революционных романтически-реакционные меры, которые уже вследствие вековой привычки к ним должны были охотнее приниматься обществом, чем что-либо другое ...»[143]
Сочетание ориентации на наиболее архаичные и поэтому казавшиеся образцовыми формы государственного устройства (особенно на Спарту и Крит) с доведением до крайности указанных выше государственных мер, направленных на полное пресечение разрушающих полис тенденций, — типичные черты многих утопических проектов. Например, предельная централизация управления в платоновском «Государстве» в руках философов-стражей, жесткая иерархия сословий соединяются с ликвидацией внутри двух высших сословий— философов и воинов — частной собственности и семьи, введением «совместных трапез» по критско-спартанскому образцу.
Установление сословной иерархии, уничтожение собственности и семьи у управленческой верхушки — все эти меры, радикально решавшие, согласно Платону, проблему стабилизации отношений внутри полисов, имели, однако, ярко выраженную антидемократическую направленность, подрывая тем самым ту политическую форму, в которой действительно мог осуществляться идеал автаркии.
В этом проявляется и другая важная черта рационалистической утопии в Греции IV в. — ее «аристократизм», который нельзя, однако, полностью отождествлять ни с интересами старой землевладельческой аристократии, боровшейся в полисах с демократической партией, ни с элитарной аристократической тенденцией в управлении, сохранявшей свое значение даже в период расцвета древнегреческой демократии.[144]
В Древней Греции представление о «правлении лучших» сравнительно рано (вероятно, уже у пифагорейцев) приобретает черты интеллектуального аристократизма (имеющего нередко явно выраженный утопический подтекст), отражая, по выражению С. Хэмфрис, сложный процесс «дифференциации интеллектуальных ролей», находящийся, в свою очередь, в тесной связи с «трансцендентными импульсами», которые исходили от философских школ, выдвигавших собственные критерии оценки государственных институтов.[145]
На наш взгляд, справедливо наблюдение Ж-П. Вернана (который, впрочем, следовал здесь во многом за В. Йегером), отмечавшего, что две противоположные тенденции в греческой политической мысли (аристократическая и демократическая) стояли по существу на одной почве, апеллируя к принципу равенства (ΐσόχης). Но если демократическая мысль выдвигала на передний план лозунг «равенства перед законом» (ισονομία), то аристократическое направление, исходя из концепции «благозакония», отождествляло последнее с «космосом, созданным из различных частей, которые закон поддерживает в состоянии иерархического порядка».[146] Античная рационалистическая утопия, до предела развившая концепцию государства как «единого организма», может, таким образом, рассматриваться как своеобразное логическое завершение поисков консервативной политической теорией выхода из противоречий, с которыми она столкнулась в IV в.
Равенство стражей — философов и воинов у Платона, соединенное с иерархическим соподчинением всех сословий в совершенном государстве, в абсолютизированной форме отражало коренную черту античной правовой мысли, воссоздавая одновременно на идеальном уровне архаическую структуру, свойственную полису на ранних ступенях развития.[147]
Сословно-правовой подход к социальным отношениям являлся в античной древности господствующим, так как «в рамках античного общества процесс классообразования не доходит ... до своего „логического конца”, т. е. не приводит к формированию „чистых”, по терминологии Ленина, „бессословных” классов ... вообще частнособственнические отношения в древности никогда не достигают такой степени развития, чтобы производственно-экономический показатель мог полностью и однозначно определять положение в обществе как отдельных лиц, так и социальных группировок. По той же самой причине классовые отношения (и различия) в древнем обществе всегда затенены, ,,опутаны” и как бы отодвинуты вглубь традицией и правовыми нормами».[148]
Вместе с тем консервативные утопические проекты не могут рассматриваться, например, в качестве разновидности «официальной утопии», поскольку, будучи антидемократическими по своему содержанию, они имели весьма мало шансов оказать воздействие на реальные политические процессы, например, в Афинах. Введение Платоном «демократического элемента» (в рамках концепции «смешанной конституции») в идеальный проект «Законов», равно как и попытка интегрировать элементы народной утопии (прежде всего миф о «жизни при Кроносе») в своем философско-историческом учении не имели практического выхода и носили чисто умозрительный характер.
В то же время сама установка на использование правителями платоновского идеального государства мифов с целью идеологической обработки низшего сословия имело вполне определенную параллель с политикой манипулирования народноутопическими представлениями, проводимой такими государственными деятелями, как Писистрат и Октавиан-Август.
Но прежде чем продолжить исследование соотношения теории и политической практики в античную эпоху, необходимо остановиться на последнем вопросе, имеющем важное методологическое значение, а именно на классификации античных утопий, исходя из сформулированных выше общих выводов о характере и социальных функциях утопизма в системе полисной идеологии.
По данному вопросу в научной литературе можно найти, пожалуй, еще больше разногласий, чем по вопросу об определении утопии. На наш взгляд, основная причина таких расхождений скрыта в стремлении многих ученых рассматривать проблему классификации в очень широком плане или же слишком абстрактно. В ряде исследований нередко допускается отождествление анализа типологических уровней, в которых кристаллизуется социальный утопизм в любом классовом обществе, с проблемой историко-культурного своеобразия отражения этих уровней в литературных и философских произведениях той или иной исторической эпохи.
«Сквозной» анализ огромной литературной продукции, накопленной за тысячелетия развития утопической мысли, с целью свести ее к некоему «общему знаменателю», привлекателен только на первый взгляд. Его результаты почти всегда оказывались незначительными и непропорциональными по отношению к затраченным исследователем усилиям.[149] Например, большой популярностью у социологов до сих пор пользуется схема, разработанная Л. Мамфордом в его ранней книге «История утопий», в которой образы идеальной счастливой жизни функционально разделялись на «утопии бегства» и «утопии реконструкции». «Первая функция, — писал Мамфорд, — бегство или компенсация. Эта попытка немедленного избавления от трудностей и превратностей нашей судьбы. Другая представляет собой стремление обеспечить условия нашего освобождения в будущем ... Утопия реконструкции является тем, что предполагает ее собственное название, а именно: видением преобразуемой среды, лучше приспособленной к природе и целям человеческих творений ... и более соответствующей их. возможному развитию. Если первая утопия ведет назад к „Я" утописта, то вторая устремлена вовне, к миру».[150]
Как видно из контекста рассуждений Мамфорда, под реконструкцией он понимал и перестройку мыслящим рассудком окружающей среды, и «воссоздание» им in abstracto новых отношений, и установку на практическую реализацию задуманного проекта. Под «бегством», очевидно, подразумеваются легенды и мечтания типа картины «золотого века». В настоящее время-это разделение принимается (правда, с некоторыми несущественными оговорками) и рядом ученых — специалистов в области античной общественной мысли. Например, И. Фогт (автор капитального исследования «Античное рабство и идеал человека») считает классификацию Мамфорда «достаточно широкой, чтобы охватить многообразие идей, возникших у греков относительно наилучшего мира».[151]
Однако, подобно тому, как предложенная А. Дореном демаркационная линия между «желаемым пространством» и «желаемым временем» является просто фиксацией двух взаимосвязанных моментов внутри утопического сознания, бегство и реконструкция нередко выступают в нем тоже в нераздельном единстве.[152]
К примеру, в утопиях эпохи эллинизма в бегстве от действительности (в форме путешествия в экзотические страны или идеализации примитивных народов, живущих «по природе») отчетливо проступает критический элемент, неразрывно связанный с конструированием картины счастливой жизни, противопоставленной реальным общественным отношениям.[153]
На наш взгляд, представляется малоперспективной и попытка видного исследователя античности М. Финли развить схему Л. Мамфорда путем более рельефного подчеркивания различий между утопиями древности и нового времени. Выдвинув на! передний план фундаментальное, по его мнению, разграничение между статической и динамической утопией, или аскетической утопией и утопией, удовлетворяющей желания, с одной стороны, и эгалитарной и иерархической утопией — с другой, исследователь постулировал для античных утопических проектов изначальные аскетизм и иерархичность.[154]
Полемизируя с учеными, не признававшими подобного ограничения (например, с Г. Браунертом[155]), Финли был вынужден, однако, признать наличие «аскетических тенденций» как в ранних утопиях нового времени, так и в утопиях XIX в. у Г. Торо, У. Морриса, в оуэнистских и фурьеристских колониях в США и т. д.[156]
Но если аскетизм и иерархичность свойственны утопическим проектам на протяжении всех этапов исторического развития, то предложенная Финли спецификация античной утопии лишается всякого смысла. Его схема, равно как и классификация Мамфорда, приобретают смысл только в предельно широком историческом контексте, если их рассматривать с точки зрения переворота, который произошел в развитии мировой утопической мысли с появлением социалистических и коммунистических проектов Сен-Симона, Фурье, Оуэна и их последователей. Сознательная ориентация этих утопистов на результаты промышленной революции, на гигантский рост производительных сил, открывавший бесконечные возможности для формирования гармонически развитой личности, достижения подлинного равенства на основе общественного благосостояния, действительно превращала (но только в исторической перспективе) предшествующую утопическую традицию в «статическую», «убегающую» от действительности.
Но вместе с тем каждая историческая эпоха имеет собственное, связанное с особенностями эволюции общественного бытия, соотношение утопической динамики и статики. Динамика античного утопизма была, например, изначально заложена в самой природе интеллектуального эксперимента, свойственного многим направлениям философской мысли в Древней Греции. «Государство» Платона — ярчайшей пример подобного мысленного эксперимента, т. е. проверки правильности рассуждения о природе справедливости путем мысленного конструирования идеального государства, проверки, перерастающей в поиск реальных средств воплощения «идеальной модели» в жизнь.
Быть может, именно в данной черте, как ни в чем другом, выявляется парадоксальность древнегреческой общественной мысли. В условиях консервативной по преимуществу идеологии, теснейшим образом связанной, как уже отмечалось, с системой консервативных полисных социально-экономических отношений, в эпоху культурного переворота получает необычайное развитие интеллектуальное экспериментирование, не страшащееся постановки вопросов о несправедливости рабства, о равенстве всех людей «по природе», о правомерности существования той или иной формы правления и т. д.
Таким образом, исследователю, стремящемуся построить анализ утопических идей, исходя из принципа историзма, приходится в конечном счете признать, что любая классификация утопий «имеет познавательную ценность лишь в том случае, если ориентируется «а конкретно-исторический контекст».[157]
На наш взгляд, из современных исследователей вполне последовательно удалось провести конкретно-исторический подход к классификации античных утопий только итальянскому ученому А. Джаннини, хотя его анализ касается самого раннего периода.[158] Исходя одновременно из идей Мамфорда и Роде, Джаннини стремился представить эволюцию «утопии бегства» или «сентиментальной идиллии» от мифа к реальности. Этой цели отвечает разделение исследователем раннеутопических идей на мифические, фантастические и исторические. Легенды о «золотом веке» и «островах блаженных» рассматриваются как обращенные соответственно в прошлое и будущее представления о рае (земном и небесном), в то время как мысленный переход от фантастической страны Кукканьи к историческим преданиям, идеализирующим примитивные народы, является результатом постепенной рационализации утопической мысли.
Выделенные Джаннини формы представляют собой, однако, не что иное, как пространственно-временную «развертку» схемы развития народно-утопических легенд, поскольку, как уже отмечалось, мифический, фантастический и реалистический элементы нередко выступают объединенными в одном и том же утопическом повествовании.
Таким образом, проблема классификации античных утопий остается открытой, и мы снова сталкиваемся с необходимостью охарактеризовать, исходя из исторических особенностей античной общественной мысли, те направления в развитии социального утопизма, которые, не противореча общим определениям, свидетельствуют об уникальности античной утопической традиции.
В этом плане мы считаем целесообразным выделить два основных подхода к классификации античных утопий: историко-генетический и функциональный. С точки зрения первого подхода, отражающего эволюцию общественной мысли «от мифа к логосу», утопии можно разделить на «мифические» и «рационалистические». Функциональному же подходу будет соответствовать разделение утопий на «полисные» и «неполисные».
Разумеется, различия между обоими подходами являются в известном смысле условными. В рамках и того, и другого имеется довольно четкое соотношение логических и исторических моментов. Понятие «мифическая утопия», уже неоднократно употреблявшееся в научной литературе,[159] включающее в себя все многообразные варианты легенды о «золотом веке», не противостоит вместе с тем рационалистическим утопическим проектам абсолютно. Именно на примере античной общественной мысли можно достаточно ясно видеть постоянное взаимопереплетение мифа и утопии, свойственное практически всем историческим эпохам. Специфика античного варианта заключается в том, что отношение мифа к утопии может быть представлено одновременно и в виде прямой исторической последовательности, и в плане постоянного взаимодействия. «.. .Подобно тому как философия сначала вырабатывается в пределах религиозной формы сознания и этим, с одной стороны, уничтожает религию как таковую, а с другой стороны, по своему положительному содержанию сама движется еще только в этой идеализированной, переведенной на язык мыслей религиозной сфере»,[160] возникновение рационалистической утопии вовсе не означает окончательного разрыва с мифом о «золотом веке». Этот миф постоянно используется античными утопистами в самых различных формах, не только не утрачивая своего значения, но даже обогащаясь в результате его рационалистической переработки.
Проблема соотношения мифа и утопии в широком философском и культурно-историческом плане вследствие своей масштабности выходит за рамки нашего исследования. Следует, однако, остановиться на некоторых важных, с нашей точки зрения, аспектах этого соотношения применительно к проблеме классификации античных утопий.
Огромное количество противоречащих друг другу определений мифа в научной литературе[161] с необходимостью должно побуждать любого исследователя, занимающегося разработкой какого-либо частного вопроса, либо выбирать из имеющихся дефиниций наиболее подходящую для целей его исследования, либо создавать свое собственное определение.
Для того чтобы лучше представить роль мифов в древнегреческой утопической традиции, можно взять, к примеру, одно из наиболее простых научных определений, сформулированное А. И. Зайцевым следующим образом: мифы — это «варьирующиеся в устной или письменной традиции повествования, включающие в себя элементы сверхъестественного и притом такие, в реальность которых верят».[162] Главное достоинство этого «элементарного» определения заключается, с одной стороны, в подчеркивании органической связи мифа с религиозными верованиями, а с другой — с устным народным· творчеством, с фольклором.
Как уже отмечалось, миф о «золотом веке», широко распространенный в фольклоре различных народов, в древнегреческой мифологии играл этиологическую функцию, т. е. был создан для объяснения весьма древних по происхождению ритуальных празднеств, не имевших первоначально, как, считают некоторые исследователи, связи с представлением о «природном» равенстве людей.[163] Однако этиологический характер легенды о «жизни при Кроносе» уже неотделим в гесиодовском эпосе (где эта легенда встречается впервые) от ее утопического контекста, связанного с противопоставлением идеализируемого прошлого несовершенной действительности.
Но в рамках такого противопоставления вполне отчетливо проявляется разложение традиционной архаической мифологии, которой никогда не была свойственна социально-критическая функция. «Мифологическое „мышление”не различает природное и человеческое, естественное и сверхъестественное, чувственное и сверхчувственное; оно смешивает фантастическое (сказочное, волшебное, магическое) с реально существующим, идеальное с реальным, невозможное с возможным, желаемое с действительным».[164] Следовательно, уже в фольклорном варианте проявляется «демифологизирующая» функция утопии, о которой так любят писать современные исследователи.[165]
Вместе с тем процесс демифологизации утопического сознания в Древней Греции и Риме никогда не мог дойти до своего «логического конца», т. е. до полного отрицания мифических элементов. И в этом плане развитие утопической мысли четко отражало общий характер соотношения религиозно-мифологических и рациональных представлений в античной культуре.
В греческих полисах ситуация во многом осложнялась пестротой оттенков религиозных настроений и верований. «Для греков времен Платона, — отмечает А. Бортолотти, автор исследования, посвященного эволюции религиозных идей в платоновском творчестве, — то, что мы называем религией, означало, несомненно, многие и различные вещи: многие и различные потому, что у различных классов и сословий в различных городах и областях Греции верования и культы были достаточно разнообразны и одни и те же проблемы... часто осознавались различным образом. Различные способы понимания религии, различные верования, различные формы культа сосуществуют часто в то же самое время в том же самом городе, а нередка и в одном и том же человеке».[166] Поэтому нет ничего удивительного в том, что обращение к мифологическим образам и даже создание новых мифов представлялось античным идеологам наиболее естественным и доступным способом достижения понимания со стороны сограждан, к которым они обращали свою проповедь общественных изменений. Например, в диалогах Платона можно найти самые различные мифологические уровни и пласты, в том числе и собственные «платоновские мифы», не имеющие «абсолютно ничего общего с мифологией в собственном смысле».[167]
В известном смысле проблема соотношения мифа и утопии возвращает нас, правда, на ином уровне, к фундаментальному соотношению, к дилемме «народная — литературно-теоретическая утопия». Если верно исходное положение, согласно которому утопизм возникает в результате разложения традиционной мифологии, сохраняя вместе с тем глубинную внутреннюю связь с подвергшимся рационализации мифом, то не менее справедливым будет предположение о взаимодействии утопии буквально с момента ее возникновения с другими фольклорными жанрами, также близко стоявшими к традиционным народным мифологическим представлениям.
Для раннего этапа следует обратить внимание на сходство ряда элементов утопии и волшебной сказки. Анализ современной фольклористикой особенностей волшебной сказки, ее мифологической основы и отличий от мифа во многом способствует, на наш взгляд, и пониманию исходных начал утопического творчества. Решающими моментами, позволяющими рассматривать волшебную сказку в качестве своеобразной параллели к народно-утопическим легендам, являются, во-первых, сходный характер «удвоения мира» в утопии и сказке, а во-вторых, время появления обеих.
Характерное для большинства религий удвоение мира,, т. е. определяемое, по-видимому, психологическим механизмом компенсации противопоставление подлинной и иллюзорной реальности,[168] приобретает в утопии и сказке качественно новые направленность и смысл, фиксируя оптимистическое в своей основе стремление к изменению мира хотя бы в области художественной фантазии.
В счастливом конце волшебных сказок — в победе героя над своими врагами, олицетворяющими силы зла, в жестоком наказании злодеев — во всех этих чертах сказочных фольклорных сюжетов проявляется «отклик на настоящее, имеющий фантастическую форму», как результат «возникшего в народном сознании противоречия, в котором запечатлен исторический опыт поколений».[169]
В этом плане вполне правдоподобной представляется гипотеза А. И. Зайцева, относящего время возникновения волшебной сказки к тому же периоду, что и возникновение утопической мысли, т. е. не раньше I тыс. до н. э.[170] И действительно, генезис и утопизма, и волшебной сказки как фольклорного жанра становится объяснимым только в сопоставлении с трансформацией религиозного сознания, которая происходит в период «осевого времени» в рамках отрицающих мир зла зороастризма, буддизма, орфизма — с одной стороны, и с культурным переворотом в Греции — с другой. Впервые появившаяся у людей в эту эпоху «способность рассматривать мир, в котором живет человек, не как нечто безусловно данное, а как объект, который можно весь в целом принимать, отвергать, ставить под сомнение, пытаться переделывать»,[171] открывает возможность для самых неожиданных проявлений активности общественного сознания, в частности для активной переработки утопическим сознанием предшествующих ему и параллельно возникающих форм общественной мысли. Например, в гомеровском эпосе можно встретить самое причудливое переплетение возникающей утопической традиции как с фольклорно-сказочными сюжетами, так и с зачаточными элементами рациональной политической мысли, не говоря уже о традиционной мифологии.
И в более поздние периоды миф и утопия сосуществуют и взаимодействуют в самых различных параметрах. Например, отождествление Платоном структуры своего идеального государства с «трехчастной структурой» космоса не является свидетельством полного растворения утопии в мифе в политической мысли IV в. и отнюдь не должно отодвигать на задний план теснейшую внутреннюю связь утопических построений афинского мыслителя (и не только его одного) с представлениями о роли числовой симметрии и гармонии, возникшими под влиянием бурно развивавшейся греческой математики.[172]
В социологическом плане обращение утопистов к элементарным числовым конструкциям, напоминающим мифологические образы вселенной, может рассматриваться и как вполне сознательная тенденция к архаизации, как стремление облечь свою мысль в близкие массовому сознанию мифологические формы.
Вместе с тем сама эта тенденция имеет довольно сложные характер и структуру. Нельзя, например, рассматривать исключительно как архаические уже отмеченные выше ориенталистские мотивы в античных утопиях, нередко вращающиеся вокруг темы «идеального правителя». В дальнейшем на конкретных примерах мы покажем, что данные мотивы не обнаруживают никакого сходства с «царским мифом» древневосточных идеологий, но вытекают из общего хода эволюции античной политической мысли, отражавшей кризис полисной демократии и повсеместно возникавшие элементы авторитаризма как в формах, так и в методах политического господства.
Автократическое направление, получившее в дальнейшем полное преобладание в период эллинистических монархий, хотя внешне и вступало в противоречие, например, с картиной «философского образа жизни» в утопиях Платона и Ямбула, однако находилось в полном соответствии с развивавшимися под влиянием кризисной ситуации внутренними психологическими стимулами утопического творчества, выражавшимися в стремлении всеми средствами остановить нежелательное развитие событий.
В области утопической фантазии такие стремления закреплялись в попытке оградить идеальное государство от пагубных влияний внешнего мира. Расположенное на далеком острове или в труднодоступной местности государство, по мысли его творца, достигает абсолютной автономии и автаркии. Географическая изоляция дополняется всеобщим регулированием общественной и личной жизни, находящим внешнее выражение в четкой фиксации геометрически очерченного утопического пространства. Центральное положение дворца или храма, возникающих, подобно точке, вписанной в круг, посреди обнесенного стеной (или несколькими рядами стен) идеально круглого города, ограниченное число его жителей, жесткая регламентация их образа жизни, доходящая до полной стандартизации норм поведения и даже внешнего облика, — таковы некоторые основные черты утопий, впервые появившиеся в античную эпоху и ставшие неотъемлемыми атрибутами утопической мысли вплоть до наших дней.
Эти общие моменты утопий, конечно, неотделимы от позиции законодателя, с которым внутренне отождествляет себя автор того или иного проекта.[173] Устанавливая раз и навсегда систему законов (принципов) нового общества, «идеальный законодатель» тем самым отрицает возможность любых дальнейших изменений, обнаруживая антипрогрессивную направленность своего мышления.
И здесь мы подошли к тому моменту, в котором, быть может, с наибольшей наглядностью выявляются как причины склонности античных утопистов к мифологическим схемам, так и истоки взаимодействия между мифом и утопией в данную историческую эпоху.
Для античности «утопический этернализм» свидетельствует прежде всего об определенной преемственности в восприятии времени между периодом греческой архаики и периодом расцвета и упадка полисной культуры. Отмеченный выше ретроспективный характер античных утопических построений был во многом обусловлен временными представлениями, характерными и для мифологической картины мира. «У греков, — отмечает А. Я. Гуревич, — временные восприятия оставались под сильнейшим воздействием мифологического осмысления действительности. Время лишено гомогенности и хронологической последовательности и, подобно пространству, не стало еще абстракцией. Мир воспринимается и переживается древними греками не в категориях изменения и развития, а как пребывание в покое или вращение в великом кругу».[174]
Конечно, античности отнюдь не чуждо понимание значения изменения и развития. Но все дело в том, что сам характер изменения воспринимается лишь по отношению к неизменным «вечным» основаниям — будь то космос или же «природа человека». Именно этим основаниям отдается явное предпочтение. Элементы историзма и реалистической трактовки событий соединяются, например у Фукидида, с мыслью о неизменности человеческой природы, предопределяющей повторение тех бед, которые обрушиваются на государства (III,82,2). Возникшие в V в. под влиянием науки и философии оптимистические в своей основе идеи о закономерном, поступательном развитии человечества от звероподобного состояния к цивилизации были вскоре оттеснены представлениями о вечном круговращении мировых космических периодов, которым соответствует идея кругооборота государственных форм, ставшая одной из ключевых в утопической мысли Платона и философско-исторической концепции Полибия.[175]
Лежащая в основе платоновской философско-исторической концепции идея деградации человеческого общества от эпохи божественного правления («века Кроноса»), фатально предопределившей вечное взаимопревращение государственных форм, в своем исходном пункте оказывается тождественной мифическо-утопической легенде о «пяти веках» у Гесиода.
В итоге античная рационалистическая утопия попадает в тот же замкнутый круг, в котором вращаются и народно-утопические легенды и мифы. Оставшийся позади «золотой век» вновь обретает контуры в идеальном государстве, являющемся несовершенной попыткой максимального приближения к когда-то утраченному блаженному состоянию. Картине «перевернутых отношений» соответствует радикализм утопических построений. Роль героя-спасителя, устроителя счастливой жизни играет идеальный законодатель. С его миссией связываются почти мессианские надежды на восстановление абсолютной справедливости, «естественного состояния», в котором человек обретет вновь свою истинную природу при помощи программы философского воспитания.[176]
Обращение к мифу не вело, однако, автоматически к утрате рационалистической утопией полисного характера. Античный мир вообще не знает принципиально антиполисных утопий.[177] Функциональное размежевание утопий на полисные и неполисные необходимо, с нашей точки зрения, прежде всего с целью отделения реставраторских Тенденций в утопическом конструировании, включающем в себя идеализацию «ликургова космоса», древневосточной иерархии и деспотии и т. д., от описаний «естественного состояния» жизни идеальных общин, например, у Ямбула, идеализации жизни варваров вплоть до универсалистских идей стоиков или же отрицания традиционных норм жизни и даже государственности у некоторых представителей софистического направления и школы киников.
Политические взгляды последних нельзя, однако, анализировать вне контекста полисной культуры. Как мы увидим далее, «античный нигилизм» даже в самых его крайних формах (например, анархистское обоснование софистом Антифонтом «противоестественности» любого закона или же отрицание киниками достижений цивилизации и идеализация ими «звероподобного состояния») может также рассматриваться как форма гиперболизации ведущего идеала античного мировоззрения — идеала автаркии.
Выдвигая принцип «автаркии личности» в противовес приходившей в упадок полисной государственности, политическая мысль киников и стоиков (особенно на ранней стадии) нередко демонстрирует то же реставраторское стремление к поиску новых форм объединения людей на основе законов разума.
Именно в этой связи становится понятным, почему стоический «космополис», равно как и ведущие «философский образ жизни» идеальные общины, создаваемые фантазией утопистов эллинистической эпохи, включают в себя многие элементы рационалистической утопии, разработанные Платоном и Аристотелем.
Развитие неполисных черт внутри рационалистических утопий всегда имело противоречивый характер, отражая, на наш взгляд, реальное противоречие в формировании механизма жизнеобеспечения внутри эллинистических монархий, а затем и Римской империи. В обеих полис, как городская самоуправляющаяся община, оставался всегда важнейшим, незаменимым элементом государственной структуры.[178]
Это обстоятельство, безусловно, обеспечивая преемственность в культурном развитии, во многом предопределяло, в частности, и пути трансформации политической теории и социально-утопической мысли. Достигнутый ими в IV в. уровень оставался вплоть до гибели античного мира тем эталоном, на который всегда ориентировались философы и политические мыслители последующих веков в разработке своих утопических проектов.
Глава II. ГЕНЕЗИС СОЦИАЛЬНОЙ УТОПИИ
§ 1. ЭЛЕМЕНТЫ УТОПИЗМА В ИДЕОЛОГИИ ДРЕВНИХ ОБЩЕСТВ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА
Где находится родина Утопии? Попытка ответить на этот вопрос, прибегая сразу к языку географических координат, вероятно, окажется безнадежной. Однако если сопоставить Утопию и Время, исследователю откроется перспектива, в которой временные и пространственные линии рано или поздно неизбежно соприкоснутся. Поэтому первоначальный ответ звучит просто — родина Утопии лежит в Прошлом. Общее содержание такого ответа прекрасно передают слова пушкинского летописца в «Истории села Горюхина», историческая точность которых нисколько не страдает от вложенного в них поэтом иронического смысла: «Мысль о золотом веке сродна всем народам и доказывает только, что люди никогда не довольны настоящим и, по опыту имея мало надежды на будущее, украшают невозвратимое минувшее всеми цветами своего воображения».[179]
В справедливости приведенных слов можно убедиться на примере ранних письменных памятников Междуречья и Египта. Конечно, представления древневосточных народов о прошлом далеко не всегда вписываются в парадигму «золотого века». Но именно появление уже в глубокой древности противоречивых в ценностном отношении взглядов на прошлое дает правильный ориентир для поисков источников утопического сознания.
Взгляд на прошлое в любую эпоху всегда опосредован доминирующей в общественном сознании концепцией времени. Нами уже рассматривались некоторые аспекты дискуссии, затрагивающей такую фундаментальную проблему, как специфика восприятия времени в различных культурах. Характерно, что ученые, настаивающие на принципиальной несовместимости временных представлений древних греков и ближневосточных народов, как правило, не касаются вопроса — почему даже на материале Древнего Востока исследователи до сих пор не в состоянии свести к какой-либо целостной картине свидетельства древнеегипетских, древневавилонских, древнееврейских и других источников и решить, наконец, какой тип «темпорального переживания» наиболее адекватно выражает взгляд древневосточного человека на течение событий, их связь и последовательность.
Вместе с тем сторонники «линейной», «циклической» («циклично-линейной») или же «спиральной» моделей времени при всем различии выдвигаемых ими аргументов[180] признают в качестве основных характеристик древневосточного времени его конкретность («событийность»), качественную неоднородность (аритмичность), теснейшую соотнесенность с пространством и, ;наконец, устойчивую ориентацию на прошлое.[181] Но большинство указанных черт дают представление о восприятии не времени как такового, а, скорее, о течении событий в том же самом линейном времени. Кроме того, эти черты можно обнаружить в представлениях не только античного, но даже и средневекового общества.[182] «Все это опровергает правомерность противопоставления „временное древневосточное мышление — пространственное античное мышление”. Культура древнего Ближнего Востока имела такую же пространственно-временную ориентацию, как греческая классическая, но кардинально отличалась от последней самим восприятием и осмыслением пространства — времени».[183]
Такое единство обусловлено прежде всего тем, что древневосточные и античное общества, представляющие собой различные стадии рабовладельческой формации, в мировоззренческом плане не преодолели мифологическое восприятие времени, характерное и для более ранних этапов развития человеческой мысли. Отмечаемый многими исследователями «презентизм» первобытного мышления, выраженный в его «атемпоральности», т. е. слитном статистическом сосуществовании прошлого, настоящего и будущего,[184] например, по мнению авторов книги «В преддверии философии», является следствием того, что «мифопоэтическое мышление не знает времени как однородной продолжительности или как последовательности качественно индифферентных мгновений».[185] Первоначально возникающие элементы временной рефлексии так или иначе определяются природными циклами, т. е. последовательной сменой времен года, периодическими перемещениями небесных светил, которые «с древнейших времен воспринимались как признаки жизненного процесса, аналогичного человеческому и связанного с ним».[186]
Несмотря на отсутствие в древневосточных языках абстрактного понятия времени, письменные памятники демонстрируют чрезвычайно сложную картину образов, которую лишь отчасти можно объяснить дифференциацией представлений о природе мироздания в сознании различных социальных прослоек. Культурам Древнего Востока свойственны глубокий консерватизм и традиционализм, предполагающие устойчивое и универсальное единство взглядов (прежде всего мифологических), разделяемых не только абсолютным большинством членов крестьянской общины — экономической и социально-политической основы веек древних обществ, но и стоящей над ним храмовой верхушкой. государственной бюрократией (включая верховного владыку— царя) и обслуживающих интересы последних — писцов, «религиозных экспертов» и т. д.[187] Такой «мировоззренческий униформизм» имеет вполне закономерный характер. «...Ведь основная масса свободного населения древнего мира представляла собой и исторически и по своему мировоззрению прямое продолжение первобытного общества. При выделении господствующего класса рабовладельцев свободные не противопоставляют еще себя им в социально-экономическом отношении: они не отделены от господствующего класса сословной гранью, а при удаче каждый может оказаться в его составе, или так ему кажется. Выделяющийся же класс подневольных людей рабского типа собственной идеологии не создает».[188] Такая идеология появляется тысячелетия спустя, накануне гибели древнего мира, с возникновением христианства, сыгравшего огромную революционизирующую роль в развитии общественного сознания всего человечества.
Вместе с тем четкая фиксация в шумеро-вавилонских и египетских источниках различных сочетаний циклического и линейного времени нуждается в объяснении. Так, линейное время представлено, например, в довольно многочисленных списках династий месопотамских и египетских правителей. Но анализ этих списков показывает, что стремление представить в строгом хронологическом порядке последовательную смену царских династий, по-видимому, не было единственной причиной их составления.[189] На первый план почти всегда выступало «историческое» обоснование сакральных функций царской власти, выполняющей роль могущественного посредника «между небом и землей, миром живых и сверхъестественными силами, включая и давно умерших предков.. .».[190]
Согласно шумерской космогонии, царская власть, созданная при сотворении мира верховным богом Энлилем, принадлежит к числу важнейших субстанциальных принципов, управляющих вселенной, обществом и человеком. В одной из редакции мифа о богине Инанне неизвестный древний поэт, перечислив более ста таких принципов («мэ»), поставил комплекс элементов, характеризующих власть правителя непосредственно вслед за атрибутами власти богов.[191] Возникшая таким образом царственность была объявлена вечной неделимой субстанцией, передававшейся от одного города к другому в соответствии с предустановленным порядком.[192] Однако этот порядок имеет весьма своеобразный характер. В «Шумерском царском списке», составленном в конце III тыс. до н. э. (вероятно, при Ур-Намму — первом царе III династии Ура), говорится, что после того как «царственность низошла с небес», правление каждого из мифических царей, живших до потопа, продолжается десятки тысяч лет (например, Алулим — 28 800 лет, Алалгар — 36 000 лет, Энменлуанна — 43 200 лет и т. д.). После потопа длительность правлений начинает постепенно сокращаться, приобретая с восьмой послепотопной династии соизмеримые со сроками человеческой жизни масштабы.[193]
Здесь налицо тенденция к идеализации мифического прошлого, выраженная в числовой символике. В то же время излагаемая в шумерском списке «историческая» концепция исходит из предпосылки, что и после потопа основные принципы, определяющие управление вселенной, остаются теми же, какими они были в день ее сотворения. На это указывает, например, идея «вторичного нисхождения» царственности на землю после обрушившейся на людей катастрофы. Противоречие между долголетием людей в допотопные времена и неизменностью законов, определяющих круговорот мироздания в течение жизни последующих поколений, не осознавалось древневосточным человеком вследствие ориентации общественного сознания на далекое мифическое прошлое, когда были «сформулированы» основные божественные установления и правила поведения.
Вера в незыблемость традиции была неотделима от идеализации «первых времен» и первых людей, являвшейся, в свою очередь, естественным развитием почитания предков, цементировавшего все без исключения общественные структуры — от семьи и общины до царской власти. «Следуй отцам твоим, предкам твоим»,[194] — в этих словах гераклеопольского фараона своему сыну Мерикара (XXII в.) выражена квинтэссенция доминирующего на Древнем Востоке мироощущения, которое отразилось и в языке. «Древний человек, — отмечает И. М. Дьяконов,— был обращен к прошлому: ,,чужой день” (у/д/ — кур) значило по-шумерски то, что еще неизвестно, что где-то таится и может настигнуть нас, это то, что мы называем „будущим”, а „убежавший день” (у/д/ — рйа) означало то, что нам уже известно, но что обогнало нас и ушло туда, куда идем и мы, т. е. „прошедшее”».[195] По-аккадски прошлое — üm-pani (дословно: «дни лица» /переда/; будущее — ahratu (образовано от корня ’hr со значением «быть позади»). «Прошлое, таким образом, как бы сохраняет некое подобие существования, „послесуществует”, а будущее — предсуществует, уже готово, облечено в форму и лишь ждет часа своего проявления».[196] Прошлое неотделимо от происшедших в нем событий, раз и навсегда определивших в начале мира судьбы людей и государства в целом. Постоянный контакт с ним является залогом того, что божественные предначертания продолжают осуществляться.
Неизбежным следствием такого рода представлений является не только «тотальный пессимизм» в восприятии окружающей действительности, но и крайне негативное отношение к самой возможности что-либо изменить в существующем порядке вещей, абсолютное преобладание освященного религией ритуала, закрепляющего этот порядок.[197]
Центральной фигурой священного ритуала был царь. При всех различиях в степени сакральности царской власти в Египте и государствах Месопотамии именно с ней в господствующей системе ценностей так или иначе связываются надежды на установление «вечной справедливости» и поддержание изначальной «космической гармонии». На земле египетский фараон являлся верховным хранителем маат, т. е. нерушимого закона, отождествляемого также со справедливостью, истиной и правосудием, которому подчиняются даже боги. Уподобляемый прет жизни сыну верховного бога Ра Гору, а после смерти — Осирису, а также многим другим богам, фараон олицетворяет одновременно вечный круговорот сил, в котором проявляется стабильность космоса, и вечно длящуюся царственность. Он назван верховным жрецом всех богов, «пастырем страны», поддерживающим жизнь людей, естественным защитником обездоленных, является главным действующим лицом многочисленных календарных праздников и религиозных мистерий. Вследствие этого и сам фараон, и его двор в повседневном обиходе подчиняются многочисленным ритуальным запретам, исполняют бесчисленные обряды.[198]
Аналогичную роль играла, начиная с шумерских времен царская власть в государствах Месопотамии. Помимо традиционной, имеющей ритуальный характер координации правлений с природными циклами (в Вавилонии царь начинал свое правление в Новый год и т. д.), весьма примечательной является и другая форма легитимизации царской власти, отразившаяся в текстах, посвященных «договорам», заключаемым царями с богами — покровителями города, а также во вводных; разделах к известным нам сводам законов. Например, во введении к законам вавилонского царя Хаммурапи (1792—1750 гг.) утверждается следующее: когда верховные боги определили богу Мардуку владычество над людьми, назвав «его высоким именем» Вавилон, сделали этот город «могучим среди частей света и основали в нем вечное царство, фундамент которого прочен, как небеса и земля», они призвали Хаммурапи — пастыря людей («деяния которого нравятся богине Иштар»), «почитающего богов», для того «чтобы справедливость в стране заставить сиять, чтобы уничтожить преступников и злых, чтобы сильный не притеснял слабого...», чтобы усмирить мятеж и заставить «сиять истину».[199]
Хотя законы были обнародованы в окончательной редакции в последние годы царствования Хаммурапи, вводная их часть отражает, по-видимому, ставшее к этому времени уже традиционным обоснование «реформ», осуществленных им при восшествии на престол. «Установление справедливости» заключалось прежде всего в отмене долгов и прощении недоимок[200]
Самый ранний из известных нам примеров такого рода «реформ» также свидетельствует о стремлении придать проводимым преобразованиям вид «восстановления» существовавшей прежде справедливости. Речь идет о преобразованиях, осуществленных правителем (лугалем) Лагаша — Уруинимгиной (прежнее неправильное чтение — Урукагина) (2318—2310(?)гг.), пришедшим к власти в результате государственного переворота и низложения своего предшественника — Лугальанды. Новый правитель, вероятно, избранный народным собранием, провел реформы, облегчавшие положение рядовых общинников, освободив их от многочисленных поборов, произвольно взимавшихся приближенными Лугальанды при поддержке государственного аппарата. Храмам были возвращены прибранные к рукам царской семьей земли, отменены долговые сделки, восстановлены прежние права мелких жрецов и зависимых от храмов работников.
Проведенные преобразования, цель которых, безусловно, заключалась в предотвращении распродажи общинных земель и укреплении традиционной социальной опоры государства, расшатывавшейся своекорыстной политикой знати, были консервативны по духу. Их радикализм не следует преувеличивать, поскольку причины долговой кабалы не были уничтожены, а правительственные чиновники остались на своих местах.[201] Однако реформы Уруинимгины были объявлены возвратом к «прежнему закону» (интерпретация И. М. Дьяконова), или к «божественному закону», продолжавшему существовать «на небе», несмотря на все злоупотребления и «возвращенного» правителем-реформатором на землю (интерпретация В. В. Струве).[202]
Гарантом сохранения этого закона должен был стать завет (особый договор), заключенный Уруинимгиной с верховным богом Лагаша Нин-Нгирсу, «чтобы сироте и вдове сильный человек ничего не причинил».[203]
Тремя столетиями позже в точно таких же выражениях в тексте законов основателя III династии Ура — правителя Ур-Намму обосновывались проведенные им реформы.[204]
Рассмотренные «программы» древних реформаторов, отражающие распространенное представление о необходимости периодического восстановления неуничтожимых в принципе справедливости, божественных норм и законов, нарушаемых людьми и правителями по безрассудству, вряд ли могут быть до конца поняты вне циклического восприятия времени. В итоге возникающую в ходе постепенной эволюции идеологическую конструкцию, соединяющую идею непрерывной царственности с постоянной актуализацией прошлого при помощи ритуальных празднеств, реформ и т. д. и дополненную впоследствии делением событий на определенные «исторические циклы» (начинающиеся и завершающиеся договорами с богами о нерушимости древней справедливости), действительно можно выразить в виде некоей, «временной спирали».[205] Необходимо, однако, сразу подчеркнуть, что такая абстракция, естественно, была и остается плодом современной научной рефлексии.
В мировоззрении людей Древнего Востока «циклический архетип» был лишь наиболее адекватной фермой истолкования протекающих в линейном времени событий. Идея «вечного возвращения» оказалась близка не только образованным слоям древних обществ, но и абсолютному большинству простых людей, поскольку царь и его приближенные не являлись единственными «пленниками ритуала».[206] В этой связи нередко встречающиеся в литературе утверждения о том, что древневосточная общественная мысль «была в целом индивидуалистична по своему происхождению», а индивид находится в центре древневосточной картины мира и его жизнь — это по преимуществу жизнь частного человека,[207] не должны, конечно, восприниматься по аналогии с индивидуализмом, например, эпохи греческого Просвещения или же с современным. Древневосточной культуре глубоко чужда мысль о человеке как высшей ценности. Ценность индивида определяется его принадлежностью к определенной сословной группе.
Весьма характерно также, что на древнем Ближнем Востоке даже сословная принадлежность еще не стала для человека «элементом его самоопределения».[208] В письменных памятниках нельзя найти что-либо похожее на «кастовую идеологию», оформившуюся, например, в Древней Индии; в них преобладает, с одной стороны, взгляд на сословную группу сверху, «с позиции царя», а с другой — ограниченность простого человека «микрогрупповыми» интересами, т. е. семьей, общиной, профессией. Регламентация социального поведения осуществлялась путем формулирования в дополнение к обычному праву множества закрепляемых ритуалом правил и предписаний, неукоснительное выполнение которых индивидом также способствовало сохранению «божественного порядка» на земле, как и установленный для правителя церемониал.
Распространенное, например, в Месопотамии представление о вселенной как об определенным образом организованном государстве, в котором «положение человека... в точности соответствовало положению раба в человеческом городе — государстве»,[209] безусловно, способствовало созданию атмосферы политической пассивности и беспрекословного повиновения верховной власти. «Для простых смертных участие в общественной жизни сводилось к участию в массовых шествиях и многолюдных сборищах, сопровождающих важные религиозные праздники, к выполнению трудовых повинностей, своевременной уплате налогов или несению военной службы».[210]
Не случайно поэтому в древневосточной литературе полупила такую всестороннюю разработку концепция «благонравной жизни», отразившаяся прежде всего в жанре наставлений и поучений. По своему характеру этот жанр неотделим от идеализации прошлого. Как справедливо писал Дж. О. Герцлер, в древневосточной мысли «идея необходимости определенного типа поведения для членов данной группы... является безоговорочной, хотя она никогда не выражается специально». В такой системе взглядов «прошлое осмысливалось не как источник социального опыта или точка отсчета для размышлений и истолкований, но как священная модель. Люди ожидали, что оно снабдит их массой регулирующих деталей для всех известных им случаев жизни. Даже когда новая ситуация должна была рассматриваться иным образом, они предпочитали камуфлировать фикцией древности новый способ мышления или новую идею... следовать ветхому списку правил и увещеваний, давно испытанному набору поведенческих формул и распоряжений, священному кодексу, драгоценному заклинанию, утвердившемуся обычаю, древнему рассказу, мифу, легенде или же другим авторитетным заповедям древних мудрецов и вождей».[211]
Так, один из дошедших до нас месопотамских гимнов описывает блаженное прошлое как эру всеобщего благонравия и послушания, как
Такая картина позволяет считать, что и тема «золотого века», включенная в структуру мифологических представлений, приобрела на Древнем Востоке универсальный нормативный характер, пронизывая мировоззрение большинства людей, независимо от их социального статуса.
Нарушение обычаев воспринималось как крах божественно установленного порядка, неминуемо влекущий за собой близкую катастрофу. А поскольку жизнь давала гораздо больше примеров, когда покушения на божественные заповеди оставались безнаказанными и даже обосновывались непостижимой волей богов,[213] это не могло не порождать откровенно нигилистических настроений, крайнего скептицизма в отношении господствующей религии и идеологических ценностей.
Почти всегда в воображении пессимиста мир являет собой картину перевернутых вверх дном социальных отношений. Так, в аккадской поэме XI в., условно называемой «Вавилонская теодицея», главный герой — невинный страдалец рисует мир, в котором он живет, как полностью противопоставленный «эре благонравия»:
В подобном мире бесполезны и жертвы богам, и добрые дела для блага своей страны. В поэме «Разговор господина со своим рабом» (около Х в.) эти мысли высказаны с редким для древней литературы цинизмом, порожденным отчаянием:
На много столетий раньше в сходной форме те же идеи были высказаны древнеегипетскими авторами «Спора разочарованного со своей душой» и «Песни арфиста» (около XXII— XXI вв.).[216]
Желанным выходом из мира «перевернутых отношений» является смерть. Но в египетских и месопотамских поэмах нередки призывы вообще не думать о смерти, преисподней и проводить жизнь в пирах и наслажденьях, ибо переход в загробный мир все равно не принесет облегчения. Так, в эпосе о Гильгамеше (игравшем в шумерской и вавилоно-ассирийской культурах ту же роль, что и поэмы Гомера для древних греков) «хозяйка богов» Сидури так утешает стремящегося к бессмертию героя:
Конечно, безудержный гедонизм и мысли о самоубийстве были крайностями и поэтому не могли получить всеобщего распространения и тем более религиозной санкции. Господствующим в древневосточном мировоззрении оставалось требоние следовать традиционным правилам, не ставя под сомнение божественную волю. Даже если постигшие ведущего праведную жизнь человека страдания им не заслуженны, молитвы и просьбы о снисхождении — единственная возможность вернуть расположение богов. Таким образом, проблема «невинного страдальца» решалась путем перевода ее «из сферы логических спекуляций в область веры, точней, религиозных надежд и ожиданий».[218]
Но в рамках универсальной концепции «благонравной жизни» связанные с ней ожидания и упования имели в Месопотамии и Египте различные акцентировку и ориентиры. Если в египетской идеологии уже в Древнем царстве надежды на благую жизнь вращались вокруг заупокойного культа, а начиная с эпохи Среднего царства сконцентрировались в мифе о загробном воздаянии, то в шумеро-вавилонской системе ценностей потусторонний мир не играл практически никакой стимулирующей жизненную активность роли. Наоборот, преобладало убеждение, согласно которому воздаяние за грехи и благие поступки произойдет еще в земной жизни.[219]
В этой связи примечательны различия между утвердительным характером перечисления грехов в шумерском гимне, описывающем суд богини Нанше над неправедными людьми в первый день Нового года,[220] и знаменитой 125-й главой египетской «Книги мертвых», в которой покойник, предстающий в потустороннем мире перед 42 богами-судьями, перечисляет длинный список грехов, отрицая при этом их совершение: «Я не делал зла... Я не лгал никому... Я не крал... Я не уменьшал жертв... Я не убивал священных животных... Я не восставал. .. Я не говорил зла против царя... Я не презирал бега в сердце моем и т. д.».[221]
Считая человека существом изначально греховным (хотя и по-разному объясняя причины его грехопадения),[222] египтяне и жители Двуречья весьма скептически относились к возможности обретения счастья в этом мире. Но отсутствие у последних надежды на загробное воздаяние не могло не стимулировать работы фантазии, направленной на поиски лучшей жизни либо в прошлом, либо в недосягаемых для обычных людей землях.
Теперь, выявив тот идеологический фундамент, без которого многие аспекты формирования утопических идей на Древнем Востоке были бы просто непонятны, мы вплотную приблизились к их содержанию.
В Месопотамии роль страны Утопии играл остров Бахрейн в Персидском заливе, который шумеры называли страной Дильмун (по-аккадски — Тельмун), расположенной на самом краю доступного воображению географического пространства (об этом говорят такие ее эпитеты, как «страна перехода», «место, где восходит солнце»). Рассказ о ней вставлен в шумерский миф «Энки и Нинхурсаг», повествующий о цветущем рае, созданном богом подземных пресных вод («пресного моря») Энки для того, чтобы уединиться там со своей супругой. Вот как описывается эта страна в мифе:
В этой действительно очень красочной картине все детали (многие из которых легли в основу описания библейского рая),[224] хотя и отнесены к стране богов, но возникли из представлений о счастливой стране для людей, в которой все наоборот, все не так, как в реальной жизни. Именно в силу столь контрастного противопоставления идеала и реальности миф о Дильмуне можно считать одним из первых (если не самым первым) примеров литературной обработки фольклорных народно-утопических сюжетов, возникших еще в дописьменную эпоху, задолго до периода расцвета шумерской цивилизации.[225]
До сих пор не решена загадка, почему остров, бывший в конце III — начале II тыс. до н. э. важнейшим центром международной торговли, считался шумерами колыбелью их цивилизации? В шумерских мифах при описании «золотого зека» далекого прошлого постоянно возникают реминисценции из легенды о Дильмуне.[226] Дильмун связан и с шумерским мифом о потопе. Там Ану и Энлиль поселили богобоязненного царя Зиусудру — единственного человека, спасенного (Энки?) от гибели, «и, судя по всему, именно в Дильмун прибыл Гильгамеш в поисках бессмертия».[227]
Но вернемся к Древнему Египту. При изучении истоков утопических идей в египетской литературе мы сталкиваемся с удивительным феноменом, а именно с перенесением «чудесного пространства» из реального мира (хотя и до предела мифологизированного) в мир потусторонний. Впрочем, использование понятия «реальность» для разграничения двух миров будет не совсем удачным, поскольку уже в эпоху Старого царства загробное существование представлялось египтянам настолько же реальным, насколько и окружавшая их действительность. Древнеегипетская идеология — яркий пример «удвоения мира», безусловно, связанный с гипертрофированной ролью заупокойного культа.
Вера в реальность загробного мира в египетской мифологии обусловлена прежде всего поразительной устойчивостью взглядов, характерных для многих народов в дописьменную эпоху и связанных с тем, что «человек переносит в иное царство не только свое социальное устройство (в данном случае — родовое...), но и формы жизни и географические особенности своей родины».[228]
Вместе с тем важнейшим моментом, свидетельствующим о проникновении цивилизации в потусторонний мир, можно считать отказ господствующей религии от народно-утопических представлений о нем как о беззаботном рае, где не надо трудиться. В изображениях и надписях, найденных в гробницах Старого царства, в ритуальных текстах «Книги мертвых», а также в папирусных рисунках и текстах более позднего времени отчетливо просматривается описание загробного царства как государственного организма, в принципе подчиняющегося тем же законам, что и на земле. Например, в 109-й и 110-й главах «Книги мертвых» подробно изображаются сцены земледельческого труда на «полях блаженных», куда допущены оправданные на суде Осириса. Различие состоит лишь в том, что эти «поля» в изобилии снабжаются водой, злаки вырастают выше человеческого роста и т. д.[229]
Такого рода симбиоз наглядно демонстрирует завершение постепенного процесса поглощения официальной идеологией народной утопии путем включения ее образов в систему заупокойного культа. Результат этого процесса нашел отражение, например, в различных наименованиях «полей блаженных». По меткому замечанию Г. Кееса, сами названия — «Поле Жертвоприношений», «Поле Тростников», характеризовавшие собственно теологический взгляд на вещи и народные мечты «о счастливом загробном мире как плодоносной стране, где покойник живет в качестве земледельца и выращивает больший, чем на земле, урожай», не воспринимались египтянами как противоположные.[230]
Характерно также, что пропущенные сквозь фильтры официальной религии утопические мечтания отражали не только идеологию «низов», т. е. простых крестьян, но и активно проникали в сознание высших слоев общества, начиная уже с эпохи Старого царства. Эта тенденция хорошо описывается в работе А. О. Большакова «Представления о двойнике в Египте Старого царства». В частности, в данном исследовании обращается внимание на интересный факт отсутствия в гробницах вельмож упоминаний об их государственной службе, бывшей в данную эпоху крайне обременительной и отнимавшей много времени. «В гробницах изображается не что иное, как хозяйство вельможи, полностью обеспечивающее все его потребности; ничто за пределами хозяйства было ему не нужно, поэтому оно не изображалось и соответственно не переносилось в „загробную жизнь”». Подобное явление А. О. Большаков справедливо, на наш взгляд, связывает с тенденцией к «корректировке» загробного мира в направлении его «улучшения», конструирования новых деталей, не существовавших в действительном мире, и устранения тех элементов, с которыми связаны неудобства и опасности.[231]
Отмеченными особенностями древнеегипетских верований не исчерпывается вклад египтян в генезис социально-утопических идей. Египту принадлежит важное место в области эсхатологических построений, апокалиптики и пророчеств, предвосхитивших во многих чертах те пути, по которым шли библейские пророки.
От эпохи Среднего царства до нас дошли два таких пророчества— Ипусера и Неферти. Оба сохранились в папирусных копиях Нового царства: «Речение Ипусера» — во времена XIX династии, «Пророчество Неферти» — в копии середины XVIII династии. И хотя многие египтологи относят время создания этих выдающихся произведений к первому переходному периоду, предшествующему Среднему царству, высказывалось также мнение (В. В. Струве), согласно которому в событиях, описанных Ипусером, запечатлена картина социального переворота, потрясшего страну в XVIII в., т. е. в конце Среднего царства.[232]
Оба произведения написаны в соответствии с общепринятым в то время каноном, сложившимся, вероятно, задолго до их появления и связанным с образом мудреца, обличающего и поучающего царя. Начало «Речения Ипусера» не сохранилось. Что касается пророчества Неферти, то оно имеет черты литературной фикции: ученый жрец произносит свои обличительные речи перед царем Снефру, основателем IV династии, «имя которого сделалось популярным, и с ним соединили представление о начале первого блестящего периода египетской истории; он должен услыхать о конце начатого им периода и о начале нового времени процветания страны, должен узнать и имя виновника этого нового периода».[233]
Стремясь усилить впечатление о постигших Египет бедствиях, оба пророка активно используют метод сравнения наступившей катастрофы с существовавшим прежде «нормальным состоянием». «Воистину, — говорит Ипусер, — лица свирепы... то, что было предсказано предками, достигает осуществления... Грабитель повсюду... Мор по всей стране. Кровь повсюду. Не удаляется смерть... Грязь по всей стране. Нет человека, одеяние которого было бы белым в это время. Воистину: земля перевернулась, подобно гончарному кругу. Разбойник (стал) владельцем богатств; (богач) превратился в грабителя. Сильные сердцем (стали) подобны птицам из-за страха... Азиаты (стали) подобно египтянам, а египтяне (стали подобны) чужеземцам, выкинутым на дорогу. Варвары стали искусны в работах Дальты... Свободные поставлены к работе над ручными мельницами ... Рабы стали владельцами рабов ... Бедные люди выходят и входят в Великие дворцы ... Дети вельмож вогнаны на улицу ... Владелец богатств проводит ночи (теперь), страдая от жажды ... Тот, который был „вельможей", (теперь) сам исполняет поручения.. .»[234]
Аналогичную картину рисует и Неферти, с той лишь розницей, что его предсказания относятся к будущим бедствиям: «Азиаты нахлынут с Востока; река (Нил) станет сушей Египта. Через воду будут переправляться пешком и не будут искать воду для судна, чтобы дать ему плыть, ибо его путь станет берегом, а берег — водою ... Человек будет убивать своего отца. Все уста будут полны: „Пожалей меня!” Все добро исчезнет, так что погибнет страна. Будут устанавливаться законы, которые постоянно станут нарушаться деяниями... Я показываю тебе владельца потерявшим свое имущество, а постороннего удовлетворенным. Тот, кто (ничего) не делал, — он будет полон, а тот, кто делал, — пуст... Я показываю тебе нижнее верхним. (Все) перевернется после переворота (?). Люди будут жить на пастбище, а бедняки составят (себе) богатства больше, чем ... чтобы существовать. Неимущие будут кушать хлеб, а слуги возвышены».[235]
Приведенные описания достаточно ясно свидетельствуют о восприятии обоими пророками происшедшего (и грядущего) переворотов в общественных отношениях исключительно с позиции правящего имущего сословия, страшащегося восстания черни. Это, конечно, не означает, что они были очевидцами событии, о которых рассказывают. Вполне возможно, что данные произведения создавались в эпоху Среднего царства, когда «была еще свежа память об ужасах переходного времени; конечно, они не сразу прекратились».[236] Об этом может свидетельствовать, например, попытка Ипусера объяснить обрушившиеся на Египет бедствия при помощи традиционной ссылки на начальную «природную греховность» людей, собственными руками разрушивших «золотой век». Ипусер скорбит из-за того, что Ра допустил грехопадение людей: О, если бы он исправил их сущность в первом их поколении! Да разбил бы он грех, протянул бы руку против него!.. (Люди же) желали рождать для него (т. е. для греха), и произошло несчастье... Оно (несчастье) не наступило бы, если бы боги были среди них (т. е. людей)».[237] В то же время пророк упрекает царя за равнодушие к возникшему в мире злу, обвиняя его во лжи и пренебрежении заботой о «своем стаде».
Создается впечатление, что развернутая в другой части «Речения» картина будущего благополучия и процветания страны в конечном счете относится не к мессианскому пророчеству о наступлении новой эры (как считал, например, Д. Брестед) и не к возобновлению правления «божественного царя» Ра (по мнению А. Гардинера и Б. А. Тураева), но скорее к традиционному для древневосточной литературы совету царю следовать первоначальному образцу «божественного правления», проявляя большую заботу о справедливости. Предсказание Неферти о пришествии царя — южанина по имени Амени (в котором некоторые исследователи, начиная с Э. Мейера, видели Амеиемхета I—основателя XII династии) также свидетельствует о том, что его пророчество, как и пророчество Ипусера, было основано на стремлении «в драматическо-гномической форме разрешить проблему о благоустроенном государстве и обществе»[238] и стало тем самым прямым предшественником утопических произведений сюжеты которых вращаются вокруг образа «идеального правителя».
В египетской пророческой литературе можно особенно отчетливо увидеть все основные элементы, встречающиеся и в древневосточных произведениях, не имеющих отношения к этому жанру, — картина «перевернутых отношений», стремление к восстановлению существовавшей прежде в далеком прошлом божественной справедливости, идея о катастрофических последствиях нарушения последней, теснейшим образом связанная с принципом «полярности» древневосточного «социологического мышления», разрывающегося между абсолютным признанием традиционных отношений и «нигилистической альтернативой», т. е. категорическим их отрицанием.
Не осуществляя разрыва с консервативным мировоззрением, ранняя пророческая литература вместе с тем показывала то, что пессимизм не получил на Древнем Востоке полного преобладания и взгляд человека мог устремляться (особенно в периоды социальных потрясений) от прошлого к будущему. Вступление ближневосточных народов в период «осевого времени» придало этой тенденции устойчивый и долговременный характер в зороастризме и в древнееврейском пророческом движении.
Для истории утопических идей наибольший интерес представляют произведения древнееврейских пророков, возникающие с VIII по VI в. и вошедшие в Ветхий завет уже в период второго Иерусалимского храма. При всей необъятности посвященной им литературы[239] трудно встретить работы, в которых специально исследуются именно утопические идеи, в изобилии порождаемые этой драматической исторической эпохой.
В еврейской религии начиная с XI в. известно множество пророков, например целые общины набиим, т. е. вещателей, восклицателей — хранителей чистоты моисеева учения при пророке Самуиле и царе Сауле; пророки Натан и Гад при дворе Давида; ревнитель культа Яхве Илия, вступивший в борьбу с Ахавом и Иезавелью и одержавший над ними победу при божественной поддержке; его преемник Елисей, объявивший войну Ваалу и языческим влияниям, и многие другие. Но ни один из них не может сравниться энергией, литературным талантом и даром предвидения с великими пророками младшего поколения — Амосом, Осией, Михеем и особенно Исайей, Иеремией и Иезекиилем. Именно благодаря им божественный глава еврейской общины Яхве в довольно короткий исторический отрезок времени приобрел универсальные черты трансцендентного бога всего человечества, оставаясь при этом хранителем судьбы своего «избранного народа» (напр.: Ам., 9: 5—7).[240]
События, в рамках которых возникло пророческое движение, представляют собой наиболее трагический поворот в истории древних евреев. Внешнеполитические успехи и внутреннее спокойствие, достигнутые Израильским царством при Иеровоаме II (783—743 гг.), сменились вначале опустошительными нашествиями, которым подвергли Израиль и Иудею Тиглатпаласар III, Саргон и Синаххериб, а затем, после кратковременного периода надежд, вспыхнувших после гибели Ассирийской державы, разрушением Иерусалима Навуходоносором II в 586 г. и «вавилонским пленом».
В VIII—VII вв. в Израиле и Иудее быстро развивался процесс разложения первобытнообщинных отношений, социальной дифференциации, сопровождавшийся разорением рядовых общинников, попадавших в долговую кабалу к крупным землевладельцам. Такое довольно редкое соединение внешних и внутренних потрясений способствовало созданию духовной атмосферы, когда пророчества стали наиболее подходящей формой выражения настроений недовольства и протеста народных низов.
Несмотря на различия в социальном положении (Амос — простой пастух и собиратель сикомор из Фекоа; Исайя — высокообразованный представитель иудейской знати; Осия — возможно, священник, хорошо знакомый с трудом земледельцев, и т. д.), пророческие книги и содержащиеся в них учения обладают глубоким внутренним единством, включая и сходство многих мелких деталей, хода мысли, обнаруживающих теснейшую связь между религией и политикой.
Призванная объяснить причины обрушившихся на евреев несчастий, пророческая мысль постоянно вращается вокруг двух крайних пунктов, определяющих начало и конец священной истории «избранного народа», т. е. вокруг «завета» — договора (берит), впервые заключенного Яхве со спасенным от потопа Ноем и неоднократно возобновляемого им с вождями и законоучителями — Авраамом, Моисеем, Давидом и т. д., и вокруг грядущего спасения, которое, однако, бог пошлет людям только после того, как тех постигнет справедливое возмездие за нарушение завета. «Иудейская утопия, — справедливо отмечал Ф. Полак, — подразумевается в содержащемся в договоре обещании будущего блаженства для избранного народа. Пророки ... были первыми, кто рисовал ясную картину этой утопии ... Договор устанавливает и поддерживает ожидание, что Иегова в один прекрасный день вновь возьмет земные бразды правления в собственные руки и установит свое царство навеки на земле».[241]
«Пророческая утопия» может быть в целом определена как стремление к абсолютной теократии, но пути ее достижения, да и сам образ «божьего царства», включают в себя много элементов, близких по содержанию к народной утопии. У всех пророков обличение господствующих в обществе греховности и пороков составляет этиологическую «вводную часть» речей, объясняющую причины, по которым Яхве призвал их обратиться к соплеменликам с увещеваниями. Греховность народа божьего возникает по двум линиям — религиозно-культовой и социальной.[242] Вместе с тем почитание чужеземных богов и введение новых культов (мотивы, характерные особенно для ранней пророческой литературы), особенно извращение религиозных обрядов заслоняются гневным пафосом обвинений, направленных против сильных мира сего, притесняющих простой люд. «Выслушайте это, — говорит Амос от имени Яхве, — алчущие поглотить бедных и погубить нищих; вы, которые говорите: когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота — чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными весами; чтобы покупать неимущих за серебро и бедных — за пару обуви...» (Ам., 8: 4—6).
Осуждению подвергаются экстравагантный образ жизни и роскошь знати, продажность судов, попрание справедливости деньгами (Ам., 4: 1; 5: И, 12; 5: 21—26; 8: 4—7; 2: 6), господствующие повсюду разврат, грабежи и убийства (Ос., 4: 2,13; 6: 9,10; 7: 1,4; 9: 10; 8: 4; 13: 10; Мих., 3: 9), ложь царей и лицемерие жрецов.[243] С негодованием говорит Исайя, о тех представителях верхушки общества, «которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия и похитить права у малосильных из народа моего, чтобы вдов сделать добычей своею и ограбить сирот» (Ис., 10: 1—2).
Творимые богатыми беззакония рассматриваются как прямое нарушение договора с Яхве, который не может мириться с угнетением большей части «избранного народа». Ни один из пророков, однако, не пытался обосновать что-либо похожее на идею революционного свержения власть предержащих. Так, например, «программа» выходца из низов Амоса ограничена обращениями к «верхам» и призывами к моральному усовершенствованию, а также угрозами божественной кары. «Взыщите Господа — и будете живы, чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его в Вефиле. О вы, которые суд превращаете в отраву и правду повергаете на землю!» (Ам., 5: 6—7).
Но главным орудием наказания являются могущественные внешние враги — ассирийская, а затем и вавилонская державы. «Временное процветание и успех этих империй живо контрастировали с упадком и внутренним беспорядком, внешним бессилием царств Израиля и Иудеи, для которых Яхве был божественным патроном. Пророки никогда не могли бы признать, что это положение дел было следствием того факта, что боги Ашшура и Вавилона имели более великую власть, чем Яхве... Наоборот, они склонялись к оправданию Яхве, приписывая ответственность за постигшие Израиль несчастья собственной неверности Израиля и его греху».[244]
Мысль о чужеземцах как орудиях бога, наказывающего свой народ за отступничество, оказывается, таким образом, лишь разновидностью теодицеи, скрывавшей довольно трезвый анализ пророками политической ситуации. «За то, что вы не слушали слов моих, — угрожает Яхве, — .. .я пошлю и возьму все племена северные, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию и на жителей ее, и на все окрестные народы; и совершенно истреблю их... И вся земля эта будет пустынею и ужасом; и народы спи будут служить царю Вавилонскому семьдесят лет» (Иер., 25: 8—11). Это пророчество Иеремии сбылось почти в точности.
Разумеется, построенная в духе «филономической эсхатологии» теодицея страдала противоречиями, связанными прежде всего с ответом на вопросы, несет ли весь народ коллективную ответственность за проступки одной своей части? может ли справедливый бог допустить, чтобы подвергавшиеся притеснениям бедняки были обречены на уничтожение или плен за прегрешения своих угнетателей? Не случайно поэтому в речах пророков «образ Иеговы был расщеплен противоположностью между беспощадным мщением и усиливающимся акцентом на всепрощающее сострадание».[245] В свою очередь, защищаемая, например, Иеремией и Иезекиилем идея личной ответственности за свои собственные грехи (Иер., 31: 27—31; Иез., 33: 10—20) все больше связывается с известной уже зороастрийскому учению мыслью о том, что от самих людей и от страны в целом зависит приближение срока грядущего избавления. Гибель уготована не праведникам, а только грешникам, сомневающимся в неотвратимости божественной кары (Ам., 9: 10; Иез., 33: 13). Будущее спасение, по мысли пророков, так же неизбежно, как и период страдания, через который необходимо пройти, чтобы очиститься перед заключением нового договора с Яхве, несущего «вечное счастье» не только народам Израиля и Иудеи, но и всему человечеству (Ис., 49: 6).
Отличительной чертой пророческой утопии является соотнесенность эсхатологии не с потусторонним миром, а именно с земным. В отличие от образа будущего, созданного впоследствии христианским учением, смерть и посмертное воздаяние не играют в ней практически никакой роли. «Царство божие» будет установлено не на небесах, а на самой «земле обетованной». Эта «реалистическая установка» роднит утопические идеи библейских пророков с идеями их египетских предшественников— Ипусера и Неферти.
В то же время царство, которое Яхве намеревается устроить для своего народа, удивительно напоминает картину «земного рая», нарисованную во II главе книги Бытия, но приукрашенную множеством дополнительных сказочных, фантастических деталей. Преобразуется вся природа: пустыня превратится в цветущий сад, необитаемая страна расцветет, как нарцисс, горы будут «источать виноградный сок», реки потекут молоком и медом, луна будет сиять, как солнце, а солнце «не будет уже служить светом дневным», поскольку сам Яхве, пребывая среди людей, будет для них «вечным светом» (Ам., 9: 13; Ис., 35: 1; 60: 19—20).
Совершенно изменятся люди и отношения между ними. Наступит век всеобщего довольства, человек избавится от болезней и страданий — голодные и жаждующие будут утолены, хлеб будет произрастать в изобилии, скот — пастись на обширных пастбищах, слепец прозреет, уши глухого откроются (в то время как уши врагов сделаются глухими — Мих., 7: 16), хромец перестанет хромать, «столетний будет умирать юношею...» (Ис., 65: 20) и т. д.
Израиль и Иудея объединятся в единое царство, гора Сион воздвигнется среди гор и холмов, Иерусалим будет восстановлен из пепла и развалин, от Сиона выйдет закон и слово господне (Мих., 4: 1—2). Возникнет новая идеальная справедливость, правители станут праведными, «не слышно будет более насилия на земле...» (Ис., 60: 18).
Апофеозом всех пророчеств являются вдохновенные слова Исайи: «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над корою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (11: 6—8). Люди «перекуют мечи свои на орала, и копия свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать» (Там же, 2: 4; Мих., 4: 3).
Перед нами типичная картина «перевернутых отношений», охватывающая не только все без исключения стороны социальной и духовной жизни самих евреев, но и распространенная на все народы — разгромленные и почти стертые с лица земли Израиль и Иудея становятся центром преображенного мир;:, фокусом универсума (Ис., 11: 10; 49: 6—7; Мих., 5: 7—8).
В этих образах народно-утопические представления о счастливой жизни тесно связаны с размышлениями об актуальных политических вопросах, с поисками выхода из казавшегося безнадежным положения. Размышлениям пророков чужды многие черты поздних теологических спекуляций, и в этом также .проявился оппозиционный характер пророческого движения, выражавшего массовое недовольство антинародной позицией, занятой жреческой корпорацией главного Иерусалимского храма, ставшей важнейшей составной частью правящего высшего сословия. У пророков отсутствуют даже намеки на какую-либо периодизацию прошедших и грядущих веков в духе зороастрийского или древнеиндийского учения о мировых периодах. Их эсхатология ограничена сравнительно небольшим отрезком времени— близким и непосредственным будущим, грядущей катастрофой и последующим за ней спасением и воссозданием «земного рая».
Одним из основных мотивов проповедей пророков является открываемая Яхве для людей возможность ускорить наступление счастливых времен (Ис., 60: 22). В этом плане книга пророка Даниила, помещенная в Ветхом завете среди книг пророков VIII—VI вв., но составленная, вероятно, около 164 г., представляет по отношению к ним разительный контраст, означая также полный разрыв с наивно-оптимистическими прозрениями Второисайи и погружение в мрачный апокалиптический кошмар грядущих катастроф, принимающих космические масштабы.
В книге Даниила впервые встречается и систематическая разработка темы мировых периодов, заключенная в рамки видении Навуходоносора о колоссе, сотворенном из золота, серебра, хмеди, железа и глины; самого пророка — о «четырех зверях» и др. Металлы и звери отождествляются с последовательно сменяющими друг друга царствами вплоть до наступления вечного божьего царства, которому станут повиноваться все правители (Дан., 2: 31—45; 7: 1—28).
Несомненное влияние на авторов книги Даниила зороастрийской эсхатологии (вернее, ее вторичной жреческой переработка с использованием мистики чисел) обнаруживает явную девальвацию социального содержания пророческой утопии. «Составители апокалипсисов, — отмечает не без иронии Ф. Полак,— являются ни проповедниками раскаяния, ни социальными реформаторами, ни народными вождями или бунтарями. Они скорее литераторы, чем литературные пророки».[246]
По-разному решается в пророческой и более поздней апокалиптической литературе и другая, важнейшая в древневосточной мысли тема идеального правителя, которая, как мы увидим далее, и в античную эпоху останется столь же актуальной, как и во времена Хаммурапи и Снофру. Пророки полностью восприняли и всесторонне разработали концепцию идеального царя, восходящую к самому раннему периоду еврейской истории.
Образ харизматического вождя, героя-чудотворца, наделенного чертами мудрого судьи и законодателя, храброго воина и ревнителя веры, проходит через весь Ветхий завет, начиная с легендарного Моисея, ставшего первым великим мессией, посланным народу Яхве. После распада единого Еврейского государства большинство древних пророчеств обращается к мысли о новом божьем посланнике из дома Давида.
Для «литературных пророков» приход мессии является главным знаком грядущих перемен. Вечное царство божие, как правило, не мыслится вне обновленной царской власти (Ам., 9: 11 —15). Миф о царе-спасителе получает (например, у Исайи) настолько яркое воплощение, что может рассматриваться как вполне самостоятельный утопический образ. Предсказание о появлении нового правителя непосредственно предшествует приведенным выше словам пророка, символизирующим наступление состояния всеобщего мира (Ис., 11: 1—5). Под влиянием праведного царя полностью изменится нравственный облик знати, которая превратится в «истинную аристократию» и будет править «по закону», защищая простои народ (Там же, 32: 1—2).[247]
Вместе с тем отнюдь не редким являются и противоположные мотивы, выдающие скептицизм в отношении царского мифа, постоянно возникавший вследствие того, что приход мессии откладывался Яхве, в то время как несчастья продолжали сыпаться на Израиль и Иудею, как из рога изобилия. Разочарование проявляется во все большей спиритуализации мессианских мотивов — предрекается рождение мессии в облике божественного ребенка (Ис., 7: 14; 9: 6; Мих., 5: 2—5), надежды возлагаются на древних пророков и чудотворцев, например на Илию (они ярко выражены и в Новом завете — Мат., 25: 45— 50; Марк, 8: 28; 9: 4—13).
Эта тенденция достигает предела в апокалиптической литературе. В результате усиливающихся под влиянием зороастризма дуалистических мотивов вселенская борьба двух царств — бога и сатаны — требует постоянного божественного вмешательства, чтобы довести ее до победного конца.
Другим свидетельством скептицизма в отношении учения о мессианском призвании царя из дома Давида можно считать появление противоположных ему «альтернативных пророчеств» и даже целых проектов. У Второисайи роль мессии Яхве возлагает на персидского царя Кира, вернувшего евреев на родину в 538 г. (Ис., 45: 1—5).
Но для истории утопической мысли особое значение имеет проект теократического государства в 40—48-х главах книги пророка Иезекииля. Проект разработан в форме ниспосланного пророку свыше видения возрожденного Иерусалима, в рамках которого идеальный город-государство оказывается почти полностью поглощенным грандиозной панорамой восстановленного Иерусалимского храма, поражающей симметричностью построения.[248]
Четырехугольный храм — местопребывание Яхве и город, носящий имя ЕГОВА-ШАММА (в русском переводе название города — «Господь там»), расположены в особом месте обширного священного участка, также имеющего четырехугольную форму, являющегося, таким образом, сакральным центром всей страны (Иез., 41: 13—14; 43: 7; 48: 35).
Священные участки жрецов примыкают к храму, их размеры и местоположение определяются в строгом иерархическом порядке, отражающем степень близости к богу тех или иных категорий священнослужителей (Там же, 44: 10, 15; 48: 9—14). Городу также выделена земледельческая территория «к западу против священного участка» с целью обеспечения продуктами его жителей — работников «из всех колен Израилевых» (48: 18—19).
За пределами священной территории простираются несакральные земли, населенные земледельцами 12 племен («колен»). «Перед нами, — отмечает И. П. Вейнберг, — образец социально-политической утопии, которая именно благодаря своей утопичности демонстрирует в „чистом виде” аксиологическое восприятие пространства, с постепенным переходом от сакральности к несакральности по мере удаления от середины».[249]
Положение царя (князя) и вообще функции царской власти строго регламентированы. Князю выделен земельный надел рядом с храмовым участком и городской округой; он переходит по наследству к его сыновьям и не может передаваться другим лицам (45: 7; 48: 21—22). Владения народа не могут отчуждаться ни правителем, ни знатью в свою пользу; строго устанавливаются размеры натуральной дани, выплачиваемой князю (48: 18; 46: 9—16).
Создается впечатление, что в условиях теократического режима должность главы государства является чисто номинальной. Князю отводится роль почетного руководителя в торжественных жертвоприношениях во время праздников — «он должен будет приносить жертву за грех и хлебное приношение, и всесожжение и жертву благодарственную для очищения дома Израилева» (45: 17, 21—25).
Единственной почетной привилегией князя является то, что ему одному разрешается пройти «через внешний притвор ворот» и наблюдать как «священники совершат его всесожжение и его благодарственную жертву» (46: 2). В целом правителю уделяется гораздо меньше внимания по сравнению с детальнейшими описаниями храмовых помещений и их отделки (вплоть до дверных косяков), жертвенника, храмовых поварен, симметрично расположенных в четырех углах храмового двора, и т. д.
И хотя в самом тексте книги Иезекииля нельзя найти следов противопоставления теократической утопии традиционным предсказаниям о скором появлении мессии из дома Давида (34:27; 37: 25, 27), она противостоит им по своему содержанию и в этом смысле становится мощным заключительным аккордом не только творчества «литературных пророков», но и всего развития утопической мысли древнего Ближнего Востока. В ней уже предвосхищается симметрия утопических построений Платона. Она поражает удивительными совпадениями в идейнополитическом замысле и во многих деталях со «Священной записью» Эвгемера и приближается к той черте, за которой утопическое воображение становится подлинно конструктивным.
§ 2. ГОМЕР И ГЕСИОД
Анализ некоторых основных форм утопизма, сложившихся на древнем Ближнем Востоке, выявляет большое значение как мифов, так и фольклорных рассказов и легенд в возникновении образов счастливой жизни, противопоставленных мрачным и тягостным условиям повседневного существования. Многообразие идеологических вариантов утопической мысли, попеременно выступающей то в откровенно консервативной роли, то в качестве некоей «контркультуры», отвергающей существующий порядок вещей и даже указывающей новые пути возникновения «идеального государства», отражают в конечном счете уже неоднократно отмечаемое фундаментальное противоречие между тенденцией к полной интеграции народной утопии в рамках господствующей идеологии и ее социально-критической функцией, так ярко проявившейся в эсхатологии библейских пророков. На Древнем Востоке в эпоху, предшествующую I тыс. до н. э., полное господство царского бюрократического комплекса, ритуализированный характер общественной жизни и слабая социальная дифференциация привели в конечном счете к тому, что древнейшие народно-утопические представления типа «золотого века», как правило, оказываются сравнительно безболезненно включенными в мифологическую систему, в которой, утрачивая всякий критический характер, они используются в целях идеализации и сакрализации прошлого, создания фикции его постоянного присутствия в существующих институтах, обычаях и нормах жизни.
Совсем иная картина предстает перед нами в поэмах Гомера и Гесиода, созданных, по мнению абсолютного большинства современных специалистов, в VIII в. и отстоящих друг от друга во временном отношении максимум на несколько десятков лет.[250]
Изучение рассеянных по всем книгам «Илиады» и «Одиссеи», утопических сюжетов сразу выявляет основное отличие «гомеровской утопии» от пророческой, имевшее значительные последствия как для истории художественной культуры, так и общественной мысли: собственно религиозные идеи и мотивы играют в ней незначительную роль. Все объяснения, даваемые в научной литературе этому явлению, так или иначе сводятся к положению, сформулированному А. И. Зайцевым: «Сложившийся в Ионии гомеровский эпос являет нам картину подчинения религиозных мотивов художественному методу автора (или авторов), которая представляется немыслимой в обществе, где религия является доминирующей формой идеологии».[251]
Отраженные в «Илиаде» и «Одиссее» религиозные представления определяются в немалой степени социальной ориентацией их автора, воспевавшего подвиги и приключения эпических героев, принадлежавших к аристократическому сословию военных вождей, при дворах которых обычно находились певцы-аэды — творцы эпических поэм. Нарисованная поэтом картина общественных отношений далека от какого бы то ни было стремления к адекватному воспроизведению современной ему действительности. Исторические реалии периода «темных веков» в соединении с элементами крито-микенской культуры не отделены у Гомера от настоящего, но сливаются с ним в структурно сложную амальгаму, пронизанную единой тенденцией к идеализации аристократических ценностей и образа жизни.[252]
Наслаждения жизненными благами па земле гомеровские герои, превыше всего ставящие доблесть и подвиги,[253] предпочитают любым наградам в загробном мире. С особой силой такое мироощущение выражено в словах, с которыми тень Ахилла обращается к Одиссею в подземном царстве:
Вот почему в поэмах Гомера невозможно встретить эсхатологически окрашенных идей, характерных для рождавшихся в этот период этических религий. Мысль о посмертном воздаянии находится на периферии гомеровской религии (см., напр.: IL XIX, 258—260).[255] Последняя же далеко не в полной мере отражает греческие мифологические представления VIII в., резко контрастируя, например, с той системой идей, которую мы встречаем у Гесиода. Избирательный подход Гомера, проявляющийся в вопросах религиозных верований, — всего лишь обратная сторона склонности поэта «к идеализации и облагореживанию повседневной жизни, благодаря которой мы видим раннегреческий полис только с „фасадной” стороны как совокупность ряда аристократических ойкосов вместе с зависимыми от них людьми. Остальная часть населения общины — практике вся масса простонародья почти всегда остается в тени это к монументальной постройки, созданной воображением поэта... Абстрагируясь от всей этой ,,житейской прозы”, Гомер уходит мыслью в воображаемый мир героического прошлого, который рисуется ему как правильно устроенная аристократическая община, еще не знающая классовых антагонизмов, борьбы между знатью и „худородными” и т. п. ,,презренных материй.[256]
Разумеется, образы «идеальной аристократии» далеко не всегда вызваны «утопическим настроением» Гомера, но определяются в первую очередь жанровыми особенностями героического эпоса. Вместе с тем нельзя не отметить, что утопические мотивы, встречающиеся в обеих поэмах, вероятно, не отделялась в сознания их автора от воображаемой общественной гармонии, существовавшей как на земле, так и на Олимпе.[257]
В "Одиссее» поэт дает очень красочное описание Елисейских полей, где ведут вечную блаженную жизнь герои — любимцы богов Такая судьба уготована, например, Менелаю — супругу Елены и зятю громовержца Зевса. Ее открывает странствующему герою «морской старец» — Протей:
Картина «островов блаженных» полностью противоположна как той горестной жизни, которую ведут бесплотные тени в Аиде, так и опасностям и невзгодам, которым подвергаются люди на Земле.
Отмечая это явное противопоставление, Э. Роде одновременно подчеркивал большое сходство в изображении Елисейских полей с безмятежным существованием богов на Олимпе,
Было бы. конечно, явным преувеличением рассматривать вместе с X. Болдри «аристократию Олимпа» в качестве «главной гомеровской утопии».[259] Описания природы Олимпа и Ели-сейа:::х полей являются в «Одиссее» одной из составных частей гораздо более широкой системы художественных образов, поскольку, как справедливо отмечал В. Йегер, «помимо общей религиозной и моральной структуры, которая господствует в целом этой конечной версии поэмы, она включает в себя много восхитительных малых мотивов — идиллию, героическую повесть, приключенческие истории, волшебную сказку».[260] Роль связующих звеньев между этими мотивами играют рассказы Одиссея о своих приключениях царю сказочной страны феаков Алкиною, стоящие у истоков «своеобразного рода этнографической поэзии, следы которой можно выделить во всей греческой литературе».[261]
Выстраивая генеалогический ряд фантастических повествований, созданных греками за тысячелетний период, великий античный сатирик Лукиан (II в. н. э.), критикуя утопические вымыслы книдийца Ктесия и Ямбула, назвал Одиссея «руководителем (αρχηγός δε αύ οΐς καί διδάσκαλος), научившим описывать подобного рода несообразности ..., который рассказывал у Алкиноя про рабскую службу у ветров, про одноглазых, про людоедов и про других подобных диких людей, про многоголовые существа, про превращение спутников, вызванное волшебными чарами; подобными рассказами Одиссей морочил легковерных феаков» (Luc. V. H., 1, 3, пер. К. В. Тревер).
Феакийский круг рассказов представляет для истории утопической мысли большой интерес, так как он относится скорее всего к самому позднему поэтическому слою «Одиссеи» и от ражает (причем довольно ярко) начавшуюся в VIII в. эпоху греческой колонизации. Именно в данный период слово εαχατος («крайний», «последний», «самый отдаленный»), обычно использовавшееся для характеристики живущих на самом краю ойкумены народов, начинает приобретать подлинно утопические оттенок и звучание, являясь в некотором смысле античным эквивалентом понятию «утопия», распространившемуся впоследствии в Европе нового времени благодаря «золотой книжечке» Т. Мора.
В «Илиаде» такими идеальными народами были «справедливейшие абии» (VIII, 6), «непорочные эфиопы», к которым Зевс «с сонмом бессмертных» регулярно отправляется на пиры (I, 423—424). Если в рассказе об эфиопах место, где они живут, не обозначено никаким специальным термином (Зевс отправляется куда-то к Океану[262]), то уже в первой книге «Одиссеи» отсутствовавший на собрании богов-олимпийцев Посейдон находился
Феаки (в страну которых — Схерию Одиссей был занесен страшной бурей), будучи во многих отношениях двойниками эфиопов, отличаются от них в двух главных аспектах: во-первых, они обладают идеальным государственным строем, изображенным довольно подробно; а во-вторых, они специально противопоставлены по образу жизни и установлениям беззаконному дикому народу одноглазых великанов — киклопам.
Как бы предваряя рассказ о феаках, Гомер в начале VI книги специально поясняет, что они первоначально жили «в обширной Гиперее» по соседству с киклопами, превосходившими их могуществом и постоянно с ними враждующими (Od., VI, 4—6).[263] Впоследствии первый царь феаков Навситой, сын Посейдона и Перибои — дочери властителя гигантов Эвримедонта поселил их
При описании же страны киклопов Гомер явно прибегает к литературному приему антитезы:
Там беззаботно они, под защитой бессмертных имея Все, ни руками не сеют, ни плугом не пашут; земля там Тучная щедро сама без паханья и сева дает им Рожь и пшено и ячмень и роскошных кистей винограда Полные лозы, и сам их Кронион дождем оплождает.
Картина природы страны киклопов впоследствии стала в античной общественной мысли каноном, в соответствии с которым изображался «золотой век», или «жизнь при Кроносе». На фоне волшебного изобилия особенно отвратительной выглядит фигура Полифема — дикого великана-людоеда, «ведающего беззаконные дела», не чтящего Зевса и других богов-олимпийцев и не признающего их власти (Od., IX, 187—191, 272—278, 369— 370)· Гомер (явно в духе своего времени )специально подчеркивает незнакомство киклопов с кораблестроением и их неспособность вывести колонию на близлежащий остров, обладающий прекрасным климатом и изобилующий дикими козами. (Od., IX, 116—139).
В этой связи искусно вплетенный в общую канву рассказа фольклорный мотив ловкого обмана «культурным героем» Одиссеем глупого великана,[265] безусловно, должен был восприниматься слушателями поэмы как своего рода «компенсация» за преследования киклопами феаков в прошлом и вызывать чувство гордости за достижения цивилизации, идеально воплощенные в фантастическом образе Схерии, управляемой мудрым Алкиноем.
Феакийское царство нередко характеризуется современными исследователями как первая в европейской литературе «монархическая утопия». «Картина Феакии, — пишет, например, Д. Фергюсон, — является попыткой задержать общество на монархической ступени и подавить могущество магнатов и наступающей олигархии».[266]
В основе подобного представления, как правило, лежит популярная в трудах по истории Древней Греции схема политического развития эллинского мира в послемикенский период "от монархии к аристократии».[267] Вполне оправданной, однако, является критика этой схемы Ю. В. Андреевым, подчеркнувшим полную неопределенность самой постановки вопроса: «Какая именно форма монархии была той отправной точкой, с которой началось развитие греческой государственности в почти неразличимых сумерках, скрывающих от нас события XI—IX вв. до н. э.»[268]
Рассказ Гомера об Алкиное, во всяком случае, не позволяет отождествить феакийского царя с властителями микенской эпохи, о которой поэт имел крайне смутное представление. По заявлению самого Алкиноя, в стране феаков царствуют среди народа двенадцать славных царей, а он является тринадцатым (Od., VIII, 390—391). Точно с таким же «многоцарствием» мы сталкиваемся, читая о событиях, происходивших на Итаке в отсутствие Одиссея, бывшего прежде лишь одним из многих басилеев на острове (Od., I, 368 sqq.).[269]
Вместе с тем статус Алкиноя имеет существенные отличия от положения бесчисленных басилеев «средней руки», изображаемых Гомером в обеих поэмах. Помимо обычного для наиболее славных гомеровских героев родства с богами (Алкикой — внук Посейдона — Od., VII, 63), он подобен им своими замыслами, обладая некоей «священной силой» (Od., VI, 12; VIII, 4). Остальные двенадцать басилеев, составляя при нем совет ( VI. 54—55,60—61), по большей части безмолствуют и выступает попеременно «то в роли. . . сотрапезников Алкиноя, пьющих своеοίνον в его палатах (XIII, 7), то изображая толпу на площади, к которой Алкиной обращается с речами (VIII, 41: ср.: VI, 54; VII, 49) ».[270]
В этой связи, учитывая, что «в гомеровский период монархия, как сложившийся и нормально функционирующий институт в Греции, еще не существовала», необходимо согласиться с выводом Ю. В. Андреева, рассматривающего феакийскую "поликойранию» как идеализированный образ архаического пэлист, возникшего в результате слияния (синойкизма) небольших семенно-родовых коллективов, возглавляемых родовыми вождями-басилеями [271]
Идиллические сцены царящего между феакийскими правителями согласия, составляющие своеобразную надстройку над безмятежным существованием остальных жителей Схерии, таким образом, резко контрастируют с реальным характером политических отношений гомеровской эпохи, основным законом которых была «борьба всех против всех».
Может быть, именно вследствие такого противопоставления Гомером своего идеала совершенной аристократии господствующим в греческих полисах конфликтам среди знати возникает любопытное смещение утопических акцентов в самом рассказе о феаках — мотив природного изобилия отнесен не ко всей стране е целом (как это было в истории с киклопами), а к саду Алкиноя. Огороженный со всех сторон, этот сад примыкает непосредственно к роскошному дворцу, изображенному также со всеми подробностями (VII, 82—105). В нем растут необыкновенные фруктовые деревья, смоковницы, маслины и виноградники. круглый год приносящие плоды благодаря овевающему их теплому зефиру. Границами сада служат огородные гряды и обтекающий его источник (Od., VII, 112—132).
Последующие поколения греческих утопистов воспринимали сад Алкиноя как топос «земного рая», нередко перенося волшебный пейзаж на природу созданных их воображением далекие островов (см., например, у Ямбула — Diod., II 56, 7).
Следует отметить, что по поводу всего дворцового комплекса Алкиноя высказывалось немало догадок. Его описание Гомером ничем не напоминает микенские дворцы и, го всей вероятности, является плодом поэтической фантазии.[272] Выдвинутое М. Римшнейдер предположение о том, что прообразом гомеровской картины стали хеттские дворцы и сады в Киликии, звучит слишком неопределенно, равно как и ее попытка отождествить город феаков с киликийским Тарсом.[273]
Вместе с тем широко распространенное мнение (подтверждаемое и археологическими данными) об удивительном сходстве контуров феакийского полиса с ионийскими колониями, возникшими на побережье Малой Азии (Od., VI, 262 sqq.)[274], выглядит весьма правдоподобным. Не входя в существо спора о том, создавались ли первые греческие колонии как торговые фактории, либо просто как аграрные поселения[275], следует только отметить, что в рассказе о феаках есть яркий эпизод, свидетельствующий о крайне пренебрежительном и высокомерном отношении гомеровских аристократов к морским торговцам, несомненно. вдохновлявший впоследствии консервативно настроенных теоретиков, например Платона (Od., VIII, 158—164).[276] Плавания феаков по морю на фантастических кораблях не имеют какой-то определенной цели (Od., VI, 272; ср.: XIII, 174; VIII, 557—563; ср.: Il., XVIII, 376 sqq.) и являются, таким образом, лишь дополнительным красочным штрихом к портрету счастливой жизни сказочного народа, безмятежность которой не может нарушить даже полная изоляция от внешнего мира, символизируемая превращением Посейдоном одного из волшебных судов в стоящий у входа в порт каменный утес (см.: Od.,, XIII, 162—164, 171 sqq.).
Гомер был, по-видимому, первым великим греческим поэтом, в творчестве которого утопические образы начинают постепенно отделяться от сказочных и фольклорных мотивов, приобретая некоторые важные черты литературной утопии. Следующий шаг на этом пути был сделан Гесиодом в поэме «Труды и дни», ставшей для многих политических теоретиков как классической, так и эллинистической эпох отправным пунктом при разработке ими рационалистических утопических проектов.
Специалистов в области общественной мысли, как правила, больше всего привлекает в этой поэме знаменитая гесиодовская легенда о пяти поколениях людей, в которой еще Э. Мейер усматривал обладающую внутренним единством грандиозную историческую концепцию развития человеческого рода и его культуры.[277] Данная точка зрения выдающегося немецкого историка вплоть до настоящего времени имеет еще немало последователей. Так, согласно К. Попперу, Гесиод — первый грек, вплотную приблизившийся к «идее историцизма», определяемого как ориентация на историческое предсказание, на проникновение в «ритм», законы и тенденции, лежащие в основе исторического развития.[278]
Гесиода нередко называют не только создателем первой в мире философско-исторической концепции, но также и первым социологом и философом, с которого следует начинать историю античной философии, и т. д.[279] Предпринимались и попытки отождествить каждое из пяти поколений гесиодовского рассказа с определенной эпохой ранней греческой истории, приписав, таким образом, автору «Трудов и дней» истолкование реальных событий в форме поэтической аллегории.[280]
Уже само многообразие интерпретаций невольно приводит к мысли о том, что в рамках каждой из них творчество Гесиода представлено лишь в виде первой ступени учений, развившихся либо в ходе эволюции античной общественной мысли, либо в новое время. Такой взгляд, как правило, избавляет исследователей от необходимости постановки вопроса: насколько содержание гесиодовских поэм соответствует современному пониманию исторического развития. И можно ли вообще считать Гесиода «предшественником политической модели линейного прогресса», как это делает, например, Г. Наддаф, автор одной из последних посвященных поэту работ.[281]
В этом плане вполне закономерной является постановка вопроса о соответствии гесиодовского мифа о пяти поколениях людей тем критериям, которые используются для отнесения тех или иных идей к разряду утопических. Чтобы ответить на этот вопрос, его необходимо, на наш взгляд, сформулировать в более узком плане, рассмотрев прежде всего ту роль, которую играет предание о «жизни при Кроносе» в системе взглядов поэта на мир.
Гесиода часто называют типичным поэтом-крестьянином «с характерной крестьянской идеологией».[282] Такое представление, конечно, не противоречит мнению о поэте как ярком представителе культуры архаического полиса, сохранявшего, как известно, единство города и деревни. Видный американский антрополог Р. Редфилд, выявивший в работе «Крестьянское общество и культура» глубокое типологическое единство выраженных в «Трудах и днях» ценностных ориентаций с широко распространенными вплоть до наших дней у крестьянских народов самых различных регионов мира представлениями о «счастливой жизни» (столь отличными от идеологии героев «Илиады» и «Махабхараты»), вместе с тем отмечал: «Гесиод был достаточно искушен в городских делах, чтобы судиться с братом, оспаривая наследство, изучать поэтическое искусство по книгам и завоевывать в дальнейшем награды за поэтический труд, но он действительно годами жил с крестьянами».[283]
Поэма составлена в виде поучений, обращенных автором к своему брату Персу, отсудившему у него путем подкупа судей значительную часть наследства, которое было оставлено братьям их отцом, переселившимся в Беотию (в местечко Аскру) из эолийской колонии Кимы в Малой Азии после неудачной попытки заняться морской торговлей. В роли неправедных судей в «Трудах и днях» выступают те же басилеи, постоянно фигурирующие и в гомеровских поэмах (Hes. Ergg., 248, 261, 263) [284] Вместе с Персом «цари-дароядцы» рассматриваются как прямые нарушители божественных правды и справедливости, установленных для людей Зевсом в отличие от мира «зверей, крылатых птиц и рыб», чьим законом являются насилие и пожирание друг друга (Ibid., 274—284).
Если в гомеровских поэмах олимпийские боги «не являются сами нравственным образцом для людей и не принимают мер к наказанию плохих и вознаграждению лучших»,[285] в «Трудах и днях» мы сталкиваемся с совершенно противоположной картиной: на передний план выступает типично крестьянское религиозное представление о Зевсе как гаранте справедливости, обрушивающем наказание на преступников, притесняющих бедных и обездоленных. Имеющиеся в поэме довольно многочисленные зарисовки «золотого века» так или иначе опосредуются постоянно выдвигаемой оппозицией между божественным порядком, связанным с почитанием дочери Зевса— Дики и «миром зла», в котором люди пребывают из-за совершенных ими злых поступков. Одним из проявлений этой фундаментальной оппозиции является рисуемая Гесиодом картина двух государств — справедливого и несправедливого. В государстве, где находят «справедливый суд» п местные житель, и чужестранец, процветает мир и отсутствуют знойны (Ibid., 225—229). В нем
В несправедливом государстве все наоборот. Зевс насылает наказания — чуму, голод, бесплодие, жестокие войны на всех его жителей за беззаконные дела даже одного человека (Ibid., 238—247, 260—262; ср.: 280—285). От взора Зевса невозможно ничего скрыть, поскольку за поступками людей наблюдают посланные им на землю «три мириады» «бессмертных стражей" и сама «великая дева Дика», сидящая возле трона отца и сообщающая ему о людской неправде (Ibid., 250—260).
Многие элементы утопических описаний счастливой жизни заимствованы поэтом из «Одиссеи»· Возможно, что сам принцип противопоставления различных общественных устройств Гесиод обосновывал, развивая в традиционные гомеровские идеи. Однако если у Гомера идеальный полис так или иначе связан с правлением «творящего правду» мудрого правителя, будь то Алкиной в Схерии или же Зевс па Олимпе (Od., XIX., 107—114), то в «Трудах и днях» счастье зависит прежде к его от почитания всеми людьми, в том числе и правителями, Дики. Этически переосмысленный ее образ отождествляется прежде всего с идеей «беспристрастного суда», противопоставляемого произволу басилеев-судей, но означает одновременно и нравственный принцип поведения, и возмездие за отступление от него и в конечном счете постоянно ассоциируется у Гесиода с мыслью об универсальном справедливом порядке, дарованном Зевсом людям.[286]
Характерной особенностью нарисованной Гесиодом картины счастливого общества являются также отсутствие в нем морской торговли и прославление земледельческого труда, плоды которого предназначены опять-таки не для обмена, а только для потребления. Этот же мотив счастливого труда проецируется поэтом в прошлое при изображении первого поколения людей, живших при Кроносе в условиях, ничем не отличающихся от тех, при которых на Елисейских полях жили гомеровские герои (Hes. Ergg., 117 sqq.).
Изображение «золотого века», с которого начинается рассказ о пяти поколениях, является, однако, вторым по счету.
Ему непосредственно предшествует миф о Прометее и Пандоре, где также описываются первые блаженные времена человеческой жизни, сменившиеся упадком и страданиями (Ibid., 90—95)· Причиной страданий люден была не их собственная вина, но вызвавшие мстительный гнев Зевса обманные действия Прометея, за которые им пришлось расплачиваться (Ibid.. 47, 53, 71, 79, 99; ср.: Theog., 572).
Зевс в этом мифе весьма далек от образа хранителя справедливости и выступает в обычной у Гомера роли разъяренного божества, не разбирающего правых и виноватых.[287] В рассказе о пяти поколениях Гесиод развивает ту же сюжетную линию иначе,[288] выдвигая на передний план мысль о неисповедимости божественных замыслов. Это подтверждается, в частности, и тем, что последовательная смена золотого, серебряного, медного поколений поколением героев и далее людьми железного века ничем не мотивирована, кроме воли богов. Такого рода мотивировка, конечно, пессимистична в своей основе и, вероятно, является отражением не только восприятия поэтом причин обрушившихся на него бедствий, но и настроений беотийского крестьянства, той напряженной ситуации, которая сложилась в беотийских полисах на рубеже VIII—VII вв. По справедливому замечанию В. Йегера, «ничто не показывай: крайний пессимизм трудящегося народа так ясно, как оценка Гесиодом пяти веков человека, начинающихся с золотого царства Кроноса и вырождающихся к жестокому настоящему, где справедливость, нравственность и счастье находятся в крайнем упадке».[289]
Развернутая поэтом широчайшая панорама несчастий, которые ожидают людей в железном веке (Hes. Ergg., 174—197), дополненная знаменитой притчей о ястребе и соловье (Ibid., 202—212), обнаруживает большое типологическое сходство гесиодовских пророчеств с древневосточной апокалиптической литературой.[290] На наш взгляд, такие спорадически прорывающиеся в поэме апокалиптические настроения являются подтверждением уже неоднократно высказывавшегося в научной литературе мнения о том, что непосредственной целью рассказа Гесиода о пяти поколениях была не разработка какой-либо исторической концепции «упадка цивилизации», но чисто этиологическое по своему характеру объяснение причин нравственной деградации современников поэта.[291]
Одним из наиболее сложных аспектов «гесиодовского вопроса» являются поиски источников этого рассказа. Так, в 20-е годы Р. Райценштайн пытался обосновать гипотезу о зависимости Гесиода от ирано-индийских мифов о мировых периодах, круговорот которых, например, в иранской традиции обычно символизировался сменой различных металлов.[292] Выдвинув такое предположение, немецкий ученый вместе с тем не мог не признать крайне сомнительной возможность проникновения в конце VIII — начале VII в. иранских эсхатологических идей на малоазийское побережье и был вынужден в конечном счете ограничиться туманной догадкой о заимствовании тамошними греками «вековых мифов» в процессе контактов с «варварскими народами».[293]
Решающим доводом в пользу зависимости мифа о пяти поколениях от древневосточной религии Райценштайн считал не идею прогрессирующего упадка человечества и даже не металлическую символику, а соединение этих двух мотивов в поэме и нарочитую неясность гесиодовской мысли.[294] В дальнейшем этот довод был всесторонне разработан многими учеными, особенно Б. Гатцем. В настоящее время наиболее популярной является гипотеза о заимствовании Гесиодом сюжета о смене поколений из хеттско-хурритского ареала мифов.[295] Она нередко подкрепляется ссылкой на удивительный параллелизм историй о смене поколений богов в гесиодовской «Теогонии» (Уран — Крон — Зевс) и в хеттско-хурритском цикле мифов, отразившемся в «Песне об Улликумми» (Алалу-Ану-Кумарби-Тешуба).
Некоторые косвенные признаки, например локализация битвы Тешубы с Улликумми и Зевса с Тифоном у горы Хацци (Касия у псевдо-Аполлодора — I, 6, 3) у сирийского побережья, действительно подтверждают возможность влияния хеттских мифов на формирование греческой легенды о смене царствований богов.[296]
Использование Гесиодом в рассказе о пяти поколениях традиционного для эпоса генеалогического метода не подлежит сомнению. Поэт из Аскры, безусловно, был не только знаком со словами Нестора, сравнивавшего героев Троянской войны с более могучими воителями прошлого (Hom Il., I, 260 sqq.), но вполне мог заимствовать для своих целей наряду с сюжетами восточных мифов также и рассказ «божественного свинопаса» Эвмея об острове Сира, на котором смена поколений очень напоминает картину «жизни при Кроносе», нарисованную в «Трудах и днях» (Нот. Od., XV, 403 sqq.).
Вместе с тем следует отметить, что характер применения генеалогического метода в «Трудах и днях» имеет существенные отличия как от гомеровских поэм, так и от «Теогонии». Если смена золотого, серебряного и медного поколений еще может быть с большим трудом представлена в виде последовательности, отражающей процесс деградации человеческого рода, то рассказ о четвертом поколении героев полностью разрушает такую последовательность. «Серебряные люди», не похожие на «золотых» ни обличьем, ни мыслью, неполноценные в умственном отношении и непочтительные к богам (Hes. Ergg., 127—139), так же как и «медный род», — поколение страшных воителей (Ibid., 143—145) в равной степени противопоставлены «золотому роду» и героям — участникам Троянской войны и похода на Фивы (Ibid., 159 —166).
Совершенно различна и судьба, дарованная этим поколениям. Так, «серебряный род» Зевс в наказание за нечестивость упрятал под землю, а «медные люди», вероятно, сами истребили: друг друга и были «покрыты землей» (Ibid., 137—139, 156). Напротив, людям «золотого века» и четвертого поколения уготована завидная участь: первые превращены Зевсом в «благостных демонов»; оставшиеся же в живых герои перенесены им на «острова блаженных» (Ibid., 122—126, 167—174).
Предлагаемые в научной литературе объяснения противоречий гесиодовской схемы существенно отличаются друг от друга. Например, А. Лавджой и Дж. Боас считают конечной причиной этих противоречии оказавшуюся неудачной попытку Гесиода внести идею развития в восточный вариант мифа, в котором отсутствовала идея прогрессирующего упадка человечества.[297] По мнению большинства других авторов, несообразности в последовательности смены поколений возникли вследствие стремлений поэта включить в заимствованную им схему «четырех металлов» предание о героической эпохе, которая «ко времени, когда восточный миф пришел в Грецию, была твердо зафиксирована в историческом прошлом эллинов».[298]
Такое объяснение, по-видимому, действительно соответствующее истине, не дает, однако, ответа на главный вопрос о причинах возникновения в «Трудах и днях» нескольких рядов противопоставлений: «золотого века» — «серебряному» и «медному", героического—«железному» и т. д. Вероятно, определяющую роль в такого рода построениях для Гесиода все же играла оппозиция справедливого и несправедливого государств. По отношению к ней мотив наказания Зевсом когда-то счастливых в прошлом людей (в мифе о Пандоре) или же противопоставление поколения героев людям «железного века» могут рассматриваться как дополнительные исторические пояснения, созданные по принципу «удвоения антитезы».[299]
Идея справедливого государства лежит в основе «позитивной программы», предлагаемой Гесиодом Персу. Ненароком брошенные поэтом слова о желании умереть до наступления «железного века» или родиться после него (Ibid., 174—175), возможно, указывающие на циклический характер восточного мифа,[300] конечно, нельзя рассматривать как основополагающий элемент данной программы. «Гесиод самым непосредственным образом был частью железного века настоящего — специфически архаического греческого мира восьмого и седьмого вс-коз до н. э.».[301] В его мировоззрении поэтому отразились не только пессимистические настроения людей этой эпохи, но и характерная для начинающегося культурного переворота оптимистическая в своей основе вера «в возможность достижения мыслимого для человека счастья — в результате собственных усилий»·[302] Стремление поэта найти выход из кризиса в созидательном мирном труде (Ibid., 312 sqq.) в определенном плане может рассматриваться как предвосхищение тех ориентирующихся на реальность позитивных проектов общественного переустройства, которые появятся позже в эпоху греческой классики.
Глава III. ИСТОКИ РАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОИ УТОПИИ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ
§ 1. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ «ИДЕАЛЬНОЙ ПОЛИТИИ» В ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ VII—V вв.
Возникновение рационалистической утопии в Древней Греции во второй половине V в. является непосредственным следствием того факта, что греки были первыми подлинными творцами политической теории. Утопические проекты Гипподама, Фалея, Платона и других мыслителей являются своеобразным) завершением довольно длительного «отборочного процесса» сравнительного анализа полисных конституций, осуществлявшегося первоначально до известной степени стихийно, ad hoc, но затем приобретшего целенаправленный характер и достигшего своей вершины в исследованиях Аристотеля и его учеников. Ясно осознаваемый греками производный характер таких понятий, как «политика», «политическое знание», «политическое искусство» от термина «полис», свидетельствует о практической потребности в рациональном истолковании характера государственного управления, которая в дальнейшем приводит к возникновению имеющих вполне самостоятельную ценность идеальных теоретических конструкций, объяснявших преимущество одной формы правления перед другой.
Появление политической теории во многом было обусловлено уникальным для древнего мира общественным климатом, сложившимся в полисах уже в архаический период. Агональный характер греческой культуры проявляется, в частности, в; поразительном динамизме политической жизни, в немалой степени порождаемом полисным партикуляризмом. «Микрокосм греческих полисов, весь исполненный жизни, движения, перемен, являл собой своего рода живую социологическую лабораторию, где обществом ставился опыт за опытом, где непрестанно опробовались различные политические идеи и формы, где постоянные столкновения старого, едва, впрочем, успевшего обрести силу традиции, с новым будили мысль, обогащали ее наблюдениями и естественным образом подводили к теоретическим заключениям».[303] Для таких заключений, в свою очередь, требовалась всесторонняя предварительная аргументация, используемая политическими деятелями с целью оказать воздействие на сознание и поведение своих сторонников или же на народную массу в целом, убедить их принять или отвергнуть ту или иную законодательную меру.
Указанные особенности образуют именно тот фундамент, на котором и создавалась концепция «идеальной политии». Следует сразу подчеркнуть, что любому из вариантов данной концепции всегда была присуща такая специфическая черта полисной идеологии, как внутреннее единство этики и политики. Благодаря постоянному присутствию этого единства в общественном сознании процесс создания идеальной рационалистической модели совершенного государственного устройства значительно опережал возникновение собственно прагматических наукообразных представлений о целях, функциях и задачах государства и управления в целом. Обнаруженные софистами элементы трезвого понимания истинных оснований, на которых зиждятся интересы и мораль участников борющихся за власть группировок, и даже такое фундаментальное открытие, как признание Платоном и Аристотелем существования двух враждующих государств в каждом из полисов — государства богатых и государства бедных, в конечном счете сводились к ложным причинам, а именно — к «моральной испорченности» и безрассудству демоса, к неспособности большинства людей понять «веления природы» и разума и т. д. Поэтому элементы научных представлений о государстве нередко оказывались как бы побочным продуктом магистрального направления греческой политической мысли, выдвигавшего на передний план разработку либо «рекомендаций» (обычно в форме тех же моральных наставлений), каким образом избавиться от обостряющихся социальных конфликтов, либо «альтернативных проектов», в которых по мере приближения полисной государственности к своему краху утопические моменты постепенно приобретают все большее значение и, наконец, в IV в. достигают почти полного господства.
Но еще задолго до того, как утопия предстала в общественной мысли греков, так сказать, в чистом виде, «нахождение и претворение в жизнь наилучшей конституции... и вопрос о наилучшей конституционной форме» приобрели для них основополагающее значение.[304] Уже на самом раннем этапе архаической эпохи мы встречаемся с таким понятием, как «благозаконие» (ευνομία), занявшем впоследствии одно из центральных мест в политической теории. У специалистов вопрос о семантике и функциональной роли данного понятия до сих пор вызывает многочисленные споры.[305] Впервые оно появляется в «Одиссее», причем в очень характерном контексте: некоторые из женихов, осуждая грубое обращение Антиноя с Одиссеем, проникшим в свой дом под видом никому не известного нищего, опасаются гнева богов, якобы часто посещающих в людском облике смертных и наблюдающих их «наглость и благозаконие» ( fißpiv τε και εύνοπίην έφοριΰντΐ; — XVII, 487).
Сам факт, что гомеровская эвномия сопоставляется не с полисом, а противопоставляется человеческой самонадеянности и дерзости, во-первых, не отрицает вторичный характер ее образования от полисных νόμοι —обычаев, норм, (от νέμω — разделять, уделять, раздавать и т. д.); во-вторых, раскрывает особенности восприятия закона в эпоху архаики. «Когда грек архаического периода говорил о ,,законе” и даже когда он говорил о „законах” во множественном числе, он обычно имел в виду не содержание свода статутов, но традиционные обычаи во всей их совокупности, всецело управляющие его гражданским, политическим, социальным и религиозным поведением. Он думал о законе не как о чем-то подверженном изменению в следующем году, но как о полученном наследии, которое формировало постоянную основу его жизни. Законы представляли коллективную мудрость прошлого».[306] Соответственно и понятие «эвномия» первоначально воспринималось как освященная божественной санкцией совокупность хороших и разумных обычаев и лишь впоследствии приобрело тот зафиксированный у Аристотеля двойственный смысл, порождаемый взглядом на благозаконие не с позиции божественной справедливости, но с позиции людей, составляющих законы и умеющих заставить остальных граждан этим законам повиноваться (Arist. Pol., IV 6, 3; ср.: IV 9—12).[307]
Традиционный характер эвномии особенно ясно выражен в гесиодовской «Теогонии»:
Еще раньше в поэме появляется Дюсномия — дочь богини раздора Эриды. И хотя сам Гесиод не противопоставляет ее Эвномии, вряд ли в сознании читателей (особенно знакомых со второй поэмой) их образы могли восприниматься нейтрально, т с. не в смысле противоположности благоустроенного общества, олицетворяемого дочерью Фемиды, государству, потрясаемому раздорами вследствие того, что па смену праву пришло беззастенчивое попрание общепринятых норм.[308]
Сила инерции и традиция оказались в ранний период греческой истории настолько велики, что новые тенденции в политических отношениях, вызванные к жизни архаической революцией, первоначально выражались, как правило, при помощи понятий, сложившихся в эпосе.
Архаическая революция VIII—VI вв. знаменовала собой грандиозный переворот в экономической, социальной и политической структурах греческого общества, окончательно закрепивший «античный путь» развития цивилизации Эллады.[309] На всех своих этапах эта революция сопровождалась ожесточенным конфликтом между демосом и родовой знатью, узурпировавшей государственную власть в полисах и активно использовавшей ее в целях эксплуатации рядовых общинников. Длительная борьба, в ходе которой основными требованиями низших слоев были запись старинных законов, уничтожение долговых обязательств и передел земли, почти повсеместно привела в итоге к утрате древними аристократическими семьями безраздельной монополии на государственную власть и к установлению полисного строя в демократическом или олигархическом его вариантах.
Данный процесс сопровождался резкими поворотами в развитии политических событий — кровавыми столкновениями противоборствующих группировок, выдвижением на их волне честолюбивых политиканов, использовавших антиаристократические лозунги для установления тирании—этого древнего варианта бонапартизма,[310] а также попытками достигнуть компромисса путем разработки законодательства, способного хотя бы на какое-то время умерить взаимные притязания враждующих сторон.
Нахождение таких компромиссных формул было связано с деятельностью древних законодателей, реформаторов или так называемых эсимнетов, т. е. общественных посредников, власть которых Аристотель характеризует как «выборную тиранию» (Pol., III 10, I).[311] Эти люди, пользующиеся авторитетом у сограждан в силу своей мудрости и верности древним обычаям, как правило, специально избирались во время смуты в целях выхода из кризиса и установления гражданского мира. В классическую эпоху сформировался своеобразный исторический миф, роль которого заключалась в том, чтобы представить законодательные меры древних мудрецов в наиболее выгодном свете. В любой из списков этих мудрецов, по традиции ограничивавшихся именами семи наиболее прославленных греков (Plato Prot., 343а; DL., 1,13),[312] включено имя Солона — афинского законодателя и талантливого поэта, считавшегося с своем родном городе основоположником «отеческой конституции» (Arist. Pol., II 9, 1—2).[313]
Несмотря на существование различий в трактовке ряда аспектов реформ, проводимых Солоном в качестве первого архонта— эсимнета в Афинах в 594 г.,[314] ни у кого из исследователей не вызывает сомнений их компромиссный характер. Осуществленная Солоном сейсахтейя, т. е. кассация долгов, возврат крестьянам заложенных за долги земель, запрещение долгового рабства, демократизация правовых и имущественных отношений, явилась как бы прелюдией к установлению государственного строя, называемого Аристотелем одним из образцов «смешанной конституции» (Pol., II 9,2). Сам Солон, очевидно, рассматривал отстранение беднейших слоев демоса — фетов от занятия государственных должностей и предоставление этого права трем высшим цензовым группам, равно как и введение выборности должностных лиц экклесией, учреждение гелиеи, создание совета четырехсот, наряду с сохранением прав ареопага и т. д. с позиции законодателя, восстанавливающего древнее благозаконие.[315]
Этот взгляд Солон подробно обосновывает в знаменитой элегии «Благозаконие»:
Вряд ли возможно согласиться с Ф. Солмсеном, утверждавшим, что противопоставление поэтом эвномии и человеческой дерзости (гюбрис) является свидетельством безусловного подражания Гомеру.[316] Следует, например, указать на гораздо более определенно сформулированное противопоставление благого и неправедного порядка вещей (дюсномии), содержащееся, как уже отмечалось, в зачаточном виде в гесиодовской «Теогонии».[317]
Речь, вероятно, должна идти о более сложной системе образов, в которых развитие восходящей к Гомеру и Гесиоду эпической традиции сочетается с конструктивным пониманием отпрыском царского рода Кодридов реальных политических мер и средств, необходимых для стабильности государственного целого. Именно поэтому деятельность Солона наряду с политикой таких древних законодателей, как Залевк, Харонд, Пит-так, тиранов Периандра и Писистрата,[318] отчетливо подчеркивает «значение рационального момента в архаической революции VII—VI вв. до н. э., а именно—сознательное избрание народом социальных посредников для форсированного упорядочения гражданских дел».[319]
Разумеется, рациональное направление рождающейся политической мысли было не единственным. Ему сопутствовало немало иррациональных моментов, связанных не только с появлением в конце архаической эпохи различных вариантов «религии спасения» типа орфизма, но и с повсеместно распространенными настроениями отчаяния, неудовлетворенности или скепсиса в отношении происходящей ломки старых традиций. Выразителями таких настроений нередко были прежде всего идеологи старой родовой аристократии. Некоторые из них, потерпев поражение в открытой вооруженной борьбе, выбрали для себя роль «литературных пророков», предвещавших (иногда в великолепной поэтической форме) новые беды, которые принесут согражданам политические перевороты, сопровождавшиеся приходом к власти тиранов.
Так, например, мотив грядущего катаклизма и ненависть к тирании ярко выражены в маленьком четверостишие Алкея из Митилены:
В стихах другого представителя обедневшей аристократии — Феогнида Мегарского мотив «перевернутых отношений» становится буквально навязчивой идеей, очень напоминая по смыслу уже приведенные нами древневосточные образцы:
Особую роль у Феогнида играет резкое противопоставление «благородных и знатных» «суемыслящей черни» (см., напр.: 6)1—615, 945—948; 1156—1157 и др.). Судя но настойчивым призывам поэта сохранять благородство и в бедности не смешиваться с низкими по происхождению богачами (см., напр.: 315—322), ему показался бы страшным кощунством тот способ установления имущественного равенства, которым будет предложен в V в. Фалеем Халкедонским в его утопическом проекте.
И если круг идей, выраженных в феогнидовских стихах, без всяких сомнений является эталоном античного консерватизма, то в лице другого аристократа, потомка эфесских царей—Гераклита мы сталкиваемся с совершенно иным идеологическим феноменом, который можно условно обозначить как «аристократический радикализм».
Сочинение Гераклита «О природе» наглядно показывает несостоятельность обыденного мнения, согласно которому принадлежность к родовой знати как бы автоматически превращает любого ее представителя в закоснелого ретрограда и реакционера.[320] Во многих фрагментах данного сочинения Гераклит явно бросает вызов традиционной морали, по-новому переосмысливая концепцию божественного происхождения человеческих законов и установлений (см., напр.: В5). В качестве примера, возьмем один из важнейших фрагментов, характеризующий отношение великого эфесца к этому вопросу: «Нужно, чтобы говорящие разумно опирались на всеобщее, как государство на закон, и даже больше того. Ведь все человеческие законы питаются единым божественным. И он имеет столько силы, сколько пожелает и сколько достаточно, и даже сверх того» (В 114) [321]
В общем контексте гераклитовской философии было бы ошибочным воспринимать идею божественного закона исключительно в смысле дарования богами людям представлений о справедливых нормах общежития. Единственный всеобщий закон, царящий в космосе, — это «война — отец всего и царь всего. Одним она определила быть богами, а другим — людьми, одних она сделала рабами, других — свободными» (В53). Сам космос не создан ни богами, ни людьми, но является вечно живым огнем, в котором все вещи подвержены вечному круговороту к взаимопревращению (B30, 31, 36, 65, 90). В мире все рождается вследствие распри, в том числе и справедливость (В80). Но ему в той же мере имманентен разумный принцип — логос, управляющий всеми вещами и, очевидно, не противоречащий закону всеобщей борьбы (В2, 72).
Согласно Гераклиту, богам лишь в большей мере, чем людям, доступно понимание царящих в космосе закономерностей. Поэтому «для бога все прекрасно, хорошо и справедливо, а люди одно приняли за справедливое, а другое — за несправедливое» (В 102; ср.: В83). Гераклит почти открыто провозглашает мысль, согласно которой мудрец, познавший при помощи собственного разума управляющие космосом законы, достигает тем самым божественного статуса, подобно Гераклу, взятому на Олимп за свои подвиги на земле. Большинство же людей "не имеют прозрения» (В78) и поэтому не способны ни осознать относительность нравственных представлении, ни понять, что "и воле одного повиноваться — закон» (ВЗЗ).
Такое логическое обоснование Гераклитом «законности» тирании или монархии, возникших в результате победы сильнейшего, выглядело в глазах большинства греков как парадоксальное доказательство относительности любых человеческих установлений.
В то же время идее «справедливости» власти одного человека противостоят следующие заявления философа: «наглость следует пресекать быстрее, чем пожар» (В43); «народ должен бороться за закон, как за свои стены» (В44).
По-видимому, в конкретно-политическом плане мысль об относительности законов не является для Гераклита «целью в себе», и речь, возможно, идет о своеобразной попытке «доказательства от противного» аристократической концепции благозакония, тождественной для мыслителя старинным «отеческим законам», которые он, в свою очередь, противопоставляет как тираническим поползновениям на власть отдельных лиц, так и стремлению к господству народного большинства. «Самые достойные (люди) всему предпочитают одно: вечную славу — смертным вещам. Большинство же по-скотски пресыщено» (В29; ср.: 125, 107). Здесь можно уловить не только внутреннюю убежденность Гераклита в собственном интеллектуальном превосходстве над «толпой», но также ненависть и презрение к эфесской демократии, заставившей его удалиться от дел и направить весь свой бурный темперамент в сферу философского умозрения (см., напр.: В121).[322]
Но именно данное обстоятельство и привело к тому, что политическое учение Гераклита, с одной стороны, оказалось, как это ни парадоксально, сродни рационалистической концепции «идеальной политии», развиваемой Пифагором и его ближайшими последователями, а с другой — стало идейным предшественником теорий софистов. Более того, сочетание аристократических симпатий с исключительно интеллектуалистической системой ценностных ориентаций гораздо больше сближает Гераклита с Платоном, чем с Солоном или Алкеем, несмотря на тот факт, что в гераклитовских космологических фрагментах, пронизанных социоморфными образами,[323] постоянно встречаются весьма древние по происхождению представления о божественном характере справедливости и неотвратимости возмездия за ее нарушение (см., напр.: В94; ср.: В28).
В философии Гераклита мы можем также наблюдать весьма характерную для античной общественной мысли, начиная с V в., апелляцию к природе как источнику истинного знания (Bla, 112), в частности, в его рассуждении о безусловном превосходстве «вечного и всеобщего естественного начала, природы, над имеющими лишь относительное значение человеческими установлениями».[324]
Впрочем, «онтологический» аспект противопоставление природы и закона приобретает, на наш взгляд, только у софистов.[325] Начальный же этап этого процесса связан с достижением обоими понятиями равноправного статуса путем их рационального обоснования вне зависимости от воли богов. У Гераклита сами боги являются порождением игры природных, или космических, сил. В одном из фрагментов не сохранившейся полностью поэмы Пиндара появляется недвусмысленно выраженная идея (вряд ли принадлежащая самому поэту) о господстве обычая (закона) над богами: «Обычай (закон) над всеми владыка, над смертными и бессмертными; самое насильственное он творит всемогущей рукой по справедливому произволу» (fr. 169 Snell-Maehler).
Здесь в провозглашении справедливости насилия, которому вынуждены подчиняться даже боги, отражается не в меньшей степени, чем у Гераклита, осознание условности существующих законов, входивших в состав конституций различных полисов.
Необходимость заполнить образовавшийся «этический вакуум» стимулировала поиски безусловных ценностей, не подверженных превратностям ни людских, ни божественных судеб. В философии роль такого всеобщего мерила постепенно начинает играть природа. Как справедливо заметил А. Лавджой, «природа... означает норму ценности или превосходства в сфере морального поведения и в других видах человеческой деятельности. Обычно молчаливо предполагалось, что „природа’’, т. е. фактически существующий космос и его законы, должны быть в целом превосходны и что „гармония с ней” и „соответствие ей” (что бы конкретно ни означали эти выражения) должны быть нравственным императивом».[326]
Такое наметившееся противостояние природы и закона отражало радикальное изменение в подходе к обоснованию идеи наилучшего государственного устройства. В V в. Эвномия перестала быть суммой совершенных древних правил, ценность которых очевидна и безусловна для всякого; она оказалась вовлеченной в водоворот партийных страстей, политических программ, лозунгов и должна была отныне отстаивать свое право на первенство не только силой убеждения, но и при помощи оружия.
В научной литературе уже неоднократно развивалась мысль, согласно которой в данный период само понятие благозакония повсеместно превращается в кредо олигархических группировок, боровшихся с восходящей демократией, лозунгом которой стало равное участие всех граждан полиса в политическом управлении, — исономия.[327] Такую постановку вопроса нельзя, однако, признать полностью правомерной. Вопреки, например, категорическому мнению Г. Властоса, исономия далеко не всегда отождествляется в античной литературе с демократической формой правления. Можно согласиться с Властосом лишь в том, что в знаменитом споре знатных персов о наилучших формах государства в III книге «Истории» Геродота (III, 80— 82) «исономия отождествляется с демократией наиболее позитивным и безоговорочным образом».[328] Вместе с тем, учитывая тот факт, что в 40-е годы V в., когда предположительно и создавалась III книга, понятие «демократия» еще не было общеупотребительным,[329] было бы точнее рассматривать исономию у Геродота как потенциальный эквивалент данного понятия, т. е. как тождественный «отцовским обычаям» (III, 80) синоним народного правления, противопоставляемый монархии и тирании.
В этом плане подход В. Эренберга и Г. Аалдерса к трактовке исономии как лозунга «свободы», повсеместно выдвигаемого противниками тирании, с нашей точки зрения, отражает более верный исторический взгляд на специфику первоначального политического содержания этою лозунга, не столь тесно связанного с идеей демократии.[330] Обвинение в адрес тирана в нарушении «отеческих законов» могло равным образом исходить как от приверженцев демократии, так и от сторонников олигархии. В рассказе Геродота оно исходит исключительно от «защитника народовластия» Отана лишь постольку, поскольку защитник «власти немногих» Мегабиз более озабочен дискредитацией демократического правления (III, 81). Единственным же аргументом в пользу монархии у Дария, по существу, является указание на нестабильность реально существующих олигархий и демократий, неизбежно приводящих к установлению единовластия какого-либо одного представителя знати или же «народного вождя» (III, 82).
Согласно же Геродоту, будущий персидский царь Дарий отстаивает идеал «наилучшего властелина», безупречно управляющего народом в противовес приемам царствования Камбиса и его преемника — мидийского мага Гауматы, портреты которых даны в соответствии с уже сложившимся в этот период топосом поведения греческого тирана.[331]
Таким образом, в речах знатных персов уже просматривается будущее разделение государственных устройств на правильные и неправильные, в классическом виде представленное в поздних платоновских диалогах. Однако сама по себе литературная фикция Геродота, не претендовавшего на роль политического мыслителя и, вероятно, лишь воспроизводившего популярные в его время теоретические дискуссии на политические темы,[332] мало что дает для понимания конкретного соотношения исономии и эвномни.
«История» Фукидида — младшего современника Геродота, гораздо более наглядно показывает постепенный процесс размежевания данных понятий, впрочем, так никогда и не получивших однозначного определения в античной политической теории. Например, в III книге «Истории» Фукидида понятие «исономия» встречается в двух различных по своему значению аспектах. Так, в своей оправдательной речи фиванцы, защищаясь от обвинения в «медизме» (измене общегреческому делу в период греко-персидских войн), ссылались в качестве оправдания на то, что в их государстве в этот период не существовало ни «равноправной олигархии» (ολιγαρχία taovojioc), ни демократии, но было тираническое по характеру господство небольшой группы правителей (йтзЫа ολίγων — III, 62, 3). Далее, рисуя грандиозную панораму бедствий, наступивших в государствах Эллады в эпоху Пелопоннесской войны, Фукидид утверждал, что лозунги главарей демократов — «равноправие для всех» (ΤΛψΚυς iaovWa πολιτική) и олигархов — «умеренная аристократия» (άοιιτοχοατία σώφρων) были лишь маскировкой их своекорыстных претензий на политическое господство (III, 82, 8).
Но даже после того, как исономия в результате утвержде-ния в Афинах демократии в ее крайних формах приобрела одиозный в глазах олигархов смысл, заставляя их изображать любую форму ограничения демократии как возврат к «отеческим законам», или эвномии, нельзя все же считать исономию и демократию абсолютными эквивалентами.
Например, в VII платоновском письме справедливое и «равноправное» государственное устройство одинаково противопоставляется тираниям, олигархиям и демократиям (Plato Epist., VII, 326d).
Итак, следует признать, что вплоть до конца IV в., т. е. до гибели полиса как независимой государственной организации, исономия как синоним «равных прав для всех при законной конституции»[333] могла служить символом «идеального строя» как у приверженцев крайней демократии, так и у их решительных противников — теоретиков «геометрического равенства», каким выступает, например, Платон в обоих своих утопических проектах (см., напр.: Resp., VIII, 558; Legg., IV. 757—758а).
Изначальное отсутствие резкого разграничения в терминологии, при помощи которой выражались идеалы противоборствующих политических группировок, — лишнее подтверждение того важного момента, что «грядущие великие конфликты между олигархией и демократией были относительными, а не абсолютными. Они развертывались вокруг права на „принадлежность к клубу” большего числа людей, а не вокруг уничтожения клуба. Вот почему аристократический лозунг равенства мог перениматься демократами. Он не утверждал равенства всех людей. .. ни одна из групп даже не мечтала о распространении равенства на женщин, рабов или иностранцев. Эта мечта была достоянием немногих утопистов».[334] Другим, не менее важным подтверждением данного факта является многообразие оценок, даваемых в античной исторической и политической литературе спартанскому государственному строю.
Вопрос о том, в каком веке возник своеобразный феномен, именуемый современными учеными «спартанским миражом», во многом еще не утратил своего дискуссионного характера.[335] До сих пор ведутся споры: был ли легендарный основатель «спартанского космоса» Ликург реальной исторической личностью, или же его жизнь и деятельность следует отнести к разряду ранних исторических мифов (ср.: Plut. Lyc., I).[336] К тому же неизвестны в точности исходный временной пункт и этапы осуществления реформ, в результате которых Спарта, продемонстрировав в период греко-персидских войн свою мощь, заняла исключительное место среди других греческих полисов.
Надо полагать, что причина, способствовавшая раннему распространению «спартанской легенды», заключается прежде всего в том, что в этом дорийском государстве наиболее характерные элементы полисной организации предстают в архаическо-элементарной и в то же время глубоко нетрадиционной форме, обеспечившей на долгое время гарантию от возникновения внутренних конфликтов. «Основная отличительная особенность спартанской формы полиса, — отмечает Ю. В. Андреев, — заключается ... в том, что лежащий в самой природе античной собственности как ,совместной частной собственности... граждан государства” принцип коллективизма, общинности получил здесь наиболее яркое и наглядное выражение, воплотившись в самом жизненном укладе спартиатов, насквозь пронизанном идеей равенства... Присущее в той или иной степени любому античному полису корпоративное начало было выражено в социально-политической жизни Спарты с особой силой».[337]
Завоевание спартанцами Мессении в ходе II МессенскоГг войны (конец VII в.), превращение местного населения в государственных рабов-илотов означало существенное и весьма взрывоопасное по своим последствиям нарушение основной заповеди рабовладельческой экономики: «Для того, чтобы те, кто будет находиться в рабстве, легче повиновались, они не должны быть соотечественниками друг другу и должны по возможности как можно больше различаться по языку» (Plato Legg., VI, 777с). Вследствие подобного нарушения община спартиатов, вероятно, начиная со второй половины VI в. превращается в подобие военного лагеря, со всех сторон окруженного враждебно настроенным порабощенным населением, склонным к постоянным возмущениям. В таких условиях государство неизбежно должно было предпринять экстренные меры для того, чтобы его граждане в любой момент были готовы встретить грозящую опасность. Вот почему жизнь каждого спартиата от рождения и до смерти была подчинена рационально выверенной и строго регламентированной системе предписаний, регулирующих не только его повседневный образ жизни, но и внешний облик — покрой одежды, форму бороды и усов и т. д.[338] Все полноправное население спартанского государства объединялось в иерархически построенную корпоративную систему мужских союзов, возрастных объединений («классов») и т. п., центральной осью которой стали совместные трапезы — сисситии. Участие в них, будучи сопряженным с твердо установленным индивидуальным взносом, символизировало принадлежность гражданина к общине. Основным занятием взрослых спартиатов стало военное дело. Государственное воспитание молодежи также было всецело подчинено задаче подготовки полноценных воинов. Хозяйственная же деятельность спартиатов была фактически сведена к нулю и ограничивалась лишь получением дохода с участков, обрабатывавшихся прикрепленными к ним илотами. Строгое ограничение купли-продажи земли, введение тяжелых железных оболов вместо золотой и серебряной монеты являлись теми мерами, при помощи которых спартанские законодатели пытались ослабить разрушающее воздействие товарно-денежных отношений (Plut. Lyc., 9, 10, 25), стабилизировав тем самым политический строй, называвшийся древними «гоплитской политией» и бывший первоначально, скорее всего, разновидностью умеренной демократии (см., напр.: Arist. Pol., IV 11, 10; ср.: Isocr. Panath., 178).
Политическим гарантом незыблемости «ликургова космоса» служила коллегия эфоров — институт, возникший, вероятно, на завершающей стадии реформ и имевший все признаки «чрезвычайной магистратуры». Во всяком случае, в поэме Тиртея «Эвномия» (написанной в период II Мессенской войны), где перечислены три основные элемента спартанской конституции: институт двух царей, аристократический совет старейшин — герусия и, наконец, народное собрание — апелла, нет даже намека на существование эфората (fr. lb Gentili-Prato; ср.: Arist. Pol., II 6, 15; Plut. Lyc., 5—6, 26).
Наделение эфоров правами всеобъемлющего контроля практически над всеми политическими институтами, организацией финансов и системой воспитания в соединении с явно выраженными полицейскими функциями превращало эту коллегию, по выражению Аристотеля, в подобие тиранической власти (ίσοτύραννος—Pol., II 6, 14).[339] Но даже такие исключительные меры не смогли воспрепятствовать имущественной дифференциации внутри гражданского коллектива, а также превращению умеренно-демократического строя в олигархический (см., напр.: Hdt., VII, 134; Plato Alc., I, 122e; Isocr. Nie., 24; Demosth., XX, 108).
Все названные процессы, фиксируемые в разное время античными авторами, часто представлявшими диаметрально противоположные направления политической мысли, и определили крайнюю неоднозначность картины «ликургова космоса» уже в V в. — от идеализации его отдельных черт до самой резкой и нелицеприятной критики всего спартанского государственного устройства.
Ф. Олье, анализируя основные типы утопических конструкций, создаваемых в литературе V в. на основе идеализации прошлого («золотой век»), примитивных народов, Древнего Египта и, наконец, Спарты, особенно выделяет последнюю. Основные аргументы Олье сводятся к следующему: широко распространившееся после греко-персидских войн чувство национального превосходства греков над другими народами, а также усилившаяся тенденция к идеализации в аристократических кругах (прежде всего афинских) дорийских институтов, привели к тому, что на Спарту, «раз и навсегда претендовавшую на роль хранителя дорийских нравов», постепенно стали переноситься все те идеальные мотивы, которые прежде рассеивались в пространстве между скифскими степями и дельтой Нила.[340]
Представляется явным преувеличением такое сведение многообразия утопических образов к одному, пусть даже и очень важному. Например, весьма схожее по форме выражения одобрение Геродотом и Фукидидом спартанской «эвномии», возникшей в результате ликурговых реформ, производит впечатление трафаретного энкомия (Hell., I, 65—66; Thuc., I, 18, 19) и совсем не мешает обоим историкам реалистично описывать такие неприглядные черты спартанцев, как жадность, продажность, лицемерие и т. п., которые никак не могут быть присущи гражданам идеального государства.[341]
На наш взгляд, всесторонняя разработка многообразных аспектов «спартанского миража», начинающаяся не раньше IV в. и продолжающаяся в эллинистическо-римскую эпоху, была связана с общими тенденциями идеализации классической полисной государственности, которая в указанные периоды постепенно становилась достоянием прошлого. В V в. спартанская эвномия еще не обрела своего утопического статуса и в целом уступала первенство традиционным сюжетам, сложившимся в эпосе и претерпевающим постепенную трансформацию в соответствии с духом времени.
О характере этой трансформации мы можем судить главным образом по сочинению Геродота. В истории утопий его труд сыграл выдающуюся роль; он представляет собой важнейшее связующее звено между эпосом и первыми рационалистическими конструкциями, вращающимися вокруг темы «благозакония», с одной стороны, и утопическими проектами последней трети V—IV вв. — с другой.
Возможно, таких звеньев оказалось бы гораздо больше, если бы нам были лучше известны те источники, на которые опирался «отец истории».[342] Вместе с тем исключительно интенсивное использование собранного Геродотом материала утопистами последующих поколений, в том числе и Платоном,[343] вполне позволяет сделать вывод о том, что труд греческого историка, начиная с классической эпохи, считался античными авторами квинтэссенцией представлений об идеальных условиях человеческого существования, ассоциировавшихся по традиции с жизнью народов, обитавших на краю ойкумены.
Период расцвета творчества Геродота также является переходным в плане формирования в античной общественной мысли дихотомии «варвары — греки». Отсутствие в его многочисленных рассказах каких-либо ярко выраженных черт ксенофобии, безусловно, оказало благотворное влияние на процесс возникновения литературной утопии, нуждавшейся в позитивных: контрастных характеристиках счастливой жизни, которые можно было бы противопоставить конфликтам, бушевавшим в греческих полисах, в том числе и в Малой Азии откуда историк был родом.[344] Необходимо отметить, что «отношение греков к сзоим соседям колебалось в зависимости от местных условий. Но в истории VII и VI вв. враждебность между греками (независимо от того, шла ли речь о соперничавших городах или же о враждующих классах) выступает более выпукло, чем антагонизм с негреками».[345] Усиление вражды к восточным соседям в период греко-персидских войн, увеличение численности рабов-чужеземцев в связи с быстрым хозяйственным прогрессом полисных ойкосов не только укрепляли идею о «природной склонности» варваров к рабству, в классическом виде развитую уже в IV в. Аристотелем, но также и представление о том, «что они жили в политическом рабстве и у себя дома» (см., напр.: Aeseh. Pers., 181 sqq.; Eur. Hel., 273—276; Iph. Aul., 1400 sqq.; ср.: Heracl., B22).[346]
Отражение указанной тенденции можно встретить и у Геродоте (см., напр.: I, 60). Но вместе с тем в его «Истории» образ варваров, в том числе и «естественных» врагов греков — персов, предстает отнюдь не в соответствии с идеологическими предрассудками заурядного рабовладельца (I, 126—127).
Опорным пунктом для исследования проблемы происхождения многообразия нравов у различных народов становится для Геродота принцип сравнения природы и обычая (закона), которым греческий историк пользуется всякий раз, когда необходимо доказать неосновательность или даже вздорность суждений греков о той или иной стране и ее обитателях (см. особенно: III, 38). Так, например, опровергая миф об избиении Гераклом египтян, собиравшихся якобы принести его в жертву Зевсу, Геродот писал: «По моему же мнению, подобными рассказами эллины только доказывают свое полное неведение нравов И обычаев египтян» (τής Αιγυπτίων φύσιος καί των νόμων — II, 45, пер. Г. А. Стратановского; см. также: II, 19, 35, 68,71).
Сравнительный анализ нравов чужих народов нередко определялся теми дискуссиями, которые проходили в эллинских образованных кругах по наиболее актуальным конкретно-политическим вопросам. Так, победа над персами вызвала пытливый интерес к скифам — народу, также одержавшему верх над ними: еще до походов Дария и Ксеркса на Грецию.
Вероятно, именно приближенность многих элементов «скифского рассказа» Геродота к публицистическому жанру стала причиной того, что описание скифов имеет мало общего по своему характеру с утопией. В этом плане исследование греческим историком скифских обычаев составляет известный контраст рассказу о них Эфора, представлявшему собой уже разновидность «этнографической утопии». Впрочем, черты идеализации скифов свойственны и геродотовскому рассказу. Так, по Геродоту, скифы-кочевники непобедимы вследствие «простого образа жизни». «Ведь они, — пишет историк, — не основывают ни городов, ни укреплений, но все они, будучи конными стрелками, возят свои дома с собой, получая пропитание не от плуга, а от разведения домашнего скота; жилища у них на повозках» (II, 46, пер. Г. А. Стратановского; ср.: IV, 19; Aesch. fr. 328 Mette).[347] Не случайно и вопрос об общности жен у массагетов обсуждается Геродотом в связи с опровержением мнения тех греческих авторов, которые приписывали этот обычай скифам (I, 216; ср.: IV, 104).
К числу сюжетов, безусловно предвосхищавших утопии более позднего времени, относятся рассказы об эфиопах, в частности о презрительном обращении последних с золотом (III, 22—23; ср.: 111,116), а также о так называемом «столе Солнца» (III, 17—18) .[348] Но если в «эфиопском цикле» утопические черты вставляются в новеллистические фрагменты, так сказать, для усиления экзотики, то в истории о захвате Деиоком царской власти в Мидии, наряду с «историческим» анализом происхождения «мидийской эвномии», явно чувствуется интерес к распространенной в ближневосточных мифах астральной символике, проявившийся, например, при описании новой столицы, построенной мидянами после воцарения Деиока на том месте, где в V в. был расположен город Экбатаны. Чрезвычайно красочная картина нового города, расположенного на холме, с царским дворцом в центре и окруженного семью разноцветными кольцами стен,[349] находится, однако, в резком контрасте с почти сатирическим изображением действий самого Деиока» оградившего себя стенами от политических конкурентов и лицемерно использующего строгое соблюдение законности главным образом для укрепления личной власти (III, 96—99).
Таким образом, ни в одной из скифских, эфиопских или мидо-персидских историй Геродот не выступает в роли утописта, проявляющего склонность к созданию сколько-нибудь законченного идеального образа жизни того или иного народа. Исключение, и притом весьма существенное, составляет II книга «Истории» Геродота, посвященная Египту, в которой черты идеализации этой страны проявляются очень отчетливо, заставляя некоторых исследователей предполагать, что воображению греческого историка она представлялась в виде некоей «реальной утопии» (выражение С. Донадони).[350]
Детальный анализ данного вопроса в диссертации К. Фруадфона «Египетский мираж в греческой литературе от Гомера до Аристотеля» убеждает нас в справедливости подобного предположения. Действительно, уже введение к описанию образа жизни египтян строится в соответствии с каноном литературной утопии. «Подобно тому, — писал Геродот, — как небо в Египте иное, чем где-либо в другом месте, и как река у них отличается иными природными свойствами, чем остальные реки, так и нравы и обычаи египтян почти во всех отношениях противоположны нравам и обычаям остальных народов. Так, например, у них женщины ходят на рынок и торгуют, а мужчины сидят дома и ткут. Другие народы при тканье толкают уток кверху, а египтяне — вниз. Мужчины (у них) носят тяжести на голове, а женщины — на плечах» и т. д. (II, 35, пер. Г. А. Стратановского) .[351]
Идеальный климат, постоянство и ритмичность разливов Нила, придающие «земным явлениям элемент регулярности почти столь же непогрешимой, как и у астральных циклов»,[352] сопоставляются Геродотом с древностью и неизменностью египетской социально-политической системы, являвшихся, по мнению греческого историка, главными признаками ее абсолютной уникальности, «мудрости» и универсальной ценности (II, 142; ср.: II, 50, 79—80).
Выделяя названные черты египетского государственного устройства, Геродот не только следовал сложившейся до него архаизирующей традиции, восхвалявшей «отеческие законы»,, но определенно проявлял новаторский подход, например, при анализе кастового устройства египетского общества. На наш взгляд, однако, крайне маловероятной представляется попытка К. Фруадфона обосновать гипотезу, согласно которой Геродот, выделяя семь каст (II, 164), пытался осмыслить египетскую политическую систему путем наложения на нее некой идеальной трехчленной общественной структуры, возникшей еще в ионийских философских спекуляциях, предвосхитивших утопические построения Гипподама и Платона.[353] Новизна геродотовского анализа состоит все же в ином. Например, колебания Геродота при решении вопроса о том, заимствовали ли эллины (и особенно спартанцы) презрение к ремесленникам и почитание превыше всего военного дела у египтян или нет, и приводимая им в качестве контраргумента ссылка на распространенность такого рода взглядов у многих народов (II, 167), содержат в зародыше «общебоциологические доводы», приводимые Аристотелем при доказательстве преимуществ иерархической структуры в его проекте идеального полиса (Arist. Pol., VII 4, 1 sqq.).
Осуществленные Геродотом на обширнейшем материале сравнительно-исторические исследования стали не только образцом для подражания при описании «варварского быта» в литературе и поэзии более поздних периодов,[354] но уже в скором времени сыграли немаловажную роль в обосновании и концептуальном оформлении многообразных представлений о совершенном общественном устройстве, выдвигаемых представителями различных философских школ, первой из которых была школа пифагорейцев.
§ 2. ПИФАГОР И ПИФАГОРЕЙЦЫ
История деятельности Пифагора и созданного им в Кротоне сообщества (конец VI в.) имеет самое непосредственное отношение к проблеме возникновения в Древней Греции рационалистической утопии. «Вся история вмешательства пифагорейцев в политику, — отмечает Д. Фергюсон, — необыкновенна по своему характеру... поскольку, как кажется, она представляет первую попытку выработать идеальные политические принципы в практическом социальном контексте».[355]
Формирование идеологии «ликургова космоса» или. уже вполне рационалистическое обоснование Солоном своей реформаторской деятельности могут рассматриваться лишь как «первичные элементы», из которых в дальнейшем возникли различные утопические конструкции. Приведение этих элементов в некую систему — бесспорная заслуга Пифагора, стоявшего «у истоков того широко распространившегося после него представления, что жизнь людей (частная и публичная) должна быть реформирована и приведена в соответствие с выводами философского разума».[356]
Вклад Пифагора в развитие античной утопической мысли можно сравнить лишь с тем вкладом, который внес Сократ в философию в целом. Такое сравнение напрашивается, в частности, и потому, что оба философа не оставили после себя ни строчки и реконструкция их взглядов целиком основана на последующей литературной традиции. Вместе с тем, несмотря на то, что имя Пифагора еще при жизни было окутано множеством легенд, никому из современных ученых (даже из числа гиперкритически настроенных) пока еще не приходила в голову мысль вычеркнуть греческого философа из списка исторических личностей. В этом плане посмертная судьба Пифагора оказалась счастливее судьбы его афинского собрата, уже не раз на наших глазах объявленного фиктивным литературным персонажем, хотя сократовский портрет, созданный Платоном и Ксенофонтом, выглядит куда более убедительным и достоверным по сравнению с биографической литературой, сложившейся вокруг имени кротонского мыслителя.
Итак, «Пифагор, сын Миесарха, родом с Самоса, не был, подобно Тезею или Орфею, легендарной фигурой из неопределенного далекого времени, но он действительно существовал, иногда вызывая изумление у своих современников, а иногда подвергаясь резким нападкам».[357] О славе и исключительной популярности Пифагора среди греков в равной степени свидетельствуют как появление его изображений на монетах (первый подписанный портрет на греческих монетах), выпущенных в 430—420 гг. в Абдерах — городе, находящемся на противоположном от Кротона конце греческого мира, так и то, что происходящий родом из того же города Демокрит посвятил ему специальное сочинение (первое из известных нам сочинений об этом философе — DL., IX, 38).
Ранняя традиция, восходящая к V в., основанная частично на полемических выпадах против Пифагора его выдающихся современников, частично на мнениях ближайших его последователей, воссоздает образ выдающегося философа и ученого, но мало что говорит о политической стороне деятельности мыслителя, имевшей «для него самого, вероятно, наибольшее значение».[358] В свою очередь, тексты, повествующие о пифагорейской политике, принадлежат авторам более позднего времени — Диодору Сицилийскому, Диогену Лаэртскому, Помпею Трогу и др., но восходят, как правило, к источникам IV в., среди которых важнейшими являются свидетельства перипатетиков—Аристоксена из Тарента, Дикеарха; представителен платоновской школы—Гераклида Понтийского и др.; и, наконец, историка греческого Запада — Тимея из Тавромения (рубеж IV и III вв.). К последнему, например, восходит традиция об общности имуществ у пифагорейцев (отразившаяся и в биографиях Пифагора, написанных неопифагорейцами — Порфирием и его учеником Ямвлихом, жившими в III—IV вв. н. э.), которая, по мнению многих современных ученых, составляла одну из самых замечательных черт «пифагорейского образа жизни». Естественно, что любой попытке воссоздания общественно-политических идей пифагорейцев должна предшествовать постановка вопроса о степени достоверности вышеперечисленных источников. Но, поскольку источниковедение пифагореизма уже давно выделилось в самостоятельное направление исследовательского поиска, в рамках которого имеется довольно обширная литература,[359] мы будем обращаться к проблеме источников только в связи с теми вопросами, которые непосредственно связаны с собственно утопической проблематикой.
О жизни Пифагора, характере его философских занятий, политических ориентациях до приезда в Великую Грецию известно сравнительно немного. Так, осуществленная К. де Фогель реконструкция политической программы, изложенной Пифагором в его речах к жителям Кротона, является весьма спорной, поскольку упомянутые речи, сохранившиеся в изложении Диодора, Помпея Трога и Ямвлиха, безусловно, были написаны уже после смерти философа и, следовательно, носят ретроспективный и суммарный характер.[360] Большинство античных авторов утверждает, что основной причиной, заставившей Пифагора в возрасте 40 лет покинуть Самос (около 530 г.), было враждебное отношение философа к тираническому режиму, установленному на острове Поликратом (DL., VIII, 3; Strab., XIV 638; Aristox. ар. Porph., V. P., 9=fr. 16 Wehrli).
Данное обстоятельство свидетельствует на первый взгляд о связях Пифагора с оппозиционно настроенной самосской аристократией. Для укрепления своей власти Поликрату, как и многим тиранам в других греческих государствах, пришлось, конечно, предварительно сломить сопротивление родовой землевладельческой знати. По замечанию К. фон Фрица, в этот период «тираны обычно опирались на поддержку низших классов, а аристократы были их наиболее яростными противниками. Только с появлением радикальных олигархических тенденций и доктрин в Афинах во второй половине пятого века понятия олигарха и тирана стали совпадать».[361] Впрочем, биография Пифагора — хорошее подтверждение того, что олигархические ориентации еще в конце VI в. вовсе не были препятствием для обвинения в стремлении к тирании, выдвинутого его политическими противниками в Кротоне в период, предшествующий краху пифагорейского сообщества.[362]
Но в целом большинство сообщений на этот счет носит довольно противоречивый характер. Особого внимания заслуживает в этой связи традиция о Залмоксисе, крайне запутанная, но все же проливающая хоть какой-то свет на самосский период жизни философа. Так, Геродот передает со слов геллеспонтских греков легенду о Залмоксисе — фракийце из племени гетов, который, будучи на Самосе рабом Пифагора — одного из мудрейших эллинов (ού τω άσθενεστάτω σοφιστή), перенял ОТ него учение о бессмертии души, впоследствии посвятив в него своих знатных соплеменников (IV, 95; ср.: Iambl. V. Р., 173).
В сохранившемся у Порфирия рассказе Дионисофана (вероятно, независимом от геродотовской версии) раб Пифагора — Залмоксис, заклейменный разбойниками, к которым он попал в плен, был вынужден скрывать свой клейменный лоб под повязкой в то время, когда его хозяин, принявший участие В восстании, отправился В изгнание (δτε κατεστασιάσθη о Πυθαγόρας ml Ιφευγιν—Porph. V. P., 15). Вполне возможно, что у Дионисофана речь идет о заговоре против Поликрата, одним из участников которого был и Пифагор.[363] В какой мере данная версия согласуется с сообщениями о «верительных письмах», выданных философу самосским тираном к фараону Амасису, судить трудно (DL., VIII, 2; Porph. V. Р., 7). Однако обе истории ведут нас в Ионию, а не на запад. Они позволяют сделать вывод о том, что Пифагор еще до. отъезда в Южную Италию не только приобрел у греков славу мудреца (πιστής), но и занимался политикой, причем слишком активно, чтобы не вызвать репрессий со стороны Поликрата. Если принять за дату отъезда (бегства?) Пифагора с Самоса 530 г., то, очевидно, речь идет об одном из заговоров, составленных уже после утверждения единоличного правления тирана, пришедшего к власти около 540 г. и в течение нескольких лет делившего ее со своими братьями (Hdt., III, 39). Но степень самосского патриотизма Пифагора все же не следует преувеличивать. Во всяком случае, философ предпочел новую политическую карьеру в Кротоне той отчаянной борьбе, которую продолжали вести против Поликрата другие самосские изгнанники (Hdt., III, 44— 46, 57—59).[364]
Нам неизвестны доподлинно как этапы, так и последовательность формирования мировоззрения Пифагора, первая половина жизни которого прошла в регионе, подвергавшемся наибольшему воздействию ионийской культуры. Влияние ионийской натурфилософии на ранний пифагореизм бесспорно; оно подтверждается множеством дошедших до нас философских фрагментов.[365] Но данный факт часто ставит в затруднительное положение исследователей, рассматривающих Пифагора исключительно как вдохновенного пророка и этического реформатора, стремившегося к преобразованию традиционной религии, или даже как «шамана», для которого научные и философские занятия не имели большого значения.
По-видимому, нечто похожее на эти затруднения испытывали уже античные биографы, пытавшиеся в соответствии с общепринятым в Древней Греции «генеалогическим методом» приверженность Пифагора к мистериальным культам и метемпсихозу, с одной стороны, объяснить особенностями происхождения философа, а с другой — представить как результат его путешествий в разные страны Востока. Так, Аристоксен считал Пифагора тирренцем (этруском) с одного из островов в Эгейском море, которым овладели афиняне (DL., VIII, 1 = fr. 11а Wehrli). Клеанф и Порфирий называют отца Пифагора то этруском, переселившимся на Лемнос, то сирийцем из Тира, удостоенным самосцами гражданства (Porph. V. Р., 1—2).
Оба «объяснения» несостоятельны, но смысл их понятен. И этрусская религия, и получивший распространение в ахеменидской державе зороастризм настолько же проникнуты мистическими и эсхатологическими предчувствиями, насколько и воспринятый Пифагором орфизм.[366]
Хотя в современной научной литературе понятие «орфико-пифагорейские представления» давно стало привычным, все же трудно решить, когда Пифагор приобщился к мистериям и стал проповедовать метемпсихоз. Очевидно, это произошло еще до его отъезда в Великую Грецию.
В настоящее время наметился решительный поворот к преодолению гиперкритической позиции У. Виламовица, считавшего Пифагора автором учения о переселении душ и отрицавшего существование самого понятия «орфизм».[367] Гораздо предпочтительнее мнение о раннем происхождении орфизма, впервые возникшего как религиозное движение в VI в. в Южной Италии или в Афинах.[368], Что же касается точки зрения о зависимости орфической религии от религиозных новаций, составлявших существенную часть реформаторской программы Пифагора, то она основана на отсутствии точных хронологических данных о том, когда именно в Великой Греции получают оформление орфическая космогония и этическое учение, тогда как в отношении первой мы располагаем вполне определенной точкой отсчета.[369]
Быстрое распространение по всему греческому миру в конце архаического периода различных форм «религии спасения» совпадает с процессом ломки традиционных родоплеменных отношений, обострившим внутриполисные конфликты и способствовавшим развитию территориальной экспансии и неизбежно сопутствующих ей кровавых межобщинных войн. Данный процесс имел крайне тяжелые последствия для низших слоев общества, но существенно поколебал, как показывает пример солоновских реформ, и позиции землевладельческой знати.
Как уже отмечалось, и идеолог беотийского крестьянства Гесиод и аристократ Феогнид создали близкие по эмоциональной окраске картины общества, где попрана справедливость, и стоящего перед неминуемой катастрофой. Бесконечно повторяющийся в гномической поэзии мотив беззащитности человека перед лицом могущественной судьбы также свидетельствовал о том, что окружающая действительность предоставляла мало оснований для оптимистических прогнозов. «В архаический период, — писал Э. Доддс, — мельницы бога мололи так медленно, что практически их движение было заметно разве только глазу веры. Для того чтобы вообще поддерживать веру в их движение, необходимо было освободиться от естественных временных пределов, установленных смертью».[370]
Различные пути такого преодоления предлагали элевсинские мистерии, экстатические культы Диониса-Вакха и, наконец, учение о бессмертии души, ставшее ключевым в орфизме. Центральную роль в орфической этике играл проникнутый глубоким фатализмом миф о Дионисе, разорванном и съеденном титанами. Обагренных кровью «божественного ребенка» титанов Зевс испепелил молнией, создав людей из их праха. С тех пор человеческий род был уже не в силах смыть с себя клеймо первородного греха. Хотя люди и не повинны в совершенном титанами преступлении, их природа навеки обречена оставаться двойственной, поскольку в смертном теле, как в могиле, заключена бессмертная душа (Plato Crat., 400с) —частица божественного дыхания.
Но, в отличие от представлений гомеровской эпохи, душа уже не отождествляется полностью с человеческой личностью. Именно душе, причастной к божественному сонму, уготовано судьбой вновь к нему приобщиться, навсегда расставшись, после многих превращений, с бренным телом. Воспетая Гесиодом в «Теогонии» вселенская борьба богов и титанов продолжается теперь на уровне микрокосма, и человек может одержать в ней победу только в том случае, если он подчинит всю свою ж:знь одной цели — освобождению души от наказания в потустороннем мире (Тартаре) и созданию наилучших условий для ее будущих перевоплощений.[371]
Исповедующие эту веру религиозные союзы возникли во многих уголках греческого мира — от Южной Италии до Северного Причерноморья. В настоящее время существование таких объединений может считаться доказанным, и данное обстоятельство является довольно веским аргументом в пользу мнения о самостоятельном статусе орфизма и родственных ему религиозных движений.[372] Их генезис и идеология, глубоко уходящие корнями в народно-религиозные верования, вполне могут быть объяснены без лишних гипотез, например без ссылок на близость вакхического экстатического культа к сибирскому шаманизму или на индийские корни метемпсихоза у орфиков.[373]
К числу таких гипотез относится, с нашей точки зрения, и предположение о заимствовании Пифагором учения о переселении душ во время его путешествия в Египет. Но здесь приходится согласиться с Эд. Целлером в том, что неправдоподобность рассказов о египетском путешествии доказать невозможно,[374] как, впрочем, и подтвердить множество других легенд о пребывании философа в странах Востока (FGrH., 264 F. 25, 96—98; Isocr. Bus., 28, 33; Just., XX, 4). В любом случае, доверительное отношение к геродотовским эскизам «египетского миража» или же принятие на веру фантазий Гермиппа об «иудейских корнях» пифагорейской философии (FHG, III, 41 sqq.) продвигают нас вперед не более, чем попытки некоторых современных исследователей истолковывать античные свидетельства о «пифагорейском коммунизме» в смысле перенесения мыслителем на греческую почву древнеегипетской кастовой системы, несмотря на то, что Египет в них совсем не упоминается.
Бесспорно одно—Пифагор не остался чужд новым этическим и религиозным влияниям, распространившимся в Греции в VI в. Восприятие философом идеи морального дуализма, лежавшей в основе орфической эсхатологии, безусловно, способствовало укреплению в нем уверенности в своем пророческом призвании. Данное обстоятельство позволяет понять, почему последователями человека, которому равным образом приписывали создание самого понятия «философия» (DL., I, 12)[375] и сочинение орфических поэм, становились люди, неодинаковые по своему интеллекту, нравственным и религиозным запросам, научным интересам,— «Гиппас из Метапонта, изучавший математику и музыку, Эмпедокл, Филолай, убогие вегетарианцы, карикатурный образ которых запечатлен средней комедией, — все они были в определенном смысле пифагорейцами, развивавшими какой-либо аспект многообразного наследия Пифагора и почитавшими его память».[376]
Также можно с уверенностью утверждать, что в начальный период пребывания Пифагора в Южной Италии решающую роль сыграли его таланты политика и пророка. «Пифагор, — писал Э. Майнер, — прибыл в Кротон в качестве религиозного ή морального учителя ... глубоко проникнутого очарованием мистерий и, возможно, с некоторым опытом реакционного политического агитатора. Это был человек с сильными социальными и политическими предрассудками, исполненный сознания собственной значимости. Он был избранным лидером, пророком, но не без проницательности и тонкого знания практических деталей и средств, которыми только и можно объяснить его последующий феноменальный успех».[377]
Был ли выбор Пифагора случайным? Основанный ахейскими колонистами в конце VIII в.[378] Кротон — один из наиболее богатых и процветающих полисов Великой Греции, встав на путь территориальной экспансии и одержав ряд побед, около 530 г. потерпел сокрушительное поражение от Локр Эпизефирских в битве при Загре. Большая часть кротонской армии была уничтожена. Неизвестно, привело ли военное поражение к каким-либо конституционным изменениям;[379] источники единодушно рисуют картину всеобщего смятения, сменившегося полной апатией и равнодушием к общественным делам (см., напр.: Just., XX, 4). В государстве возникла ситуация, необычайно благоприятная для проведения в жизнь плана религиозной и политической реформы, вероятно, глубоко продуманной Пифагором заранее.
Философ встретил в Кротоне самый восторженный прием. Не исключено, что Пифагор предварительно посетил и другие италийские полисы, выступая с речами перед их гражданами. По словам Никомаха из Герасы (II в. н. э.), «он так привлекал к себе всех, что одна только речь, произнесенная при въезде в Италию . .. пленила своими рассуждениями более двух тысяч человек; ни один из них не вернулся домой, а все они вместе с женами и детьми устроили огромное училище в той части Италии, которая называется Великой Грецией, поселились при нем, а указанные Пифагором законы и предписания соблюдали ненарушимо, как божественные заповеди. Имущество они считали общим, а Пифагора причисляли к богам» (Porph. V. Р., 20, пер. М. Л. Гаспарова; ср.: Iambl. V. Р., 30; Isocr. Bus., 29). При полной неопределенности конкретных исторических деталей приведенный рассказ, однако, хорошо отражает как общее впечатление, произведенное самой личностью Пифагора на италийцев, так и его реформаторские устремления.
Мы не знаем, каким образом Пифагору удалось обосноваться в Кротоне. Заметим, что обычная судьба беглецов на чужбине была незавидной. Так, современник и один из наиболее язвительных критиков Пифагора Ксенофан, также эмигрировавший в Южную Италию из Ионии, добывал средства к существованию публичной декламацией гомеровских поэм. Известно, что Пифагор имел в Кротоне собственный дом (DL., VIII. 10), но этот факт едва ли подтверждает предположение Дж. Филипа о покупке мыслителем земли на деньги от отцовского наследства или же о том, что он занялся торговлей.[380] Скорее всего источником материального благополучия самосекого изгнанника было то огромное влияние, которое он сразу приобрел среди кротонских магистратов и знати, а в начальный период своей деятельности — и среди простого народа.
На всенародный характер проповедей Пифагора отчетливо указывает ранняя традиция. Так, например, Гераклит с неприязнью писал о Пифагоре как о «мастере хитростей» ( κοπδων αρχηγός— В81), имея в виду, вероятно, ораторские приемы, а может быть, и содержание речей, произносимых Пифагором перед кротонцами с целью снискания среди них популярности.[381]
Заслуживают доверия свидетельства Антисфена, Дикеарха и Тимея о речах, с которыми Пифагор выступил перед городским Советом, юношами, мальчиками и даже женщинами (Schol. ad Horn. Od., I, 1; Porph. V. P., 18). Детальнейший анализ сохранившихся у Ямвлиха речей Пифагора, осуществленный К. де Фогель, показывает, что содержащиеся в них нравственные наставления (консервативные по своему характеру и в целом не выходящие за пределы традиционной морали), смешанные с политическими афоризмами и учением о загробном воздаянии, находились в полном соответствии с «эсотерическим» философским учением о месте человека в структуре космоса и откровенно использовались философом с целью непосредственного влияния на политику Кротона.[382]
Существует немало доказательств того, что Пифагор весьма преуспел на этом поприще. По свидетельству Валерия Максима (VIII, 15), кротонцы неоднократно обращались к нему с просьбами оказывать помощь их совету (ut senatum ipsorum consiliis suis uti pateretur). Это свидетельство, как и целый ряд других, показывает, что сам Пифагор не стремился занять какую-либо официальную государственную должность. Очевидно, данное обстоятельство сыграло немалую роль в создании в позднейшей традиции образа философа, отрешенного от задач практической жизни и целиком посвятившего себя философскому умозрению (Cic. De orat., III, 15, 56; Tusc., 23, 66). Анализ В. Ратманом многочисленных рассказов, представлявших Пифагора «изобретателем» концепции «созерцательной жизни», выявляет значительную роль платоновской школы в распространении этой, так мало соответствующей действительности, легенды.[383]
Сам Платон в «Государстве» называет Пифагора основателем «пифагорейского образа жизни» (X, 600а—b), ясно и недвусмысленно противопоставляя мыслителя таким «благим законодателям», как Ликург, Солон и Харонд (X, 599d—е). Последнее сравнение выглядит особенно уничижительным, если учесть, что, вероятно, уже в IV в. в Афинах ходили рассказы, связывающие имя сицилийского законодателя с деятельностью Пифагора (Porph. V. P., 21; DL., VIII, 16). И ХОТЯ в поздних диалогах Платон, явно смягчая свою характеристику, намекал на сочетание политики и философии в пифагорейской школе,[384] следует особо подчеркнуть, что в период создания своего наиболее радикального утопического проекта он решительно отказывался называть ее основателя государственным мужем, в лучшем случае признавая за ним качества обходительного воспитателя юношества.
Были ли у афинского философа основания противопоставлять «пифагорейский образ жизни» и политику? Несправедливость такого противопоставления признавалась уже в работах первой половины XIX в., например в «Истории пифагорейской философии» Г. Риттера.[385] Но и в настоящее время как в отечественной, так и в зарубежной литературе нередко встречаются суждения о пифагорейском союзе как о религиозном ордене или братстве, стремившемся исключительно к спасению души при помощи «табу и церемониальных очищений», идеал которого — «язычески понимаемая теократия», являющаяся «безнадежным, неофициально-сектантским подобием восточных теократий...» и воспроизводящая «сакральный родовой быт», или «родо-племенную общность», ассоциирующуюся в «пифагорейском воображении с золотым веком».[386] В конце XIX в. в очень содержательной биографии Эмпедокла Ж. Биде, в принципе признавая пифагорейскую политику, пытался, однако, обосновать положение об абсолютном утопизме ее целей.[387]
В XX в. научная критика, выявившая многие исторические элементы деятельности Пифагора в контексте реальных событий, происходивших в италийских полисах в конце VI — начале V в., раз и навсегда положившая конец доверительному отношению к массе «фактических» подробностей в биографиях Порфирия и Ямвлиха, в целом подтвердила высказанную еще В. Виндельбандом мысль о своеобразном положении пифагорейского союза, «который, составляя одно из важнейших звеньев в религиозном и умственном развитии греческого духа, вместе с тем в нравственном и политическом отношении идет наперекор общему направлению времени».[388] Виндельбанд имел в виду, конечно, антидемократический характер пифагорейской политики.
Напротив, гипотеза Дж. Бёрнета о демократической ориентации пифагорейцев (нашедшая поддержку у Дж. Томсона) разрабатывалась этим выдающимся ученым в полемике со сторонниками чрезвычайно популярной в XIX — первой половине XX в. концепции о «дорийских корнях» мировоззрения Пифагора. Поэтому такие основные аргументы Бёрнета, как ионийское происхождение, переселение в ахейскую, а не дорийскую колонию, указание на противников Пифагора среди кротонской аристократии (Килон) и т. д., не могут, с нашей точки зрения, служить доказательством демократических взглядов философа.[389] Предположение Дж. Томсона, согласно которому пифагорейцы «были умеренными демократами, занимавшими среднюю позицию подобно Солону в Афинах», и выражали «воззрения нового среднего класса, промежуточного между аристократией и крестьянством»,[390] было основано па исследовании С. Т. Селтмана о греческих монетах, связывавшего с деятельностью Пифагора введение в Кротоне монетной системы. Эго мнение, впервые высказанное в начале XIX в. де Люинем и обоснованное Ф. Ленорманом,[391] опровергается, однако, современными археологическими данными. Первые монеты в Южной Италии появились лишь в середине VI в. (т. е. примерно за 20 лет до приезда туда Пифагора), и не в Кротоне, а в Сибарисе, занимавшем до 510 г. ведущее экономическое положение в данном регионе.[392]
На наш взгляд, вопрос о политической ориентации пифагорейцев необходимо решать, исходя не только из общих соображений об основных тенденциях исторического развития в греческом мире во второй половине VI в., но и путем сопоставления этих тенденций с более или менее достоверными фактами о событиях именно в италийских полисах, ситуация в которых во многом отличалась от афинской.
В этой связи заслуживает внимания мнение одного из наиболее авторитетных специалистов по истории западных греков— Т. Данбэбина, рассматривавшего созданное Пифагором в Кротоне сообщество, как одну из политических организаций — гетерий, деятельность которых в этом городе, как и повсюду в Великой Греции, имела олигархическую направленность.
В греческом языке «Etaireia как абстрактное существительное обозначает отношения etairoi — связь, объединяющую членов политического клуба. Как конкретное существительное она является обычным и определенным обозначением клуба с преимущественно политическими интересами, деятельность которого целиком или частично посвящена поддержке своих членов в государственных делах и судебных тяжбах».[393] Аристократические гетерии — явление довольно известное в греческом мире. Даже в демократических Афинах, судя по замечаниям Фукидида, их политическое влияние было достаточно ощутимым (III, 82; VIII, 54; ср.: Plato Theaet., 173d).
Если в позднейшей философской литературе само название последователей Пифагора — οί Πυθαγορ2ΐοι во многих случаях не имеет собственно политического или религиозного смысла, то термин etairoi — (и другие, близкие ему по содержанию) встречается настолько часто, что не может не наложить определенного отпечатка и на первое обозначение.[394]
Имеющиеся в нашем распоряжении источники противоречат, однако, одностороннему взгляду на пифагорейскую гетерию как на одну из фракций кротонских олигархов, ожесточенно боровшихся с демократической партией и между собой.[395] На это указывает, например, и замечание Аристотеля об отрицательном отношении пифагорейцев к олигархии как форме правления (DL., VIII, 34; ср.: Iambl. V. Р., 260; Arist. Pol., V 6, 1; 6, 7), и то важнейшее обстоятельство, что, в отличие от всех известных в Древней Греции политических объединений, в пифагорейском союзе вследствие многообразия интересов его основателя получили широкое развитие занятия наукой и философией.[396]
Основными участниками пифагорейской гетерии были молодые люди из аристократических семей. Трудно предположить, что главной целью объединения в гетерию молодых аристократов явилось их стремление приобщиться к научным занятиям. Скорее всего последние «были лишь частным делом некоторых членов сообщества... и не имели отношения к форме его организации».[397] По свидетельству пифагорейского проповедника Аполлония Тианского (I в. н. э.), восходящему, возможно, к Тимею, «поскольку молодые люди (окружавшие Пифагора) были благородного происхождения и превосходили других богатством, случилось так, что по достижении ими соответствующего возраста они не только стал» первенствовать в своих собственных семьях, но и сообща руководить государственными делами, объединившись в гетерию (ведь их было свыше трехсот) и составляя небольшую часть государства, управляемого (отныне) не в соответствии с обычаями и нравами, к которым они (т. е. граждане Кротона. — В. Г.) привыкли...» (Iambl. V. Р., 254).
Основываясь на приведенном и других аналогичных сообщениях, А. Шенье прямо писал об осуществленном пифагорейцами в Кротоне государственном перевороте, который привел к учреждению новой, близкой к аристократической, конституции.[398] Для подтверждения своей гипотезы Шенье ссылался на известный отрывок Диогена Лаэртского (по всей вероятности, приводящего мнение Дикеарха), до сих пор являющийся предметом острой научной дискуссии. В этом отрывке рассказывается о том, как Пифагор, уехав с Самоса, «удалился в италийский Кротон и там, установив для италийцев законы, прославился вместе со своими учениками, которые, будучи числом до трехсот, наилучшим образом вели государственные дела, так что их правление было почти аристократией» (ώστε σχεδόν άριστοχοατείαν είναι τήν πολιτείαν—DL., VIII, 3).
В поздней античной литературе широко распространенным было представление о Пифагоре как мудром законодателе, освободившем Великую Грецию от рабства и тирании, украсившем ее «великими законами» (Cic. Tusc., I, 16; V, 10; Porph. V. P., 21; Iambl. V. P., 33 etc.). Данная традиция связывается Э. Майнером с процессом распространения власти кротонского союза на другие полисы Южной Италии.[399] Однако до нас не дошло ни строчки из этих будто бы составленных Пифагором законов. К тому же неизвестно, какими путями пифагорейцы стремились достигнуть почитаемого ими «благозакония» (DL., VIII, 16), поскольку имеющиеся в нашем распоряжении источники явно противоречат друг другу.
На первый взгляд позиция сторонников «государственного переворота» подтверждается, например, такими приписываемыми пифагорейцам Аристохсеном изречениями: «относительно мнения других они (т. е. пифагорейцы. — В. Г.) говорят следующее: неразумно обращать внимание на любое мнение и мнение всякого человека, а в высшей степени — на мнение, исходящее от толпы. Ведь воспринимать (чужие суждения) и составлять их наилучшим образом свойственно немногим. Ясно, что речь идет о людях знающих, а их как раз и мало. Так что понятно — такая способность, пожалуй, не относится к толпе. С другой стороны, неразумно пренебрегать всяким предположением и мнением. Ведь может случиться так, что настроенный таким образом человек останется неисправимым неучем» (Iambl. V. Р., 200); «вообще они считали, что необходимо поддерживать мнение, что нет зла большего, чем безвластие — ведь человеку по природе не свойственно спастись, если над ним никто не начальствует» (Iambl. V. Р., 175). Поэтому «никогда не следует допускать, чтобы человек делал то, что ему вздумается, но должно, чтобы над ним всегда был какой-либо надзор, а также законная и благопристойная власть, которой каждый из граждан будет повиноваться. Ведь живое существо, предоставленное самому себе и оказавшееся в пренебрежении, быстро склоняется к злу и приходит в дурное состояние» (Iambl. V. Р., 203).
Последнее суждение является основой для следующего категорического вывода — «помогать закону и воевать с беззаконием» (Iambl. V. Р., 100, 171; DL., VIII, 23), причем «воевать не словом, но делами; и такая война является законной и священной...» (Iambl. V. Р., 232). Антидемократизм приведенных рассуждений очевиден. Однако контекст, из которого они взяты, относится скорее всего к последнему из выявленных Я. Мевальдтом четырех сочинений Аристоксена под названием «Воспитательные законы» (DL., VIII, 16).[400] В большинстве случаев выдвигаемые требования имеют характер пропедевтических наставлений и свидетельствуют скорее об особенностях воспитательной программы Пифагора, в которой религия, мораль и политика были неразрывно связаны, чем о реальной политической практике.
Вот почему гораздо большего внимания (и доверия) заслуживают те свидетельства Аристоксена, в которых подчеркивается стремление пифагорейцев опираться как в своей теории, так и в практике на существующие государственные институты, а не изменять их: «После божества и даймона более всего следует почитать родителей и закон, причем готовить себя им повиноваться не притворно, но по убеждению. Пребывать верными отеческим обычаям и законам эти мужи считали хорошим делом, даже если эти законы немного хуже других» (Iambl. V. Р., 175—176 = Aristox., fr. 35 Wehrli). Так, в речи, обращенной к членам Совета старейшин, Пифагор особенно выделил мысль о том, что отечество вручено им гражданским коллективом (τταρά του πλή&ου; των πολιτών) на сохранение и поэтому они должны соблюдать ему верность, быть равными всем, превосходя остальных сограждан только в справедливости (Iambl. V. Р., 46).
Разумеется, нельзя ручаться за то, что именно Пифагору принадлежит первенство в разработке теоретической основы концепции «отеческой конституции» (πάτριο: πολιτεία), игравшей огромную роль в политической теории IV в. Но интересно заметить, например, удивительное сходство приводимой Аристоксеном формулы о сохранении в неизменности существующих законов с целым рядом аналогичных рассуждений его учителя — Аристотеля в «Политике» (V 7, 16, 18—20). Во второй книге Стагирит, отвергая наиболее древние эллинские законы, напоминающие «варварские законодательства», прямо солидаризируется со сторонниками сохранения в неизменном виде «отеческих законов», считая погрешности их составителей и ошибки должностных лиц в их истолковании менее пагубными для государства по сравнению с легко прививающейся людям привычкой «не повиноваться властям», возникающей из практики конституционных изменений (II 5, 10—14).
Невозможно решить, идет ли речь о поддержке Аристотелем взглядов Пифагора по этому вопросу, или же оба философа в равной мере стремились подвести теоретический фундамент под традиционное у греков негативное отношение ко всякого рода политическим новшествам.
Но вернемся к дискуссии вокруг имеющегося у Диогена Лаэртского указания на «почти аристократический» характер пифагорейского правления. В связи с приведенными выше соображениями наиболее приемлемыми, на наш взгляд, является следующий вывод: в данном отрывке содержится ясное указание Дикеарха на то, что в число «программных целей», поставленных Пифагором перед своими сподвижниками, не входила задача уничтожения кротонской умеренно-демократической конституции.
Э. Майнеру, также отвергающему концепцию «государственного переворота» в Кротоне, приходится, однако, преодолевать слишком много трудностей в интерпретации термина σχεδόυ у Диогена, поскольку он предполагает изначальное существование в данном полисе аристократического государственного строя. Справедливо критикуя К. фон Фрица за слишком расширительное толкование этого слова,[401] сам Майнер, ссылаясь на традицию о возникновении пифагорейских гетерий в других южно-италийских полисах, считает, что в последних аристократическую «отеческую конституцию» пришлось устанавливать при помощи политических интриг и насилия, включая использование наемников, предательство и даже целенаправленное разжигание гражданской войны.[402] Указанные средства, конечно, не укладывались в систему представлений об «идеальной аристократии», что и вызвало, согласно Майнеру, появление соответствующей формулировки у Дикеарха.
Натянутость такой интерпретации настолько же очевидна, насколько и ссылка К. фон Фрица на пример масонов XVIII в. для доказательства тезиса о «непрямом» характере пифагорейского правления.[403] Последнее сравнение могло бы быть справедливым, если бы в нашем распоряжении имелись ясные указания на то, что пифагорейцы, подобно масонам, скрывали свою принадлежность к сообществу. Однако источники единодушно утверждают обратное. Крайне преувеличенный неопифагорейцами «эсотеризм» учения Пифагора отнюдь не является доводом в пользу стремления философа играть в Кротоне роль éminence grise.
Поэтому, на наш взгляд, в характеристике Дикеарха (ориентировавшегося на разработанную Аристотелем «модель» сохранения традиционно установленных форм правления),[404]возможно, нашел отражение действительно имевший место процесс завоевания членами пифагорейской гетерии (безусловно, использовавшими всенародную популярность имени своего руководителя) решающих позиций з кротонском Совете, способствовавший созданию в государстве режима, в рамках которого и при формальном сохранении существующих институтов влияние аристократических элементов могло значительно возрасти за счет серьезного уменьшения роли народного собрания в принятии важнейших решений (ср.: Arist. Pol., IV 5, 2). Этот процесс был непродолжительным по времени и завершился острейшим политическим кризисом, в ходе которого вполне обнаружился глубоко консервативный и антидемократический характер пифагорейского правления.
Исходным пунктом данного кризиса стала война с Сибарисом (около 510 г.), в ходе которой кротонская армия под предводительством пифагорейца Милона одержала над сибаритами решительную победу (Hdt., V, 44; VI, 21). Последствием последней, по словам В. Буркерта, явилось «самое страшное из зверств, совершенных греками против другого греческого города в эту эпоху»,[405] т. е. полное разрушение Сибариса.
Причиной войны было требование послов тирана Сибариса— Телиса, захватившего власть в этом городе, выдать нашедших убежище в Кротоне изгнанных аристократов. Война наглядно продемонстрировала степень влияния Пифагора на кротонскую политику, поскольку именно его обращение (у Диодора — непосредственно к народному собранию, у Ямвлиха— к своим соратникам, вероятно, в Совете — Diod., XII, 9; Iambl. V. P., 133, 177) окончательно склонило кротонцев к ре· шению начать военные действия.[406]
По-разному источники рисуют и картину первого антипифагорейского восстания, вспыхнувшего сразу после разрушения Сибариса. Так, по версии Аристоксена, причиной разгрома пифагорейской гетерии была смута, затеянная знатным: кротондем — Килоном, организовавшим нападение на дом атлета Милона (служивший местом собрания ее членов) в отместку за отказ Пифагора принять его в число своих учеников, и друзей (Iambl. V. Р., 248—251; Porph. V. Р., 54—56).
Однако гораздо более правдоподобным представляется изложение событий Тимеем, из которого ясно вырисовывается картина недовольства методами правления пифагорейцев как со стороны аристократов, считавших себя «хранителями старых традиций»,[407] так и со стороны простых граждан.
Возможно, основным поводом для возмущения стали требования последних произвести передел земель. Для того чтобы провести в жизнь аграрную реформу, Гиппас, Диодор и Феаген в Совете предложили радикальные конституционные изменения (участие всех граждан в исполнении государственных должностей и отчет должностных лиц перед специально избранной большинством народа для этих целей «комиссией»), а в народном собрании один из вождей демократов — Нинон, ссылаясь на некое тайное «Священное слово» пифагорейцев и закрытый характер их сообщества, обвинил их в подготовке заговора и в стремлении к государственному перевороту (Iambl. V. Р., 257, 260).[408]
Судя по рассказу Тимея, сопротивление пифагорейцев носило пассивный характер. Только в Совете члены союза Алкимах, Дейнарх, Метон и Демокед противились принятию радикальных демократических мер, призывая не нарушать «отеческой конституции» (Iambl. V. Р., 257). Многие же (в том числе, вероятно, и Пифагор), предвидя поражение, бежали из города и были осуждены вместе с семьями на изгнание, после чего кротонцы произвели отмену долгов и передел земель (Ibid., 261—262). Пифагор нашел себе убежище в Метапонте,. где и умер в самом начале V в.
Что касается успеха демократов, то он оказался непрочным. В первой половине V в. пифагорейский союз вновь восстановил контроль над Кротоном, в дальнейшем втянув в сферу своего влияния многие города Южной Италии — Каулонию, Пандосию, Сирис, восстановленный Сибарис и др. Распространение в Великой Греции в этот период кротонских «союзнических» монет говорит о существовании довольно прочного политического объединения нескольких южно-италийских полисов,[409] окончательно распавшегося после того как мощное демократическое движение в середине V в., сопровождавшееся восстаниями и кровавыми столкновениями, навсегда положило конец претензиям пифагорейцев на политическое господство (Polyb.,
II, 39, 1—4). Остатки пифагорейских объединений продолжали существовать в IV в. в Регии, Таренте, а также в ряде городов континентальной Греции (например, в Фивах[410]), но характер их деятельности вряд ли напоминал ранний «пифагорейский образ жизни», вызывавший столько восторгов в позднеантичной литературе. Остановимся теперь на этом вопросе подробнее.
Традиция, в центре которой находятся легенды о «пифагорейском коммунизме», о существовании внутри союза различных иерархически соподчиненных рангов, а также многочисленных запретах, регулирующих повседневную жизнь и т. п., представляется не менее запутанной, чем история политики сообщества. Была ли связана пифагорейская «общность жизни» с учением о переселении душ (как полагают Д. Филип и Б. Л. Ван дер Варден), или же, вырастая «на почве возрастных классов», она изначально подчинялась цели «создания прочной базы в борьбе с городским торговым классом» (как считает С. Я. Лурье), либо речь может идти только о поздних выдумках, философских аллегориях и т. д.? [411]
Истоки таких противоречивых оценок в современных исследованиях восходят к ситуации, сложившейся уже во второй половине V в., когда, по словам У. Гатри, «школа раскололась на несколько групп, разделявшихся и локально, и по характеру своей мысли, но так как все равным образом продолжали взывать к авторитету Пифагора для обоснования собственного учения, более философски мыслящие отвергали идею, что их учитель склонялся к суеверной практике, которую они сами уже переросли».[412]
В дальнейшем к спорам сторонников Академии и Ликея, приобретшим уже всеэллинские масштабы, начинают присоединяться жалобы пифагорейцев на то, «что Платон, Аристотель, Спевсипп, Аристоксен, Ксенократ присвоили себе все их выводы, изменив лишь самую малость, и потом собрали все самое дешевое, пошлое, удобное для извращения и осмеяния пифагорейства ... и выдали это за подлинную суть их учения» (Porph. V. Р., 53, пер. М. Л. Гаспарова).
Попытки же некоторых современных авторов решить вопрос о степени обоснованности таких жалоб приводят, как правило, к возникновению новых противоречий и трудностей. Возьмем, к примеру, традицию о «пифагорейском коммунизме». Уже один из первых интерпретаторов данной традиции — Эд. Целлер, указав на труд Тимея из Тавромения как на самый ранний источник сведений об общности имуществ у пифагорейцев, подчеркнул зависимость этих сведений от рассказов и анекдотов, вращающихся вокруг широко распространенного в греческом мире афоризма «У друзей все общее» (κοινά τα των φίλων).[413] Однако и сам Целлер, и во многом следовавший за ним Р. Пёльман, очевидно, с целью усилить впечатление о неправдоподобии «коммунистической легенды» усматривали основную причину и источник ее возникновения в «позднейшем платонизировании» учения Пифагора в неопифагорейской литературе.[414]
Филологическая критика XX в. выявила, однако, довольно устойчивую тенденцию в позднеантичный период возводить истоки данной легенды именно к Тимею. Но если К. фон Фриц, собравший воедино основные фрагменты Тимея, относящиеся к этой стороне пифагорейского образа жизни, оставил открытым вопрос об исторической достоверности версии греческого историка,[415] то в статье Э. Майнера «Пифагорейский коммунизм» была предпринята энергичная попытка доказать, что в основе данной версии лежала более ранняя традиция, отражавшая реальную практику обобществления имуществ в союзе. Тем не менее конечным результатом анализа Майнера было не нахождение надежных источников, на которые мог бы опираться Тимей, а всестороннее обоснование и без того очевидного факта, что греческий историк действительно верил в существование пифагорейского коммунизма.
Но что именно лежало в основе такой уверенности, американскому исследователю установить так и не удалось. По существу, главным аргументом Майнера стало распространенное мнение о надежности сообщаемых Тимеем фактов о событиях в Великой Греции в конце VI — первой половине V в. Исходя из этого мнения, Майнер выдвинул следующий простой довод: интерпретируя современную историю в соответствии с собственными взглядами и предрассудками, Тимей «не имел причины фальсифицировать пифагорейскую историю, и по крайней мере известно, что он использовал для некоторых фактов документальные источники».[416]
Но здесь возникает вопрос, можно ли считать, что картина «пифагорейского коммунизма» у Тимея имеет документальную основу? В сохранившихся у Ямвлиха и Диогена Лаэртского приписываемых Тимею отрывках общность имуществ соединяется со строго соблюдаемой иерархией рангов посвященных в пифагорейскую философию. По версии Ямвлиха, частично совпадающей с рассказом схолиаста к платоновскому «Федру», Пифагор поставил перед молодыми людьми, желавшими приобщиться к его учению, целый ряд условий, в число которых, помимо прочих, входили трехлетний испытательный период и пятилетний обет молчания (Iambl. V. Р., 71; Schol. in Plato Phaedr., 279c). «А в течение этого времени (т. е. пятилетнего периода молчания. — В. Г.) имущество каждого, а именно их недвижимая собственность, делалось общим достоянием и передавалось пользующимся известностью членам союза, специально назначенным для того, чтобы им распоряжаться. Они назывались политиками, поскольку были умелыми управителями и номофетами» (Iambl. V. Р., 72; ср.: DL., VIII, 10). В общую казну сдавались также золото и серебро, а для надзора за совместным «денежным капиталом» назначались специальные «управители расходами» (οικονομικούς από του τέλους — Iambl. V. P., 74).
He прошедшие испытаний получали свою долю имущества обратно в удвоенном размере (в других местах речь идет о процентах на «вложенный капитал» или же о денежном возмещении— Iambl. V. Р., 73, 74, 168). Ученики, которых Пифагор по истечении срока находил достойными приобщиться к его философии, получали возможность свободного к нему доступа и становились членами его дома (έγίνοντο τής οικίας αύτου—DL., VIII, 10; ср.: Iambl. V. P., 72). Отвергнутые же объявлялись «покойниками», и им сооружались могильные памятники в знак того, что они умерли для сообщества (Iambl. V. Р., 73, 74).
Противоречивость и неправдоподобие свидетельств о характере «общего владения» у пифагорейцев в немалой степени усиливаются и той путаницей, которая царит в собранных Ямвлихом многочисленных описаниях пифагорейской иерархии. Так, Э. Майнер, считающий достоверной «трехступенчатую структуру» сообщества (полностью посвященные, проходящие 3-х и 5-летнее ученичество),[417] пытался в составленной им сводной таблице доказать, что все подробности о внутреннем разделении союза на «пифагорейцев» и «пифагористов», «математиков» и «акусматиков», «учеников» и «философствующих» и т.п. в конечном счете восходят к «Истории» Тимея, заимствовавшего сведения из более ранней традиции (Iambl. V. Р., 29—30, 72, 80—81; DL., VIII, 10).116 К последней Майнер относит и рассказ Гераклида Понтийского о том, как Пифагор, наставлявший мудрого скифа Абариса, жреца Аполлона, прибывшего в Кротон «от гипербореев», не только посвятил того в учение о природе и сущности богов, но и убедил его также передать собранное им золото в общее достояние, ссылаясь на афоризм «у друзей все общее» (Iambl. V. Р., 90—92).
Но последний пример как раз и убеждает в том, что общий для Тимея и Гераклида источник появился не в VI и даже не в V вв., а скорее всего в конце IV в., и восходит он к спорам последователей Платона и Аристотеля о внутреннем содержании и конкретном смысле приведенного выше афоризма.
Известно, что Платон в «Государстве» прямо связывает этот афоризм с важнейшим для своей концепции идеального полиса вопросом об общности жен и детей (IV, 424а; V, 449с). Напротив, Аристотель, полемизируя с учителем в «Политике», использует его в диаметрально противоположном смысле, выдвигая в качестве довода против абсолютизации идеи общественной собственности и для защиты своего излюбленного принципа: «Лучше, чтобы собственность была частной, а пользование ею — общим» (II 2, 4; ср.: VII 9, 6). Характерно также и то, что для подтверждения данного принципа Страгирит ссылается не только на общеизвестный спартанский образ жизни, но и на пример законодательства в италийском городе Таренте, как на лучший способ сохранения демократического строя: «А со стороны знатных, если они гуманны и разумны, было бы достойным делом, если бы, распределив между собой неимущих и снабдив их средствами, они направляли их на ту или иную работу. Не худо также подражать тому, что делают тарантинцы: установив общность имущества для пользования неимущих, они располагают к себе тем самым народную массу» (VI 3, 5, пер. С. А. Жебелева).
История этой спартанской колонии в V—IV вв. была тесно связана с историей пифагорейского движения.[418] С 366 г. государственными делами в ней руководил друг Платона, пифагореец Архит — выдающийся математик, философ, полководец, семь раз подряд избиравшийся гражданами на должность стратега-автократора (DL., VIII, 79; ср.: VIII, 82; Iambl. V. Р., 251). Философские сочинения Архита, анализу которых Аристотель посвятил несколько своих книг (DL., V, 25), к сожалению, до нас не дошли. Большинство же сохранившихся фрагментов из его работ, написанных на дорийском диалекте, эклектичны по содержанию и имеют вид эллинистической компилятивной подделки.[419]
Но содержание одного отрывка работы Архита «О математике», который в издании Г. Дильса и В. Кранца приводится как подлинный (и по этой причине отсутствует среди фрагментов, изданных X. Теслефом), прекрасно дополняет (вернее, предваряет) теоретические соображения Аристотеля по поводу ситуации в Таренте: «Гражданская смута прекратилась, и единомыслие возросло после того, как был открыт счет. Ведь когда он появляется, нет больше места корыстолюбию и воцаряется равенство, ибо при его помощи мы устроим все наши взаимные отношения. Так вот, благодаря ему бедные получают от зажиточных, богатые дают нуждающимся, так как и те и другие верят, что через это они будут обладать равным. А став нормой и ромехой для несправедливых, он удержал тех, кто умеет считать, прежде чем совершить беззаконие, убедив их, что они не смогут остаться незамеченными, когда пойдут против него. И не умеющим считать он помешал совершить несправедливость, показав, что они уже творят ее в нем самом» (47 ВЗ).
Нетрудно заметить, что в приведенном отрывке «теоретическое отражение действительного положения дел в государстве сквозь призму старого пифагорейского учения о гармонии и числе»[420] сочетается с представлением об идеальном государственном устройстве, характерном для политической мысли IV в. В этом смысле идеи Архита (идущие от реальной жизни и, возможно, отражающие действительную картину перераспределения собственности внутри гражданского коллектива в демократическом полисе) могут быть сопоставлены также с первыми утопическими проектами Гипподама Милетского и особенно Фалея Халкедонского. Ведь мысли последнего об общественном переустройстве, как мы увидим далее, в целом ряде пунктов почти буквально совпадают с размышлениями тарентского философа.
И хотя сочинение Архита не может быть решающим доводом против существования общности имуществ в основанном Пифагором союзе (особенно учитывая существенные различия ситуации в Кротоне в конце VI в. и Таренте в начале IVв.), оно тем не менее хорошо подтверждает совсем иное, вполне прагматическое осмысление проблемы общности в самой пифагорейской политической теории. Направленная против радикальной демократии такая трактовка общности поддерживает определенную преемственность с уже рассмотренной выше позицией, занятой сподвижниками Пифагора в период первого кризиса.
Трудно представить, чтобы Тимей, изучавший архивы италийских полисов и побывавший в Афинах после смерти Аристотеля (между 317 и 312 гг.), не был осведомлен о существовании различных направлений в интерпретации раннего пифагореизма, представленных Аристоксеном и Дикеархом (с которыми он мог познакомиться лично[421]), с одной стороны, и Гераклидом Понтийским — с другой.
В описании пифагорейского образа жизни у Ямвлиха (восходящем в большинстве случаев к Аристоксену — другу и почитателю «последних пифагорейцев» — DL., VIII, 46) проблема общности раскрывается, как правило, в рамках аристотелевской теории «деятельной жизни» и теснейшим образом соединяется с идеей дружеского общения и единомыслия, устанавливающихся с помощью строгого распорядка повседневной жизни — чередования умственных и физических занятий, диеты, общих трапез (Iambl. V. Р., 96—100; Porph. V. Р., 32—34). Последние играли особенно важную роль в пифагорейской гетерии. Послеобеденное время предназначалось для обсуждения вопросов политического управления, законодательства, внешних и внутренних государственных дел (Iambl. V. Р., 97). Не случайно Плутарх сравнивал пифагорейские «сисситии» с совместными трапезами афинских пританов и фесмофетов (Plut. Qu.Symp., VII, 9).
В трактовке Аристоксена, члены союза имели собственные дома и собственное имущество. Его рассказ о Дамоне и Финтии, якобы слышанный им от Дионисия Младшего (Iambl. V. Р., 233—237; Porph. V. Р., 59—60), также свидетельствует не о существовании общественной собственности у пифагорейцев, но скорее о взаимной заботе друзей во всех делах, в том числе и в хозяйственных.[422] Эта история находится в полном соответствии как с многочисленными анекдотами, рассказывающими о готовности пифагорейцев к взаимной выручке и самопожертвованию (Diod., X, 4; Iambl. V. P., 127 sqq., 237, 239), так и с исключительно интенсивной разработкой концепции дружбы в пифагорейской философии (Iambl. V. Р., 69—70, 230—232; ср.: 259).
Остается только предполагать, почему Тимей отказался примкнуть к «реалистическому направлению» пифагорейской историографии и предпочел активно поддержать легенду о «пифагорейском коммунизме», складывавшуюся в рамках платоновской традиции, хотя, как уже отмечалось, ее основатель довольно решительно отказывал Пифагору в праве называть себя сторонником общественной собственности. Не следует, однако, забывать, что в конце IV в. уже вполне укоренились представления о зависимости платоновских сочинений от «италийской философии», возникшие при самом непосредственном участии Аристотеля (Met., I, 987а, 29—31). Возможно, италийский патриотизм, соединенный с тщательным изучением драматической истории греческого Запада, привели Тимея к убеждению, что поразительная прочность и длительность существования пифагорейских гетерий обязаны своим происхождением созданному Пифагором институту общности имуществ.
Так или иначе, вставленная в рамки исторического повествования утопическая версия Тимея оказалась крайне привлекательной как для историков эллинистическо-римского времени, так и для «хранящих верность традициям» неопифагорейских эрудитов. Но означает ли это, что раннепифагорейская философия и политическая теория были начисто лишены утопических черт? У исследователей платоновских «Государства», «Законов», «Политика» и других диалогов, например, предположение об утопическом содержании мыслей о соответствии принципов, управляющих человеческой душой, государством и космосом, как правило, не вызывает сомнений, поскольку эти мысли открыто используются для обоснования проекта идеального полиса. Точно так же учение Платона о «трехчастности» человеческой души, из которого выводится сословная иерархия в «Государстве», тоже может рассматриваться как утопическое при его сравнении с изначальным замыслом философа. В пифагорейских текстах, восходящих к свидетельствам IV в., мы постоянно сталкиваемся с параллелизмом в постановке у Платона и пифагорейцев общих вопросов, касающихся соотношения философии и политики, природы справедливости и гармонии. Но можно ли из этого факта делать вывод об утопической направленности пифагорейской общественной мысли?
Многие приводимые нами пифагорейские политические тексты показывают стремление к формулированию принципов идеальной государственности, которое, на наш взгляд, имело глубокую внутреннюю связь с философскими взглядами Пифагора и его последователей. Возьмем, к примеру, характеристику Ямвлиха политической философии Пифагора. «Они (пифагорейцы.— В. Г.) говорят, что он вообще стал создателем всеобщего учения о политике, сказав, что нет ничего несмешанного в существующих вещах, но земля причастна огню, огонь — воде, а дыхание — им (всем) и они — дыханию; а более прекрасное — безобразному и справедливое — несправедливому; и прочие вещи в соответствии с этими (из этого положения рассуждение устремляется в различных направлениях: ведь существуют двоякого рода движения и тела и души, одно — неразумное, другое — способное к предпочтительному выбору). И он соединил три линии, составляющие государственные устройства, совпавшие своими концами и образовавшие один прямой угол, так чтобы одна линия имела природу числа 3, вторая — 5, а третья представляла собой среднее между ними» (Iambl. V. Р., 130).
В данном отрывке чувствуется явное желание позднего компилятора путем сопоставления двух различных сторон пифагорейского учения подвести читателя к выводу о том, что образ идеальной конституции в виде прямоугольного треугольника [423] подчиняется общему принципу гармонии, образуемой в мире путем упорядочивающего воздействия божества на противоречивые элементы в природе, а в обществе — благодаря мудрым действиям законодателя, следующего во всем «божественному закону», примиряющего в разумном государственном устройстве— противоположные интересы социальных групп, в системе философского воспитания — противоположные устремления человеческой души и тела.
В пифагорейском учении о соотношении космических и человеческих законов характерное для греческого мировоззрения единство этики и политики выражено необычайно резко, принимая форму требования следовать во всем велениям боже-ства — единственного источника блага и основы человеческой справедливости (Iambl. V. Р., 137). В полном соответствии с данным требованием Пифагор считал «власть бога» «наиполезнейшим для установления справедливости» (Ibid., 174).
Идею власти бога, конечно, нельзя понимать в том плане, в каком се понимали древнееврейские пророки. «Пифагорейская теократия» — это аллегорическое выражение философской идеи всеобщего космического порядка,[424] свидетельствующее к тому же о стремлении использовать традиционные мифологические представления в целях пропаганды политических принципов, которыми руководствовались члены союза. На это указывают, например, такие приписываемые Пифагору слова, обращенные к членам кротонского Совета: «Люди, знающие, что всякое место нуждается в справедливости, для того сочинили миф о том, что Темис занимает возле Зевса такое же место, какое Дике — возле Плутона, и закон — в государствах, чтобы не действующий справедливо в соответствии с тем, для чего он предназначен, казался заодно совершающим несправедливость против всего космоса» (Iambl. V. Р., 46).
Такое соединение популярнейшего гесиодовского мифа с определением справедливости как воздаяния «равным за равное» ( τό άντιπεπονθός ίλλω), глубоко консервативный характер которого не может скрыть даже числовая символика (например, отождествление справедливости с квадратным числом и т. д.[425]), чрезвычайно знаменательно, поскольку в данном случае речь идет о тенденциозной переработке традиционных политических идей с целью «дополнительного обоснования» концепции «отеческой конституции». В речи Пифагора эти идеи весьма органично увязываются с учением о «согласии», обеспечиваемом «созвучием, гармонией и ритмом» (Iambl. V. Р., 45).
Тенденция к перенесению на общество закономерностей, открытых в области теории музыки и математики, восходит к самому Пифагору и, вероятно, не отделялась им от религиозномистического толкования числовых формул в смысле их «очищающего воздействия» на душу, благодаря которому она скорее сможет освободиться от «колеса рождений» и обрести «вечный покой».[426]
Все приведенные примеры обоснования концепции «идеального полиса» воспринимались пифагорейцами в качестве принципов, которыми следует руководствоваться при управлении государством. Они представляли собой довольно стройную систему, объединившую традиционные религиозные и политические идеи с новаторскими достижениями в области науки, философии и политической теории. Оторванность от жизни идеальных принципов проявилась только тогда, когда логика классовой борьбы заставила этих «аристократов духа» открыто выступить против набиравшей силу демократии.
Эти принципы, однако, и в IV в. использовались пифагорейскими политическими теоретиками, приспособившимися к новым историческим условиям, для сглаживания остроты социальных конфликтов. Именно такая «прагматическая установка» пифагорейской социальной философии, получившая полное одобрение Аристотеля, заставляет сделать вывод о том, что с момента своего возникновения и на протяжении десятков лет эта философия была чужда «утопическим импульсам». Ее переработка в утопическом духе принадлежит Платону и его ближайшим предшественникам.
Все вышесказанное отнюдь не следует рассматривать в духе абсолютного противопоставления пифагорейского практицизма платоновскому утопизму. Такого рода вывод оказался бы в противоречии с довольно часто встречающимися в пифагорейской литературе и восходящими к Гомеру и Гесиоду традиционными утопическими сюжетами.
Как и сочинители орфических книг, пифагорейцы были, по словам А. Делятта, «ревностными интерпретаторами» гомеровских и гесиодовских поэм. Аллегорическое толкование эпических отрывков, в основе которого лежало общее для обоих направлений стремление «примирить новую веру и традицию священных книг»,[427] приобрела у орфиков и пифагорейцев различный характер, поскольку для последних она была подчинена, как мы уже видели, задачам политической пропаганды и лишь впоследствии стала предметом теологических и философских спекуляций.
Многочисленные, часто противоречащие одна другой переработки в орфических сочинениях гесиодовского мифа о «пяти поколениях», если судить по фрагментам, собранным в издании О. Керна, свидетельствуют о стремлении орфиков связать воедино космогонические и теогонические идеи с эсхатологическим учением о загробном воздаянии, центральную роль в котором играл мотив странствий души.[428]
Наряду с традиционным изображением «золотого века», как времени правления Кроноса, устойчивым является также троичное деление человеческих поколений в рамках которого Кронос оказывается царем серебрянного рода, в то время как создание золотого рода приписывается прародителю всех богов (или демиургу) — Фанесу, сотворившему людей из дождя, упавшего с его головы. Злоключения людей начинаются только в третьем поколении, созданном Зевсом, и связаны, как уже отмечалось, с преступлением, совершенным титанами.[429]
Удивительно, что даже в позднейшей пифагорейской литературе можно уловить едва заметные признаки внимания к мифу о «золотом веке». В раннепифагорейской традиции упоминания о нем полностью отсутствуют. Можно почти с полной уверенностью утверждать, что в структуру пифагорейской политической теории и пропаганды не входили ни идея возврата к «жизни при Кроносе», ни аналогия между ней и идеальной государственностью, которую мы находим позже в платоновских «Законах».
Определенную гарантию для такого вывода дает полное единодушие в оценке «золотого века» между последователями Платона и Аристотеля, стоявшими на противоположных позициях при описании пифагорейского образа жизни. Надо полагать, что и Дикеарх, воспринявший идею развития человечества от первых «счастливых времен» к жестокой цивилизации, и тем более Порфирий и Ямвлих непременно включили бы этот мотив в «систему ценностей» пифагореизма, если бы они располагали какими-нибудь свидетельствами на данный счет.
Единственный ранний пример философской переработки гесиодовской традиции о «золотом веке» мы находим во фрагменте поэмы Эмпедокла — философа, тесно связанного с пифагорейцами (DL., VIII, 54—56) —«Очищения»,— (В128). Однако среди многочисленных интерпретаций данного фрагмента, в котором описывается счастливое единовластие «Киприды-царицы», почитаемой людьми, чуждыми «первородному греху», нам не удалось встретить мнения о заимствовании Эмпедоклом этих идей у кого-либо из пифагорейцев. Пронизанный утопическим настроением фрагмент имеет явный отпечаток творческой переработки орфической доктрины в духе собственной философской системы. По справедливому замечанию Д. Бабю, «помещая золотой век под знак Афродиты и существующий мир — место изгнания душ — под знак Ненависти, Эмпедокл пытался соединить видение мира, свойственное религиозной поэме, с конструкцией, разработанной в физическом трактате».[430]
Отсутствие внимания у пифагорейцев к легенде о «жизни при Кроносе» с трудом поддается объяснению, особенно если учесть их огромный интерес к утопическим мотивам, связанным с легендой об «островах блаженных». Этот интерес пифагорейцы разделяли с орфиками, приспособившими гомеровскую легенду к учению о переселении душ. Свидетельством популярности названной народно-утопической легенды уже в ранний период является знаменитая вторая Олимпийская ода Пиндара, торжественно повествующая о переселении душ «достойных людей», трижды совершивших жизненный круговорот, на «остров блаженных», называемый поэтом «твердыней Крона» (Pynd. Olymp., II, 60 sqq.). Такое название, возможно, отражающее эклектическое соединение гомеровской и гесиодовской традиций в одной из орфических поэм, указывает все же на земное местоположение острова.[431]
У пифагорейцев мы находим совсем иную картину: души ведущих праведную жизнь людей отправляются не на край земли, а на Солнце и Луну. Это представление ясно выражено в одной из пифагорейских акусм — священных формул, якобы изреченных некогда Пифагором для низшей категории посвященных в его учение и содержащих сведения самого разнообразного характера — от философских догм до ритуальных запретов, регулирующих повседневную жизнь (Iambl. V. Р., 82; Porph. V. Р., 41—45).
Существование ранней акусматической традиции засвидетельствовано Аристотелем в сочинении «О пифагорейцах». Однако уже само пугающее количество предписаний и табу делает совершенно неправдоподобным предположение о строгом их соблюдении членами пифагорейского сообщества.[432] Создается впечатление, что наряду с занятиями философией, математикой и музыкой пифагорейцы проявляли также интерес к собиранию и классификации (а может быть, и символическому толкованию) древних культовых обычаев и запретов, причем делали это с таким же рвением, с каким слушатели Ликея собирали по заданию учителя десятки описаний государственных устройств греческих полисов.
Интересующая нас акусма относилась к первому из трех разрядов и формулировалась так: «Что такое острова блаженных? Солнце и Луна» (Iambl. V. Р., 82). Сама постановка акусмы на одно из первых мест в списке изречений, характеризующих важнейшие философские и религиозные вопросы, указывает на ее прямую связь с учением о гармонии космоса, неотделимом от представления о божественном характере небесных светил.[433]
Вообще небесное путешествие души — чрезвычайно распространенный мотив в религиях многих народов, в том числе и в средиземноморских. В очерке развития утопических идей на древнем Ближнем Востоке уже отмечались характерные древнеегипетские представления о звездах как «душах блаженных», соединяемых с Солнцем — Ра. Нет, однако, никакой необходимости в гипотезах о зависимости пифагорейских идей от египетских или же иранских источников.[434] «Солярная теология» пифагорейцев имеет достаточно прочные корни в греческих религиозных воззрениях и прекрасно согласуется с культом почитаемого ими Аполлона; ее философский аспект проявляется не в сохранившихся в позднеантичной литературе намеках на теорию звездного происхождения бессмертных душ,[435] но в уподоблении круга странствий человеческой души круговому движению планет.
О божественной природе движения души писал Алкмеон (Arist. De an., I, 2, 405a; 24 B2; Plato Phaedr., 245c). Характерно также, что у Филолая, с именем которого связаны многие достижения пифагорейской астрономии, мы находим утопическое описание поверхности Луны, окруженной, как и Земля, атмосферой и населяемой живыми существами и растениями, превосходящими земные по красоте и большие в 15 раз по размеру (44А20). «Лунный пейзаж» Филолая является примером попытки «научного» истолкования более раннего представления о Луне как месте обитания даймонов, т. е. существ, занимающих промежуточное положение между богами и людьми.[436] Ямвлих рассказывает, например, о почитании Пифагора его приверженцами не только как бога-олимпийца или Аполлона Гиперборейского, но и как даймона, спустившегося с Луны, чтобы принести людям спасение и даровать им мудрость (Iambl. V. Р., 30; ср.: 91).
Такого рода легенды, складывавшиеся вокруг имени Пифагора, вероятно, с самого начала его деятельности в Южной Италии, наглядно демонстрируют сложный и противоречивый характер становления политической теории в Древней Греции и складывавшейся в ее рамках рационалистической утопической традиции. Процесс выработки рациональных принципов политического руководства у пифагорейцев был неотделим от апелляции к традиционным утопическим мотивам, по-видимому, существенно повлиявшим на их представления об идеальном полисе. Создание чисто теоретических утопических проектов стало возможным только после тех разрушительных ударов, которые нанесли софисты по восходящим к эпохе глубокой архаики воззрениям на государство.
§ 3. УТОПИЧЕСКИЕ ИДЕИ И ПРОЕКТЫ ЭПОХИ ГРЕЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
Греческое Просвещение нередко называют периодом рационалистического движения, или «веком софистов». Возникшие в этот период формы общественной мысли не имели прецедентов в истории мировой культуры. По своему историческому значению и последствиям происходивший в V в. мировоззренческий переворот имеет немало аналогий с итальянским Возрождением и французским Просвещением. «Речь идет... о полемическом самосознании, которое как таковое не образует, разумеется, новой эпохи, но характеризует некоторые ее аспекты: это прежде всего ясное стремление к бунту, программа разрыва со старым миром с целью утвердить новые формы воспитания и общения, иное общество и иные взаимоотношения между человеком и природой».[437]
Как в риторике, так и в философской литературе IV в. (особенно у Платона и Аристотеля) термин «софист» превратился чуть ли не в бранный (см., напр.: Plato Soph., 268d; ср.: Aeschin., I, 175; Arist. Soph. Elench., I, 165a 21). Для платоновского Сократа постоянным предметом иронии и насмешек становятся «многознание» софистов, их претензия не только на всеобъемлющую мудрость, но и уверенность в своей способности научить этой мудрости других. Между тем, несмотря на различия взглядов на роль философского знания, и Сократ, и его оппоненты в равной степени могут быть названы идеологами греческого Просвещения, например, в плане их отношения к так называемым «неписаным законам», к освященным преданием обычаям и верованиям, возводимым в традиционном общественном сознании непосредственно к богам и рассматриваемым поэтому в качестве общепринятых, вечных и неизменных.
В лице Гиппия из Элиды софистическое «многознание» объявило абсолютное большинство таких законов настолько же далекими от права называться общепринятыми, насколько полисная демократия в представлении большинства греков была далека от варварских деспотий. Почитание богов и родственные связи — только два этих, свойственных всем людям, обычая «выдержали... пробу и оказались общечеловеческими законами»[438] (Xen. Mem., IV 4, 19).
Универсализм софистов в подходе к общественным нормам неотделим от выдвинутого ими резкого противопоставления природы и закона,[439] принимавшего самые различные формы в зависимости от обсуждаемого предмета. В софистической литературе «природа», в противоположность гесиодовской «божественной справедливости» или «всеобщему божественному закону» Гераклита, рассматривается не как незримый эталон, в соответствии с которым должны устраиваться дела в государстве, но, как правило, в качестве критического принципа, определяющего независимую интеллектуальную позицию и практическое отношение индивида к любым предписаниям и установлениям.
Постоянно приписываемое софистам в современной научной литературе понятие «закон природы» для характеристики их общественных взглядов в действительности не могло употребляться кем-либо из них в собственно «категориальном» смысле (если речь, конечно, идет не о чистом парадоксе — см., напр.: Plato Gorg., 483е). Как справедливо отмечал Г. Кёстер, для софистов «то, что относится к природе, не имеет характера ,,закона”. Природа и ее пути — αναγκαία, а не επίθετα ... Дело не в том, что самого термина „закон природы” нет в пространных фрагментах софистов, но такая концепция вряд ли могла иметь место где-либо в их учениях. Закон и Природа взаимно исключают друг друга».[440] Одним из примеров, подтверждающих данное положение, является фрагмент из сочинения видного софиста Антифонта «Об истине». «Действительно, — утверждал он, — веления законов (τα των νόμων) надуманны, тогда как велениям природы присуща внутренняя необходимость. Вдобавок, веления законов не есть нечто прирожденное, но результат соглашения... Преступающий законы, если ему удастся совершить свой поступок втайне от других участников соглашения, освобождается и от позора, и от наказания... Что же касается того, что соприсуще нашей природе, то стоит только кому-нибудь в чем-нибудь попытаться действовать вопреки ему, не считаясь со своими действительными силами, как его постигнет беда, которая ничуть не уменьшится от того, что это произойдет втайне от всех других людей...» (87 В44, пер. С. Я. Лурье).[441]
Развивая в дальнейшем мысль об условности любого установления и обычая, Антифонт категорически отрицал существование «по природе» каких-либо различий между варварами и греками (Ibid.). В этом же направлении следовали и представители младшего поколения софистов — Ликофрон, считавший знатность и благородство происхождения «пустым звуком» (84 В4), и Алкидамант, признававший природное равенство свободных и рабов (Schol. ad Aristot. Rhet., I, 13, 1373 18; ср.; Arist. Pol., I 2, 3; Plato Prot., 337c—d).
Такие анархистские идеи, подрывающие основу полисной организации независимо от формы правления, естественно, встречались крайне враждебно консервативно настроенным большинством защитников принципа рабовладения и традиционных полисных ценностей.[442] С нескрываемым раздражением писал Платон о стремлении софистов поставить под сомнение такие глобальные идеи, как справедливость, существование богов и необходимость религии: «О богах подобного рода люди утверждают прежде всего следующее: боги существуют не по природе, а в силу искусства и некоторых законов, причем в различных местах они различны сообразно с тем, какими каждый народ условился их считать при возникновении своего законодательства. Точно так же и прекрасно по природе одно, а по закону — другое; справедливого же вовсе нет по природе. Законодатели пребывают относительно него в разногласии и постоянно вносят здесь все новые и новые изменения. Эти изменчивые постановления законодателей, будто бы каждое в свой черед, являются господствующими для своего времени, причем возникают они благодаря искусству и определенным законам, а не по природе» (Plato Legg., X, 889e — 890а, пер. А. Н. Егунова).
Важным нюансом этого суммирующего взгляды софистов суждения Платона является не столько подчеркивание им изменчивости представлений людей о богах, справедливости и законах, сколько ясное указание на происхождение самих этих понятий как результата некоего условного соглашения, возникшего, очевидно, не сразу, а лишь в ходе исторического процесса, который будет продолжаться и впредь. Таким образом, мы снова встречаемся с возобновлением идущей от Ксенофана традиции об относительно постепенном приобретении людьми плодов цивилизации, традиции, содержащей в себе зародыши концепции общественного прогресса.
В области политической теории данная концепция была тесно связана с теорией «общественного договора», развиваемой в том или ином виде Протагором, Гиппием, Ликофроном и др. (Plato Prot., 322b—с; Xen. Mem., IV 4, 13, 19; Plato Hipp. Maj., 284d; Arist. Pol., Ill 5, И; ср.: Plato Resp., II,358e—359a).[443] В самом общем виде античный вариант этой теории можно представить следующим образом: заключение людьми соглашения между собой, являясь гарантией их взаимной безопасности, положило конец «звериному», безгосударственному состоянию и привело к строительству городов и составлению писаных законов, закрепивших взятое каждым человеком обязательство блюсти порядок и не причинять другому вреда. Это не означало, однако, что повиновение закону делает человека справедливым и добрым, поскольку «закон, будучи тираном над людьми, принуждает ко многому, что противно природе» (Plato Prot. 337с—d; Arist. Pol., III 5, 11).
Для истории утопической мысли названные идеи сыграли не менее значительную роль, чем теория и практика пифагорейцев. Нельзя согласиться с Т. Гомперцом, предполагавшим возможность идеализации в софистической литературе первобытного состояния по аналогии с представлением о «жизни при Кроносе».[444] На наш взгляд, гораздо ближе к истине был Л. Эдельштенн, утверждавший (по обыкновению, излишне категорично), что для Анаксагора, Демокрита, равно как и для Протагора и других софистов, «какая-либо вера в золотой век была анафемой».[445]
Хотя весь наш предшествующий анализ свидетельствует на первый взгляд о том, что противопоставление природы и закона оставляло мало шансов для появления каких-либо идей о совершенном государственном устройстве, на самом деле разрыв с традиционными воззрениями на прошлое открывал достаточно широкие перспективы не только для анархистских, нигилистических построений, но и для позитивного конструктивного воображения. И что интересно, обе тенденции зачастую соединялись в теориях одних и тех же мыслителей. Так, например, обоснование Гиппием идеала «автаркии мудреца», рассматривающего повиновение законам-тиранам как «несерьезное дело» (Xen. Mem., IV 4, 11 ср.: Plato Hipp. Min., 368b—с), вовсе не мешало ему признавать необходимость законов, если они установлены хорошо и приносят пользу, а не вред (Plato Hipp. Maj, 284d).
Заметим, что среди софистов были люди самих различных политических убеждений и устремлений. Исходя из одних и тек же посылок, а именно из скептицизма в отношении традиционных религиозных верований и из идеи о существовании в прошлом неупорядоченной звероподобной жизни людей, Протагор и Критий [446] приходили, например, к совершенно различным выводам: один — к признанию полезности и мудрости государственных установлений и воспитания, защите демократических принципов и даже к реабилитации «славных древних законодателей — изобретателей мудрых законов» (Plato Prot., 324а sqq., 327а, 326d), другой же — к фактическому одобрению бесспорного права «сильной личности» манипулировать умами, изобретая для этой цели богов и убеждая «толпу» в них верить (88 В25).
Наряду с теоретической фиксацией Калликлом и Фрасимахом царящего в политической жизни греческих полисов произвола и рассмотрением ими справедливости как «этически нейтрального» понятия, которое сильнейший может использовать в собственных интересах, реализуя данное ему природой право на господство (Plato Gorg., 483а—484с; Resp., I, 338с, 343с—d; ср.: Thuc., V, 105,2), мы встречаем также и совершенно противоположные по своему характеру представления, связанные с обоснованием позитивного государственного идеала, отнюдь не чуждого утопическому умонастроению.[447]
Вплоть до поздней античности существовала довольно устойчивая, восходящая к Аристоксену традиция, согласно которой Платон взял в качестве образца для своего «Государства» проект, содержащийся в «Противоречиях» Протагора (DL., III, 37). В списке протагоровских сочинений, приводимом Диогеном Лаэртским, есть работа под названием «О государстве» (DL., IX, 55). Мы не знаем, в какой степени теоретические изыскания Протагора нашли отражение в проекте законов, составленном им по предложению Перикла для Фурий — панэллинской колонии, основанной в 444/43 гг. под эгидой Афин на месте старого Сибариса. Так, Аристотель при описании государственного устройства этого полиса не упоминает имени Протагора. Поэтому нельзя утверждать, что «клонящаяся в сторону олигархии» конституция с высоким имущественным цензом для занятия должностей и выборной стратегией соответствует составленному им плану (Arist. Pol., V 6, 6, 8).[448]
Как уже отмечалось, в основании Фурий принимал участие и Гипподам из Милета — профессиональный архитектор, усовершенствовавший распространенные на его родине принципы планировки городских кварталов.[449] Именно Гипподама, а не Протагора Аристотель называет непосредственным предшественником Платона в области разработки проектов идеального полиса (Ibid., II 5, 1).
В научной литературе Гипподама нередко называют пифагорейцем, проявлявшим симпатии к спартанскому государственному устройству.[450] Например, Ф. Олье считал в качестве главных признаков таких симпатий приверженность Гипподама к «трехчастным композициям», а также приписываемое ему Стобеем стремление учредить совместные трапезы и превратить в своем проекте сельское хозяйство в основной источник государственных доходов. В выдвинутом в гипподамовском проекте предложении учредить верховный «апелляционный суд», в котором избранные старцы разбирают жалобы тяжущихся сторон, Олье усматривал сходство со спартанской герусией.[451]
Аристотель в своем сжатом очерке идеального государства Гипподама действительно отмечает основополагающую роль числа три. Население государства численностью в 10 тыс. человек разделено на три сословия — ремесленников, земледельцев и воинов.[452] Первым двум сословиям запрещено носить оружие. Вся государственная территория разделена на три части — священную, общественную и частную. Доходы с первой части направляются на нужды установленного религиозного культа. Вторая предназначается для содержания воинов, а третья остается в частном владении земледельцев. Гипподам также «полагал, что существуют только три вида законов, относительно которых и возникают судебные дела, числом также три — по поводу оскорблений, нанесения ущерба и по поводу убийства» (Ibid.); «а должностные лица избираются народом (народ же составлял три части государства). И избранные на должность заботятся о делах общественных, делах, относящихся к чужестранцам и сиротам» (Ibid., 115, 4).
Ни «положительная» часть изложения Аристотелем основных черт гипподамовского проекта, ни последующая его критика не указывают на какие-либо связи данного проекта с пифагорейским комплексом идей. Так, Д. Фергюсон, более осторожно по сравнению с другими исследователями формулирующий предположение о возможности пифагорейских влияний на трехчастные государственные структуры у Гипподама, вместе с тем вполне резонно указывает на целый ряд примеров, свидетельствующих о довольно широком распространении трехчастной символики в философской литературе V в., никак не связанной с пифагореизмом.[453]
На наш взгляд, те ученые, которые склонны относиться с излишним доверием к позднеантичной традиции, в том числе и к имевшим хождение в эллинистическо-римский период «дорийским сочинениям» Гипподама, в конечном счете лишь воспроизводят логику мысли многочисленных древних творцов «пифагорейского миража», превративших основателя кротонского союза в благочестивого проповедника идеала совершенной аристократии, следовавшего по пятам Ликурга.
В этом плане особого внимания заслуживают приводимые X. Теслефом (исследователем, подходящим к неопифагорейской и неоплатоновской литературе отнюдь не с гиперкритических позиций) аргументы, вполне доказывающие, что имя Гипподама не было связано с пифагорейской философией не только в V— IV вв., но и в более поздние эпохи. Оно не фигурирует, например, в составленном Ямвлихом списке 218 пифагорейцев (Iambl. V. Р., 267).[454]
В условиях крайней скудости раннеантичных свидетельств о Гипподаме нельзя, по-видимому, пренебрегать теми, еще далеко не полностью использованными возможностями, которые предоставляют нам аристотелевские сочинения. Как уже отмечалось, в «Политике» Гипподам был назван «первым из не занимавшихся государственной деятельностью людей», попробовавших «кое-что изложить о наилучшем государственном устройстве» (Arist. Pol., II 5, 1). Во второй половине Vв. основными кандидатами на это звание могли быть, конечно, софисты, которые в большинстве своем не принимали «непосредственного участия в государственной политике, поскольку они либо постоянно путешествовали, либо обосновывались в городе, который не являлся их родиной. Эти же обстоятельства заставляли их изыскивать всеобщий подход к политике, трансцендентный по отношению к частным делам индивидуальных полисов».[455]
В самом конце «Никомаховой этики» Аристотель специальна посвящает большой пассаж критике софистов, противопоставляя их сочинения рассуждениям о государственных делах, высказываемым «практическими политиками»: «Обучать же государственным делам берутся софисты, но ни один из них не действует [в этой области], а те здесь действуют, кто занимается делами государства, однако они, надо полагать, действуют так благодаря известной способности и скорее руководствуясь опытом, а не мыслью. Они-το, оказывается, не пишут и не произносят речей о таких [предметах, как политика], хотя, может статься, это было бы прекраснее, чем речи в суде и в народном собрании... А кто из софистов обещает научить [искусству управлять государством], слишком явно далек от того, чтобы это сделать» (Arist. E. N., X, 10, 1180b sqq., пер. Н. В. Брагинской; ср.: Plato Gorg., 484с sqq.).
Финал «Никомаховой этики» был своеобразным введением к «Политике». В нем Стагирит как бы противопоставлял собственное право (и, вероятно, право своего учителя — Платона) разрабатывать научную теорию составления законов (Arist. E. N., X, 10, 1118b)[456] взглядам тех, кто делал это раньше, т. е. софистам. В этой связи характеризующая вклад Гипподама в политическую теорию лапидарная формула — πρώτος των μή πολιτευομένων выглядит как намек на указанный финал и вполне могла «переводиться» читателями «Политики» (а первоначально— слушателями Ликея) как «первый из софистов».
Насмешливые замечания Аристотеля о внешности и привычках Гипподама и о стремлении последнего к многознанию невольно напоминают иронические выпады платоновского Сократа против Гиппия (Plato Hipp. Min., 368b—369a; ср.: Ârist. Pol., II 5, 1). О близости взглядов Гипподама к софистическим теориям свидетельствует и его предложение (также вызвавшее пространную и весьма поучительную критику Аристотеля) установить закон, согласно которому почести предоставляются тем, кто придумывает что-либо полезное для государства (Arist. Pol., II 5, 4; ср.: II 5, 10 sqq.; Thuc., I, 71, 3). Так, Л. Эдельштейн справедливо усматривает в данном гипподамовском нововведении стремление «придать законный порядок прогрессу в конституционных и политических делах, способствовать обеспечению этого прогресса на будущее».[457]
С нашей точки зрения, выдвинутое С. Я. Лурье предположение о том, что в некоторых чертах проект милетского утописта представляет собой «характерное восстановление первобытных отношений», свидетельствующее о консервативно-олигархической ориентации его автора,[458] было основано на слишком буквальном истолковании критических замечаний Аристотеля. Например, из обращенного последним к Гипподаму мысленного вопроса, кто будет возделывать предоставленные для прокормления воинов участки, а также из его полемического сравнения земледельцев и ремесленников с рабами (Arist. Pol., V 5, 5, 7), С. Я. Лурье сделал вывод о том, что «в гипподамовском государстве рабский труд в промышленности и земледелии не применялся».[459] Однако в тексте «Политики» трудно найти какие-либо конкретные указания на принципиальное расхождение Гипподама в вопросе о рабстве с Авторами других утопических проектов, обычно рассматривавших этот институт в качестве фундамента иерархически построенного идеального сообщества.[460]
Причина того, что Аристотель обошел вопрос о рабстве, критикуя платоновское «Государство», и специально остановился на этом вопросе при обсуждении проекта Гипподама, объясняется, очевидно, чисто субъективной расстановкой полемических акцентов. Так, возражая Платону, Страгирит с самого начала настолько увлекся обсуждением таких вопросов, как общность жен и собственности (Ibid., II 1—2), что, переходя в дальнейшем к разбору проекта «Законов», либо оставил без внимания вопрос о том, были ли у «третьего сословия» рабы, либо предполагал их существование a priori, исходя из контекста первого платоновского проекта (см., напр.: Ibid., II 2, 13).
Основной целью возврата Аристотеля к этому вопросу при «анализе гипподамовского идеального государства было прежде всего желание показать отвлеченность от действительности лежащей в основе данного проекта трехчастной структуры (Ibid., II 5, 6—7). В связи с этим трудно понять, какие причины заставили С. Я. Лурье отрицать наличие рабства у Гипподама и в то же самое время предполагать существование института илотов в проекте Эвгемера.[461]
Критике гипподамовских утопических идей в «Политике» предшествует обсуждение законодательных предложений Фалея Халкедонского. В нашем распоряжении нет практически никаких биографических сведений об этом мыслителе. Однако, вероятно, правы Д. Керферд и другие исследователи, рассматривающие проект Фалея как отражение характерного для эпохи греческого Просвещения убеждения в том, «что положение вещей может быть улучшено... именно людьми... а не божественным провидением, как это было в хилиастических мечтаниях позднейших веков».[462] Исходя из аристотелевского указания на приоритет Гипподама в области создания утопических конструкций, предложенный Фалеем план политического переустройства обычно помещают между гипподамовским проектом и платоновским «Государством». Таким образом, предположительное время его создания — конец V — начало IV в.[463]
Характерной чертой проекта Фалея является первостепенное внимание к экономическим вопросам. Исходным пунктом этого проекта стало предложение об уравнении земельной собственности граждан полиса (Ibid., II 4, I). По мнению Фалея, «это нетрудно провести сразу во время образования государств; после их образования это труднее, хотя уравнять собственность следовало бы как можно скорее, и вот каким образом: богатые должны давать приданое, но не получать его; бедные же приданого не дают, но получают его» (Ibid., II 4, 2, пер. С. А. Жебелева).
Целью имущественного равенства, согласно Фалею, является установление прекрасных социально-политических отношений внутри гражданского «коллектива (Ibid., II 4, 9). Гарантией же достижения социальной гармонии станут равные для всех возможности в получении соответствующего воспитания (Ibid., II 4, 6). Идея превращения всех ремесленников в государственных рабов предвосхищает соответствующие предложения, выдвинутые Аристотелем в собственном проекте идеального государства (Ibid., II 4, 13).
Явно консервативный характер последнего предложения Фа-лея все же не может, на наш взгляд, служить основанием для характеристики Фалея как традиционалистски настроенного политического мыслителя олигархической ориентации.[464] Так, при анализе отрывка из сочинения Архита уже отмечалось, что возникновение в философской литературе идеи постепенного перераспределения земельной собственности отражало настроения представителей зажиточной прослойки, стоявшей у руля управления в ряде греческих полисов, которая во второй половине V в. столкнулась с нарастанием требований народных низов отменить долги, перераспределить земельный фонд, а также демократизировать систему государственного управления. Инициатива в выдвижении указанных требований нередко .принадлежала социальным демагогам, использующим народное недовольство для удовлетворения своих личных политических .амбиций (см., напр.: Ibid., V6, 6, 8—9). Проведение реформ с целью не допустить обострения конфронтации было лозунгом скорее умеренных демократов, а не явных олигархов, непримиримо относящихся к требованиям демоса. Фалей же является идейным предшественником первых.[465]
При разработке своих эгалитарных предложений, направленных на реформу института брачных отношений, Фалей, конечно, мог опираться как на экзотическую полулегендарную традицию, повествующую об аналогичных брачных обычаях у варваров (например, на геродотовский рассказ о вавилонском обычае продажи красивых девушек за большие деньги с тем, чтобы на вырученную сумму выдать замуж дурнушек — Hdt., I, 196[466]), так и на пример Эмпедокла, наделившего приданым из собственных средств бедных девушек своего родного города, для того чтобы способствовать окончанию распрей и установлению равенства (DL., VIII, 73; ср.: Aristoph. Eccl., 408 sqq.).
Идеи, высказанные Фалеем в его проекте, нельзя считать уникальными для общественной мысли конца V — начала IV в. О том, что «женский вопрос» начинает все более и более переплетаться с радикальными концепциями полного обобществления собственности, в равной степени свидетельствуют, например, и комедия Аристофана «Женщины в народном собрании», и «Государство» Платона.
Веселая история об осуществленном Праксагорой в Афинах «коммунистическом эксперименте» является далеко не единичным примером использования Аристофаном утопических сюжетов в своем творчестве. Пьесы великого комедиографа вообще можно рассматривать как необычайно яркий по своей парадоксальности «комментарий» не только к утопическим исканиям той эпохи, но и проходившим в Афинах дискуссиям по политическим вопросам, к которым поэт относился с самым серьезным вниманием.[467] Многие намеки Аристофана ускользают от нашего понимания, поскольку невозможно восстановить достаточно полно содержание речей и мыслей тех реальных людей, которые служили прототипами в его комедиях и оказывали влияние на построение их сюжетов.[468] Один из таких не поддающихся до конца расшифровке сюжетов — «птичье государство» (Тучекукуйск), основанное по предложению главного героя аристофановской утопической комедии «Птицы» (414 г.) Писфетера.[469]
«Каждая из комедий Аристофана по своей драматургической структуре состоит из двух частей: в первой показывается возникновение и подготовка к осуществлению какой-нибудь идеи, отражающей в буффонно-фантастической форме настроения определенных слоев афинского народа; во второй части — положительные или отрицательные результаты фантастического осуществления этой идеи».[470] Это, в целом бесспорное, положение нередко трактуется чересчур конкретно в смысле стремления Аристофана связать основные сюжетные линии своих комедий с какими-либо особо важными событиями афинской истории. Так, в идее огородить пространство между небом и землей гигантской стеной и, основав «птичье царство», начать войну с богами за мировое господство, многие исследователи усматривают комическое описание подготовки грандиозной Сицилийской экспедиции, а в герое, выдвинувшем этот план, — Писфетере видят изображение Алкивиада.[471]
На наш взгляд, более правильным является мнение тех ученых, которые считают, что главной целью «Птиц» было стремление Аристофана высмеять не только такие укоренившиеся у афинян пороки, как увлечение захватническими войнами, доверие к демагогам, страсть к судебным процессам и сутяжничеству, но и «их пристрастие ко всяким новым учениям, философским бредням, к новым, но далеко не лучшим формам искусства. . .».[472]
Так, в одной из своих ранних работ С. Я. Лурье отмечал, что «государство птиц» у Аристофана организовано «совсем в духе Антифонта». Эта же идея развивается и рядом современных исследователей.[473] Действительно, в содержащемся в парабасе обращении птиц к зрителям вновь создаваемое «государство» находится в такой же противоположности к установлениям афинян, в какой природа у Антифонта и Калликлз противопоставлена закону:
Комическое изложение основной софистической доктрины осуществлено в данном случае при помощи обычного у поэта приема переворачивания на сцене вверх дном социальных отношений. Вполне очевидно, что Аристофан — «умеренный демократ, консерватор, друг селян и старых нравов»,[474] объединяя в качестве «природных норм» отрицание рабства и разрешение бить родителей, стремился внушить не менее консервативно настроенной афинской публике собственное представление о том, каковы будут результаты практической реализации данной доктрины.
В комедии «Женщины в народном собрании» мы встречаемся с проектом иного порядка. Поставленная на сцене в 393 или 392 гг.,[475] она подспудно отразила драматические коллизии афинской истории, связанные с крахом великой морской державы, установлением «тирании тридцати», восстановлением демократии в 403 г., продолжением борьбы со Спартой, и, наконец, начальный этап Коринфской войны (394—387 гг.), завершившейся позорным Анталкидовым миром. Характерная черта комедии состоит в том, что глубочайшая социальная трансформация происходит в виде «бескровного переворота», осуществленного афинянками путем обмана: переодевшись в мужскую одежду, они, оккупировав заблаговременно Пникс, декретировали от имени своих мужей передачу всей полноты власти женщинам — хранительницам древних законов и традиций,[476] утраченных в результате бесконечной погони мужчин за новшествами (Aristoph. Eccl., 173—178; 205—240).
Если в «Лисистрате» (411г.) женщины только принуждают греков к миру путем «всеобщей забастовки», заперевшись на Акрополе, то на этот раз речь идет о ряде радикальных реформ, результатом которых является полное обобществление собственности — земли, денег, главных орудий производства — рабов и, наконец... обобществление самих женщин и установление нового порядка сексуальных отношений. Его великолепное сатирическое описание, наполненное буффонными сценами, и завершает комедию (Ibid., 590sqq.).
Вплоть до наших дней исследователи никак не могут прийти к единому мнению относительно идейной направленности авторского замысла. Можем ли мы вместе с Р. Пёльманом считать, что в комедии «Женщины в народном собрании», Аристофан, рисуя наступление всеобщего изобилия, напоминающего «жизнь при Кроносе», в карикатурной форме изобразил и подвергнул осмея«ию «плебейский коммунизм» афинского пролетариата?[477] Или же объектом насмешек служили дискуссии среди афинской интеллигенции, отразившиеся в дальнейшем в платоновском «Государстве»?[478]
Ни одна из приведенных точек зрения не может основываться на имеющихся в нашем распоряжении источниках. Никто из исследователей, придерживавшихся взгляда, согласно которому основная идея аристофановской комедии, «так сказать, навеяна учением Платона, но оно из высокого учения обращено в низменное, так что „Экклесиадзусы” есть как бы травестия „Государства”...»,[479] еще не смог, однако, преодолеть в своих построениях хронологической дистанции, разделяющей оба эти произведения. Предположение о том, что основные идеи «Государства», созданного Платоном скорее всего в 384—377 гг., первоначально обсуждались им в кругу друзей и таким образом могли стать известны Аристофану,[480] вероятно, навсегда обречено оставаться в области чистого умозрения. Стремление хронологически увязать аристофановский «коммунистический проект» с современной поэту философской традицией частично свойственно и гипотезе К. де Фогель, нашедшей энергичную поддержку у Б. Ван дер Вардена.
Сравнивая высокую оценку, даваемую Пифагором в одной из его кротонских речей женской добродетели (в частности, похвалу склонности женщин к общности в пользовании находящимся в их распоряжении имуществом, а также их готовности отказаться от одежд и драгоценностей в пользу нуждающихся— Iambl. V. Р., 55) с близким по смыслу прославлением Праксагорой в афинском народном собрании женской справедливости (Aristoph. Eccl., 441—450), К. де Фогель делает вывод о том, что Аристофан цитировал один из вариантов пифагоровских речей, привезенных в Афины членами пифагорейского союза, оставившими Великую Грецию вследствие угрозы вторжения туда войск сиракузского тирана Дионисия Старшего.[481]
Известно, что образы «пифагорейских женщин» (как, впрочем, и так называемых «пифагористов») в IV в., сделались популярной мишенью для насмешек комедиографов, особенно в Афинах.[482] У нас нет тем не менее никаких оснований считать источником подобных комедийных сюжетов «коммунистический образ жизни» пифагорейских общин, традиция о котором, как уже отмечалось, является весьма сомнительной. Сохранившиеся у Порфирия и Ямвлиха сведения об участии женщин в этих общинах не могут считаться достоверными и формировались скорее всего под влиянием практики раннехристианских сект.[483] Кроме того, «пифагорейские сюжеты» стали входить в моду уже в период так называемой средней и новой комедии, зависимость которых от Аристофана можно предполагать a priori.
С нашей точки зрения, концепция К. де Фогель может быть отнесена к разряду «излишних конъектур» прежде всего потому, что для самого Аристофана, развивавшего традиции древней аттической комедии, мотив передачи власти женщинам в государстве, отличавшемся крайне консервативным подходом к «женскому вопросу», как нельзя более подходил для изображения картины «перевернутых» социальных отношений.
В научной литературе уже давно была замечена та особенность, что в большинстве отрывков доаристофановской комедии модификация мотива «жизни при Кроносе» связана, как правило, только с отсутствием рабского труда, в то время как «основной мотив старого мифа — исполнение свободными рабских обязанностей — отсутствует совершенно».[484]
Аристофан, пойдя гораздо дальше по пути приспособления картины «золотого века» к изменившимся вкусам афинских зрителей, «не остановился перед тем, чтобы, сохранив древний миф о земном рае в том, что касается „перевернутого” положения животных, женщин, детей, простонародья и т. д., в наиболее актуальном вопросе, в вопросе о положении рабов перевернуть самый миф вверх ногами».[485]
В «проекте» Праксагоры город Афины, в котором больше не существует ни политики, ни торговли, ни судебных тяжб, при власти женщин превращается в единый ойкос, где женщины бережливо и мудро ведут общее хозяйство (отдавая всенародно отчет), управляя рабами, возделывающими пашню, и выделывая для мужчин новую одежду (Aristoph. Eccl., 674 sqq.; 600, 651—654). В конечном счете именно мужчины, лишившиеся власти в государстве и освобожденные от всяких хозяйственных забот, в наибольшей степени пользуются всеми преимуществами «коммунистического строя», предаваясь праздности, обжорству, попойкам и свободной любви.
Обсуждению вопросов, связанных с реформой брачных отношений, уделяется в комедии вдвое больше места, чем вопросу общности имуществ.[486] Этот момент, возможно, может служить некоторым доводом в пользу предположения о том, что Аристофан принимал активное участие в дискуссиях о природе любви и характере отношений полов. На это прямо указывают платоновский «Пир»[487] и косвенно слова неизвестного персонажа из недошедшей до нас полностью трагедии Эврипида «Протесилай»: «Женское ложе должно быть общим» (fr. 653 Nauck). Характеризуя данный отрывок, а также другие эврипидовские фрагменты в связи с обсуждением аристофановской комедии, Ф. Солмсен подчеркивает: «Революционные теории о правах и положении женщин носились в воздухе».[488]
Вероятно, не критикуя конкретно ничьих проектов (Аристотель дает нам на этот счет вполне надежную гарантию — Pol., II 4, 1; II, 9, 8), Аристофан внес большой творческий вклад в указанную выше дискуссию, наглядно показав, каким образом в обществе, где будет установлена полная свобода половых отношений, регламентация оказывается неизбежной «по природе». Принося выгоду только одним старикам, она приводит к тому, что «при новом порядке Эрос не прислушивается к мольбам влюбленных. Смерть и дряхлость одерживают триумф над жизнью и расцветом».[489]
Быть может, именно чтение «Женщин в народном собрании» заставило Платона в процессе создания своего первого утопического проекта более глубоко осмысливать эту сторону жизни идеальных стражей и натолкнуло его на мысль об евгенике как альтернативе буффонному финалу аристофановской комедии.
Глава IV. СОЦИАЛЬНАЯ УТОПИЯ В ЭПОХУ КРИЗИСА ПОЛИСА (IV в.)
§ 1. ПЛАТОН
Изучение платоновских утопических идей возможно в конечном счете только в контексте всей платоновской философии. Проявившаяся уже в пифагорейском учении тенденция к слиянию философии и политики получает у Платона всестороннюю разработку и доводится в его системе почти до абсолюта, приобретая при этом ярко выраженный утопический характер. Обращение мыслителя к образу государства, существующего «на небе», трансцендентного по отношению ко всем существующим полисным формам, — первый в истории европейской мысли пример философского бунта против «неразумности» современных ему общественных отношений, наложивший неизгладимый отпечаток на всю дальнейшую историю утопических идей, на тысячелетия определивший характер и методы построения идеальных моделей политического переустройства.
Последнее обстоятельство всегда служило серьезным препятствием для научной интерпретации платоновской утопии, веками обраставшей все новыми и новыми идеологическими наслоениями, субъективистский смысл которых отнюдь не меняется в зависимости от положительных, доходящих до преклонения, или же резко отрицательных ее оценок.
Особую контрастность характеристики творчества афинского философа приобрели в XX в. с появлением многочисленных социологических школ, сторонники которых объявляют научными даже самые тенденциозные толкования, составляющие ныне на Западе весьма опасную конкуренцию конкретно-историческому методу анализа платоновских диалогов. Диапазон таких толкований чрезвычайно широк. Платон предстает в них бесплодным мечтателем, идеологом архаического первобытного способа мышления, реставратором ценностей древней аристократии, революционером и реформатором-коммунистом и, наоборот, реакционером, «тоталитарным партийным политиком» — предтечей идеологии и практики фашизма.[490]
Нельзя упускать, однако, из виду и то, что основой для таких. взаимоисключающих мнений нередко является само необычайное богатство содержащихся в платоновских произведениях идей, оттенков мысли и ассоциаций, постоянно ввергающих ученых в бесконечные сомнения или же, напротив, порождающих иллюзию (правда, быстро развенчиваемую исследованиями оппонентов) о возможности нахождения окончательного решения тек или иных принципиальных вопросов. Как справедливо писал Э. Доддс, «личность Платона настолько сложна, его мысль настолько исключительно многообразна и все же (как мы знаем по его диалогам) настолько незакончена, полна колебаний, повторов, новых переделок, идей, уходящих на время под землю, чтобы вновь появиться позднее в ином обличье, линий аргументации, которые сходятся только с виду и все же никогда не образуют вполне опрятной системы. Вооружитесь прочной парой наглазников и достаточным, но не чрезмерным, количеством учености, и путем соответствующей подборки текстов вы почти всегда сможете доказать, что Платон является таким, каким вы желаете его видеть».[491]
Еще в конце 20-х годов С. Я. Лурье отмечал, что литература о Платоне уже разрослась в целую библиотеку и для добросовестного ее изучения может не хватить целой научной жизни.[492] К концу же 80-х годов число таких исследований возросло настолько, что анализ даже наиболее новых публикаций, вероятна. потребует нескольких отдельных работ. Поэтому все ограничения, установленные в предисловии к данной книге, относятся к Платону в первую очередь. Предлагаемый очерк, по существу, преследует одну только цель — выявить основополагающие аспекты, придающие «платоновской утопии» определенное единство и тем самым подготовить исходные позиции для более обстоятельного исследования «Государства», «Законов" других «утопических диалогов», которое мы надеемся осуществить в недалеком будущем.
Необходимость такого предварительного анализа пока еще остается вполне ощутимой. Ведь до сих пор встречаются довольно распространенные когда-то суждения о некоей «пропасти», разделяющей взгляды молодого и старого Платона. Подобную разграничительную линию проводил, например, в начале нашего века В. Лилла, утверждавший, что если платоновское «Государство» «было смоделировано на основе чистого идеала, трансцендентного по отношению к нуждам действительной жизни... и имеет чисто художественный характер», то, «размышляя над диалогами 12 книг законов, больше нельзя увидеть в Платоне великого и гениального художника, но только ученого законодателя древности», трезво исходившего из «потребностей греческого общества».[493]
Для современной научной литературы более характерной является, однако, иная точка зрения. Так, в труде А. Фестюжьера, посвященном анализу проблемы «созерцательной жизни» в платоновских диалогах, изначально подчеркивалась ошибочность взгляда на Платона периода «Законов» исключительно как на «уставшего старца», окончательно поддавшегося пессимистическим настроениям.[494] В 70-е годы М. Пьерар в книге о «Законах» прямо выражал сомнения в том, что платоновская мысль претерпела в них значительную эволюцию по сравнению с периодом, когда создавалось «Государство». «Верный великим принципам, которым была посвящена вся его (Платона.—В. Г.) жизнь, он в своем последнем диалоге воодушевлялся тем же духом, заставлявшим его в „Горгии” осуждать различные формы политической жизни».[495] Подобную точку зрения отстаивает и Ф. Лизи, подчеркивая в своей диссертации, что разработка концепции совершенного государства свойственна всем ступеням эволюции мировоззрения Платона, объединенным единой «сквозной» темой, а именно поиском универсальной связи между справедливостью и человеческой природой.[496] Такой взгляд можно считать исходным пунктом для оценки всей платоновской политической теории.
Однако следует отметить, что этот взгляд пытался обосновать уже Аристотель, знавший, как справедливо заметил Г. Чернис, «Платона лучше, чем, возможно, знаем его мы, читая его диалоги».[497] Так, исходя во II книге «Политики» из того факта, что в платоновских «Законах» мало что говорится о государственном устройстве, а больше о конкретных деталях законодательства, Стагирит истолковывает это в смысле намерения Платона постепенно приблизить свой последний проект к прежнему идеалу, сделав его, таким образом, более приемлемым (χοινοτεραν) для всех государств (Arist. Pol., 113, 2).[498] Свою мысль Аристотель подкрепляет указанием на единство образа жизни и воспитания в обоих платоновских идеальных проектах — неучастие в производительном труде, учреждение сисситий для мужчин и женщин, небольшая численность гражданского коллектива. Вероятно, отождествление Стагиритом Афинянина — персонажа, от лица которого ведется основное повествование в «Законах», с Сократом также было связано с намерением подчеркнуть единство принципиальных идей данного диалога с идеями, развиваемыми в «Государстве» (Ibid., II 3, 3; II 3, 8; ср.: II 4, 2).[499] Но, возможно, еще более примечательной в этом плане выглядит, как мы увидим далее, неизменная «установка на спор» с принципами «Государства» в VII книге «Политики», где Аристотель выдвигает программу идеального полиса, в большинстве своих конкретных черт напоминающую платоновскую Магнезию.
Так или иначе, удивительная приверженность Платона идеалу основанного на справедливости государства, постоянное обращение мыслителя на всех этапах его жизненного пути к проблеме воспитания совершенных граждан и особенно — к теме идеального правителя все же нуждаются в объяснении. Они могут быть поняты прежде всего в контексте кризисной ситуации, сложившейся в греческом мире вообще, и в Афинах в частности. Далее «для того чтобы понять что-либо в мысли Платона, несомненно, необходимо что-либо знать из спекуляций Других мыслителей, которые ему предшествовали или были его современниками».[500]
Поскольку в предыдущих главах была предпринята попытка показать основные этапы формирования доплатоновской утопической традиции, остановимся теперь кратко на общественно-политической ситуации, определявшей перипетии теоретической и практической деятельности как самого Платона, так и его наиболее знаменитых современников.
Детские годы и юность Платона приходятся на период Пелопоннесской войны, до основания потрясшей афинский демократический строй и вызвавшей ряд государственных переворотов, от последствий которых экономический и культурный центр Эллады уже никогда не смог по настоящему оправиться. Массовое разорение беднейших слоев свободного населения, рост социального неравенства, крайняя ожесточенность борьбы за власть группировок олигархов и демократов (при полной неразборчивости в средствах), с одной стороны, быстро расшатывали традиционную приверженность полисным законам, способствовали росту политической индифферентности, а с другой— поощряли «инициативу отдельных честолюбцев, которые, опираясь на партии, личных друзей и наемников, домогаются единоличной власти, содействуя, таким образом, возрождению тирании».[501]
Два события во многом определили не только отношение Платона к афинской демократии, но и общую направленность политической мысли и деятельности философа. Это установление «тирании тридцати» в. 404 г. и последовавшая вскоре после ее падения казнь его учителя Сократа (399 г.). Отметим, что семья Платона не принадлежала к числу замкнутых аристократических группировок, чуждавшихся какого бы то ни было участия в государственных делах.[502] В своем автобиографическом VII письме, которое подавляющее большинство исследователей считает подлинным и относит к 354/353 гг.,[503] философ совершенно определенно говорит о намерении в молодости, став самостоятельным, тотчас же попробовать свои силы на общественном поприще (Plato Epist., VII, 324b—с). Это стремление как раз совпало с переворотом 404 г., одним из наиболее активных руководителей которого был двоюродный дядя Платона Критий, пытавшийся вместе с другими аристократами, принявшими участие в свержении демократического строя, привлечь еще неопытного юношу на свою сторону (Ibid., VII, 324d). Вероятно, именно пример Сократа, решительно отказавшегося разделить ответственность за политические преступления, творимые «тридцатью тиранами», помог Платону окончательно избавиться от каких-либо иллюзий в отношении способности афинской аристократической элиты упорядочить государство, отвратив его «от несправедливой жизни к справедливому образу действий» (Ibid.). Проводимая Критием и его друзьями политика заставила вскоре мечтать о прежнем режиме, как об утраченном «золотом веке» (Ibid.).
Но и вновь пришедшие к власти демократы привлекли Сократа к суду и казнили его, еще более укрепив у Платона уверенность в том, что «государство... уже не управлялось в соответствии с отеческими обычаями и нравами», а «писаные законы и обычаи стали портиться и ослабевать» (Ibid., VII, 325d). Приведенные строки платоновского письма обнаруживают ясное понимание мыслителем того трагического обстоятельства, что «Сократ, которого не побеспокоили бы в счастливые и безмятежные дни перикловской демократии, пал жертвой слабости и страхов восстановленной демократии в годы, последовавшие за окончанием Пелопоннесской войны».[504]
Постигшие Платона в юности разочарования не заставили его, однако, вообще забыть о политике. Не переставая размышлять над тем, каким образом изменить государственное устройство в условиях, когда положение дел во всех греческих полисах стало «почти неизлечимым», философ возлагает отныне надежду только на «истинную философию», твердо уверовав в то, что «человеческий род не избавится от бед до тех пор, пока государственные должности не займет племя людей, .особенно глубоко и истинно приверженных мудрости или же пока ныне властвующие в государствах не станут действительно стремиться к мудрости по какому-то божественному повелению судьбы» (Ibid., VII, 325e —326b; ср.: Resp., V., 473d).
В этой сформулированной Платоном программе наряду с развитием основных сократовских положений уже намечается и весьма существенный отход от позиции учителя, воздерживавшегося от «практической политики», не стремившегося, как известно, к радикальной трансформации государственного строя и придерживавшегося принципа неукоснительного выполнения установленных афинскими законами гражданских обязанностей (Plato Apol., 31с—d; 36b—с; Resp.. VI, 496).[505] Можно, разумеется, признать справедливым остроумное замечание Л. Штрауса о том, что «все платоновские диалоги являются ,,апологиями” Сократа».[506] Но все же не следует закрывать глаза и на принципиальные различия как в жизненной ориентации, так и в самом характере общественной деятельности учителя и ученика, закономерно породившие такое зловещее для сократовского образа жизни и мыслей «исключение», каким является, например, проект «Законов».[507]
Подобные различия с полным основанием можно отнести и к другому члену сократовского кружка — афинскому аристократу Ксенофонту, принявшему в 401 г. участие в авантюре Кира Младшего, стремившегося добыть себе право на персидский трон (Xen. Anab., III 1, 5—8).[508]
Иная оценка учениками Сократа значения политической практики не может, конечно, служить основанием для вывода об отсутствии у Платона и Ксенофонта намерения воссоздать в своих сочинениях подлинный облик учителя, а также об их стремлении исключительно к разработке литературно-исторической фикции.[509] И платоновские диалоги, и «Воспоминания» Ксенофонта демонстрируют тенденцию развивать многие исходные сократовские политические идеи, предварительно воспроизводя их в той или иной степени приближения к оригиналу.
Разделяя в целом выдвинутый софистами принцип истинного, основанного на разуме, знания, а также установленный ими «культ профессионализма» в политике,[510] Сократ, однако, резко выступал против релятивистской трактовки закона как этически нейтральной категории. Сократовская позиция в этом вопросе отчетливо проявляется в последовательном отстаивании принципа тождества законности и справедливости (Xen. Mem., IV 4, 18). Философское содержание данного принципа заключалось не столько в признании справедливыми существующих в современных полисах установлений, сколько в поиске абсолютного морального критерия, которому должны отвечать как политическая система в целом, так и отдельные ее элементы.
Когда «в "Государстве” Платон представляет нам своего учителя, как человека, посвятившего всю свою жизнь исследованию вопроса о справедливости»,[511] он действительно выделяет основную черту сократовского мировоззрения. Сократ был абсолютно убежден, что «справедливость и всякая другая добродетель есть мудрость. Справедливые поступки и вообще все поступки, основанные на добродетели, прекрасны и хороши» (Ibid., III 9, 5).
Платон полностью воспринял сократовское понимание справедливости, добродетели и знания как абсолютных истин, сопричастных божественной природе мира и высшему божественному разуму, по сравнению с которым человеческий разум является по существу ничем (Ibid., I 1, 19; I 3,4; I 4,8; IV 3, 13).[512] Подобно учителю, он отвергал также софистическое противопоставление природы и закона. «Каждое живое существо имеет собственную природу, — отмечает Т. Синклер, резюмируя сократовское решение данного вопроса, — люди отличаются от любых других существ во многих аспектах, но имеется нечто их объединяющее, то, что делает их людьми, а не собаками или слонами. Человек существует не только κατά φύσιν , как говорили другие, НО κατά τή* έαντού φύσιν —в соответствии СО своей собственной природой... Сократ верил, что поступать справедливо, соответствует природе человека, поскольку тот сознает, что является справедливым. Но ведь если мы имеем законы, человеческие законы, составленные таким образом, чтобы они воплощали το δίκαιον , тогда νόμος больше не будет казаться неестественным ограничителем человеческого поведения, но чем-то определенно соответствующим природе».[513]
Выделяя исключительную роль разума и знания, как единственно способных дать надежный ориентир во всех человеческих делах, и в первую очередь в сфере политики, Сократ был решительным противником, например, Протагора, считавшего любого рядового афинянина способным правильно судить о государственных делах в силу своей причастности «к справедливости и прочим гражданским добродетелям» (Plato Prot., 322d; ср.: 319d, 330b sqq.).[514] Величайшее, или «царское», искусство государственного управления Сократ считал доступным лишь немногим, обладающим истинным знанием, сравнивая таких людей с пастухами, заботливо пекущимися о своем стаде (Xen. Mem., IV 2, 11; I 2,32; III 2). «Мудрым пастырям» противопоставляются афинские правители, некомпетентность которых сравнима лишь с глупостью народного собрания, состоящего из башмачников, валяльщиков, кузнецов, матросов, купцов, рыночных торговцев и т. п. людей (Ibid., III 7, 5—6; III 5, 21; 12, 9; Plato Crito, 48а).
Такая сугубо элитарная позиция имела ярко выраженную антидемократическую направленность, что давало афинским политиканам типа Анита и Ликона вполне удобный и обоснованный предлог возложить на престарелого философа моральную ответственность за деяния, совершенные Алкивиадом и Критием.[515] И действительно, в сократовском учении, словно в едином потоке, слились идеи, занимавшие воображение молодых отпрысков знатных афинских родов. Им, например, безусловно, импонировала позиция интеллектуального аристократизма, открывавшая полный простор критике любой «порочной» формы правления, сочетавшаяся у Сократа с идеализацией «установлений предков» и тесно связанной с ней высокой оценкой, спартанских институтов и системы воспитания (Xen. Mem., ΠΙ 5, 13—14; Plato Crito, 52е). Простой, почти «кинический» образ жизни, который вел философ, его пренебрежение земными благами и материальным благополучием стали примером практического воплощения идеала философского образа жизни, противопоставляемого стремлению к наживе, свойственному как основной массе демоса, так и платным учителям мудрости— софистам (Xen. Mem., 17, 2; Plato Apol., 29d — 30с; 31b—с; 36b; Soph., 223a —226; Resp., I, 338b; IX, 591d —592a).
Exemplum Socratis оказал немалое влияние на образ фило-софа-царя в «Государстве». По весьма точному определению К. фон Фрица, Платон «верил, что возможно создать государство с устройством, при котором такие люди, как Сократ, не только бы не подвергались опасности быть судимыми, но сами действовали бы как правители государства».[516] Сократовская трактовка образа «пастыря и стада» не случайно стала одним из отправных пунктов для развития сюжета платоновского «Государства» и «Киропедии» Ксенофонта (Plato Resp., I, 342с — 344с; 345b—е; Xen. Cyr., I 1,2).
Вместе с тем, как уже отмечалось, одним влиянием Сократа невозможно объяснить все перипетии жизненного пути Платона и повороты его политической теории. Замысел «Государства», возникнув, очевидно, уже в 90-е годы IV в., разрабатывался лишь после создания Академии (начало 80-х годов) под большим влиянием практического опыта, приобретенного и самим ее главой в период первого путешествия на Сицилию (а, возможно, и в Египет — DL., III, 6), и ее многочисленными учениками, развернувшими активную деятельность далеко за пределами Афин.[517]
О том, что Академия была школой для государственных деятелей и приобрела заслуженную политическую репутацию, свидетельствуют упоминания в античной литературе о законодательной деятельности ее членов в различных областях Греции, например Аристонима в Аркадии, Менедема в Пирре, Формиона в Элиде (Plut. Adv. Col., 32). Ученики Платона играли видную роль и в афинской политической жизни (Хабрий, Фокион, Ликург и, может быть, Демосфен).[518] Самому Платону неоднократно предлагали принять участие в основании различных колоний в качестве законодателя (Ael. V. H., II, 42; XII, 30; DL., III, 23; Plato Epist., XI, 358d — 359c).
До нас дошли также свидетельства о послании, направленном философом уже в преклонном возрасте правителю Атарнея Гермию с целью побудить тирана воспользоваться советами его учеников Эраста и Кориска.[519] Однако наибольший интерес как у античных авторов, так и у современных исследователей вызывали неоднократные попытки Платона оказать воздействие на политику сиракузских тиранов — Диоиисгт Старшего и его сына Дионисия Младшего, поскольку именно с Сицилией оказались связанными наиболее прочные и долговременные надежды мыслителя на воплощение планов создания совершенного полиса. Так, Сиракузы Платон посетил трижды — в 389—387, 366 и 361—360 гг. Известно, что практические результаты «экспериментов» с сицилийскими правителями оказались ничтожными. Тем не менее именно под их влиянием создавались основные философско-политические диалоги Платона, помимо «Государства», — «Тимей», «Критий», «Политик» и, наконец, «Законы».
Ни в одном из указанных диалогов тирания не характеризуется в положительном смысле. Наоборот, как форма правления она называется «как нельзя более рабской», «крайним заболеванием государства», т. е. представлена как полная противоположность идеальному полису (Plato Resp., IX, 577с; VIII, 544с—d), а «тиранический человек»—как образец безрассудства и жестокости, самим своим существованием отрицающий понятие «справедливость» (Ibid., VIII, 544а—d; 565—569e; IX, 572d — 576b; 579с —580а; ср.: Legg., И, 661e —662а; IX, 859а).[520] «Избегая закона и разума» и предаваясь «рабским удовольствиям», тиран, согласно платоновским подсчетам, живет в 729 раз тягостнее царя (Resp., IX, 587b—588а).
Каким же образом совместить столь откровенное неприятие тиранического режима с поездками на Сицилию к Дионисиям? В известном смысле ключом к ответу на данный вопрос может служить рассуждение в IV книге «Законов» о наиболее эффективных путях реализации идеального проекта. Это рассуждение является особенно ценным, поскольку было написано Платоном в период, когда, подводя итоги своей политической карьеры и лично не желая принимать больше участие в государственных делах (Legg., IV, 712а), он мог вполне безоговорочно выразить свое жизненное кредо.
Размышляя о том, какой государственный строй является наиболее подходящим для последующего его преобразования, Афинянин говорит: «Дайте мне государство с тираническим строем. Пусть тиран будет молод, памятлив, способен к учению, мужествен и от природы великодушен» (Ibid., 709е—710а). Если вдобавок тиран окажется и рассудителен, государство скорее всего получит «такое устройство, при котором оно станет самым счастливым» (710b).
Об откровенно практической направленности мысли Платона свидетельствуют и дальнейшие слова Афинянина. Так, в ответ на восклицание удивленного до крайности собеседника — Клиния: «Оказывается, ты утверждаешь, что наилучшее государство может возникнуть из тирании...», он прямо заявляет: «На первое место я ставлю возникновение государства из тирании, на второе —из царской власти, на третье — из какого-либо вида демократии, на четвертое — из олигархии. В самом деле, из нее труднее всего возникнуть совершенному государству, ибо при ней больше всего властителей... А поскольку, чем меньшее число лиц стоит у власти, тем она крепче, как, например, при тирании, то именно в этом случае всего быстрее и легче совершается переход ... Если тиран захочет изменить нравы государства, ему не потребуется особых усилий и слишком долгого времени. Хочет ли он приучить своих граждан к добродетельным обычаям или, наоборот, к порочным, ему стоит только самому вступить на избранный им путь. Собственное его поведение будет служить предписанием, так как одни поступки будут вызывать с его стороны похвалу и почет, другие — порицание; ослушника же он будет покрывать бесчестием за всякий его поступок» (Ibid., IV, 71 Od — 711c, пер. A. H. Егунова; ср.: Resp., VI, 502a—b).
Является ли данное заключение пессимистическим итогом, вызванным окончательным разочарованием в человеческой природе, или же, наоборот, речь идет об оптимистической надежде «повернуть колесо фортуны», сказать трудно, поскольку невозможно точно установить, в какой период своей жизни Платон пришел к такому убеждению. В представленной в VIII книге «Государства» схеме деградации государственных форм от идеальной к тимократии (Спарта и Крит), олигархии, демократии и, наконец, тирании философ ни единым словом не обмолвился о намерении «замкнуть круг» и вновь начать движение по восходящей линии, например, от тирании к монархии. В VIII письме Платон, обращаясь к родственникам и друзьям Диона (родственника и одного из влиятельнейших соратников Дионисия Старшего, с которым философа связывала многолетняя дружба, продолжавшаяся вплоть до трагической гибели Диона в 354 г.), называет рекомендацию переменить тиранию на царскую власть и всячески избегать даже самого имени тирана и тиранического образа действий «своим давнишним советом» (πχλαιάν έυ,ήν ξομβουλήν —Plato Epist., VIII, 354a—b). He известно, однако, какое именно «давнее время» имеется здесь в виду.
В «Политике» «царское искусство» представлено в явно идеализированном виде и рассматривается как отличное от всех видов человеческой деятельности искусство государственного управления, сравнимое только с искусством врача и кормчего (289с — d, 293а — Ь). Но в «Государстве» мы имеем несколько иную картину: монархия как форма правления не включается в круговорот государственных устройств, однако она постоянно оттеняет идеал совершенной аристократии. Противопоставляя этому идеалу четыре «извращенных» вида государственного устройства, Платон рассматривает монархию в качестве специфической разновидности аристократического строя, возникающую тогда, когда среди правителей выделяется какой-нибудь один, обладающий исключительными достоинствами, которому остальные вручают бразды правления. Подобно тому, как идеальное государство составляет «квинтэссенцию» эллинского духа, «царственный человек» является квинтэссенцией аристократизма (Plato Resp., IV, 445d — е; V, 470e — 471e; IX, 580b, 587b — e; ср.: VIII, 544d; Legg., III, 681c —d; Arist. Pol., IV 5, 10; III 10, 7). Можно в целом считать, что собственно монархический элемент приобретает вполне самостоятельный статус в платоновском творчестве только в 60—50-е годы, т. е. начиная с «Политика».
И все же выдвижение в «Законах» тирана на первое места перед фигурой царя показывает, что речь в данном случае идет не о ставшей традиционной в политической публицистике IV в. концепции «идеального монарха». Разработке этой темы уделяли большое внимание наиболее выдающиеся теоретики консервативного направления. Так, например, в 50-е годы, когда создавались «Законы», уже были написаны речи Исократа, обращенные к кипрским правителям Эвагору и Никоклу, а также появились такие сочинения Ксенофонта, как «Агесилай», «Гиерон» и «Киропедия».
До нас дошли лишь слабые отголоски литературной полемики (усиленные позднеантичной традицией) по вопросу о том, какая «модель» идеального правителя является наилучшей. Начало этой полемики, вероятно, было положено в «Бусирисе» Исократа (между 388 и 385 гг.). Образ египетского государственного устройства, обрисованный в этой речи, действительно имеет немало удивительных совпадений с проектом платоновского «Государства». Сходство касается прежде всего принципиальных черт, а именно: трехчастной иерархической социальной структуры, аргументов в пользу разделения труда, регулирования жизни воинов и воспитания будущих правителей, а также замечаний об искусстве (Isocr., XI, 15—23, 38—40; ср.: Plato Resp., II, 372с—III, 392с).
Согласно Исократу, легендарный царь и законодатель Бусирис, создавая египетское государство (образец, которому якобы подражал Пифагор), вдохновлялся, как и платоновские «совершенные стражи», философскими принципами, основанными на знании «природы вещей» (XI, 22; см. также: 24—28, 35).
Учитывая диаметрально противоположную трактовку Исократом и Платоном самого понятия «философия», а также принципиальные расхождения по вопросу о роли и природе законодательной деятельности (см., напр.: Isocr., XV, 184, 270—271; 79—83), можно было бы предположить, что одной из целей «Бусириса» было стремление развенчать Платона как оригинального мыслителя, изобразить его простым имитатором египетского устройства, примыкающим к пифагорейцам. Трудность, однако, состоит не только в завуалированности традиции о соперничестве Академии со школой Исократа.[521] Сами по себе опорные пункты, дающие возможность постулировать существование так называемого «Протогосударства», по традиции созданного Платоном во второй половине 90-х годов IV в., являются все же довольно шаткими.[522]
По свидетельству Авла Геллия (род. около 130г. н. э.), Ксенофонт, прочитав обнародованные раньше других две книги «Государства» (lectis ex ео <opere> duobus fere libris, qui primi in vulgus exierant), сочинил «Киропедию», стремясь противопоставить собственную концепцию воспитания идеального правителя платоновским философам-стражам. Это, в свою очередь, вызвало ответную реакцию Платона, отозвавшегося, как известно, о воспитании и политических способностях Кира Старшего сугубо отрицательно (Aul. Gell. N.A., XIV, 3; ср.: Plato Legg., III, 694b—с).[523]
Нельзя, однако, утверждать достаточно определенно, о каких именно двух книгах здесь идет речь и в какой период Ксенофонт (сочинявший «Киропедию» на рубеже 60—50-х годов [524]) ознакомился с ними. Наряду с указаниями на принципиальные разногласия Платона и Ксенофонта в политико-теоретической области, имеется довольно много свидетельств о совпадении их взглядов. Например, «можно уловить много общего в обрисовке обычной тирании, в характеристике поведения и судьбы тиранов у Платона в его ,,Государстве” и у Ксенофонта в первой части „Гиерона”. Скорее всего это объясняется общими идеологическими основаниями — аристократизмом писателей, взглядами, усвоенными ими от общего учителя — Сократа».[525]
Вероятно, не случайно в позднеантичный период возникла традиция о поездке Ксенофонта в Сиракузы (Ath., X, 427 sqq.), породившая в наши дни маловероятные, впрочем, гипотезы, о том, будто «Гиерон» предназначался Диону и даже Дионисию Младшему.[526]
При всех возможных разногласиях следует сразу подчеркнуть общее концептуальное единство подхода политических теоретиков второй половины IV в. к разработке темы совершенного монарха. И Платон, и Ксенофонт, и Исократ, и, наконец, Антисфен, также сочинивший несколько книг о Кире (DL., VI, 16— 18; Ath., V, 220с[527]), так или иначе в своих произведениях направляли усилия созданных их воображением идеальных правителей на спасение и реорганизацию находящейся в состоянии кризиса полисной общины, переходя в дальнейшем от слов к делу, т. е. стремились заинтересовать своими планами правителей реальных. Наибольшее «разнообразие» в этом отношении было проявлено Исократом, в разное время обращавшимся к Эвагору и его сыну Никоклу, а также к Ясону Ферскому, к Дионисию Старшему, а в последний период его жизни — и к Филиппу Македонскому.[528]
Для реставраторских программ указанного периода чрезвычайно характерным является соединение (нередко в рамках одного и того же произведения) концепции совершенного правителя с идеализацией «конституции предков», особенно древних Афин, Спарты, с одной стороны, и с популярной доктриной панэллинизма — с другой. Такое сочетание «исторической мифологии» со стремлением заглянуть в будущее и увидеть племя эллинов вновь возродившимся под эгидой могущественного воителя отчетливо проступает в «Киропедии», во многом предвосхитившей политическую практику эллинистической эпохи и ставшей предшественницей утопических романов нового времени.[529]
Прославляя на рубеже 70—60-х годов IV в. монархию, Исократ выделяет в ней то же качество, которое в середине 50-х годов в «Ареопагитике» он будет приписывать «отеческому управлению» (διοίκησις ατρία) в древних Афинах, а именно: заботу о неукоснительном соблюдении пропорционального, или «геометрического», равенства, предоставляющего привилегии и почет в соответствии с достоинством и не дающего равных прав «порядочным» и «дурным» гражданам (Isocr., III, 14—15; см. также: 16—26; VII, 21 sqq., 58).
Речь, таким образом, идет не столько о форме правления, сколько о стремлении афинского ритора внушить своим современникам мысль о том, что осуществленный в далеком прошлом аристократический идеал может быть вновь возрожден только при поддержке «сильной личности», вокруг которой объединятся греческие государства, вдохновляемые программой сохранения традиционных полисных ценностей.[530]
«Геометрическое равенство» лежит и в основе обоих платоновских проектов (Plato Resp., VIII, 558с; Legg., VI, 757с), и ксенофонтовской «Киропедии» (см., напр.: VII 5, 36). Но, будучи существеннейшей стороной политической программы аристократической элиты, составляя основу ее мироощущения, данный принцип вполне мог в зависимости от субъективных пристрастий того или иного идеолога развиваться как в утопическом, так и в «прагматическом» направлениях. В силу обстоятельств жизненного опыта, а также в немалой степени и внутренних психологических побуждений «утопический элемент» в «Государстве» и «Законах» получает абсолютное господство. Философы-цари в первом проекте и законодатели в Эвномополисе плохо вписываются в модель идеального монарха, созданную Ксенофонтом и Исократом. Если в «Киропедии» отец Кира — Камбис рекомендует сыну дать на Спартанский манер клятву родной общине оберегать законы персов (VIII 5, 22—27), а Филипп, с точки зрения Исократа, должен быть удовлетворен славой благодетеля эллинов, управляя ими «как царь, а не как тиран» (V, 154),[531] Платона, как уже отмечалось, в идеальном плане могла удовлетворить только неограниченная возможность распоряжаться жизнями и судьбами людей, находящаяся в руках именно тирана.
Такая своеобразная абстрактно-философская трактовка тиранической власти, неотделимая от «позиции идеального законодателя», с которым Платон себя, конечно, отождествлял, не противопоставлялась, однако, принципам полисной организации и не заставляла его отворачиваться от актуальных дискуссий о будущем греческих полисов. В «Государстве» можно найти места, явно свидетельствующие о пристальном внимании мыслителя к панэллинским идеям (см., напр.: Resp., V, 470b — с), но «панэллинизм» Платона был всегда направлен лишь в сторону греческого Запада. Программа завоевательного похода на Восток, выдвинутая Исократом еще в 380 г. в «Панегирике» и окончательно сформулированная в его «Филиппе» (середина 40-х годов), не нашла отражения в платоновских диалогах. Не вызывает, однако, никаких сомнений, что проблема колонизации «варварских краев» была предметом постоянного внимания Платона и, безусловно, связывалась им с надеждой на осуществление собственных планов общественного переустройства (Resp., VI, 499с—d). Возможно, первое путешествие на Сицилию и появление при дворе Дионисия Старшего было вызвано полученными Платоном известиями об активной колонизационной деятельности сиракузского тирана на самом острове и в районе Адриатики.[532] Но еще прежде, чем отправиться в путь, философ пришел к тому выводу, «что возникновение наилучшего государства произойдет лишь тогда, когда явится истинный по природе законодатель и когда мощь его будет действовать сообща с самыми сильными в государстве лицами» (Legg., IV, 710е; см. также: 711с—d; 71le—712а).
Однако первая попытка оказать влияние на могущественного правителя острова оказалась безуспешной. Об этом говорят сохранившиеся свидетельства о враждебном отношении тирана к Платону и о ссоре, происшедшей между ними (DL., III, 18—19). Во время второго приезда в Сиракузы в 366 г. к новому властителю Сицилии Дионисию Младшему философ просил выделить ему землю и людей для воплощения в жизнь принципов идеального государства (Plato Epist., III, 217; ср.: VII, 328с). Кроме того, Платон предложил план восстановления опустевших сицилийских полисов на основе таких законов и государственного строя, чтобы в дальнейшем они могли оказывать и самому Дионисию, и друг другу помощь против варваров-карфагенян (Ibid., VII, 332е—333а; III, 315d, 319а—b).[533] Свой план философ противопоставлял деятельности Дионисия Старшего, который, «собрав Сицилию в один город и никому не доверяя из-за своей хитрости, едва спасся» (Ibid., VII, 332с).
Таким образом, платоновская политическая программа для всей Сицилии представляется довольно умеренной. Она не выходила за пределы воссоздания и преумножения «старой державы» (τήν τατρώαν αρχήν — Ibid., VII, 332e—333a) путем укрепления ее фундамента, т. е. достижения «единомыслия» входящих в нее полисов.
Но всем этим планам не суждено было сбыться вследствие противодействия партии сторонников укрепления тирании во главе с Филистом, убедившей Дионисия отправить Диона в изгнание, что в итоге сделало пребывание Платона в Сиракузах невозможным, поскольку он лишился опоры в лице главного своего сподвижника.[534]
Все прежние разочарования и потрясения со времени казни Сократа, накладываясь на неудачи в практической реализации политических планов, так или иначе компенсировались в области «чистой теории». Сами методы создания идеального полиса, планируемые царями-философами в «Государстве» (их может быть несколько или всего лишь один — VII, 540d), заставляют признать вполне правомерным вывод М. Миллера о том, что «его (Платона. — В. Г.) справедливый правитель имеет вид деспота в старом смысле, правителя, который, будучи высшим по природе, стоит над сообществом и имеет абсолютную власть».[535] Этого требуют сами исходные принципы философского правления, противопоставляемые методам господства, существующим в современных Платону государствах. Уподобляя «порочное» государство кораблю, лишенному «благородного капитана» ( γενναοίς ναύκληρος) или «истинного кормчего» (αληθινός κυβερνήτης) и оказавшегося во власти разнузданной толпы (Plato Resp., VI, 488с—d), философ объявляет неестественным обращение такого кормчего к морякам за помощью, равно как и знающего правителя к тем, кто нуждается в управлении (Ibid., VI, 489b—с). Для того чтобы государство обрело здоровье, необходимо поручить управление людям подлинно компетентным, склонным к философии, обладающим такой же свободой в переустройстве общественных дел, какой обладает, например, художник, рисующий на доске, или скульптор, лепящий фигуры из воска (Ibid., VI, 500e; IX, 588d—е).
Такие истинные правители, «взяв ... словно доску, государство и нравы людей, сначала сделали бы ее чистой», а затем, смешивая и сочетая различные навыки, они создали бы «богоподобный образ человека» (Ibid., VI, 501b). Для осуществления этого замысла в качестве наиболее подходящей Платон выдвигает следующую меру: философы вышлют из города в деревенскую местность (εις τους αγρούς) всех, кто старше десяти лет, а остальных будут воспитывать в соответствии с собственными законами и нравами (Ibid., VII, 541а; ср.: Legg., V, 735с—736с).
Можно лишь отчасти согласиться с распространенным в научной литературе мнением, согласно которому Платон закладывал фундамент новой аристократии внутри старого общества, «бессознательно или умышленно закрывая глаза на утопичность таких надежд и не желая считаться с возможностью сопротивления старого общества».[536] В «Государстве», действительно, несколько раз выражается уверенность в том, что новые методы управления окажутся для лишенного мудрости большинства вполне привлекательными и сами по себе (Resp., VI, 500e, 501е, 502b). Впрочем, не надеясь на силу рациональных аргументов, Платон склонен скорее полагаться на завораживающее воздействие мифов (Ibid., III, 414—415d).[537] Но есть гораздо больше мест, свидетельствующих о глубоком сомнении мыслителя в самой возможности убедить своих современников в правильности новых философских идей (см., напр.: Ibid., V, 450с—d etc.).
Очевидно, именно по этой причине будущие правители размещаются в военном лагере, раскинутом в самом городе, для того чтобы не только отражать нападение внешних врагов, но и держать в повиновении тех, «кто не пожелает подчиняться законам» (Ibid., III, 415d—е).[538] Такое «архитектурное» оформление идеального государства невольно ассоциируется с «предохранительными мерами» Дионисия Старшего, который, изгнав жителей с острова Ортигии, поселился там, окруженный наемниками и мощными оборонительными сооружениями, в воздвигнутой им крепости, грозно нависшей над Сиракузами, подобно рыцарскому замку.[539]
Забегая несколько вперед, следует отметить, что даже укрепленный лагерь, согласно Платону, не может служить достаточной защитой от изначальной порочности человеческой природы. Относительную гарантию дает только крайне суровая система воспитания подрастающего поколения «стражей». О жесткости ее принципов говорит, например, установленный для молодых людей запрет предаваться отвлеченным рассуждениям и диалектическим спорам вплоть до 30 лет (Ibid., VII, 537—539d). Весьма характерно, что античная традиция приписывала такого рода запреты именно тиранам (см., напр.: Xen. Mem., I 31—38).[540]
Вместе с тем следует еще раз подчеркнуть, что в чисто субъективном плане подобные меры возникали, конечно, не из стремления к подражанию реальной практике тиранических режимов,[541] но прежде всего вследствие осознания полнейшей несовместимости любого из существующих государств с концепцией, всецело ориентированной Платоном на разработанное им учение об идеях. Отрицание ценностей «мира бывания» во имя «истинного бытия» нашло отражение в иерархической жесткости проекта «Государства», в основе которого лежит убеждение в том, что только ничем не ограниченная воля законодателя поможет воплотить на земле идею справедливости вопреки человеческим порокам и заблуждениям, воплощенным в реально существующих государственных формах.
В этом плане могут вызвать только недоумение попытки объявить Платона идеологом афинской наследственной аристократии, а его концепцию власти — возвращением «к принципам старых гомеровских правителей и к эре, когда землевладельческая аристократия была, бесспорно, господствующим классом».[542] Ведь ни один из элементов первого платоновского проекта не дает никаких оснований для подобного вывода. Платоновский интеллектуальный и политический аристократизм сродни сократовскому: с его высот мировоззрение и взгляды на государство олигархов выглядят настолько же неразумными и эгоистичными, насколько и политика, проводимая радикальными или умеренными демократами.[543]
Исходным пунктом для построения идеального полиса становится у Платона не вопрос о преимуществе той или иной формы правления, но рассуждения о природе справедливости.
Вследствие этого «Государство» — «не только и даже, быть может, не столько социально-политический трактат, сколько трактат, излагающий теорию воспитания и теорию политической этики».[544]
Анализ осуществляется, с одной стороны, в форме критики отождествления Фрасимахом справедливости с «чужим благом, устраивающим сильнейшего» (Resp., I, 343с),[545] а с другой— чисто логическим путем, в ходе индуктивного поиска наиболее общей ее формулы, вмещающей в себя все грани человеческих мыслей и поступков. Приняв в качестве наилучшего определение справедливости как вида блага, которое прекрасно и само по себе, и по своим последствиям (Ibid., II, 357е — 358а), Сократ в диалоге предлагает перевести обсуждение нравственных вопросов из индивидуальной сферы в сферу государственной этики на том основании, что в полисе «справедливость принимает большие размеры, и ее легче там изучать» (Ibid., II, 368е; ср.: VIII, 544d—е).
В дальнейшем на протяжении всего диалога проведение интеллектуального эксперимента по сооружению здания идеального полиса основывается на выводах, рассматриваемых одновременно и в качестве исходных принципов: «В государстве и в душе каждого отдельного человека имеются одни и те же начала, и число их одинаково... ; оба они одинаково обладают и всем прочим, что имеет отношение к добродетели ... и справедливым ... отдельный человек бывает таким же образом, каким осуществляется справедливость в государстве» (Ibid., IV, 441с—d, пер. А. Н. Егунова).
В свое время Ж. Люччони, обратив внимание на безоговорочное принятие собеседниками Сократа его предложения, сделал следующее заключение: «У читателя, таким образом, существовало убеждение в общепринятости сравнения индивида и общества, а также перехода от одного к другому, поскольку обычно считалось, что моральная проблема была одновременно и проблемой политики».[546] Сомневаться в правомерности данного вывода не приходится, учитывая множество аналогичных рассуждений, встречающихся у других античных авторов и свидетельствующих о тождестве этики и политики в мировоззрении полисных греков. Например, определение Аристотелем человека как «существа по природе политического» дополняется не менее классической формулой, раскрывающей до конца его сущность: «Справедливость — понятие политическое: ведь право, определяя порядок политического сообщества, является мерилом справедливого» (Arist. Pol., I 1, 9; I 1, 12).
У Платона с тремя основными началами государства — деловым (χρηματιστικόν), защитным (έπικουρικόν) и совещательным (βουλευτικόν), соответствующими «третьему сословию» (т. е. гражданам, занимающимся земледелием, ремеслами и торговлей), а также воинам-стражам и философам-правителям, сопоставляются три элемента, или начала, человеческой души — вожделеющее (έπιθυμικόν), яростное (или пылкое, страстное, смелое) — (θυμοειδές) и разумное (λογιατικόν) (Plato Resp., IV, 440e—441a). Как в душе, так и в государстве справедливость возникает только в том случае, если каждое из этих начал действует в соответствии с определенной ею природой функцией, неизменно пребывая в состоянии иерархического соподчинения, которое отражает порядок, всеобщие законы равновесия и гармонии, царящие во Вселенной (Ibid., IV, 433а, 441 d—е; ср.: Gorg., 507е—508с).
Платон считает величайшей несправедливостью, преступлением, грозящим гибелью государству, любую попытку вмешательства одного сословия в дела другого или же самовольные межсословные переходы (Resp., IV, 434b—с). Соответственно несправедливость в душе проявляется «в каком-то раздоре указанных трех начал, в беспокойстве, во вмешательстве в чужие дела, в восстании какой-то части души против всей души в целом с целью господствовать в ней неподобающим образом, между тем как по своей природе несправедливость такова, что ей подобает быть в рабстве у господствующего начала» (Ibid., IV, 444b, пер. А. Н. Егунова).
Таким образом, наиболее общее определение справедливости, принятое Сократом в начале диалога, получает новую, весьма специфическую конкретизацию, до сих пор вызывающую многочисленные споры в научной литературе. Дискуссия обычно развертывается вокруг одного, наиболее важного пункта: является ли такая конкретизация итогом «психологических изысканий» Платона, или же она ведет свое происхождение из сферы политической теории?
В 1913 г. М. Поленц выдвинул предположение о заимствовании сословной структуры в платоновском идеальном государстве из утопии Гипподама.[547] Годом раньше Ф. Корнфорд пришел к выводу, согласно которому в основе трех из четырех добродетелей, необходимых, как считал Платон, для идеального государства, — мудрости (σοφία), мужества (ανδρεία) и благоразумия (σωφροσύνη), лежит деление на три «возрастных класса»— старцев, мужей и юношей, существовавшее у греков в примитивную эпоху и сохранившееся в традиционалистских полисах типа Спарты.[548]
Если тезис Поленца был основан на вполне логичном заключении об отсутствии концепции троичного деления души в предшествующих Платону философских учениях, то Корнфорд, квалифицируя это деление как «произвольное», считал его своеобразным «идеологическим камуфляжем», за которым скрываются «архаические структуры» платоновской мысли.
В споре с Корнфордом бельгийский исследователь Р. Жоли, резонно подчеркнув устойчивый интерес Платона к трехчастному делению души во всех поздних диалогах (например, в «Тимее», «Политике», «Законах»), приписывал разработанную в. «Государстве» конструкцию пифагорейским влияниям.[549] Еще раньше Э. Баркер высказал догадку о заимствовании Платоном идеи «трехструктурной души» у пифагорейцев, пытаясь показать, что философ впал в petitio principii, т. е. осуществлял построение идеального государства по аналогии с человеком, заранее предполагая знание последнего.[550]
Соотношение индивида (вернее, его души) и государства у Платона с тех пор стало предметом для многочисленных скрупулезных исследований, которые, однако, не внесли полной ясности в этот вопрос в силу его изначальной запутанности у самого автора.[551] Следует отметить, что мнение Ф. Корнфорда не нашло почти никакого сочувствия в науке. В самом деле, платоновская концепция «четырех добродетелей» в идеальном полисе обладает слишком высоким «метафизическим статусом», чтобы можно было заподозрить в ней какие-либо архаизаторские тенденции. Например, σωφροσύνη, имеющая универсальное значение и именуемая то «гармонией» и «неким порядком», то «единомыслием», создающим «природное созвучие худшего и лучшего в вопросе о том, какой из частей надлежит властвовать и в государстве, и в каждом отдельном человеке» (Plato Resp., IV, 430e, 432а—b; ср.: Legg., IV, 710а—b), никак не может отождествляться с юношеским возрастом.[552]
Гораздо сложнее обстоит дело с самой проблемой трехчастности души. От нее невозможно просто отмахнуться, объявив конструкцию Платона «произвольной» или «неуклюжей».[553] Развивая тезис о влиянии на Платона пифагорейских представлений о душе, Р. Жоли ссылается на фрагмент Филолая, где душа разделяется на разумную и неразумную части (44 В12). Далее следует такой вывод: «Достаточно подразделить άλογον, чтобы получить платоновскую трехчастность».[554] Данное заклю-1ение является слишком легковесным, чтобы сам автор принимал его всерьез. Достоверность фрагмента отнюдь не бесспорна. В конечном счете Р. Жоли все же пришлось признать, что все свидетельства о влиянии на Платона пифагорейских психологических спекуляций имеют позднее происхождение и полностью полагаться на них нельзя.[555]
Вместе с тем, в отличие от случая с Гипподамом, в нашем распоряжении есть довольно надежные свидетельства о связях, поддерживаемых Платоном с последователями учения Пифагора. Особенно важную роль в жизни философа сыграла его дружба с Архитом, личность которого, безусловно, оказала члияние на формирование платоновского идеала философа-правителя. В частности, Архит познакомил Платона с Дионисием Младшим, а во время последнего сицилийского путешествия именно вмешательство правителя Тарента помогло философу избежать смертельной опасности (Plut. Dion, 18—20; ср.: 13).
Математические исследования пифагорейцев наложили отпечаток как на разработку теории идей, так и на космологические представления Платона. Версия мифа о загробном воздаянии, с огромной художественной силой разработанная в-X книге «Государства», и, конечно, соприкасающаяся с орфико-пифагорейской эсхатологией, не содержит, однако, никаких указаний о непосредственном воздействии на Платона политической концепции основателя кротонского союза. Выше уже отмечалось, что в «Государстве» «пифагорейский образ жизни» весьма недвусмысленно противопоставляется законодательной деятельности вообще (Plato Resp., X, 600а—b). Можно поэтому с большей долей уверенности полагать, что аналогия между государством и душой является продуктом оригинального платоновского творчества (проект Гипподама, правда, мог сыграть роль «первотолчка») (ср. также: Isocr., VII, 14; XII, 138). В большинстве мест, где эта аналогия проводится наиболее рельефно, примат государственного начала над индивидуумом выглядит бесспорным, что вполне укладывается в рамки обычных полисных представлений (см., напр.: Plato Resp., IV, 445с—d; IX, 580d).
По справедливому замечанию К. Гилла, «Платон наряду с большинством античных теоретиков проявляет сравнительно небольшой интерес к концепции психологической индивидуальности. Его программа в „Государстве”, хотя и признает факт естественных различий между людьми в способностях и темпераменте, никак не заинтересована в стимулировании развития личной индивидуальности ни в качестве побочного программного продукта, ни в качестве цели в себе».[556] Исследования Л. Хена и Н. Деньера особенно наглядно показывают как вторичность платоновской аналогии по отношению к концепции божественного происхождения души, развернутой в X книге «Государства» и в других диалогах (Ibid., X, 611b—612; ср.: Phaed., 66b sqq.; Phaedr., 245c sqq.; Tim., 30d, 31a—b, 35a; Legg., X, 896), так и ее чрезвычайно полифункциональный характер.[557]
В известном смысле можно считать, что в теории Платона душа в своем чистом, божественном, первозданном виде, будучи бессмертной, «простой» т. е. неделимой и самотождественной, представляет собой некий аналог того идеального государства, которое находится «на небе» (Resp., IX, 592b). Соединившись с телом, она становится, так сказать, «ндивидуальным фактором» круговорота порочных форм правления, проявляя себя в виде «тимократической», олигархической и т. д.
Поэтому аналогия государства и индивида необходима Платону прежде всего для того, чтобы, твердо установив природную субординацию элементов внутри каждого из них в реальной жизни, разработать в дальнейшем такую систему воспитания правителей, при помощи которой можно было бы обеспечить стабильность государственного целого. В таком случае, получив «первоначальный воспитательный толчок», государство будет пребывать впредь неизменным, двигаясь, наподобие колеса (Ibid., IV, 424—427). Анализ души позволяет, следовательно, высветить персональный аспект этой задачи.
Итак, строгая специализация сословий (именно в этом проявляется четвертая добродетель — справедливость) и воспитание стражей — вот два краеугольных камня, на которых Платон воздвигает здание совершенного полиса.[558] В споре с Глав-коном — сторонником софистической теории происхождения государства на основе общественного договора (Ibid., II, 358е — 362с) философ придает своей трехчленной схеме псевдоисторический характер и прослеживает основной путь возникновения государства от «первого» к идеальному, используя на этот раз аналогию с разделением производительного труда.[559]
О том, что платоновская концепция происхождения государства в основе своей неисторична, свидетельствует, во-первых, ее исходный пункт: государство появилось не вследствие страха перед дикими зверями и стремления людей к безопасности, как считал, например, Протагор (Plato Prot., 322а—b), но с целью взаимного удовлетворения различных потребностей людей, возможного только в совместном поселении (ςυνοικία), названном полисом (Plato Resp., II, 369с). Во-вторых, описывая эти потребности и средства их удовлетворения, Платон воспроизводит всю многообразную структуру общественного производства, существовавшую в современном ему греческом мире, в том числе и далеко зашедший процесс специализации труда (Ibid., II, 369с—373е).[560]
В «первом государстве» есть все без исключения профессии, существует наемный труд, рынок, денежные операции, внутренний и внешний торговый обмен, рабовладение и работорговля (Ibid., II, 373e; III, 416e—417а; V, 469с, 470с). Коррективы, вносимые правителями в устройство «первого государства», названного Платоном «здоровым», касаются лишь ограничения его территории и строжайшего прикрепления каждого представителя «третьего сословия» к одной определенной профессии, к которой тот склонен по своим природным задаткам (Ibid., II, 372е; 374Ь—с; IV, 420е—421а, 423Ь—с).[561] Последняя мера не не только способствует увеличению объема производства продуктов (Ibid., II, 370с), но и преследует основную цель — исключить большинство народа, занятого физическим трудом, из сферы государственного управления, передав последнее в руки компетентных специалистов-стражей.
Таким образом, «сам того не замечая и не желая, Платон обнажает классовое происхождение и классовую тенденцию своей утопии».; его идеальное государство оказывается близким к осужденному им же самим отрицательному типу общества, в котором «заключены два враждебных между собой государства: одно — бедняков, другое — богачей, и в каждом из них опять-таки множество государств...» (Ibid., IV, 423а).[562]
Утопизм платоновского проекта, быть может, наиболее ярко проявился в наивной попытке устранить социальные конфликты, «компенсируя» политическое бесправие «третьего сословия», предоставлением ему возможности «благоденствовать» в рамках норм, предписанных строгой специализацией производства, имеющей целью, помимо всего прочего, не допускать чрезмерного роста как богатства, так и бедности. Ежегодно взимаемый с него налог для прокормления стражей, ведущих аскетический, спартанский образ жизни, конечно, представлялся Платону ничтожным по сравнению с производимым в идеальном полисе общественным богатством (Ibid., III, 416d—е; VIII, 543b—с).
К такого рода замыслу, однако, с полным основанием можно отнести и критику проекта Гипподама Аристотелем, отмечавшим, что запрет носить оружие, установленный милетским утопистом для ремесленников и земледельцев, низводит их почти до рабского состояния (Arist. Pol., II 5, 5). В этом плане прав А. Д. Лосев, сравнивая положение «третьего сословия» в Каллиполисе со «своеобразным государственным крепостничеством», картина которого, возможно, навеяна примером социально-политического строя Спарты.[563] Но в целом включение «здорового государства» в жесткую иерархически соподчиненную сословную структуру делает более точной и полной характеристику К. Марксом платоновского проекта как «афинской идеализации египетского кастового строя».[564]
Впрочем, ригоризм платоновской конструкции выходит за рамки любой метафоры. Если сопоставить три начала идеального государства с четырьмя его добродетелями, то окажется, что «третье сословие», формально имеющее «свою долю в общем процветании» (Plato Resp., IV, 421с), лишено добродетели в собственном смысле этого слова, поскольку «мудрость» и «мужество» соотносятся с двумя высшими «классами», в то время как низшему достается лишь система общих предписаний, требующих от него безоговорочного повиновения, а точнее — нахождения в рабстве у «лучших людей», обладающих «божественным господствующим началом» (Ibid., IX, 590d).
Выделяя три вида удовольствий, соответствующих трем сословиям и трем началам души, Платон рассматривает сребролюбие и »наслаждения, покупаемые за деньги, как занятия, недостойные истинно свободного человека, скотские и рабские по своей природе (Ibid., IX, 580d—583b; 584e—587a).[565] Неслучайно поэтому деятельность «третьего сословия» остается вообще далеко в стороне от основного сюжета диалога, в большей мере посвященного воспитанию и образованию стражей.
При описании двух высших сословий используется принцип полной противоположности их образа жизни общепринятым полисным традициям, обычаям и нравам. Его основная черта — отсутствие каких бы то ни было своекорыстных материальных интересов, мешающих философам и их помощникам — воинам развивать свои природные задатки. Единственным критерием подбора и воспитания стражей является наибольшая пригодность для охраны государства, требующая таких нравственных качеств, которыми обладают лишь немногие (Ibid., III, 412с; IV, 421 b—с; ср.: II, 374d sqq.). Эти качества необходимо постоянно развивать при помощи целенаправленных воспитательных усилий. Но сама система воспитания может быть эффективной лишь внутри определенной социальной и психологической среды, основные параметры которой — полное уничтожение частной собственности, индивидуальной семьи и брака, общность жен и детей, абсолютное равенство полов во всех сферах жизни, обобществление быта.
Большая часть стражей состоит из воинов, прошедших с с раннего детства курс воспитания, включающий в себя, наряду с овладением частными науками — арифметикой, геометрией, астрономией и музыкой, основательную физическую подготовку, приучающую стойко переносить любые испытания и опасности. С 20-летнего возраста отбираются наиболее способные, которых посвящают в общую структуру и характер научного знания, чтобы показать внутреннее единство всех наук и их причастность к природе бытия. В 30 лет производится новый отбор, выявляющий диалектические способности, которые развиваются затем в течение 5 лет. И только тем, кому после овладения диалектикой становится доступным «доказательство сущности каждой вещи», открывается, наконец, перспектива став и воинами и философами, начать правительственную карьеру и к 50 годам достичь звания «истинных», «совершенных», или «наиболее основательных», стражей (Ibid., III, 413с—414b; VII, 525b, 534b, 535а—537с; III, 414а—b, 416с; IV, 421а—b, 428d; VI, 503а—b; ср.: VI, 498Ь—с). «Большую часть времени они будут проводить, предаваясь философии, а когда наступит черед, каждый взвалит на себя бремя государственных дел и управления, исполняя это не как нечто прекрасное, но по необходимости, ради государства» (Ibid., VII, 540b).
К вопросу о превосходстве «чистого созерцания» над любой другой формой деятельности Платон обращается неоднократно. Но если в государствах с порочными формами правления занятия философией являются своего рода «защитной стеной», отгораживающей мудреца от беззаконий и несправедливостей, творимых безрассудными согражданами (Ibid.. VI, 496с—d), то в идеальном государстве человек, которому «свойственны возвышенные помыслы и охват мысленным взором целокупного времени и бытия» и присущи основные «четыре добродетели» (Ibid., VI, 486а, 487а sqq.), не имеет права эгоистично заниматься самоусовершенствованием, словно уже при жизни переселившись на «острова блаженных» (Ibid., VI1 519с).
Имея в виду благо целого, а не какого-либо одного рода людей (γένος), закон в таком государстве добивается социальной гармонии при помощи убеждения и принуждения, используя философов для того, чтобы связать гражданский коллектив воедино (επί τον ζύνδεσμον τής πόλεως— Ibid., VII, 519e—520a).
Воспитывая себе достойную смену, философы могут, подобно героям Гомера и Гесиода, достичь «островов блаженных» только после смерти. «Государство на общественный счет воздвигнет им памятники и будет приносить жертвы, словно божествам, если Пифия изречет оракул, а если нет, то — как счастливым и божественным людям» (Ibid., VII, 540b—с).
В действительности жизнь двух высших сословий является юраздо более суровой по сравнению с образом жизни «производительных классов», деятельность которых правители даже не считают нужным регулировать какими-либо законами (Ibid.,
IV, 425с—427а). Напротив, времяпрепровождение их «спасителей и помощников» (Ibid., V, 463а—b) регламентировано до последних мелочей, включая повседневные привычки, формирование строгих эстетических вкусов и т. д. (Ibid., IV, 424b—d).
Предметом особой заботы философов-правителей является производство наилучшего (в физическом и нравственном отношениях) потомства. Развивая положение об одинаковых по качеству природных задатках мужчин и женщин (Ibid., V, 456а), Платон разрабатывает подробный план «священных браков» между мужчинами и женщинами, включенными в высшее сословие. Имея общие жилища, посещая совместные трапезы, постоянно встречаясь в гимнасиях и получая одинаковое воспитание, стражи мужского и женского пола начинают испытывать взаимное влечение. Правители определяют брачный возраст, регулируя количество брачных союзов и заботясь о подборе наиболее подходящих друг другу пар. Только отличившиеся на войне юноши получают более широкую возможность сходиться с женщинами. Рождающееся потомство поступает в распоряжение специально избранных должностных лиц, проводящих «селекцию» младенцев. «Родившихся от худших родителей» или обладающих какими-либо телесными недостатками детей укрывают в тайном месте и по достижении ими определенного возраста переводят в сословия производителей. Вероятно, те же должностные лица обязаны своевременно распознавать благородные задатки у детей из низших прослоек, с тем чтобы в дальнейшем переводить их в разряд стражей (Ibid., III, 415b—с; IV, 423с—d; V, 451d—461е; ср.: Tim., 19а). В результате указанных мер «все стражи-мужчины считаются отцами всех детей, а все женщины — общими женами всех стражей».[566]
Выдвигая столь революционную для своего времени идею полного равенства полов, Платон, конечно, не выступал в роли «поборника женских прав». Как справедливо отметила Дж. Аннас, философ в своих рассуждениях никогда не ссылается на приниженное положение женщины в его родном городе.[567] Так, в «Законах» несмотря на уничижительную в целом оценку женской природы, Платон гораздо более подробно поясняет причины, заставляющие законодателя заниматься «женским «вопросом». В основе лежит то же стремление сделать счастливым все государство в целом, а не какую-либо отдельную его часть (εν τι έθνος — Resp., IV, 420b sqq.). Если отношения полов остались бы неупорядоченными, то в результате государство оказалось бы «половинным» (Plato Legg., VII, 805а—b; см. также: VI, 781а—d, 785b; VII, 804d—806с, 813е—814с). Кроме того, обучение женщин военному делу значительно усиливает мощь государства, облегчая его защиту от внешних врагов.
Той же заботой о «всеобщей гармонии» определяется и смягчение аристократической позиции в вопросе о межсословных контактах, в частности о переводах детей, имеющих «вкрапления золота» в душе, из низшего сословия в высшее.
В связи с этим совершенно невероятной представляется гипотеза Р. Пёльмана пытавшегося доказать, что «коммунистический образ жизни» распространяется на всех без исключения граждан Каллиполиса.[568] Трудно также предположить, чтобы у Платона могла возникнуть мысль о «формальном проведении коммунизма для простонародья» (С. Я. Лурье) или же о приобщении «третьего сословия» к мусическому воспитанию стражей (О. Гигон).[569]
Все названные гипотезы основаны на той подспудной, высказанной еще Аристотелем, мысли (Arist. Pol., II 2, 11—16), согласно которой в Древней Греции государство, предоставляющее привилегии в образовании и воспитании лишь узкой прослойке гражданского коллектива, не может быть названо идеальным. Нельзя, однако, упускать из виду постоянно выдвигаемое Платоном на передний план положение о принципиальном несовпадении счастья государства как единого целого со счастьем входящих в него индивидов. Уподобляя благоустроенный полис телу, «страдания или здоровье которого зависят от состояния его частей» (Plato Resp., V, 464а—b), философ требует от всех граждан принести себя в жертву общему интересу для того, чтобы восторжествовала справедливость. Во имя этой цели каждый представитель «третьего сословия» должен заниматься только своим ремеслом, воины — упражняться исключительно в своем искусстве, а философы — «спуститься в gещеру» (Ibid., VII, 518d sqq., 539а), т. е. занимать государственные посты и тем самым внести решающий вклад в укрепление «здоровья» государства.
Такая позиция, как это то ни парадоксально, подчеркивает именно реализм платоновской мысли, одновременно обнажая его подлинно трагический подтекст.
В начале VIII книги есть одно довольно туманное место, вызвавшее немало споров в научной литературе: возвращаясь после долгого перерыва к теме о правильной и порочных формах правления, затронутой в конце IV — начале V книги, Главкон, далее, неожиданно приписывает Сократу представление а том, что изображенные им идеальное государство и человек не являются «наилучшими», но только «хорошими» и что он «мог бы указать на государство еще более прекрасное и соответственно на такого человека» (Ibid., VIII, 543с—d). Между тем в начале V книги Сократ, действительно называя свой полис и соответствующее ему государственное устройство (которое может быть монархией или аристократией в зависимости от количества управляющих им философов) хорошим и правильным ( άγα&ήν και όρθήν ), не упоминает, однако, о каком-то еще более лучшем (Ibid., IV, 445d—е; V, 449а).
Но в середине V книги встречается интересное рассуждение Сократа о том, какое государство управляется наилучшим образом (άριστα διοιχεΤται). Им оказывается полис, полностью» уподобляющийся одному человеку (εγγύτατα ένός ανθρώπου. Если у такого человека заболит палец, то его члены, составляющие «единое телесное сообщество» (πασα ή κοινωνία, ή κατά τό σώμα), устремляясь единым строем к правящему началу, т. е.. к душе, все вместе сострадают больной части. Именно к такому состоянию приближается государство с наилучшим строем (ή άριστα πολιτευομένη πόλις). В этом государстве большинство будет говорить об одном и том же: «Это — мое!» или) «Это — не мое!» (Ibid., V, 452с—d).
На первый взгляд сравнение приведенного места с замечанием Главкона в начале VIII книги приводит к предположению о том, что собеседник Сократа стремится подметить возникшее у автора идеального проекта противоречие между «хорошим» и «наилучшим» государственным устройством. Эту гипотезу все-таки необходимо отбросить по двум причинам. Во-первых, реплика Главкона относится именно к началу V книги (где правильное устройство, противопоставляется порочным формам правления), а не к ее середине. А во-вторых, общий контекст платоновского рассуждения показывает, что цель сравнения «наилучшего государства» с «телесным сообществом» состоит не в стремлении к полному устранению всяких собственнических инстинктов у «третьего сословия», а в достижении «единомыслия» всех граждан идеального государства путем их сплочения вокруг стражей. Достаточной гарантией такого единства Платон считает ликвидацию у самих правителей частной собственности и введение общности жен и детей. Благодаря этой мере государство будет спасено и станет благоустроенным, уподобившись здоровому телу (Ibid., V, 462е—466а). Иными словами, у Платона в период создания первого проекта никакого противоречия между «правильным» и «наилучшим» государственным устройством не существует.
В отличие от «Законов», в «Государстве» такая градация вообще является излишней, поскольку здесь нигде не говорится о том, что идеальный полис когда-либо и где-либо существовал. Платон постоянно подчеркивает мысленный (или словесный) характер своего построения, сравнивая себя с искусным скульптором, лепящим фигуры правителей и все государство с одной только надеждой — чтобы человек, глядя на существующий «на небе» государственный образец, «задумался над тем, как устроить самого себя» и в дальнейшем занялся бы «делами такого — и только такого — государства» (Ibid., II, 369с; IV, 420Ь—с; VII, 540с; IX, 588с—d, 592а—b).
Последнее замечание имеет чрезвычайно многозначный характер, поскольку мы знаем о систематических попытках Платона осуществить свой идеал на практике. Современные исследователи неоднократно пытались доказать зависимость платоновской воспитательной программы от спартанской системы воспитания.[570] Вероятно, скорее прав Ф. Олье, считавший, что критика в «Государстве» спартанского строя — «тимократии» продиктована прежде всего опасениями вызвать у читателей дополнительные ассоциации со спартанским строем.[571]
Действительно, в самом диалоге господствующей является мысль о трансцендентности столь подробно изображенного идеала по отношению к любому из существующих на земле государств. Вместе с тем саму эту трансцендентность нельзя, на наш взгляд, истолковывать в том смысле, что платоновское идеальное государство является «Чистой Формой, созданной на Небе» или «идеей государства».[572]
При всей сложности интерпретации вопроса о соотношении «мира идей», т. е. «истинного бытия» с «миром вещей» в платоновской философской системе,[573] внимательный анализ «Государства» убеждает в том, что «сам Платон никогда не говорит об идее государства и что фактически подобная концепция никогда не появляется в его политической философии».[574] Политический идеал Платона соотносится не с «чистой формой» государства, но прежде всего с центральной в его философской системе «идеей блага» (см., напр.: Plato Gorg., 499e; Resp., VI, 505). Именно поэтому в VII книге Сократ предъявляет философам, достигшим 50 лет, уцелевшим после всяческих испытаний и отличившимся на деле и в познаниях, следующие требования: подчинить всю свою оставшуюся жизнь только одной цели, а именно: «устремив вверх духовный взор, взирать на то, что всему дает свет, и, увидев само благо и взяв его за образец, упорядочивать государство, частных лиц, а также самих себя...» (Ibid., VII, 540а—b; ср.: VI, 500с—d).
Идея блага — это «то, что дает истину познаваемым вещам, а познающих наделяет способностью (познания)» (Ibid., VI, 508е). Подобно солнцу, не только проливающему свет на все вещи, но также дающему им рождение и питание, благо является как причиной самого бытия и существования, так и их познания (Ibid., VI, 509b).
Благодаря устремленности к идее блага политическая наука достигает, таким образом, неведомых прежде высот и дает возможность «истинному правителю» решать наилучшим образом все государственные вопросы.[575] Идеальное государство является, следовательно, воспроизведением в сфере мысли принципов, «которые существовали и будут вечно существовать в неизменном мире трансцендентных форм».[576] Возможность появления такого государства на земле остается крайне проблематичной, а если бы оно и возникло «по какому-то божественному вдохновению» (Ibid., VI, 499с), то в силу изменчивости всех земных вещей было бы неминуемо, обречено на постепенную деградацию и вырождение (Ibid., VII, 546а sqq.).
В итоге мысленный эксперимент, связанный одновременно с надеждой на претворение в жизнь «истинного строя» и неверием в его длительность и стабильность, порождает множество скрытых и явных, порой непреодолимых противоречий, отразивших мучительные раздумья афинского философа над кардинальными вопросами общественного переустройства.
И все же «установка на реализацию» оказалась в политической теории Платона главенствующей, поскольку, только исходя из нее, можно объяснить появление проекта «Законов», весьма специфическую обработку философом народной легенды о «жизни при Кроносе», а также создание собственных мифов, развивающих сложившуюся во второй половине IV в. традицию идеализации «отеческой конституции». Например, в «Государстве» элементы гесиодовского рассказа о смене поколений используются в качестве основы для создания тенденциозной идеологической конструкции, предназначенной основателями государства для обработки умов будущих поколений стражей и «третьего сословия», чтобы навсегда закрепить в их создании при помощи «благородного вымысла» идею вечности и неизменности иерархического порядка в совершенном полисе (ibid., III, 415а—d; VIII, 546е—547с).
В «Политике» и особенно в «Законах» «жизнь при Кроносе» занимает место мира «вечных форм». Давая собственную версию мифа о «золотом веке», Платон развивает многие основные мотивы, первоначально возникшие в «Государстве» и более ранних его диалогах.
Мы не затрагиваем специально ни проблемы роли мифа в философии Платона, ни вопроса об эволюции его религиозных представлений и его отношении к мифотворчеству.[577] Следует, однако, отметить, что популярная среди многих исследователей гипотеза о воздействии на поздние платоновские диалоги зороастрийских религиозных идей представляется недоказанной, равно как и мнение об усилении эсхатологических настроений в творчестве Платона в конце 60-х — начале 50-х годов.[578] Ведь описание философом космических катастроф, землетрясений и пожаров, уничтоживших в разные времена многие цивилизации, не имеет ни малейшего сходства с эсхатологической одержимостью последователей Заратуштры и древнееврейских пророков. Нередко пытливый интерес мыслителя к катастрофическим изменениям, имевшим место в далеком прошлом, приобретает откровенно тенденциозный политический подтекст. Так, в «Политике» катастрофа, вызванная «попятным вращением» космоса, навсегда отделила ныне живущих людей от блаженных времен правления Кроноса, когда их далекие предки, обладая в условиях всеобщего изобилия неограниченным досугом и пользуясь божественным покровительством пастухов-гениев, могли свободно отдаваться философии, общаясь не только друг с другом, но и с животными, исследуя природу, открывая новые неведомые прежде грани своего разума (Plato Pol., 271—274).
Согласно концепции «Законов», от «золотого века» людей отделяет множество катастроф и потопов, происходивших в «безграничной протяженности времени», когда возникли и были уничтожены тысячи государств и поколений людей (Plato Legg., III, 676а—677а; IV, 713а—b). Сравнительно скромным на этом фоне выглядит промежуток времени, отделявший современные Платону Афины от периода их расцвета в древности — 9 тыс. лет. Но и в течение этого времени произошло довольно много великих наводнений (Р1ато Tim., 23e; Crit., 111a).
Но, несмотря на различия хронологических периодов и конкретных подробностей гибели цивилизаций, всем этим картинам свойственна одна общая тенденция: как «жизнь при Кроносе» в «Политике» и «Законах», так и идиллическое описание родного города философа во времена правления божественных патронов — Афины и Гефеста — являются для современного человека тем недосягаемым образцом, к которому должны стремиться и «царственный правитель» «Политика» и законодатели-старцы, «основывающие» Эвномополис (Plato Legg., IV, 713b).
Разочарования, вызванные сицилийскими неудачами, приводят к замене одухотворенного, нацеленного на практическую реализацию творчества к довольно мрачному, как мы увидим далее, ригористическому требованию неукоснительно подражать недостижимому в принципе «божественному образцу». Если в «Государстве» еще сохраняется переплетение логоса и мифа в рамках конструктивного воображения (см., напр.: VI, 501е), посредством которого это произведение оказывается «одновременно созданием муз, философским трудом и политической акцией»,[579] то для поздних диалогов более характерным становится перенос мифа, сохраняющего элементы конструктивности, либо в вечность, либо в отдаленное прошлое (Plato Tim., 26с; ср.: 26е). В результате платоновская утопия приобретает исторический оттенок (не теряя, впрочем, политической заостренности в смысле реакции на текущие события), претерпевая подчас поразительные метаморфозы. Примером этого является раздвоение утопического образа в легенде о борьбе древних Афин и Атлантиды, рассказанной Платоном в «Тимее» и «Критии».
Сама возможность и результаты конфликта между небольшой, но идеально управляемой общиной и гигантской державой, олицетворяющей пороки, свойственные «извращенным формам правления», обрисованы уже в «Государстве» (IV, 422а—423Ь). Но еще в «Менексене» Платон восславил доблесть древних Афин, в одиночку встретивших у Марафона полчища варваров и «обуздавших всеазиатскую гордыню», доказав тем самым, «что могущество персов вполне сокрушимо и что никакая людская сила и никакое богатство не могут противостоять доблести» (240с—d, пер. С. Я. Шейнман-Топштейн; см. также: 24lb). Победа над персами была одержана афинянами благодаря их аристократическому строю, со свойственными ему равенством и правлением доблестных и мудрых (Ibid., 238с—239а).
В этом же сочинении (вероятно, впервые) Платон обращается к теме столкновения древних Афин с потомками Посейдона, ставшей основой сюжета истории об Атлантиде (Ibid., 239b).
Славные деяния афинян времен греко-персидских войн являются предметом гордости и в «Законах» (III, 698Ь—700а). Но если в своем последнем сочинении Платон ограничивается традиционным противопоставлением свободы греков, обеспечиваемой «древними законами», грубой деспотии персов, то в 60-е годы в «Тимее» и «Критии» философ создает синтетический образ идеального протополиса, объединявший в себе ставшую чрезвычайно популярной уже р начале V в. идею «отеческого строя» [580] с проектом, разработанным в «Государстве».
О своеобразии избранного Платоном пути может свидетельствовать, в частности, аналогичная попытка, предпринятая Исократом уже после смерти философа в «Панафинейской речи» (342—339 гг.). Исократовская синтетическая версия «отеческой конституции» имеет в качестве источника сугубо патриотическую ориентацию и мотивируется очень просто: Ликург, создавая идеальный спартанский строй, попросту подражал конституции древних Афин (XII, 153). «Тем самым Исократ не только „генетически” связывает друг с другом две главные, обоснованные историко-мифологическим образом, формы социальной утопии, но также демонстрирует взаимозаменяемость фиктивных форм и их вторичный характер по отношению к актуальному социальному содержанию, которое проецируется назад, в прошлое».[581]
Платон избрал иной путь, на котором миф, по удачному выражению Ж- Брюна, совершает анабазис при помощи логоса.[582] Объединяя «отеческую конституцию» со своей идеальной конструкцией, философ одновременно рисует конфликт двух государств с различным общественным строем, но в равной степени наделенных всеми утопическими атрибутами. При этом победа, одержанная древними Афинами над Атлантидой, оборачивается в конечном счете их поражением. Фантастический образ «отрицательного государства» оказался настолько привлекательным для последующих поколений утопических писателей, что по праву может считаться исходным пунктом для формирования жанра литературной утопии. Более того, платоновский миф обрел «второе дыхание» благодаря усилиям атлантологов XIX и особенно XX вв., упорно стремящихся отыскать координаты погибшего острова, затерянные в глубинах памяти давно ушедшего из жизни афинского философа.[583]
Такой поворот в судьбе платоновского рассказа нельзя, конечно, считать неожиданным. Если конституция древних Афин имеет, так сказать, «локальный смысл», воспроизводя (с небольшими изменениями) основные элементы проекта «Государства» (Plato Crit. 112b—d; ср.: Tim., 23e—24d), то в образе Атлантиды слились все основные, восходящие к логографам и Геродоту «ориенталистские миражи», обработанные с большим художественным мастерством и явно вдохновлявшие самого автора.[584]
Атлантида — в высшей степени собирательный образ. В географическом плане она вызывает ассоциации с африканскими (Карфаген), азиатскими (Вавилон) и европейскими (Сицилия и Крит) реалиями. Конкретные детали симметричной архитектурно-пространственной планировки острова одновременно напоминают выстроенные Деиоком Экбатаны (Hdt., I, 98—99) и современные Платону Сиракузы. Политическое устройство Атлантиды и проводимая ее правителями политика — причудливейшее сплетение идей первого утопического проекта с элементами афинской конституции и политической практики.[585] Картина постепенной деградации поколений властвовавших на острове царственных потомков Посейдона представляет собой мифическую версию схемы вырождения политических форм, представленной в VIII книге «Государства» (Plato Crit., 110— 121).
За историей столкновения атлантов и афинян скрывается не только героическая эпопея греко-персидских войн. По мнению некоторых исследователей, здесь в завуалированной форме осуждается афинская экспансия на море, а также содержатся намеки на экспедиции карфагенян, войны и пиратские набеги обоих Дионисиев.[586] Наконец, история гибели Атлантиды (как и происхождение самого названия этой сказочной страны), вероятно, основана не только на универсальной мифологической традиции, повествующей о каре, обрушенной богами на людей, впавших в гордыню, но, возможно, была также навеяна живыми воспоминаниями о погибших в морских волнах в результате землетрясения маленьком острове Аталанте — афинском форпосте у Эвбеи (Thuc., II, 32; III, 89) и городах Гелике и Буре в Пелопоннессе (Diod., XV, 48).
Уклон в сторону историзма —примечательная часть позднего периода платоновского творчества, отразившаяся в III книге «Законов». Этот историзм имеет, однако, очень мало общего с интересом, испытываемым к старине каким-нибудь антикваром. Наоборот, ему свойственна чрезвычайная насыщенность конструктивными идеями, принявшими в последнем сочинении философа форму «второго по совершенству» утопического проекта, задуманного, как уже отмечалось, в качестве переходного к модели, разработанной в «Государстве» (Plato Legg., V, 739).[587] В этом плане идеи «Тимея», «Крития» и «Политика» можно также рассматривать как переходные, имеющие глубокое единство с основным замыслом Эвномополиса. Например, многие элементы утопического описания страны атлантов, предварительно очищенные от «экзотических примесей», вошли в дальнейшем в проект «Законов», существенно повлияв на его рационально выверенную, пронизанную геометризмом конструкцию.
Невозможно, конечно, утверждать достаточно определенно, что концентрическая (точнее, «радиально-кольцевая, с четко выраженным общественным центром, также имеющим кольцевую структуру»[588]) организация Эвномополиса восходит именно к «историческому мифу», отраженному в «Тимее» и «Критик». а не является, так сказать, платоновской «априорной схемой». Во всяком случае, сходство внешних черт в планировке Эвномополиса с Атлантидой (а также и с древними Афинами) не вызывает сомнений, хотя сердцевиной последнего платоновского проекта является государственный строй, который можно рассматривать как разновидность «смешанной конституции», ориентирующейся преимущественно на спартанский образец.[589]
Что касается интереса Платона к «смешанному устройству», то он во многом связан с событиями, развернувшимися в Сиракузах в 357 г., когда в результате осуществленного Дионом переворота было свергнуто господство Дионисия Младшего над сицилийской державой. Захватив власть в свои руки, Дион, по свидетельству Плутарха, задумал, «ограничив полную демократию, ...ввести нечто вроде лаконского или критского строя, т. e. смешать власть народа с царской властью так, чтобы вопросы первостепенной важности рассматривались и решались лучшими гражданами» (Plut. Dion, 53, пер. С. П. Маркиша). Многие современные исследователи не без основания считают, что Дион, проводя в жизнь свой план, руководствовался идеями своего учителя и друга.[590] Данное мнение находит подтверждение в VIII платоновском письме, где в общих чертах формулируется образец «смешанной конституции», во многом сходный с проектом, разработанным в «Законах» (Plato Epist., VIII, 356e—357b).[591]
Наилучшим доказательством серьезных уступок, сделанных Платоном в области теории, является возврат в «Политике» к классификации государственных устройств, созданной Сократом, рассматривавшим закон в качестве основного критерия правильности или порочности той или иной формы правления (Xen. Mem., IV 6, 12; ср.: Plato Pol., 300e—301а sqq.). Признание царской власти, основанной на законе, как наиболее предпочтительной, конечно, не означало полного разрыва с прежним идеалом правителя. По справедливому замечанию Д. Роджероне, характер аргументации, представленной в «Политике», «приводит к кризису не столько платоновскую теорию фило-софа-царя ... сколько аристократическую и почти касталийскую концепцию власти, которую Платон пытался научно обосновать при помощи теории идей».[592]
Хотя и в этом диалоге, и в «Законах» отчетливо выделяется мысль о том, что подлинный политик, «руководствующийся искусством и не заботящийся о предписаниях», рождается крайне редко, может быть, раз в течении нескольких веков (Plato Pol., 300с, 301 d—e; Legg., IV, 71 ld), ориентация на «сильную личность», воплощающую монархический принцип власти* остается по-прежнему доминирующей в платоновской политической теории и в известном смысле даже усиливается. Как это ни парадоксально, само усиление волевого элемента изначально заложено уже в том компромиссе между идеалом и действительностью, на котором и основывается проект «Законов». Весьма символично в этой связи резкое изменение характера описания «золотого века» в данном диалоге по сравнению с «Политиком». Вместо картины гармоничного единства богов и людей, предающихся на лоне природы философскому умозрению, на передний план выступает мысль о спасительной миссии божественного правления. Оказывается, блаженная жизнь в те далекие времена стала возможной лишь благодаря мудрой предусмотрительности Кроноса, знавшего, «что никакая человеческая природа ... не в состоянии неограниченно править человеческими делами без того, чтобы не преисполниться заносчивости и несправедливости», и поставившего «тогда царями и правителями наших государств не людей, но демонов— существ более божественной и лучшей природы» (Legg.„ IV, 713с—d, пер. А. Н. Егунова). Лишенные божественного покровительства люди уже «не могут избегнуть зол и трудов». Спасение придет только в том случае, если люди станут подражать божественному правлению и, восприняв сам его принцип в качестве «определения разума» ( την xoö νου διανομήν,) назовут его законом (Ibid., IV, 713e—714а).
Но при этом невозможно обойтись без обладающего разумом законодателя, который устанавливает законы ради общего блага и в этом смысле олицетворяет «верховное служение богам» (Ibid., IV, 715b—d). Сами же люди являются в большей мере марионетками, мало причастными к истине. Боги создали их неизвестно для какой цели. Поэтому человеческие дела в целом не заслуживают особых забот. Управление такими существами— суровая необходимость и состоит в том, чтобы привлечь каждого на сторону добродетели, оказывая сопротивление «тем нитям», которые «увлекают нас к противоположным действиям», т. е. к пороку (Ibid., I, 644—645с; VII, 803b—d, 804b).[593]
Такова идейная основа последнего утопического проекта Платона. Строй, призванный воплотить господство закона, представляет собой что-то среднее между неограниченной властью и свободой, т. е. между монархией и демократией (Ibid., III, 693d). Внешне, по сравнению с идеалом «Государства», он, конечно, является более чем компромиссным. Хотя в первом проекте рассуждения о законе и законодательстве встречаются довольно часто, сам по себе «конституционный вопрос» почти не интересует Платона: на передний план выступает мысль о лриоритете философского правления.[594] Напротив, конституция основываемой на Крите колонии описана достаточно подробно. Компетенция различных государственных органов и должностных лиц является строго разграниченной.
«Монархический элемент» первоначально представлен коллегией из 37 номофюлаков — стражей законов, в которую выбираются граждане, достигшие 50 лет, т. е. возраста, определяемого в качестве исходного и для философов-правителей в «Государстве». «Стражи законов» истолковывают и дополняют законы, ведают сношениями с внешним миром, имеют решающий голос во всех вопросах внутреннего управления — от выборов военных и гражданских магистратов и контроля над их деятельностью до регулирования брачных отношений, культурных нормативов, короче — всего образа жизни граждан (а в известных случаях и метеков). Им принадлежит и высшая судебная власть.
Что касается «демократического элемента», то он представлен советом из 360 членов и народным собранием, формально обладающими достаточно широкими полномочиями, но по существу представляющими лишь внешний «парламентский каркас», прикрывающий неограниченную власть высших должностных лиц.[595]
Этот момент окончательно выступает на передний план после того, как в конце диалога Платон фактически намеревается вручить высшую власть так называемому «Ночному совету», являющемуся носителем философского начала в управлении. Деятельность этого совета, судя по всему, совершенно не должна зависеть от органов демократического управления (Ibid., XII, 960е—969с; ср.: X, 908а).[596]
Численность населения Эвномополиса — 5040 граждан, представлявшаяся Аристотелю чрезмерной (Pol., II 3, 3), является гораздо более скромной по сравнению с количеством жителей легендарных Афин, всегда готовых выставить одновременно 20 тыс. вооруженных мужчин и женщин (Plato Crit., 112d). Платоновские рассуждения о благотворности числовых пропорций для всех сторон жизни государства, безусловно, отражают большое влияние пифагорейской числовой символики (Plato Legg., V, 737e—738b).[597]
Социальная структура Магнезии также является полной противоположностью Каллиполиса. Место сословной иерархии и специализации, отражающих «идею справедливости», здесь занимает имущественный ценз, разделяющий население колонии на четыре «класса». От материального положения во многом зависят политические права каждого из них. Введение имущественного ценза не могло не повлиять на всю шкалу нравственных ценностей и ориентаций в последнем платоновском проекте. Так, несмотря на то, что военная служба носит всеобщий характер и, безусловно, является почетной обязанностью, образ «философа и воина», нарисованный в «Государстве», фактически бесследно исчез. Номофюлаков выбирают «рее, кто носит оружие» (Ibid., VI, 753b), но сами они весьма далеки от дел, непосредственно связанных с военной доблестью. Что касается характеристик воинов, то Платон, например, считает вполне уместным рассматривать их как служителей (θεραπεύοντες) страны и народа, наряду с сословием ремесленников, вообще исключенных из числа граждан (Ibid., XI, 920d—е).[598]
Кроме того, вместе с обязанностью проходить военную подготовку граждане Эвномополиса должны уделять непосредственное внимание чисто экономическим вопросам, т. е. проводить часть времени в собственных поместьях, «приводя в порядок свое хозяйство» (Ibid., VI, 758b; ср.: 776а; VII, 808а—b). Такое отклонение даже от спартанского образца, не говоря уже о полной дисгармонии с первым проектом, вполне подтверждает правильность выводов тех исследователей, которые рассматривают основные черты образа жизни граждан Эвномополиса (и его политические институты) как результат смешения «ликургова космоса» с идеализированным в духе πάτριος πολιτεία афинским государственным строем.[599]
Однако, как заметил Э. Тигерстедт, установка на жесткое регулирование общественных отношений в итоге приводит к тому, что в последнем платоновском проекте «Ликург, кажется, полностью, одержал победу над Сократом».[600] Решающим моментом этой победы можно считать уже отмеченное выше полное разочарование Платона в человеческой природе. Наиболее тяжелым его последствием была потеря идеальными правителями иммунитета к той самой болезни мелочной опеки и законодательного крючкотворства, которой философ так опасался в «Государстве» (IV, 425с—426а, 427а—с). Все симптомы этой болезни необычайно ясно можно наблюдать в такого рода наставлениях: «.. .никто никогда не должен оставаться без начальника — ни мужчины, ни женщины. Ни в серьезных занятиях, ни в играх никто не должен приучать себя действовать по собственному усмотрению: нет, всегда — и на войне и в мирное время — надо жить с постоянной оглядкой на начальника и следовать его указаниям. Даже в самых незначительных мелочах <надо ими руководствоваться, например по первому его приказанию останавливаться на месте, идти вперед, приступать к упражнениям, умываться, питаться и пробуждаться ночью для несения охраны и для исполнения поручений» (Ibid., XII, 942а—b, пер. А. Н. Егунова).
Платон считал, что именно такую цену необходимо заплатить за попытку вновь приобщиться к «золотому веку». История вынесла иллюзиям такого рода суровый приговор. Иначе и быть не могло. Ведь цена человеческого счастья на этом пути оказалась слишком велика.
§ 2. АРИСТОТЕЛЬ
Анализ аристотелевского вклада в историю утопической мысли неизбежно затрагивает целый ряд вопросов методологического характера. Многие уже приводимые выше высказывания Стагирита по тем или иным проблемам свидетельствуют на первый взгляд об отсутствии каких-либо утопических черт в его мировоззрении. Тезис об «антиутопической», всецело практической направленности аристотелевской политической теории получил широкое распространение в научной литературе. «Аристотель был реальным политиком, — писал Г. А. Александров, — он не ставил себе цели построить некое идеальное государство, вовсе оторванное от практической, земной истории. Он подходил к истории разнообразных государственных форм в Греции, как человек, считавший, что в его обиходе каждая мелочь пригодится ... даже в „отклонениях” от нормального он выискивал „сносное”, могущее быть практически использованным».[601] В глубоком исследовании аристотелевской «Политики» А. И. Доватур выдвинул в качестве аксиоматического, являющегося ключом к пониманию данного произведения, требование отказаться «от примешивания к высказываниям Аристотеля каких бы то ни было элементов политических мечтаний, не имеющих корней в реальной действительности».[602] Оба, в определенной мере справедливые, суждения имеют, однако, на наш взгляд, один существенный пробел—в них слишком явно просматривается давно уже ставшее традиционным противопоставление «аристотелевского реализма» «платоновскому политическому идеализму и доктринерству». Это противопоставление исходит из тезиса об отсутствии каких-либо связей между утопизмом и практической политикой, об их принципиальной несовместимости.
Такого рода система аргументации уходит корнями в свойственное современной культуре предубеждение против утопизма. Но, будучи понятной с психологической точки зрения, она противоречит реальным фактам и прежде всего тому важнейшему, неоднократно отмечаемому исследователями, положению, согласно которому начиная с античности и вплоть до XX в. утопическая мысль развивалась как вполне самостоятельное направление политической теории. В подавляющем большинстве утопических произведений государство рассматривается не только в качестве постоянно функционирующего элемента совершенной общественной системы, но и как важнейшее орудие проведения в жизнь умозрительных планов, естественно, с помощью практической политики.
Учение Платона является убедительным подтверждением того, что в эпоху кризиса рациональных представлений о целях и задачах государственной организации утопия могла стать своеобразной формой самоопределения политической теории, ее перехода на качественно новую ступень. Подвергая осуждению старые институты с позиции «критического разума», противопоставляя казавшийся им принципиально новым государственный строй, утописты прокладывали новые пути там, где привычные схемы политических рассуждений превращались в пустые риторические приемы, оказывались несостоятельными, не способными объяснить противоречия, в которых запутались политическая мысль и практика.
Можно ли утверждать, что аристотелевская политическая философия диаметрально противоположна в этом смысле платоновской? Ответить на этот вопрос не так-то легко. Окончательная разработка Аристотелем своего политического учения приходится на эпоху, когда начавшийся с македонским завоеванием Греции глубокий перелом в историческом развитии принял поистине глобальные масштабы в результате победоносных походов Александра.
Однако ни в одном из дошедших до нас аристотелевских сочинений коренные перемены в политической ситуации не нашли сколько-нибудь заметного отражения. Став главой Ликея (335 г.), Стагирит не проявил особого желания развивать в новых условиях панэллинскую программу в духе Исократа, продолжая традицию изучения и описания государственных устройств различных греческих полисов, к которой он приобщился, вероятно, еще будучи членом Академии. (367—347 гг.). «Ничто не удивляет нас в „Политике” больше, — писал У. Ньюмен, — чем тот факт, что она, хотя, очевидно, и была написана после Херонеи, почти полностью занята проблемами мелких греческих государств и преобладавших в них конституций».[603]
Посвященная Аристотелю античная биографическая литература рисует нам образ философа, проявлявшего по сравнению со своим учителем более чем умеренное стремление оказывать непосредственное воздействие на ход политических дел в том или ином регионе греческого мира и, несмотря на дружеские отношения с военным правителем Греции Антипатром, всегда остававшегося «аутсайдером по отношению к афинской жизни».[604]
Вместе с тем постоянное взаимодействие конкретного опыта и абстрактных политических идей в «Политике» делает вполне оправданным предположение Д. Фергюсона о том, что Аристотель писал свое основное, посвященное проблемам государства, сочинение «ни как кабинетный философ, ни как практический политик, но как беспристрастный и заинтересованный наблюдатель, чья мысль формируется на основе опыта... Если он и поносит тиранию, то потому, что он видел, как поступил Дионисий с Платоном. Если он делает явное исключение для благородного монарха, то это потому, что он знал Александра и видел, что монархия может быть благородной».[605]
Является ли, однако, данное предположение основой для окончательного вывода о принципиально «антиутопической» направленности творчества Стагирита? [606] Наиболее простым способом, позволяющим вплотную приблизиться к решению этого вопроса, вероятно, может стать анализ характера и идейной направленности аристотелевской критики утопических проектов Платона, Фалея и Гипподама. Даже при самом беглом взгляде на эти критические замечания обнаруживается их глубоко конструктивный характер. Они отнюдь не направлены на выявление противоречивости и «изначальной порочности» метода абстрактного конструирования идеальных государственных образцов, но, наоборот, связаны со стремлением философа пойти дальше своих предшественников по пути разработки концепции идеального полиса.
На этом фоне становятся особенно примечательными не только эмоциональная окраска нападок на отдельные платоновские положения, связанные с обоснованием принципа общественной собственности, но и целый ряд фактических ошибок, особенно при анализе проекта «Законов». Так, с самого начала при разборе второго по степени совершенства платоновского законодательства, наряду с необоснованным упреком в отсутствии у Платона критериев разграничения правящих и управляемых, ему также приписывается установление максимума при владении собственностью в размере пятикратной стоимости земельного надела (Arist. Pol., II 3, 8). В действительности же речь идет о четырехкратном различии в имущественном положении граждан Магнезии (Plato Legg., V, 744e; VI, 754d—e, 765c).
Немного ранее Платону бросается также упрек в том, что он, установив предельную численность жителей (5040), не только не упорядочивает прирост населения в полисе, но, наоборот, допускает возможность неограниченного деторождения (Arist. Pol., II 3, 6). Между тем в «Законах» представлена целая программа регулирования прироста населения, целый ряд аспектов которой полностью совпадает с предложениями Аристотеля, например, по регулированию рождаемости, сформулированными в VII книге «Политики» (Plato Legg., V, 740d sqq.; ср.: Arist. Pol., VII 14, 10).[607] И в этой книге также имеет место неправильная передача платоновских мыслей. Например, совершенно неправдоподобным выглядит приписываемый Платону запрет детям громко плакать и кричать, тогда как в «Законах» речь идет совсем об ином, а именно — какие средства следует изыскать для того, чтобы даже годовалые дети с тяжелым нравом превратились в веселых и радостных (Arist. Pol., VII 15, 6; ср.: Plato Legg., VII, 792а sqq.).[608]
Подобные «неточности» трудно объяснить порчей текста или же, скажем, гипотезой, согласно которой Аристотель мог пользоваться какой-то сокращенной версией «Законов», текст которых мог не совпадать с дошедшим до нас. Весь характер аристотелевской критики свидетельствует о большой осведомленности в мельчайших подробностях последнего платоновского сочинения. Так, Э. Баркер, неоднократно анализировавший влияние «Законов» на «Политику», в предисловии к своему переводу последней не случайно подчеркивал тот факт, что «Законы» были написаны в период ученичества Аристотеля, возможно, помогавшего своему учителю подбирать для них материал.[609]
Данное мнение только укрепилось бы, если считать основной причиной вышеприведенных фактических ошибок попытку Аристотеля цитировать по памяти те или иные платоновские пассажи. Но скорее всего перед нами пример именно повышенного эмоционального отношения к политическим проектам учителя, когда стремление опровергнуть принципиальные политичеческие положения сопровождается невниманием к мелочам. К тому же, критикуя Платона и его предшественников, Стагирит обосновывает принципы, в наибольшей степени, отвечающие, по его мнению, идеалу совершенной государственности. Эти принципы формулируются либо в виде полемических замечаний к критикуемым проектам, либо в форме дополнений и поправок к считавшимся образцовыми конституциям Спарты, Крита и Карфагена. Попытаемся же резюмировать основные из них, соблюдая по возможности последовательность, в которой они появляются во II книге «Политики», и опуская для краткости непосредственные поводы, послужившие основой для той или иной формулировки:
1.Установление общности жен и детей означает доведение политического единства до крайних пределов и фактически уничтожает государство, являющееся по своей природе «неким множеством» (Arist. Pol., II 1, 4; ср.: II 1, 7; II 2, 7).
2.В рамках этого множества единство,заключающее в себе «различие по качеству», в конечном счете возникает путем достижения политического равенства свободных граждан, поочередно замещающих государственные должности и становящихся тем самым «подобными» друг другу (II 1, 5—6; ср.: II 2, 15).
3.Введение общественной собственности не избавляет гражданский коллектив от внутренних конфликтов, происходящих не вследствие наличия или отсутствия общности имуществ, но по причине нравственной испорченности людей, ненасытной их порочности и беспредельности вожделений (II 2, 8—9; II 4, 11).
4.Гораздо большее значение по сравнению с регулированием имущественных отношений имеет деятельность законодателя, решающего крайне трудную задачу обеспечения единства совместной жизни, общего участия граждан во всех делах при помощи внедрения добрых нравов, философии подражания спартанскому и критскому законодательству, предусматривающему совместные трапезы (II 2, 3—4; II 2, 10; II 4, 11).
5.Платон в «Государстве», восприняв давно уже практикуемое лакедемонянами правило: «стражи не должны заниматься земледелием», игнорирует, однако, спартанский опыт реализации другого важного принципа: «у друзей все общее», заключающегося в предоставлении частной собственности в общее пользование и являющегося наилучшим, так как он освящен обычаями и упорядочен правильными законами (II 2, 10—11; II 2, 4—5; ср.: II 3, 5).
6.При разработке идеального законодательства можно основываться на любых предположениях, кроме заведомо нереализуемых на практике (II 3, 3).
7.Изображенный в «Законах» строй — полития, будучи средним между олигархией и демократией, нельзя назвать «вторым по совершенству», но только «наиболее подходящим» по сравнению с остальными государствами. В этом смысле он уступает Спарте или любому другому, более аристократическому строю. Вообще лучшим является государственное устройство, в котором «смешано» наибольшее число конституций (II 3, 9—11).
8.Рассмотрение любого государственного устройства должно исходить из принципа — соответствует оно или нет наилучшей конституции; существует ли противоречие в самих законах по отношению к духу и характеру проекта законодателя (II 6, 1).
9.Законодатель обязан уделять особо пристальное внимание «женскому вопросу», ибо «при том государственном строе, где плохо обстоит дело с положением женщин, половина государства неизбежно оказывается беззаконной» (II 6, 5).
10.Недопустимо неравномерное распределение собственности, неизбежно ведущее к росту корыстолюбия (II 6, 10).
11.Необходимо регулировать рождаемость в государстве (II 6, 13).
12.Долговечность государства зависит от того, насколько все части, его составляющие, «находят желательным сохранение существующих порядков» (II 6, 14).
13.Нельзя доверять власть пожизненно, ибо в старости люди не могут сохранить разум ясным (II 6, 17).
14.Препятствием на пути честолюбцев к власти является избрание на руководящие посты в государстве достойнейших людей (независимо от того, желают они этого или нет) (II 6,17).
15.Царя следует выбирать по достоинству, а не по роду, в зависимости от его образа жизни (II 6, 20).
16.Обязательна организация сисситий, средства на которые должно выделять гражданам государство (II 6, 20).
17.Государству следует делать граждан добродетельными в полном смысле, чтобы они умели пользоваться досугом для благородных занятий (II 6, 22).
18.Смена должностных лиц должна происходить на законном основании, а не «по человеческому усмотрению» (II 7,7).
19.Богатство не может цениться выше добродетели; соответственно законодатель не должен отклоняться от аристократического строя, сущность которого заключается в том, чтобы лучшие люди в государстве (как должностные, так и частные) имели досуг (II 8, 7).
20.Каждый в государстве должен заниматься своим делом. Хороший законодатель не допустит, чтобы один и тот же человек был флейтистом и сапожником (II 8, 8).
21.Государство не должно быть слишком малых размеров (118,8).
22.Участие наибольшего числа граждан в управлении государством дает гарантию, что «всякий будет делать свое дело ... и более сообразуясь с общественной пользой, и лучше, и скорее» (II 8, 8).
Большинство воспроизведенных теоретических положений лежит в основе программы идеального полиса, развернутой Аристотелем в VII—VIII книгах «Политики». По своей идейной направленности эти положения мало чем отличаются от принципов, которыми руководствовался Платон при разработке своих утопических проектов. Таким образом, как справедливо отметил Э. Тигерстедт, «пропасть, которая, как кажется, отделяет „Государство” от „Политики”, оказывается преодолимой и, вероятно, исчезнет, если мы станем подходить к „Политике” от „Политика” и особенно от „Законов”. Собственная критика Аристотелем платоновских политических теорий, зачастую вводящая в заблуждение и несправедливая, а также пренебрежение позднейшими платоновскими работами были одной из причин, почему сравнительно до недавнего времени ученые не понимали, до какой степени Аристотель строил свое учение на фундаменте, воздвигнутом его предшественником, вплоть до того, что на самом деле можно говорить об единой платоновско-аристотелевской политической теории».[610]
Влияние платоновских построений постоянно ощущается во всех этических и политических сочинениях Стагирита, в какой бы период его деятельности они ни были созданы.[611] Трудно поэтому принять позицию В. Йегера, выраженную в его работе «Аристотель. Основание истории его развития» (1-е изд.— 1923 г.). Суть этой позиции состоит в признании «подлинно аристотелевской» системы взглядов, ориентированной на разрыв с абстрактно-метафизическим поиском общественного идеала и на чисто эмпирическое изучение политических реалий, знаменовавшее собой решительный отход от идей учителя.[612]
Развивая данные положения, немецкий исследователь относил все пассажи «Никомаховой этики» и «Политики», в которых обсуждался вопрос об идеальном государстве, к периоду до 335 г. Вместе с тем, объединяя II и тесно связанные с ней VII—VIII книги «Политики» под условным названием «перво-начальной политики» (Urpolitik) и резонно указывая на общность обсуждаемых в них вопросов с идеями «Протрептика»— одного из наиболее ранних аристотелевских сочинений, Йегер в конечном счете все же не преодолел многочисленных противоречий, которые содержала разработанная нм схема.
Исходный момент, порождавший все противоречия схемы Йегера, заключался в том, что характерное для раннего Аристотеля «выделение теоретического характера нормативной политики»[613] сохраняет свое значение и в тех разделах аристотелевского сочинения, которые немецкий ученый был склонен связывать с периодом «эмпирических штудий». Исследователями уже давно было подмечено, что, например, казалось бы вполне прагматическая концепция «среднего строя» или политии, разработанная в IV книге «Политики», несмотря на обилие ссылок на исторические реалии, является «в сущности теоретическим построением».[614] Кроме того, даже если принять во внимание широко распространенный, но далеко не бесспорный тезис о раннем происхождении аристотелевского проекта идеального строя,[615] необходимо объяснить, случайно ли данный проект оказался «завершающим аккордом» «Политики» или, наоборот, и сам философ, и античные издатели его сочинения считали вполне логичным поставить теоретические книги (VII—VIII) после «эмпирических» (IV—VI).[616]
Весьма поучительной б этом плане стала попытка В. Йегера во втором издании своей работы преодолеть созданные им же самим трудности в интерпретации аристотелевского подхода к соотношению теории и практики. Развивая свое исходное положение о том, что «Аристотель не был нравственным законодателем платоновского стиля», т. е. не ориентировался исключительно на «божественные нормы», не подчинял полностью жизнь «служению божеству», но, наоборот, отталкиваясь от реальности, «впервые в греческом сознании выдвинул мысль о нравственной автономии индивида, от которой Платон был еще далек», Йегер вместе с тем подчеркивал, что в сфере метафизики и этики философ оставался платоником, телеологически трактуя мир опыта с позиций высшей, неподвластной опыту цели ( τέλος ).[617] И в области политической теории постоянная «напряженность между идеей и миром опыта», невозможность найти в реальной жизни выход из этого конфликта приводят Аристотеля опять-таки к платоновскому миру «вечных сущностей», а также к полному подчинению политики этике, индивида — государственному целому. Таким образом, «наилучшее государство ... остается чистой утопией, слишком отчетливо показывающей, что на этом пути можно прийти только лишь к воспитательному государству или, точнее, к педагогике».[618]
Делая подобный вывод, В. Йегер, по существу, опровергал гипотезу о существовании непреодолимых различий между молодым и зрелым Аристотелем. Но тем самым во многом обесценивался и тезис, согласно которому близость к Платону или «удаленность» от него должны служить критерием в оценке истинности тех или иных аристотелевских взглядов. Во всяком случае, при анализе проблемы идеального государства этот критерий является совершенно лишним. Поддержка Платона в данном вопросе отнюдь не отрицает глубокой самобытности политической мысли Аристотеля. Как остроумно заметил
А. Эдель, возражая Йегеру, «афоризм — даже карлик, стоя на плечах гиганта, видит дальше—не должен затемнять того случая, когда гигант стоит на плечах гиганта».[619]
Вполне оригинальная трактовка темы идеального полиса намечается Аристотелем уже в «Протрептике». Написанное (вероятно, вскоре после 354/53 гг.) в форме диалога или послания (увещевания), обращенного к кипрскому правителю Фемисону — «мелкому просвещенному деспоту»,[620] данное сочинение во многом следует платоновской традиции, самым непосредственным образом примыкая к «Государству», а в некотором отношении даже усиливая содержащуюся в этом диалоге аргументацию. Например, как бы не принимая во внимание статус адресата, молодой Аристотель объявляет философское знание единственно необходимым для счастья и стремится доказать, что, став «философом-царем», Фемисон будет испытывать презрение к почестям и славе и тем самым возвысится над другими правителями.[621] Но особого внимания заслуживают два следующих фрагмента. В первом из них при рассмотрении вопроса о преимуществах «созерцательной жизни» — высшей формы человеческого существования в качестве сравнения приводится образ жизни обитателей «островов блаженных» (fr. 43 Düring).
При всей разрозненности сохранившихся отрывков «Протрептика» общий контекст данного сочинения не позволяет рассматривать подобную идею в смысле противопоставления философии и политики. Тезис об их единстве хорошо подтверждается другим фрагментом, также насыщенным многозначительными аналогиями: подобно тому, как нельзя считать хорошим строителем того, кто, не используя соответствующие инструменты, просто берет за образец другие здания, так не будет хорошим законодателем тот, кто, устанавливая законы для государств, и в прочих делах подражает деяниям людей или государственным устройствам Спарты и Крита. Истинный философ и. политик должен заимствовать у природы и самой истины те предельные основания (opot ), исходя из которых можно утверждать, что является справедливым (fr. 49 Düring= Iambl. Protr., 10 Pistelli).
Характер данного фрагмента, тесно связанного с приведенным выше, делает возможным предположение о том, что Аристотель затрагивает здесь важнейшую проблему соотношения чистого умозрения и практической деятельности, проблему, которой Платон, как известно, уделял столь большое внимание в VI и VII книгах «Государства» (Plato Resp., VI, 497b—d, 499b—d; VII, 519b—c, 520a).[622]
В VII книге «Политики» мы встречаемся с совершенно аналогичным рассуждением. Развивая мысли Платона о преимуществах «созерцательной жизни» (Ibid., V, 476d—е), а также тесно примыкающие к ним идеи, сформулированные в «Никомахозой этике» (Arist. E. N., X 7, 1177а 25—1177b 5 sqq.), Аристотель дает, однако, иную трактовку соотношения теории и практики: она опосредуется здесь идеей наилучшего государства. Исходя из посылки, «что наилучшая жизнь для каждого отдельного человека и государства в целом должна быть одной и той же» (Arist. Pol., VII 3, 6), что «мужество, справедливость и разум имеют в государстве то же значение и тот же облик, какие они имеют в каждом отдельном человеке...» (Ibid., VII 1, 5), Аристотель включает умозрение в понятие «деятельной жизни», как иаилучшей (άριστος βιος ό πρακτικός — Ibid., VII 3, 5). Поскольку и государство, и индивид стремятся к «благой деятельности» (εύπραξία ), теории и размышления, ценные и сами по себе, должны претворяться в практику, мысленно направляя внешние действия людей (Ibid.).[623] Стремясь утвердить исходную мысль «Государства» о необходимости для философа заниматься политикой, Аристотель вновь возвращается к кругу идей, обсуждаемых в «Протрептике». На это прямо указывают две важные детали.
В конце VII книги, определяя воздержанность и справедливость как универсальные добродетели, одинаково необходимые как наилучшему человеку, так и наилучшему государству и в период войны, и в период трудовой жизни для наслаждения ииром и досугом, а также подчеркивая, что благосостояние и досуг скорее способны испортить характер людей, Стагирит выдвигает следующее требование: «Итак, те, которые слывут наиболее счастливыми и наслаждаются всем тем, что считается блаженством, должны обладать большей справедливостью и большей воздержанностью; и это приложимо, например, даже к тем, которые, по выражению поэтов, обитают на островах блаженных» (Ibid., VII 13, 19, пер. С. А. Жебелева; ср.: Plato Resp., VII, 519с).[624]
Далее это требование предъявляется и к идеальному государству; причем в качестве государства, резко отклоняющегося от совершенного образца, указывается Спарта.
Вместе с тем если вышеприведенные сравнения и метафоры и могут служить достаточным основанием для тезиса о близости VII книги «Политики» к «Протрептику», они, однако, вовсе не делают совершенно неизбежным вывод В. Йегера о раннем периоде создания первой.[625] Помимо непосредственной задачи, которую ставил перед собой Аристотель в «Протрептике» — оказать облагораживающее воздействие на отпрыска кипрского царского дома, немалую роль, вероятно, играла и полемика с Исократом, приравненным на этот раз к тем политическим теоретикам, которые, пребывая в плену «эмпирических иллюзий», предпочитают восхвалять спартанскую конституцию, вместо того чтобы обратиться к поиску трансцендентного политического идеала.[626]
В VII книге «Политики» мы имеем дело с теоретическими результатами этого поиска, обогащенными многими сделанными в других книгах наблюдениями, относящимися к периоду научной деятельности Ликея. Сохраняя, вероятно, до конца своей жизни склонность к умозрительным политическим построениям, Аристотель на любом этапе разработки государственного идеала, следуя по пути, близкому к избранному его учителем, отстаивал собственные принципы обоснования этого идеала, в ряде случаев сильно отличающиеся от платоновских.
Доказательством этого является то, что, например, уже в «Протрептике», полностью разделяя взгляды Платона на практические задачи, стоящие перед философией, Стагирит ищет «предельные основания» для конструирования совершенного полиса не в платоновском мире идей вообще и не в идее блага в частности, но предпочитает апеллировать к «природе» как «инструменту», наиболее пригодному для целей законодателя и серьезного политика, соответствующего точным инструментам строителя (fr. 49 Düring; ср.: Pol., VII 15, 11).[627]
Вопрос, употреблял ли Аристотель в данном случае понятие «природа» как тождественное платоновской «идее» или же, наоборот, сознательно ориентировался на доплатоновскую традицию изучения природы, развиваемую ионийской философией и медициной, а в дальнейшем софистами, киниками и стоиками, в силу своей сложности требует специального исследования.[628] Нельзя, например, с полной уверенностью утверждать, что рассмотрение в «Протрептике» природы как высшего критерия истинности того или иного государственного устройства, уже содержало в зачаточном виде программу исследования политических проблем, которой Аристотель завершает «Никомахову этику» (Arist. E. N., X 10, 1181b 15 sqq.). Следует остановиться поэтому только на одном вопросе, а именно — в какой связи находится аристотелевская концепция природы с моделью идеального государства, разрабатываемой в «Никомаховойг этике» и «Политике».
Из семи определений, выдвинутых Стагиритом в «Метафизике» (IV 4, 1014b 16—1015а 19), в «Политике», как правило, используется так называемое «первичное» определение природы как сущности того, «что имеет начало движения в самом себе как таковом».[629] Поскольку все, что существует «по природе», имеет, согласно Аристотелю, определенную цель ( τέλος), то развитие каждой природной вещи осуществляется как реализация ее «изначальной потенции», как движение от первичного к завершенному состоянию. Соответственно конечной целью развития человека как «природного существа» является достижение самодовлеющего существования (автаркии), возможного только в государстве.
Таким образом, в сфере общественных отношений понятия «природный» и «политический» совпадают с точки зрения конечного идеала. Людям как «существам политическим» свойственно безотчетное стремление к совместной жизни, реализуемое через ряд ступеней «естественного развития», т. е. через организацию в семьи (ойкосы) и селения вплоть до завершающего момента — объединения в государственное сообщество (Arist. Pol., I 1, 7—9; III 4, 2).[630]
Полис в равной мере потенциально предшествует как самому индивиду, так и всем первичным человеческим сообществам, не имеющим автаркического статуса, поскольку целое не может не быть первичным по отношению к своей части (Ibid., III, 11 —12). Выдвигая на передний план идею о примате автаркии, Аристотель рассматривает вопрос о форме реализации человеческой природы исключительно с позиции государственного целого, дополняя при помощи новой философской аргументации выдвинутый его учителем постулат о праве государства распоряжаться своими членами во имя всеобщего блага. Этот постулат в дальнейшем лег в основание его собственной концепции идеального полиса (Ibid., I 1, 9; I 1, 12; ср.: VIII 1, 2).[631]
В ходе такой аргументации происходит очень интересный поворот мысли, свидетельствующий о глубокой общности в разработке концепции идеального полиса во всех аристотелевских этических и политических сочинениях. Речь идет об отождествлении понятий «природа» и «цель» при обсуждении вопроса о «благой жизни» (ευ ζήν). Характер и смысл данного отождествления многозначны и отражают вполне определенные противоречия, свойственные политическим построениям философа. Общая теоретическая направленность этих построений определена в «Политике» уже ее первыми вводными предложениями: «Поскольку мы видим, что всякое государство является неким сообществом и всякое сообщество образовано ради некоего блага (ведь именно ради предполагаемого блага все люди предпринимают все свои действия), то очевидно, что все сообщества стремятся к какому-либо благу, в особенности же к высшему из всех благ стремится сообщество, наиболее важное из всех и превосходящее все остальные. Это сообщество и называется государством или государственным сообществом» (Ibid., I 1, 1).
Данное введение в целом воспроизводит начало «Никомаховой этики», в котором «высшее благо» отождествляется с конечной целью всех человеческих стремлений и относится поэтому к ведению науки о государстве, или политике, определяющей при помощи законов, «какие поступки следует совершать и от каких воздерживаться», и пользующейся всеми остальными науками по своему усмотрению (Arist Е. N.,1 1, 1094а 19 sqq. — 1094b 12; ср.: Pol., Ill 7, 1).
В «Политике», вводя в свою конструкцию элемент развития, Аристотель также последовательно рассматривает «высшее благо» как «благую жизнь» в государстве, сущность которой составляет автаркия. Именно в ней проявляется «природа» полиса, тождественная его цели, т. е. «завершенному состоянию» общественного организма (Arist. Pol., I 1, 8).
На основании приведенных рассуждений нетрудно прийти к выводу, что пределом стремлений человека, как «политического животного», является «наличное бытие» любого государства независимо от его конституционной формы. Но ведь отсюда уже недалеко и до такого парадоксального на первый взгляд положения, согласно которому «высшее благо» проявляется даже в порочных видах государственного устройства, коль скоро они остаются верны принципу автаркии. В тексте «Политики» можно найти немало доказательств того, что самого Аристотеля подобная постановка вопроса нисколько не смущала. Так, наиболее ярким примером можно считать разработанную философом обширную программу стабилизации тиранической власти (Ibid., V 9, 1—23; ср.: III 5, 8).
В III книге, отвечая на вопрос о цели возникновения государства, Стагирит вполне допускает возможность существования политического сообщества просто ради самой жизни как таковой. Из-за привязанности к жизни «большинство людей готово претерпевать множество страданий», поскольку она заключает в себе «некое благоденствие» и «частицу прекрасного» (Ibid., III 4, 2—3).
Вполне естественно, что при таких ценностных установках в пренебрежении оказывается забота о воспитании и совершенствовании в добродетели, и «каждый живет, как желает, подобно киклопу, ,,право творя над детьми и супругой”» (Arist. Е. NT.. X 10, 1180а 25 sqq.).
Сравнивая подобные рассуждения с постоянно встречающимися у Аристотеля ссылками на человеческие порочность, корыстолюбие, беспредельность вожделений и т. д., некоторые исследователи приходят к выводу о пессимизме, свойственном в зрелые годы этическим и политическим взглядам философа, и даже о своего рода мизантропии.[632] Необходимо в связи с этим отметить, что настроения скептицизма и пессимистического отношения к человеческой природе не могли поколебать твердой веры Аристотеля в необходимость и возможность изменения существующего положения вещей при помощи справедливых законов и воспитания. Естественно, изменение вообще возможно только при условии, если политик не рассматривает любую систему законов как окончательное воплощение «благой жизни», но исходит из следующих положений: «Государство является неким сообществом равных друг другу людей, существующим ради достижения возможно (курсив наш. — В. Г.) лучшей жизни», на осуществление которой «могут с полным правом притязать ... лишь воспитание и добродетель» (Arist. Pol., VII 7, 2 sqq.; Ill 7, 6; ср.: VIII 1, 2).
Аристотелевская концепция природы получает, таким образом, дополнительный импульс, соединяясь с мыслью об активной роли законодателя, заимствующего у природы основные принципы построения идеального полиса. Такого рода «состыковка» появляется уже в «Никомаховой этике». Если во вводном ее разделе само понятие «природа» упоминается только вскользь (Arist. E. N., I 1, 1094b 13 sqq.),[633] то в V книге многообразию человеческих установлений и государственных устройств противопоставляется одно, лучшее по природе, государство (Ibid., V 10, 1135а 1 sqq.; ср.: М. М., I 33, 1195а 1 sqq.). в котором, как отметил Ф. Дирльмайер, «дискуссия об естественном и положительном праве была бы излишней».[634]
В IV книге «Политики» эта мысль существенно уточняется в рассуждении о том, что даже наилучшие в обычном смысле формы правления — полития и аристократия оказываются ошибочными по сравнению с самой правильной (τής όρθοτάτγ,ς πολιτείας — Arist. Pol., IV 6, 1), определяемой в дальнейшем как «первое наилучшее государственное устройство», т. е. чистая и истинная аристократия (Ibid., IV 5, 11; IV 6, 5; ср.: II 3, 9).[635]
Если подвести предварительный итог всему вышесказанноному, то можно вполне согласиться с основным выводом Э. Баркера, подчеркивавшего, что исходные принципы аристотелевской политической философии, неизбежно ведущие к концепции идеального полиса, играют в «Политике» гораздо большую роль, чем сам проект, общие контуры которого были очерчены в VII—VIII книгах.[636] Уступая платоновским произведениям в разработке многочисленных конкретных деталей, аристотелевская концепция значительно превосходила их рационализмом построений, а также безупречным систематическим проведением в области теории сформулированной в «Законах» установки на постепенную реализацию идеальных политических принципов.
«Коль скоро, — отмечают К. фон Фриц и Э. Капп, — не только этика, но и политическая теория тоже определяются концепцией наилучшей жизни, отношение к действительно существующим государствам является по необходимости более или менее критическим. Но если „природа” охватывает политическую жизнь и если, следовательно, любое государство существует ради благой жизни, гораздо более позитивное отношение ко всем этим формам представляется возможным и теоретически оправданным».[637] И хотя сам Аристотель, выстраивая «логическую цепочку» от «первого государства» к его высшей форме, и наоборот, практически ничего не говорит, каким образом претворить в жизнь· наилучшую конституцию, поставленная им для «государственного мужа» задача «уметь помочь усовершенствованию существующих видов государственного строя» сама по себе не была преимущественно конъюнктурной, но, напротив, по крайней мере теоретически была постоянно связана с конечным пунктом программы «Политики» (Ibid., IV 1, 3—4; ср.: IV 9, 13).
Остановимся теперь на нем подробнее. Многократно воспроизводимый в научной литературе,[638] сам проект Аристотеля дает мало нового по сравнению с проектом «Законов», «бледной копией» которого он является, по определению многих исследователей.[639] Мы ограничимся поэтому только выделением специфических черт, отразивших изначальную оригинальность подхода Стагирита к разработке своего проекта. Как уже отмечалось, единственно возможной формой идеального полиса в «Политике» названа чистая аристократия, т. е. государство, в котором «добродетель мужа и добродетель гражданина должны быть тождественны» (Ibid., III 12, 1; IV 5, 10). «Бросается, однако, в глаза, что описываемый в VII—VIII книгах идеальный строй ни разу прямо не назван аристократическим».[640]
Подобную неопределенность в обозначении формы правления нельзя, на наш взгляд, считать случайной. В ее основе лежит все та же «дихотомия утопического образа», постоянно встречающаяся в различных вариантах в политической философии Платона. В этой связи вполне уместно остановиться еще на одном существенном противоречии аристотелевской концепции общественного развития.
Если судить по тексту «Политики», для Аристотеля, как и для его учителя, неизбежность процесса деградации государственных устройств является своего рода аксиомой (Ibid., I 2, 19; II 2, 9; III 4, 6; IV 3, 5; V 1, 2 sqq.; V 8, 2; VII 7, 3 etc.). Каким же образом представленная в III книге картина исторического регресса от аристократии к демократии через олигархию и тиранию (Ibid., III 10, 8) соотносится с идеей развития «природных вещей» (ведь к их числу относится и государство) от первоначального состояния к завершенному? Отчасти ответ на данный вопрос содержится в программе улучшения существующих государственных устройств, развернутой в IV книге. Главным средством реализации этой программы является воспитательная деятельность законодателя, который должен «иметь в виду не только наилучший вид государственного устройства, но и возможный при данных обстоятельствах, и такой, который всего легче может быть осуществлен во всех государствах» (Ibid., IV 1, 3, пер. С. А. Жебелева).
Временно абстрагируясь от «высшей цели», стоящей перед законодателем, Аристотель обращается к проблеме «как может быть наилучшим образом устроена жизнь для большей части государств и для большинства людей безотносительно к добродетели, превышающей добродетель обыкновенного человека, безотносительно к воспитанию, для которого потребны природные дарования и счастливое стечение обстоятельств, безотносительно к самому желательному строю, но применительно лишь к той житейской обстановке, которая доступна большинству, и к такому государственному устройству, которое оказывается приемлемым для большей части государств» (Ibid., IV 9, 1, пер. С. А. Жебелева).
Таким строем оказываются не существовавшие прежде и ныне различные виды аристократии, но так называемая полития, или «средний государственный строй», который «либо никогда не встречается, либо редко и у немногих» (Ibid., IV 9, 12; ср.: IV 5, 9; IV 9, 10). По отношению к большинству греческих полисов «средний строй» является, следовательно, почти недостижимым идеалом. В отличие от «Законов», где «второе по совершенству государство», представляется их автору как смешение монархических и демократических элементов, аристотелевская полития определяется как «середина» между олигархией и демократией (Ibid., IV 7, 4; IV 6, 2). «Мерилом того, что такого рода смешение демократии и олигархии произведено хорошо, служит то, когда окажется возможным один и тот же вид государственного устройства назвать и демократией, и олигархией» (Ibid., IV 7, 4, пер. С. А. Жебелева; cd.: II 3, 11).
Чрезвычайно характерной особенностью подхода Стагирита к определению политии как образцового строя, применимого для большинства существующих государств, является то, что, с одной стороны, он рассматривается как весьма близкий к аристократии (Ibid., IV 6, 5; IV 7, 3), а с другой — имеет большое сходство со спартанским строем (Ibid., IV 7, 5; ср.: II 3,9). Сближение политии с государством лакедемонян заслуживает особого внимания, поскольку, по справедливому замечанию Р. Вейла, в период создания «Политики» «спартанский мираж» для Аристотеля уже «почти исчез».[641] Ссылаясь на Спарту, философ стремился прежде всего наглядно представить некоторые черты практического осуществления «смешанной конституции», проявляя также немалую изобретательность для того, чтобы и в теоретическом плане она выглядела в глазах читателя (или слушателей) чрезвычайно простой и привлекательной.
Аристотелевская аргументация является по преимуществу этической. Развивая данное в «Никомаховой этике» определение добродетели как «обладание серединой» (Arist. E. N., II 6, 1107а 2 sqq.), Стагирит обосновывает «природное стремление» государства к равенству и подобию граждан, свойственным в наибольшей степени «средним людям» (τοις μέίοις —Arist. Pol., IV 9, 6). При их помощи достигаются и наилучшее объединение гражданского коллектива (ή -χοινωνία ή πολιτική άρίστη), и прекрасное управление государственными делами (ευ πολιτεύεσθαι).
В экономическом отношении гарантией стабильности является установление «средней, но достаточной» собственности, обеспечивающей «социальное равновесие», т. е. господство «среднего большинства» над крайностями, возникающими вследствие противоположности богатства и бедности (Ibid.. IV 9, 7—9; ср.: IV 6, 4—5). В политическом же плане гражданская общность гарантируется соединением конституционных преимуществ олигархии и демократии, например установлением среднего имущественного ценза для участия в народном собрании, привлечением всех граждан к исполнению судебных обязанностей, введением необусловленного цензом избрания на государственные посты (Ibid., IV 7, 2—3).
Но наиболее истинной гарантией сохранности политии (как, впрочем, и любого другого строя) Аристотель объявляет господство закона, полностью разделяя в данном случае позицию, занятую Платоном в «Политике» и своем последнем сочинении. Возможно, Аристотель намеренно стремился приблизить собственную точку зрения к платоновской, придавая пространному рассуждению о роли закона характер критики неограниченной монархической власти (Ibid., III, 11, 2—10; ср.: III 10, 4—5; IV 6, 3).
В рамках данного рассуждения с особой силой подчеркивается сформулированный уже во II книге принцип политической справедливости, требующий, «чтобы все равные властвовали в той же мере, в какой они подчиняются, и чтобы каждый поочередно то повелевал, то подчинялся» (Ibid., III 11, 3; ср.: II 1, 5—6).
С целью выявления природного характера «принципа ротации», свойственного любому государству, основанному «на началах равноправия и равенства граждан» (Ibid., III 4, 6), Аристотель прибегает к явной исторической фикции: «Притязание на то, чтобы править по очереди, — утверждает он, —.. .первоначально имело естественные основания: требовалось, чтобы государственные повинности исполнялись поочередно, и каждый желал, чтобы, подобно тому как он сам, находясь ранее у власти, заботился о пользе другого, так и тот другой, в свою очередь, имел в виду его пользу» (Ibid.). В дальнейшем стремление к непрерывному обладанию власти из-за приносимых ею выгод превратило «сообщество свободных людей» в некое «государство рабов и господ ... где одни исполнены зависти, другие—презрения» (Ibid., III 4, 7; IV 9, 6; см. также: IV 9, 5; III 5, 10).
Такую картину можно вполне сопоставить со схемой изменения государственных устройств, где в качестве главной причины деградации выступает «неизменная страсть корыстолюбия правителей», их стремление монопольно обогащаться за счет общественного достояния, приводящее к неизбежному уменьшению числа стоящих у власти лиц (Ibid., III 10, 7—8). Только аристократия — «правление нескольких, всех одинаково хороших» — когда-то в давние времена была избавлена от этой порчи (Ibid., III 10, 7), поскольку любое монархическое правление привносит в принцип властвования «животное начало» (Ibid., III 11, 4; ср., однако: V 8, 2), а внутри политии рано или поздно появляются честолюбцы, одержимые жаждой господства и обогащения, устанавливающие олигархический строй (Ibid., III 10, 8). Из их среды в дальнейшем выделяются тираны, неизбежно вызывающие своими методами правления недовольство народной массы, которая свергает корыстолюбивых правителей и устанавливает демократию (Ibid.).
В рамках приведенной схемы аристотелевская мысль развивается как бы по двум взаимосвязанным направлениям. С одной стороны, идеальное равенство было возможно в древности, когда государства были сравнительно невелики и малочисленны. С другой стороны, свержение тиранов и установление демократии в более поздний период означают одновременно и возврат к такой государственной форме, где при условии господства закона гарантируются не только определенные равенство и свобода, но и возможность регулировать отношения между различными имущественными группами, а также порядок занятия их представителями государственных должностей (Ibid., IV 4, 2—3; ср.: Plato Resp., VIII, 557а sqq.). Исключение составляет только крайняя демократия, которая даже не рассматривается как форма государственного устройства (Arist. Pol., IV 4, 3—4, 7).
Подчеркивая, что для современных государств демократический строй является чуть ли не единственно возможным вследствие увеличения численности населения (Ibid., III 10, 8), Аристотель все же довольно ясно дает понять, что переход от тирании к демократии означает «поворотный пункт» в поступательном развитии и может рассматриваться как начало «нового подъема». На это указывают по крайней мере два момента. Во-первых, рассмотренная схема носит сугубо теоретический, а не конкретно-исторический характер, так как, по утверждению самого Стагирита, в действительности тирании могут возникать не только из олигархии, но также из демократии и даже из «средних видов государственного строя» (Ibid., IV 9, 8). Во-вторых, в научной литературе уже неоднократно отмечалось, что отношение философа к демократии в «Политике» является более чем снисходительным (ср.: Plato Resp., VIII, 558с). Весьма многозначительными, например, выглядят заявления о большей компетентности суждений народной толпы όχλος) по сравнению с суждением одного в подавляющем количестве вопросов вообще и в вопросах искусства в частности (Arist. Pol., Ill 10, 5; III 6, 4—5),[642] о меньшей подверженности массы порче и т. д. (Ibid., Ill i0, 6). Явно положительное по смыслу сравнение аристократов и олигархов с демосом Стагирит дополняет признанием полезности введения у тех и других принципа равенства и узаконений, к которым стремятся демократы (Ibid., V 7, 3—4). Наконец, Аристотель чрезвычайно высоко оценивает законодательную деятельность выходца из «средних граждан» — Солона, называя его основателем «прародительской демократии» (δημοκρατία πάτριος), в которой удачно смешаны элементы разных государственных устройств (Ibid., II 9, 2—3; IV 9, 10).[643] По-видимому, именно фигура Солона скрывается за таинственным «единственным мужем» который «дал себя убедить» ввести «средний строй» (Ibid., IV 9, 12).[644]
Отмеченные элементы концепции Аристотеля вполне позволяют сделать вывод о том, что философ рассматривал «основанную на законе демократию» в качестве той исходной политической формы, с которой и должно было начаться восходящее развитие греческих государств к более совершенному строю. Конструируя такую схему, Стагирит мог вдохновляться не только великими образцами далекого прошлого, но и результатами деятельности своих современников, например своего друга и соученика по Академии Ликурга — проводника умеренно-демократической программы в Афинах в 338—326 гг., а также своего бывшего ученика Александра, заменявшего, как известно, в Малой Азии в начале своего похода тиранические режимы на демократические.[645]
Быть может, мысль о том, что греческий мир находится только в начале своего «нового цикла» развития, заставляла философа проявлять некоторую сдержанность относительно наззания своего проекта идеального строя. Нельзя, конечно, исключать, что подобная неопределенность была одним из дидактических приемов, заставлявших слушателей Ликея делать самостоятельные выводы, исходя из общих принципов построения идеальной государственности, развиваемых практически во всех книгах «Политики». Но как не обратить внимания и на многочисленные «демократические вкрапления» в аристократическую конституцию, проект которой разработан в VII—VIII книгах. К примеру, проводимые Ликургом в Афинах меры, безусловно, наложили отпечаток как на внешний облик аристотелевского идеального государства, так и на характер его законодательства (забота о городских стенах, фортификационная структура, устройство гимнасиев, военное воспитание молодежи, резкие возражения против обращения в рабство военнопленных греков и т. д. — Ibid.. VII 10, 1 —11, 4; I 2, 18).[646] Рассуждения Стагирита о преимуществах сообщения государства с морем, признание необходимости вести активную торговлю и иметь собственный флот (Ibid., VII 5, 2—6) явно контрастируют с платоновскими предложениями, касающимися устройства Эвномополиса.[647]
Нет ничего удивительного в том, что в некоторых научных исследованиях аристотелевский проект совершенного полиса рассматривается либо как идеализация демократического режима, строго соблюдающего равенство в распределении собственности и в воспитании, либо как «идеализированная версия политии».[648] Такой сугубо прагматический подход, однако, в значительной степени упрощает сложный и многоплановый характер аристотелевских политико-теоретических построений, направленных в первую очередь на создание нормативного государственного идеала, с вершины которого можно оценивать не только историческое прошлое греческого полиса, но также ближайшие и далекие перспективы его развития.
В целом интерес к настоящему и будущему в «Политике» преобладает над интересом к древней традиции, на которую Аристотель смотрит не глазами историка, но прежде всего политического теоретика. «Именно поэтому различие между „прошлым” и „настоящим” выглядит у него достаточно субъективным и изменчивым».[649] Политической концепции Стагирита совершенно не свойственна ни идеализация догосударственного состояния, «жизни при Кроносе» и т. д., ни преклонение перед старинными греческими законами, которые он нередко сравнивает с «варварскими законодательствами» (Ibid., II 5, 11— 12). Положительная оценка, даваемая в «Политике» древнеегипетским институтам[650] или же некоторым спартанским и критским законам, органически связана с космологическими и философско-историческими представлениями Аристотеля. Разделяя в ряде аспектов платоновскую теорию «природных катастроф», периодически разрушающих созданные различными народами цивилизации (но не уничтожающих все человечество в целом), а также восприняв учение о «Великом Годе»,[651] Стагирит полагал, что и основные способы философствования, и политические установления «бесконечное число раз были придуманы в течение веков» (Ibid., VII 9, 4; ср.: II 2, 10—-11; Meth., XII 8, 1074b 1 sqq.).
Согласно Аристотелю, в основе большинства изобретений лежит извечное природное стремление людей к благоустройству собственной жизни, распространяющееся после удовлетворения первичных потребностей и на государственные институты (Arist. Pol., VII 9, 4). Задача законодателя заключается в том, чтобы выбрать наиболее ценные из государственных установлений, возникших в период между последней и грядущей мировыми катастрофами, и использовать их для своего проекта. По Аристотелю, к числу таких установлений относятся, например, разделение государства на отдельные слои (κατά γένη), отделение военного сословия от земледельческого (такие порядки были учреждены в Египте Сесотрисом, а на Крите Миносом), введение сисситий, «изобретенных» в далекой древности в Италии, а затем на Крите (Ibid., VII 9, 1—4). Все остальные детали идеальной конституции, «упущенные из виду», законодатель должен стремиться изыскать и восполнить сам (Ibid., VII 9, 5).
Подобная система взглядов, открывающая полный простор для творческого и конструктивного воображения, вплоть до нового времени всегда была особенно характерна для утопической литературы. Аристотеля, пожалуй, можно назвать первым в истории европейской общественной мысли утопистом, превратившим argumentum ad naturam в главный довод, при помощи которого можно опровергнуть любые возражения своих оппонентов и «научно» обосновать собственный проект, представив его как единственно возможный, способный обеспечить счастливую добродетельную жизнь и справедливость в общественных отношениях.
С вершины «абсолютной истины» утопические проекты предшественников, а также считавшиеся благоустроенными государства (типа Спарты), рассматриваются Стагиритом как. отклоняющиеся от полной αρετή , хотя отдельные их принципы вполне могут соответствовать намеченному им идеалу. Например, спартанский строй, несмотря на равенство, достигнутое при помощи сисситий, «демократической» системы воспитание и почти аристократического смешения конституционных элементов (Ibid., IV 7, 5), отклоняется от истинной добродетели в главном. Ведь основная цель законов Ликурга — подготовка к войне и господству над другими, тогда как главная задача заключается в создании таких условий жизни, при которых граждане, властвуя «над своим собственным государством»,, умеют пользоваться миром и досугом и воюют не ради приобретения деспотической власти, а исключительно для защиты полученных в результате мужества и воздержанности благ (Ibid., VII 2, 5 sqq.; VII 13, 8—20).
Точно так же Платон, в первом проекте указав на то, что государство состоит из многих необходимых составных частей, не определил в полной мере должного статуса непосредственных производителей. Установив общность имущества для стражей, но одновременно причислив земледельцев, торговцев и ремесленников к гражданам, он тем самым не только разделил свое государство на два враждебных друг другу, но и не смог сказать, в чем же все-таки состоит истинная цель политического сообщества (Ibid., II 2, 11—13; IV 3, 12—13). Но ведь «подобно тому, как в остальных, созданных природой сложных образованиях не все то, без чего не может существовать целое, является частью этого целого, так, очевидно, нельзя считать частями государства все то, что необходимо для его существования» (Ibid., VII 7, 1, пер. С. А. Жебелева).
На основании данного «закона» Аристотель исключает ремесленников, торговцев и земледельцев из числа граждан, объявляя «собственно частями государства» только «тяжеловооруженных и совещающихся» (Ibid., VII 8, 1—2, 5—6), которым и принадлежит право собственности. Продолжая критику Платона, Стагирит объявляет несоответствующими истине и природе как общественную собственность, так и иерархическую структуру внутри гражданского коллектива, выводимую из разделения души и государства на три основных элемента.
Выдвигая иной принцип деления человеческой души на две части (по аналогии с разделением души и тела), определяя свойством одной части — стремление (ορεξις), а другой — ум ν)ους), Аристотель кладет в основу отношений подчинения и властвования «естественно-иерархический» принцип возрастного деления. Поскольку, рассуждает он, «сама природа ... сделала одно и то же по своему происхождению существо более молодым и более зрелым» и поскольку свойственный зрелости ум, как высшая часть души, является конечной целью (τέλος) низшей, надлежит, чтобы обладающие рассудительностью старшие по возрасту граждане занимали основные государственные должности, в то время, как пылкая, сильная физически молодежь выполняла функции воинов (Ibid., VII 13, 22—23; VII 13, 3—6; VII 8, 3). Соответственно жреческие обязанности должны выполнять старики, освобожденные от всех прочих гражданских занятий (Ibid., VII 8, 6).
По замечанию Э. Баркера, все указанные меры должны были помочь идеальному государству избежать упадка и превращения в военное государство спартанского образца.[652] Данное замечание представляется особенно точным, если учитывать тот факт, что, выдвигая принципы возрастной иерархии и ротации в качестве наилучших гарантов полного равенства, гармонии и стабильности совершенного полиса, Аристотель, вероятно, постоянно сопоставлял свою концепцию с платоновской схемой деградации государственных устройств от «условного идеального» к тимократии и далее.
Итак, идеал Аристотеля — небольшая аристократическая «община равных», все члены которой участвуют в государственном управлении, посвящая (как в силу природной склонности, так и благодаря мудрой предусмотрительности законодателя) всю свою жизнь развитию собственной добродетели (Ibid., VII 12, 4—5; VII 4, 3—6). Сопоставление этого идеала с положением дел, сложившимся в греческих полисах в конце IV в., не могло не приводить к заключению об его полной оторванности от реальности. Более того, «в глазах современных афинских демократов аристотелевская политая и определяемая им (Аристотелем.— В. Г.) в качестве хорошей демократия, безусловно, выглядели антидемократическими и олигархическими».[653]
Философ сам неоднократно косвенно подчеркивает этот момент, довольно подробно останавливаясь на вопросе о том, кем должны быть те «одушевленные существа», которые, не являясь частями государства, образуют, однако, наряду с собственностью и орудиями труда «внешний базис», обеспечивающий гражданский коллектив необходимыми материальными продуктами (Ibid., VII 7, 1—4). Поскольку обращение греков в рабство отвергается Аристотелем как недостойное свободных людей средство, наиболее ..предпочтительной категорией «одушевленных орудий» являются рабы-землепашцы, не принадлежащие к одной народности и не обладающие горячим темпераментом (Ibid., VII 9, 9). На второе место поставлены варвары-периэки, отличающиеся теми же природными свойствами (Ibid.). В идеальном полисе они распределяются на две части. Одна группа должна принадлежать всей общине, обрабатывая землю, предназначенную для покрытия культовых расходов и расходов на организацию сисситий. Другая же отдается в распоряжение частных владельцев (Ibid.; VII 9, 6—7; VII 9, 9; VII 8, 5).
В другом пассаже Аристотель ясно дает понять, что главными кандидатами на место «варваров-периэков» являются азиатские народности, наделенные умом и способностью к ремеслам, но лишенные мужества и вследствие этого живущие в подчиненном рабском состоянии (Ibid., VII 6, 1; ср.: I 1, 5; III 9, 3). Это место совершенно явно перекликается с панэллинской доктриной. Впечатление о влиянии на Аристотеля панэллинских идей еще больше усиливается при чтении его знаменитого рассуждения о «срединном положении» эллинского племени, благодаря которому оно сочетает в себе, с одной стороны, свойственное северным варварам мужество, а с другой — умственные качества и способности к ремеслам, присущие азиатским народам. «Поэтому оно пребывает свободным и превосходно управляемым и способно властвовать над всеми, если бы получило единый государственный строй» (Ibid., VII 6, 1, пер. А. И. Доватура). Из контекста не ясно, какой именно строй имеется в виду — наилучший или же «средний». Однако не вызывает сомнений, что речь по-прежнему идет о дальнейшем усовершенствовании полисной государственности, признаваемой изначально превосходной «по природе».
Положение о том, что политическое единство народа (или объединение вокруг одного вождя) делает его непобедимым, стало аксиомой уже в период после греко-персидских войн (см., напр.: Hdt., V, 3; ср.: IX, 2; Thuc., И, 97, 5) . В глазах Аристотеля и большинства его предшественников мысль о политическом единстве эллинов была почти тождественной лозунгу объединения полисов с целью борьбы с «варварами», а в последней трети IV в. — и для осуществления программы завоевания Востока. Весь контекст «Политики» показывает ошибочность мнения В. Онкена, утверждавшего, что данное произведение было теоретической апологией идеала всемирной монархии в ее македонском варианте.[654] В начале 70-х годов нашего столетия эту же гипотезу весьма горячо отстаивал, например, М. Плезя — издатель и комментатор так называемого «Письма Аристотеля к Александру», сохранившегося в арабской версии.[655] Данный документ, содержащий в большом количестве банальные риторические рассуждения в духе позднеэллинистической монархической пропаганды, является очевидной позднейшей подделкой и не может ни в коей мере служить свидетельством разрыва Аристотеля с полисной идеологией.
Подвергнув взгляды М. Плези резкой критике (особенно попытку польского ученого провести параллель между восхвалением «единого правителя» в «Письме» и приводимым выше местом из VII книги «Политики» о преимуществах для греков «единого государственного строя»), Р. Вейл в одной из своих последних работ пришел к следующему выводу: данное место содержит намеки, позволяющие приписать Аристотелю мысль о «более широкой» политической организации по сравнению с полисом.[656]
Мнение Р. Вейла не может, с нашей точки зрения, найти подтверждение в данном месте «Политики». Не подтверждается оно и восстановленным лишь приблизительно современными исследователями содержанием другого произведения Аристотеля — «Александр, или о колониях», написанного, как считается, после решающих побед македонского царя.[657] Предположительно именно в этом произведении Стагирит призывал царя обращаться с варварами деспотически и как с врагами, используя их наподобие животных или растений, а с греками, как вождь, проявляя о них дружескую заботу (Plut. De Alex. М. fort., I, 6; Strab., I 4, 9).
В 30-е годы Э. фон Иванка выдвинул гипотезу о тождестве данного аристотелевского сочинения с VII—VIII книгами «Политики», усматривая в нем нечто вроде наставления, обращенного к бывшему ученику с тем, чтобы дать ему ряд практических советов. Необходимость такого шага была якобы обусловлена несогласием Аристотеля с той политикой, которую Александр проводил на завоеванном Востоке.[658]
Опровергая указанные выводы, А. И. Доватур вместе с тем не ставил под сомнение гипотезу о намерении философа оказать на Александра воздействие с той целью, чтобы «мир старых греческих полисов» мог «получить от нового вершителя судеб то наилучшее устройство, которое, в представлении Аристотеля, подходило для любого полиса, — правление „средних”. Новооснованным полисам, думал Аристотель, была полная возможность дать наилучшее в абсолютном смысле социальное и политическое устройство».[659]
Даже если предположить, что Стагирит действительно питал такого рода иллюзии, они должны были развеяться при получении сведений о том, как вел себя его царственный ученик после завоевания Персидской империи. Политика основания Александром на Востоке не полисов, а поселений военного типа со смешанным населением, вызвавшая в конце концов массовое недовольство и македонян, и греков, шла абсолютно вразрез с аристотелевскими идеями и планами.[660] Не является ли это основной причиной не только отрицательного в целом отношения Аристотеля к монархии (и как к государственному строю, и как к «конституционному элементу» наряду с олигархическим и демократическим),[661] но и проявленной им крайней сдержанности в отношении упоминания самого имени Александра, характеристики методов его правления и т. д.[662] В VII книге надежды на основание идеального полиса связываются не с «идеальным монархом», но, с одной стороны — с судьбой, с другой же — с добродетелью граждан, участвующих сообща в государственном управлении (Arist. Pol., VII 12. 4-5).
Стремление Александра к созданию всемирной империи, не опирающейся на полисы, не могло не представляться Аристотелю опасным и гибельным. «Подобно тому, — писал Стагирит, — как один из способов, содействующих ее (монархической власти. — В. Г.) гибели, заключается в том, чтобы придать царской власти более тиранический оттенок, так спасительное средство для тирании — сделать ее скорее похожей на царскую власть, заботясь при этом только об одном: удержать в своих руках силу. . . Тирану свойственно приглашать к своему столу и вообще проводить время больше с иноземцами, чем с местными гражданами: последние для него — враги, а первые не станут его противниками» (Ibid., V 9, 10; V 9, 7, пер. С. А. Жебелева).
Эти и другие горькие максимы невольно перекликаются с деятельностью Александра и вполне могли восприниматься читателями «Политики» как правдоподобный портрет жестокого монарха, предавшего казни Каллисфена. Так или иначе крах надежд на реализацию политических планов, несомненно, усиливал утопизм в построениях Аристотеля. Но именно редкое соединение в его теории тенденции к идеальному конструированию с вполне реалистическим анализом конституций греческих государств привело к возникновению, пожалуй, единственной полисной утопии, в которой рационалистические элементы получают абсолютное превосходство над опирающимся на мифы традиционным способом утопического творчества.
Глава V. ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ УТОПИЯ
§ 1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭВОЛЮЦИИ УТОПИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РАННЕЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД
Эпоха эллинизма начинается вместе с походами Александра. Нами уже отмечалось, что завоевательная экспедиция на Восток в известном смысле была подготовлена всем ходом социально-экономического и политического развития греческого мира. Задолго до высадки македонского царя на малоазийский берег восточная кампания представлялась политическим теоретикам типа Исократа и Аристотеля чуть ли не единственным желанным выходом из раздиравших греческие полисы противоречий.
Завоевание Востока вполне может рассматриваться как «вторая волна» греческой колонизации, осуществлявшейся, конечно, в совершенно новых исторических условиях и имевшей иные причины и последствия. И если в VIII—VII вв. объектом экспансии стали средиземноморские области, населенные отсталыми варварскими племенами, а уровень развития культуры самих греков был еще сравнительно невысок, то в конце IV в. покоренными оказались страны, хотя и называемые дикими и «варварскими», но обладавшие цивилизацией, которая всегда вызывала пытливый интерес у многих поколений греческих мыслителей.
Теперь эти древние страны «вошли в круг эллинистической цивилизации, „ мировым” языком которой стал греческий. В их плоть внедрялись колонии, организованные по типу эллинского полиса. Греческие города с греческими названиями, храмами в честь богов Олимпа, с театрами и палестрами вырастали, как грибы, среди чужой им сельской местности. Образцовым примером такого оторванного от „почвы” города была основанная самим Александром у дельты Нила знаменитая Александрия с ее геометрической планировкой и космополитическим населением, говорившим по-гречески и называвшим себя „эллинами”, — а вокруг лежали египетские деревни, где, как и во времена фараонов, поклонялись священным животным...».[663]
Политика «слияния народов» поощрялась самим Александром и проводилась вполне целенаправленно, являясь до определенной степени результатом собственных идеалов и устремлений македонского монарха. Поэтому нет ничего удивительного в том, что греками более позднего времени эта политика иногда рассматривалась как осуществление грандиозного идеального проекта переустройства мира, основанного на принципах всеобщей гармонии и преодолевшего традиционный полисный строй. Такой взгляд отразился, например, в моралистическом трактате Плутарха «О счастье и доблести Александра Великого», приписывавшего македонскому царю претворение в жизнь программы, изложенной в сочинении Зенона Китийского «Государство». «И весьма почитаемое государственное устройство основателя школы стоиков Зенона, — писал Плутарх, — направлено на обоснование того единственного главного положения, чтобы мы селились не по городам и не по демам, разделяемые каждый в отдельности собственными правами и обязанностями, но чтобы мы считали всех людей содемотами и согражданами и чтобы была единая жизнь и порядок, подобный порядку единого стада, взращиваемого общим законом. Зенон описал это, словно запечатлев сон или образ философского благозакокия и государственного устройства. Александр же претворил слово в дело» (I, 6=SVF., I, 262).
Приведенный отрывок является тем более примечательным, что им открывается широкомасштабная апология деяний Александра, разумно пренебрегавшего, как считает Плутарх, советами Аристотеля (заботиться об эллинах, как о друзьях и родственниках, а с варварами обращаться, как с животными и растениями) и предпочитавшего роль устроителя нового гармоничного общества, в котором жизнь и нравы греков и варваров были бы смешаны, «словно в дружеском сосуде», а их образ жизни, одежда, доблесть, сделались бы едиными, будучи следствием кровного родства и общего потомства (Ibid.).
Некоторые современные исследователи используют плутарховские идеи и другие позднеантичные свидетельства такого рода для создания псевдоисторического в своей основе романтического образа Александра — идеалиста и «философа на троне», а также для доказательства положения о принципиальной противоположности идей, связанных с рождением стоической и кинической школ, политической теории периода греческой классики.[664] Вопрос о побудительных мотивах политики, проводимой македонским царем на «завоеванных копьем» землях, выходит за рамки данной книги. Остается, однако, важный момент, имеющий самое непосредственное отношение к проблеме утопии, а именно: можно ли рассматривать вслед за Плутархом политическую мысль раннего стоицизма вообще, и «Государство» Зенона в частности, как теоретический коррелят этой политики, как ее идейное оправдание post factum.[665]
Для выяснения отмеченного момента необходимо кратко остановиться на сдвигах, происшедших в греческой общественной мысли в конце IV — начале III в., которые были весьма существенны по своему характеру. Их анализ нередко порождает в научной литературе довольно противоречивые на первый взгляд мнения. Так, согласно Ф. Уолбэнку, «непосредственное присутствие монархии затронуло все аспекты жизни, включая политическую теорию и философскую спекуляцию».[666] Р. Мюллер, напротив, считает, что «процесс упадка автономного полиса и возникновение огромных эллинистических монархий едва отразились в области социальной теории».[667]
Приведенные суждения не могут, однако, рассматриваться как абсолютно противоположные, поскольку фиксируют две различные стороны происходивших в греческом мире изменений— внутреннюю и внешнюю. Следует признать, что большинство политических учений, возникших в указанный период, отражали прежде всего продолжающийся процесс распада полисной государственности, но не ориентировались при этом на идеализированное воспроизведение нового политического ландшафта, пришедшего на смену традиционному. Влияние первого было скорее отрицательным.
В самом деле, бурное развитие утопической мысли в раннеэллинистический период не сопровождалось появлением полисных проектов, подобных платоновскому или аристотелевскому. Однако мы не встречаем и ни одного примера конструктивного обоснования преимуществ монархической формы правления перед полисной. Более того, учения и киников, и стоиков, в частности, свидетельствуют о том, что «присутствие монархии» в немалой степени стимулировало появление откровенно нигилистических взглядов на государство, уже встречавшихся в учениях софистов.
Рубеж IV и III вв. знаменуется ожесточенными столкновениями между диадохами. Одним из последствий этой борьбы было прекращение существования Коринфской лиги и резкое падение популярности идей панэллинизма. И хотя «лозунги освобождения греков и их объединения вокруг нового авторитетного вождя использовались преемниками Александра ... они не возымели даже тех мнимо конструктивных последствий, каких в свое время удалось достигнуть Филиппу и Александру».[668] Трудно представить, чтобы борьба за раздел гигантской империи последнего могла воодушевить население древних политических и культурных центров Эллады, пришедших в упадок после ряда войн (ареной которых был и Балканский полуостров) и ставших в итоге легкой добычей для римских завоевателей.
Весь III в. отмечен неоднократными попытками полисов вернуть себе былую самостоятельность, сопровождавшимися как созданием новых полисных союзов типа Этолийского и Ахейского,[669] так и эгалитарными движениями, среди которых наибольшую известность получили реформы, проводимые в Спарте Агисом IV (245 — 241 гг.) и Клеоменом III (235 — 222 гг.).
По своему характеру проведенные спартанскими царями преобразования были типичнейшим примером «реформ под флагом реставрации». Основные элементы их программы восстановления жизнеспособности государства спартиатов (кассация долгов, перераспределение земельных участков, возобновление сисситий — этой важнейшей основы спартанского образа жизни) проводились под лозунгом возрождения попранной древней справедливости и возврата к идеалам «ликургова космоса» (Plut. Agis., 4, 6, 9— 10, 19; Cleom., 10).[670]
Плутарх, подробно описавший перипетии политической борьбы в Спарте в периоды проведения этих реформ, в частности, подчеркивал большое влияние на Клеомена стоического учения, с которым царь познакомился еще подростком благодаря философу Сферу из Боспора (Plut. Cleom., 2), одному из наиболее известных учеников Зенона и Клеанфа. Среди многочисленных сочинений философа имелись работы и на политические темы: «О царской власти», «О спартанском государственном устройстве», «О Ликурге и Сократе», «О законе» (DL., VII, 37, 178). После прихода Клеомена к власти Сфер принял самое ревностное участие в осуществлении намеченных реформ (Plut., Cleom., 11), и, вероятно, не без его влияния была проведена в жизнь такая мера, как включение периэков в состав полноправных спартиатов (Ibid.).[671]
И хотя принадлежность философа стоической школы к числу активных сторонников полисных реформ — явление крайне редкое, тем более, что традиция предоставляет в наше распоряжение гораздо больше примеров, когда стоики выступали в роли советников эллинистических и римских монархов, все это не опровергает, а, наоборот, подтверждает тот факт, что «грек, как „человек полиса”, не исчез вместе с Аристотелем»,[672] а полисная идеология, даже претерпевая существенную трансформацию, продолжала оказывать в раннеэллинистический период определяющее воздействие на формирование политической теории и утопической мысли.
Разумеется, процесс утраты полисами самостоятельности не мог не наложить отпечатка как на характер развития общественной мысли, так и на ее основные ориентации. Период грандиозных утопических проектов остался позади. Их место заняли многочисленные работы на политические и моральные темы, проповедовавшие откровенный оппортунизм и примирено с действительностью или же идеализирующие далекое пробое. Так, например, среди огромного количества сочинений ученика Аристотеля — Феофраста, возглавившего Ликей после смерти учителя (323 — 288 гг.), наряду с такими трудами, как «Законы в азбучном порядке» (24 книги), «Обзор законов» (10 книг), имелась и работа под названием «Политика, применяемая к определенным обстоятельствам». Многие труды Феофраста были посвящены обзорам наилучших государственных устройств (в том числе и платоновского «Государства»), а также описанию политических обычаев и государственных деятелей (BL., V, 43 — 45). Он написал и несколько книг о царской власти и наилучшем управлении государством, посвятив одну из них правителю Греции Кассандру (DL., V, 47, 49). Многочисленные произведения на политические темы выходили и из стен Академии, глава которой — Ксенократ посвятил Александру Македонскому четыре книги своих «Начал царской власти» (DL, IV, 13—14).
От большинства указанных сочинений сохранились одни лишь названия. Однако поздеантичная традиция не доносит до нас никаких отголосков критического или пристрастного анализа академиками или перипатетиками теоретико-политических проблем в духе «Государства» и «Политики». Дискуссия о преимуществах той или иной формы государственного устройства, как правило, принимала отвлеченный характер.[673] Высокая оценка Феофрастом спартанской конституции, в частности введенных Ликургом сисситий, несомненно, носила оттенок восхищения, которое испытывает просвещенный человек, оживляя в своей памяти славные деяния далеких предков (Plut. Lyc., 10).
Неудивительно поэтому, что у другого представителя перипатетической школы — Дикеарха из Мессаны — мы встречаем, наряду с многочисленными описаниями политических устройств, нравов и обычаев различных государств (в том числе и Спарты[674]), идущую совершенно вразрез со взглядами учителя идеализацию «золотого века», в рамках которой гесиодовская версия соединяется с традицией, восходящей к орфикам и Эмпедоклу. Соответствующая природе наилучшая жизнь людей, принадлежавших к «золотому роду», рассматривалась Дикеархом в сочинении «Жизнь Эллады» как начальный этап цивилизации. Тогда люди не знали ни сельского хозяйства, ни ремесла, так как все на земле рождалось самопроизвольно. Не было «и войн, ни гражданских споров. Обладание собственностью не имело большого значения, и поэтому отсутствовали какие-либо причины для распрей. Подобно богам, люди «золотого рода» наслаждались миром, дружбой, свободным от всяких забот досугом, не ведая пороков и болезней (Porph. De abst., IV, 2 = = fr. 49 Wehrli). Злоключения начались уже на второй — «пастушеской стадии», когда вместе со стремлением к излишкам благам и честолюбием возникли частная собственность, убийство животных и себе подобных. С тех пор несправедливость, насилие и алчность сделались спутниками человеческой жизни (ibid.; ср.: Cic. De off., II, 5, 16=fr. 24 Wehrli; см. также: fr. 30, 48, 50 — 52).
Выдвижение идеи деградации человеческих нравов на передний план придает философско-исторической схеме Дикеарха (возможно, во многом ориентировавшегося на ход мысли старших софистов и прежде всего Гиппия[675]), резко этическую заостренность, сближая его учение с находящимся в стадии формирования стоицизмом. В дидактической поэме «Феномены» ученика этой школы — Арата из Сол (около 310—245 гг.) центральная гесиодовская тема справедливости кладется в основу рассказа о смене поколений людей: «золотой век» длился до тех пор, пока Дика (которую Арат называет «владычицей народов» и «подательницей справедливых вещей» — Arat. Phaen, 112 sqq.) пребывала среди людей, увещевая старейших граждан на агоре или на больших дорогах и возвещая им законы. У людей же «серебряного рода» богиня стала бывать все реже, и с рождением «бронзовых людей» она навсегда отлетела на небо, превратившись там в сияющую звезду.[676]
Влияние стоицизма на развитие Аратом темы «золотого века·» отчетливо просматривается, например, в прославлении мирного труда «золотых людей», доставлявших себе все необходимое при помощи быков и плуга и не нуждавшихся в торговых кораблях (ср.: Cic. De nat. deor., II, 159). Простота жизни и любовь к труду (φιλοττονία) — мотивы, занимавшие ведущее место в картине стоического и кинического образа жизни.[677]
Другим важным моментом, свидетельствовавшим о восприятии стоиками традиционных утопических сюжетов, является астральная символика в поэме Арата, возможно, указывающая ка проникновение в эллинистическую общественную мысль восточных религиозных идей. Скудость свидетельств не позволяет говорить с достаточной определенностью о том, в каком плане распространенные в стоической литературе представления о пребывании бессмертных душ наиболее выдающихся своей добродетелью людей среди звезд соотносятся с астрологическими спекуляциями, как правило, связанными с гаданиями, а нередко и с эсхатологическими предсказаниями (SVF., I, 174; II, 912, 939, 1189— 1192).[678] Раннестоическая «эсхатология», во ЕС я ком случае, находится гораздо ближе к абстрактно-философскому интересу Платона и Аристотеля к вопросу о «Великом Годе», чем к напряженному ожиданию конца мира ветхозаветными пророками или членами раннехристианских сект. Олицетворяя единую мировую силу с именем Зевса — «направителя и распорядителя всего сущего» (DL., VII, 88; ср.: Cic. De nat. deor., I, 34), стоики отождествляли ее также с огнем — первоначалом всего сущего и с рождающим мировым разумом (λόγος σπερματικός) и божественным дыханием (πνεύμα). Поэтому такие периодически наступающие катастрофы, как сгорание мира в божественном огне, являются настолько же закономерным процессом, насколько и порождение этим же огнем единичных вещей в начале каждого нового цикла (ср.: SVF., II, 584).
Подобный взгляд на природу мировых процессов, безусловно, восходящий к гераклитовскому учению,[679] делает в принципе невозможным его истолкование в собственно эсхатологическом духе. Восходящая к ионийской натурфилософии физика, положенная стоиками в основу этики, на раннем этапе разработки их учения лишь косвенным образом воздействовала на политические вопросы. В основном ее влияние ощущалось в том крайнем ригоризме и жесткости, с которыми основатели стоической школы отвергали существующие в греческом мире государственные установления и традиционный образ жизни.
В этом плане сочинения Зенона Китийского и Хрисиппа Солского, имеющие одинаковое название — «Государство», резко отличаются от современной им академической и перипатетической литературы. Так, центральным пунктом учения стоиков о государстве была постановка перед каждым человеком цели «ЖИТЬ В соответствии С Природой» (τέλος hzi το όμ0Λ0γ0-υμένως τη φύσει ζήν— SVF., I, 552). Подобный взгляд на проблему смысла человеческой жизни потенциально содержал в себе концепцию единства человеческого рода как необходимую часть стоической картины мира. «... Учение о том, что весь миропорядок проникнут и управляется Логосом, божественным принципом рациональности, который вложен в форме разума в каждую человеческую душу»,[680] неизбежно подводило к идее тождества всеобщего логоса с природой (SVF., I, 1о4—143, 216—223, 518—526; ср.: III, 215, 314, 319, 333, 339). Но тем самым сформулированная софистами противоположность природы и закона обострялась до предела, поскольку любое социальное ограничение человека могло быть объявлено неразумным. Анализ фрагментов и свидетельств источников, например зеноновского «Государства», отчетливо показывает отказ основателя стоической школы рассматривать в качестве разумных не только абсолютное большинство существовавших в Древней Греции социальных институтов, но также и проекты идеального полиса, созданные Платоном и Аристотелем. В частности, Плутарх специально подчеркивал, что Зенон написал «Государство» как ответ на самый знаменитый первый платоновский проект (SVF., I, 260).
Аутентичность данного произведения Зенона засвидетельствована также и его последователями — Клеанфом и Хрисиппом (DL., VII, 33—34; Philodem. Col., 10, 3). Однако их одобрительное отношение к политическим нововведениям Зенона дает современным исследователям еще меньше оснований для создания наиболее полного представления об этой его работе по сравнению, например, с попытками суммирования плутарховских высказываний о ней.
Довольно долгое время в научной литературе господствовав, ла точка зрения о том, что политая основателя Стоb охватывает весь обитаемый мир, представляя собой не что иное, как «всестороннюю общность человеческого рода ... единое государство всех людей», в рамках которого «должно... осуществиться абсолютное единство всякой социальной жизни, благо-, даря всепокоряющему и всеохватывающему закону разума, не Допускающему, чтобы развитию социального целого мешал индивидуальный произвол».[681] Если бы дело действительно обстояло таким образом, то мы вправе были бы говорить не только о радикальном перевороте, совершенном Зеноном в области политической теории, но и о произведенной им глубочайшей трансформации греческого мировоззрения.
Большинство сохранившихся текстов ведет нас, однако, в ином направлении. Обобщая аргументы критиков зеноновского «Государства», Диоген Лаэртский следующим образом охарактеризовал лежащие в основе данного произведения принципы: «Во-первых, говорят они, в начале „Государства” он объявил бесполезным весь общий круг знаний. Во-вторых, всех, кто не взыскует добродетели, он обзывает врагами, ненавистниками, рабами и чужаками друг другу, будь это даже родители и дети, братья или домочадцы. Далее ... он числит гражданами, друзьями, домочадцами и свободными людьми только взыскующих добродетели; поэтому-то для стоиков родители и дети — враги, ибо они не мудрецы. В том же „Государстве" он утверждает общность жен, а на 200-й строке запрещает строить в городах храмы, суды и училища; и о деньгах пишет так: „Денег не следует заводить ни для обмена, ни для поездок в чужие края”. А одежду велит носить мужчинам и женщинам одну и ту же, и чтобы ни одна часть тела не была прикрыта полностью» (DL., VII, 33, пер. М. Л. Гаспарова; ср.: SVF., 1, 264, 266).
Далее, подчеркивая предпочтение, отдаваемое стоиками «разумной жизни» (в ее рамках объединяются как деятельность, так и умозрение), Диоген Лаэртский вслед за рассмотрением вопроса о допустимости стоической доктриной добровольной смерти вновь возвращается к теме «Государства»: «Они (стоики.— В. Г.) полагают, что у мудрецов и жены должны быть общие, чтобы сходились, кто с кем случится (так говорят Зенон в „Государстве” и Хрисипп в книге „О государстве”); ... тогда всех детей мы будем одинаково любить — по-отечески, и не станет больше ревности из-за прелюбодеяний. А наилучшим государственным правлением они считают смешанное из народной власти, царской власти и власти лучших людей» (DL., VII, 131, пер. М. Л. Гаспарова).
Сам факт, что содержащееся в приведенных отрывках описание общих принципов утопии Зенона принадлежало его идейным противникам, является, на наш взгляд, еще одним доводом в пользу достоверности той схемы, против которой они сосредоточили огонь своей критики. Эта схема весьма наглядно свидетельствует, насколько далек зеноновский проект от идеи «мирового государства», с одной стороны, и насколько близок определивший его замысел ход мысли к платоновскому комплексу идей (хотя в данном случае к нему приставлен знак «минус»)—с другой.[682] Подобная близость хорошо осознавалась позднеантичными комментаторами. Например, Плутарх в заключении биографии Ликурга специально выделил то единое основание, на котором строились проекты Платона и Зенона: «... как в жизни одного человека, так и государства в целом ... счастье рождается из добродетели и согласия с самим собой» (Plut. Lyc., 31) Данное мнение, разумеется, не противоречит приводимому выше заявлению Плутарха о том, что Зенон намеренно противопоставлял свою политию платоновским политическим сочинениям. На наш взгляд, имеются достаточно веские текстуальные подтверждения такого противостояния. Так, например, пассаж о запрете строительства в полисах храмов, судов и гимнасиев явно направлен против тех мест в платоновских «Законах», где подробно повествуется об их сооружении (Plato Legg., VI, 758е sqq.; VI, 771c—d; VI, 766c sqq.; VI, 778c — d; VI, 779d). Замечание же о том, что деньги не следует заводить для обмена (νόμισμα ο’ουτ’ άλλαγής ενεκα . . . δείν κατασκεύαζε ιν), противостоит противоположному платоновскому утверждению: В идеальном государстве — νόμισμα ςύμβολον τής αλλαγής ενεκα γενήσεται (Resp., II 371 b).
В зеноновском государстве не существует ни торговли и ремесел, ни военного дела. По свидетельству Филодема, Зенон и Хрисипп специально рассуждали на тему о бесполезности оружия (περί άΧρηστίας των δπλων — Philodem. Col., 14), Даже в отношении проведения в жизнь принципа общности жен между обоими проектами имеются глубокие расхождения. Так, заботе Платона о подборе пар для получения хорошего потомства, веем изобретаемым им евгеническим ухищрениям Зеион противопоставляет простой принцип ώστε τον έντυχόντα τη έντοχούση /ρήσ!>αι (DL., VII, 131 ср.: Plato Resp., V, 458d sqq.; 451a—b, 459a sqq.).
Помимо таких беспорядочных отношений, Зенон и Хрисипп допускают в своих государствах не только всевозможные виды половых извращений, но даже любые формы каннибализма — поедание собственных отпавших членов, а также трупов, в том числе и мяса покойных родителей (DL., VII, 121, 129, 188; Sext. Emp. Adv. Math., 192—194; ср.: Plato Resp., V, 461b sqq.).[683]
Подобные крайности отчетливо указывают на то, что речь идет об обсуждении и столкновении именно «соответствующих природе», «идеальных» принципов в подходе к вопросу об организации совершенного полиса. В обычной жизни стоический мудрец не только самым упорядоченным образом вступает в брак и имеет потомство, но является также «настоящим священнослужителем, потому что он сведущ в жертвоприношениях, основании храмов ...» и т. д. (DL., VII, 119—120; см. также: VII, 121, 129— 130; ср.: Cic. De fin., III, 68).[684]
Наконец, полёмика с Платоном, возможно, проступает еще в одном принципиально важном пункте: в «Государстве» Зенона главным и единственным божеством, сохраняющим дружбу, свободу и олицетворяющим согласие, обеспечивающим счастье в идеальном полисе (τήν τή; πόλιως σωτηρίαν) является Эрот (SVF., I, 263). Напротив, Платон в «Законах» стремится принять всяческие меры для того, чтобы отвратить граждан Эвномополиса «от страстей, ввергающих в крайности», и придать любовным влечениям вид, соответствующий «истинному закону» (Plato Legg., VIII, 835d sqq.; 837a; ср.: Symp., 186a sqq.; 189c—193e).[685]
Приведенные примеры «противостояния» Платона и Зенона, на наш взгляд, свидетельствуют в пользу того мнения, что предметом спора является прежде всего вопрос о характере «истинной» полисной конституции. Радикальный разрыв с платоновской традицией вовсе не влек за собой отказа основателя Стои от полисного устройства вообще. На это прямо указывают как постоянное употребление Зеноном самого понятия «полис» или же, например, сохранившиеся сведения о том, что он гордился своим родным городом Китием (DL.. VII, 12), так и разработка философом альтернативной платоновской системы воспитания в ряде работ, по-видимому, теоретически примыкавших к «Государству» (DL., VII, 4).[686]
Мнению о неполисном характере политической концепции Зенона противоречит и высокая оценка, данная им «смешанной конституции», вероятно, в спартанском ее варианте. В данном случае мыслитель, скорее всего отдавал дань общей традиции, которой в равной мере следовали Антисфен, Платон и киники, например Диоген Синопский.[687]
В большинстве фрагментов мы не встречаем никаких указаний на существование в идеальном полисе Зенона политической или социальной иерархии. Вот почему не может быть принято предположение Д. Фергюсона, рассматривающего зеноновское государство как неопределенную в численном отношении совокупность сообществ, в каждом из которых «олигархия мудрецов» осуществляет господство над заурядной и лишенной разума массой.[688]
На наш взгляд, гораздо ближе к истине находится X. Болдри, выдвинувший гипотезу, согласно которой «Государство» было написано не как «нарративная утопия», но в виде системы общих принципов, формул и предписаний, обосновывающих эгалитарный идеал общины мудрецов, в рамках которой раскрываются главные черты соответствующего природе образа жизни.[689]
Однако приверженность Зенона этому идеалу не означает, что его проект «был революционным» по отношению к существующим в Древней Греции общественным отношениям, выражая по своему социальному содержанию настроения «обедневших свободных, мелких производителей, наемных работников и рабов».[690] Ни Зенон, ни его последователи никогда не выступали с какой-либо аболиционистской программой. Вопрос о рабстве, вероятно, вообще не рассматривался специально в «Государстве», представлявшем собой своеобразную объективацию в политической сфере принципиального для стоиков противопоставления добродетели мудрецов порочности остальных людей, независимо от степени их моральной испорченности и тем более социальной принадлежности (DL., VII, 120). Только мудрый свободен, «тогда как дурные люди — рабы, ибо свобода есть возможность самостоятельного действия, а рабство— его лишение» (DL., VII, 121 — 122, пер. М. Л. Гаспарова; ср.: SVF., III, 353, 355—356, 358).
Такого рода этическая нивелировка основной массы людей в реальном мире составляет контраст абсолютному равенству в идеальной общине, члены которой, подобно пифагорейцам, твердо придерживаются древнего философского принципа «у друзей все общее» (DL., VII, 123— 124).
Надо отметить, что картина идеального полиса ассоциировалась и у самого Зенона, и у читателей его «Государства» не только с данным принципом. Полемика с Платоном всегда имеет как бы двойной подтекст, постоянно вызывая в воображении гесиодовский рассказ о царстве Кроноса. В этой связи нам представляется вполне возможным предположение о том, что в уже приведенном отрывке из сочинения Плутарха об Александре сохранились какие-то отголоски аргументации Зенона, основанной на аналогии между выдвигаемым им проектом и переработанным в духе собственного учения мифом о «золотом веке». В самом деле, сравнение людей со стадом достаточно традиционно и постоянно возникает, например, у Платона в связи с описанием «жизни при Кроносе» (Plato Pol., 271 d — е, 274e; ср.: Legg., III, 680d — e; IV, 713c — d). В зеноновском «Государстве» идея ликвидации храмов, судов и гимнасиев вряд ли отделялась от представления о том, что в древние времена люди жили в согласии и дружбе, не нуждаясь в государственной организации. Почитание общиной мудрецов только бога любви невольно вызывает ассоциации с царством Киприды Эмпедокла.
Во многом аналогичными картине «золотого века» являются и широко распространенные в стоической литературе (начиная с самого раннего периода) представления о «косхмополисе», образ которого был одной из вариаций «социоморфной модели космоса», впервые возникшей в ионийской натурфилософии. Уподобление космоса хорошо управляемому сообществу, полису, граждане которого — звезды (SVF.. I, 99; II, 645; ср.:
III, 314), взгляд на мир как на «общий дом богов и людей или город тех и других» (Cic. De nat. deor., II, 154; De fin., III, 67; Legg., I, 7, 23; ср.: Marc. Aur., IV, 4) отражают общее представление стоиков о божественной природе всех вещей, никоим образом не тождественной, однако, ни внешнему миру природных явлений, ни противоречащим «истинной природе» реальным общественным отношениям в большинстве греческих государств.[691]
В этом плане вряд ли прав М. Поленц, рассматривавший утопию Зенона как мираж, образ счастливого существования людей в далеком прошлом.[692] Вместе с тем, на наш взгляд, нет никакой необходимости приписывать, как это делает, например, X. Болдри, основателю стоицизма «созерцание воображаемой отдаленной эпохи, когда все люди достигнут мудрости».[693] Переведенная на философский язык и воплощенная в образе космополиса концепция «жизни при Кроносе» является для зеноновской общины мудрецов в такой же мере идеальной нормой, в какой последняя выступает в качестве недосягаемого образца по отношению к существующим государственным устройствам и стремящимся их усовершенствовать теоретическим проектам типа платоновского или аристотелевского.[694]
Разумеется, Зенону, как и любому утописту, было свойственно стремление заглянуть в будущее. На это, например, косвенно указывает одна небольшая деталь в его утопии: мудрецу путешествующему из одной общины в другую, не понадобятся деньги (DL., VII, 33). Осуществление данного требования, конечно, возможно только в том случае, если все без исключения полисы будут жить по рекомендованным Зеноном правилам. В данном случае ход мысли Зенона совершенно совпадает с аристотелевским: полная гармония возникнет только тогда, когда все греки достигнут единого государственного устройства (Arist. Pol., VII 6, 1).
Мы не можем, однако, определенно сказать, какие именно элементы и мотивы занимали главное место в зеноновском «Государстве» — конструктивные или деструктивные. Большинство сохранившихся свидетельств показывает крайне нигилистическое отношение Зенона к существующим нормам и ценностям, сформировавшееся у него под влиянием его первых учителей — киников.
Свое «Государство» Зенон создал в период ученичества у киника Кратета. Рассказывая об этом, Диоген Лаэртский приводит чью-то характерную шутку, будто бы «Государство» было написано «на собачьем хвосте» (VII, 4). Неизвестный автор этой шутки, очевидно, имел в виду отмеченное еще в античности удивительное сходство данного произведения с одноименным сочинением основателя кинизма — Диогена Синопского (около 400 — около 325 гг.). Традиция о таком сходстве опирается главным образом на стоические источники.[695] В нашем распоряжении нет сколько-нибудь надежных фрагментов этого сочинения. Невозможно поэтому однозначно решить, какие именно положения Зенон заимствовал у Антисфена, а какие — у Диогена и Кратета (около 360 — около 280 гг.) и какие принадлежат ему лично.
Не вызывает, однако, сомнения общее для Зенона и Диогена стремление занять по отношению к Платону позицию, аналогичную той, которую тот занимал в борьбе против софистов, а именно — доказать несоответствие платоновских политических идей истинному знанию, которым должен обладать философ, претендующий на решение кардинальных вопросов человеческой жизни, на переустройство системы общественных отношений (DL., VI, 24—26).
В утопической мысли эпохи греческой классики образ мудреца опосредован идеалом совершенного государства, неотделим от этого идеала, практически сливаясь с ним воедино. Так, например, у Платона и Аристотеля философ должен сознательно отказаться от предпочтительной в принципе «созерцательной жизни» и взять на себя бремя управления государством, чтобы стать добродетельным в полном смысле этого слова. Философы-правители являются, таким образом, лишь важнейшей составной частью государственного целого, и их деятельность .направлена на обеспечение гармонии в его рамках.
Циническая утопия обладает совсем иной шкалой ценностей. Центральное положение в ней занимает идея автаркии мудреца, личность которого «трансцендентна» всяким традиционным политическим институтам и общественным связям и опирается только на авторитет собственного «Я». По Хрисиппу, мудрец отождествляется с царем. Это символизирует «самодостаточность» и «неподотчетность» первого любой внешней власти и восходит, по всей видимости, к киническому кругу идей (DL., VII, 122, 24; ср.: 29).[696]
Мысль о «царственной автаркии» у Диогена далеко не однозначна по смыслу. Согласно свидетельствам источников, она следует одновременно в двух направлениях, взаимосвязь которых не так-то легко установить. Главным направлением является чисто утопическая трактовка автаркии в духе софистической антитезы природы и закона. Вместе с тем, судя по сохранившимся отрывкам, Диоген, в отличие от Зенона, критиковал платоновское учение о политике не только с теоретических позиций, но и всячески стремился перевести свою критику в русло «практической добродетели».
Резко осуждая риторов за то, что они только рассуждают о добродетели, но не учат правильным поступкам (DL., VI, 28). Диоген называл платоновские диалоги пусторечием (VI, 20), стремясь подчеркнуть их практическую бесполезность. Вот почему многие отрывки из его политии зачастую выглядят как пародия на платоновские политические сочинения.
Исходным пунктом диогеновской критики стало новое толкование все той же излюбленной в греческой философской литературе максимы: «у друзей все общее». Диоген утверждал, «что все принадлежит мудрецам и доказывал это следующим-образом: «Все принадлежит богам; мудрецы — друзья богов; а у друзей — все общее; стало быть, все принадлежит мудрецам» (DL.. VI, 72, пер. М. Л. Гаспарова; ср.: VI, 37). Однако мудрецы, уподобившись богам, нуждаются в малом. Они могут «есть, в меру голода, ходить в одном плаще», презирать богатство*, почести и знатность (DL., VI, 105; ср.: Xen, Mem., I 6, 10). Мудрецы считают государством весь мир и не нуждаются в законах, созданных противоречащей разуму цивилизацией (DL., VI,. 72). Отрицая все ее достижения во имя природы, мудрый человек должен стремиться к осуществлению принципов общности· не в области голых абстракций, но в реальной жизни, даже если его действия идут вразрез с общепринятыми установлениями и моральными нормами. Поэтому даже такое нередко приписываемое тиранам святотатство, как ограбление храма, не является предосудительном поступком у «друзей богов» (ср.: Plato Legg., IX, 854а —е; Resp., IX, 574d). Точно так же и каннибализм признается правомерным, ибо «все существует во всем и посредством всего» (DL., VI, 73; ср.: VI, 34).
О том, что «Государство» Диогена представляло собой, по-видимому, не описание идеальной политии, а прежде всего полемически заостренный памфлет, содержащий расплывчатую, анархистскую в своей основе программу,[697] свидетельствует также трактовка философом проблем общности жен (DL., VI.. 72). Взгляды на нее у Диогена, по существу, противостоят всем предшествующим (Антисфен, Платон) и последующим (Кратет, Зенон) решениям этого вопроса, поскольку в них никак нельзя усмотреть идеи равенства полов, учитывая постоянные упоминания в античной литературе его многочисленных антифеминистских выпадов (см., напр.: DL., IV, 37, 54, 59, 61, 63, 65, 66; Ath., XIII, 656с).[698]
Нигилистическая направленность политической концепции Диогена в немалой степени уравновешивается, однако, его высокой оценкой искусства политика, а также почти платоновскими по характеру заявлениями о праве мудрых мужей властвовать как над людьми и домами, так и над государствами (DL., IV, 24, 29, 33, 63, 104; ср.: 34). Пародийной в своей основе замене в идеальном государстве монеты игральными бабками (своим искрометным сравнением Диоген явно стремился подчеркнуть «тяжеловесность» проведенной в Спарте денежной реформы — Ath., IV, 159с.; Philodem. Col., 14)[699] противостоит приверженность принципам спартанского воспитания, положенным Диогеном в основу собственной системы, противостоящей афияской (DL., VI, 27, 31, 59; ср.: 73, 104).[700]
В итоге мы имеем крайне противоречивую картину, вызывающую в научной литературе диаметрально противоположные оценки. Например, Т. Гомперц, явно исходя из уже отмеченной выше идеи «царственности мудреца», считал, что в диогеновской политии «формой правления, очевидно, должен быть просвещенный попечительный абсолютизм».[701]
Другой крайностью нам представляется трактовка кинической утопии (в том числе и «Государства» Диогена) И. М. Наховым в появившихся в 80-е годы трех его обширных исследованиях, посвященных кинической философии и литературе. Определяя кинизм в целом как «антирабовладельческое движение, испытавшее на себе влияние социальной психологии и идеологии рабов», а в политическом плане — как «первобытнообщинную реакцию на усиление рабовладельческих тенденций (?), на ухудшение положения разорявшейся в ходе Пелопоннесской войны свободной трудящейся бедноты и, следовательно, рабов»,[702] автор обосновывает тезис о принципиально новом, а именно коммунистическом характере кинической утопии, противостоящей всем предшествующим в истории античной общественной мысли утопическим проектам.[703]
Главными элементами этой утопии являются, «принцип автаркии, требование равной для всех бедности, отрицание частной собственности и рабства, а также признание труда благом и призывы к трудолюбию», общность жен и идеализация «естественного состояния и права».[704] По мнению И. М. Нахова, данные черты мировоззрения киников обнаруживают «поразительное типологическое сходство с примитивным утопическим уравнительным коммунизмом» нового времени.[705]
Прежде всего необходимо отметить, что многие из выдвинутых И. М. Наховым положений невозможно подтвердить путем ссылок на античные источники. С нашей точки зрения, «аскетически суровый, спартанский коммунизм, запрещавший всякое наслаждение жизнью», как характерная черта идеологии ранних пролетарских движений,[706] не имеет ни малейшего сходства с кинической этикой, внутри которой элементы ригоризма и аскетизма неотделимы от гедонистических призывов к наслаждению жизненными благами.[707] Киническая утопия никогда не была утопией «всеобщего труда» и никогда не разрабатывала концепции коллективистской трудовой морали. Выдвигая на передний план признание киниками труда благом, И. М. Нахов для раннего периода ссылается, как правило, только на мнение Антисфена (DL., VI, 11), которое в данном случае мало чем отличается от аналогичной мысли Сократа. Подобное сходство, однако, является для автора неприемлемым, поскольку он в равной степени противопоставляет идеолога «реакционной рабовладельческой аристократии» Сократа идеологу «рабов и неполноправных» Антисфену, выразителю настроений «рабов и разоренных войной масс, люмпен-пролетарского „дна”» Диогену и Кратету — представителю «обедневшего трудящегося населения, пауперизированного в результате длительных войн диа-дохов».[708]
Отрывая при помощи такой «классовой» оценки Антисфена и киников от «реакционера» Сократа, И. М. Нахов, однако, так и не дает ответа на поставленный им в косвенном виде вопрос, почему именно афинский философ был приговорен властями родного города к смерти, в то время как, например, «идеолог рабов» Диоген мог безнаказанно до глубокой старости возмущать спокойствие на улицах греческих городов (в том числе и Афин), открыто провозглашая «перечеканку ценностей» и эпатируя публику выставлением напоказ своей αναίδεια ,[709] Очевидно, это произошло вследствие того, что «критический экстремизм— наиболее сильная и бросающаяся в глаза черта кинического мировоззрения»[710] — не рассматривался ни правящими кругами греческих государств, ни эллинистическими монархами как потенциально опасный для их господства. По справедливому замечанию Д. Дадли, «киническая „анархия” никогда не становилась практической настолько, чтобы организовывать убийства тиранов, а их (киников. — В. Г.) инвективы против богатства в такой же мере приносили духовную выгоду богачу, в какой помогали улучшению материального положения бедняка. В самом деле, проповедуя, что бедность и рабство не являются препонами для счастья, киники исходили из предположения о ненужности социальной революции».[711]
Абсолютное большинство рассуждений Антисфена и Диогена о рабстве вполне подтверждают данную оценку (см., напр.: Stob., VIII, 14; DL., VI, 29, 66, 75; Dio. Chrys., IX, 11—12). Как уже отмечалось, проблема собственности и общности жен рассматривалась в «Государстве» Диогена скорее в отрицательном, анархистском плане. Если у Платона признание необходимости общественной собственности является важным конституирующим моментом в разработке идеологии и образа жизни идеальной аристократии, то у киников преобладает тенденция к декларативному отказу от богатства как несовместимого с добродетелью, свободой и автаркией мудреца (DL., VI, 50, 87, 93, 104— 105; Epict., III, 22, 45 — 48). С ними несовместимы также и узы брака, которым следует предпочесть свободные от всяких стеснений отношения полов. Явно выступая против платоновской евгеники, Диоген, однако, в отличие от Зенона, стремился подчеркнуть не беспорядочность половых связей, а именно свободный выбор партнера, используя для этого типичную формулу греческой интеллектуалистической этики (кстати, к ней вряд ли мог прибегать в эту эпоху идеолог античного люмпен-пролетариата) —τον πεισαντα τη πεισ&είση συνειναι (буквально: «убедивший пусть живет с той, которую он убедит» — DL., VI, 72).
Таким образом, речь идет не о какой-то антиполисной идеологии и модели общественного устройства, на чем настаивает И. М. Нахов,[712] но об обосновании альтернативного образа жизни, варьировавшегося у киников не в зависимости от различий в «классовых позициях», а в результате чисто индивидуального стечения жизненных обстоятельств, приводивших представителей различных общественных прослоек к кинической аскезе. Вот почему чисто негативные, «разрушающие устои» элементы этого философского учения могли в принципе легко уживаться с вполне позитивным подходом к старой традиции политической мысли, о чем свидетельствует, например, идеализация спартанцев или же такого их противника, как Эпаминонд (DL., VI, 39).
Кинический «космополитизм» не столько отвергает сложившиеся формы государственности, сколько стремится обосновать идею независимости философа, обладающего универсальной мудростью, не связанной никакими полисными границами. Причастные к этой мудрости люди, избравшие соответствующий природе образ жизни, объявляются согражданами. Именно эту идею имел в виду фиванец Кратет, называя синопца Диогена своим соотечественником (DL., VI, 93).
В наиболее известном кратетовском фрагменте описан остров Пера (буквально: котомка, сума), расположенный посреди моря сомнения. Там все рождается в изобилии. Жители этого острова не знают раздоров и войн, ибо путь к нему закрыт всем, кто лишен ума или подвержен порокам (DL., VI, 85; ср.: Od., XIX, 172—179). Как прекрасно отметил X. Болдри, резюмируя содержание данного фрагмента, «кинический идеал, лежащий словно остров среди тумана глупости и тщеславия, в котором живет большинство людей, является даже не общиной. Пера — это собственная котомка философа, символ автаркии, благодаря которой он независим от всех сообществ...». В своей Утопии «мудрец находит все радости золотого века — удовлетворение скромных потребностей, мир, свободу и довольство .. .».[713]
О популярности такого рода идей говорит и тот факт, что в эпоху после походов Александра, беспредельно расширивших географический кругозор греков, мы встречаем постоянные попытки найти «остров Пера» у отдаленных народов, живущих на краю ойкумены. В условиях кризиса полиса поиски в дальних странах идеала, ассоциировавшегося с «жизнью при Кроносе», являются характерной утопической конкретизацией, развитием кинических представлений о новом образе жизни.
Появление в эллинистическую эпоху исключительно богатой географической и этнографической литературы,[714] наполненной многочисленными экзотическими подробностями, является, конечно, не только результатом кинического влияния на художественную литературу. Издревле присущий грекам глубокий интерес к различным сторонам жизни других народов переживает в этот период своеобразный ренессанс. Утопическая мысль, отнюдь не утрачивая самостоятельности, все больше начинает переплетаться с возникавшим жанром парадоксографии, т. е. описанием различных удивительных, поражающих воображение явлений.[715]
В IV в. этому жанру отдали дань ученики Исократа — греческие историки Эфор (около 400 — 340 гг.) и Феопомп (около 377 — после 320 гг.). Первый оставил собрание различных диковинок в 15-ти книгах (Lex. Sud. s. ν. Έφορος), Второй же посвятил им свои «Удивительные истории» (DL., I, 115—116). Хотя вклад, внесенный обоими историками в развитие утопических идей, является сравнительно скромным, характер разработки ими утопических сюжетов во многом предопределил дальнейшее развитие традиции, идущей от Гомера, Геродота* софистов и Платона. В частности, с именем Эфора связано создание законченной картины добродетельного «природного» образа жизни скифов, в рамках которой круг идей, восходящий к софистическим описаниям νόμιμα βαρβαρικά, приобретает вполне определенные черты весьма тенденциозной литературной фикции (FGrH., 70 F. 42, 158).[716]
Примером крайнего увлечения рассказами о диковинных обычаях и нравах экзотических народов, отодвигавшего на задний план собственно идеологические конструкции (свойственные платоновскому мифу об Атлантиде), является повесть Феопомпа о Меропии (Ael., V. H. III, 18=FGrH., 115 F. 75с). Она была лишь одним из фрагментов диковинок, собранных греческим историком в VIII и X книгах его «Филипповских историй».[717] Меропия — гигантский материк, лежащий за пределами обитаемого мира, был весьма удачно назван Э. Роде «материком блаженных» по аналогии с популярнейшим греческим мифом.[718] Населяющие его люди (и животные) вдвое превышают обыкновенных смертных по росту и долгожительству. Среди городов, расположенных на этом материке, Феопомп особенно выделяет два — Эвсебес (Благочестивый) и Махим (Воинственный). Жители первого во всем подобны гомеровским эфиопам и блаженным современникам Кроноса, а второго — мало чем отличаются как от «медных людей» в гесиодовском рассказе, так и от атлантов Платона.
Установка на комбинирование деталей из различных по своему идейному содержанию легенд является слишком нарочитой, чтобы предполагать существование в «Меропии» принципиально нового по сравнению с полисным идеала «территориального государства».[719]Этнографическая литература конца IV — начала III в. отнюдь не претендовала на самостоятельную идеологическую роль и, за немногими исключениями, шла позади формировавшихся философских направлений. На это, в частности, указывает характер утопического творчества Гека гея Абдерского (около 350 — 290 гг.), ученика философа-скептика Пиррона из Элиды, вероятно, жившего некоторое время в Египте при дворе соратника Александра Птолемея.
Чисто утопическим по своей тенденции был обширный труд Гекатея о гипербореях, возможно, совпадающий с изображением им же «киммерийского государства», о котором писал Страбон (Schol. Apoll. Rhod., II, 675; FHG., II, 384, 386 — 388; Strab., VII 3, 6).[720] В сохранившемся у Диодора Сицилийского отрывке расположенный в Северном океане остров гипербореев, равный по величине Сицилии, отличающийся исключительным плодородием, является одновременно образцом теократического государства, поскольку его жители сравниваются автором рассказа с жрецами Аполлона (Diod., II, 47; ср.: Pind. 01., 3, 16).
Правители этого острова принадлежат к потомкам Борея, составляя слой наследственной аристократии. Фрагментарность рассказа не позволяет прийти к определенному заключению, какой из мотивов был для Гекатея главным — назидательное описание благочестивого народа, живущего под покровительством великого бога, или же прославление идеальной аристократии? Первое предположение может оказаться более вероятным, поскольку в отрывке из другого произведения Гекатея — «Египетская история» (также приведенного у Диодора — I, 73—74) предпочтение явно отдается идеальной монархии в ее египетском варианте.
Рассказ об египетском государственном устройстве в целом выдержан в духе Гипподама и Платона: вся земля в Египте, по Гекатею, разделена между тремя высшими сословиями; первой частью владеет сословие жрецов — мудрых советников фараона; доходы же от второй поступают непосредственно фараонам. Из этого земельного фонда получают вознаграждение и наиболее доблестные из граждан. Третья часть принадлежит воинам.
Структура низших сословий является также троичной. В стране господствует строжайшая специализация трудовых и управленческих функций, являющихся наследственными для всех без исключения жителей. Земледельцы арендуют землю у высших сословий, пастухи «проводят всю свою жизнь без перерыва в уходе за скотом» (I, 74). Заключительный пассаж особенно резко подчеркивает восхищение Гекатея египетской кастовой системой, которая противопоставляется «анархии», царящей в большинстве греческих полисов: «Точно так же и ремесла достигли в Египте ... полного совершенства: только у них одних (у египтян. — В. Г.) ремесленники не могут принимать участия в государственных делах ... У других народов можно видеть ремесленников, интересующихся многими делами и вследствие корыстолюбия вовсе забрасывающих свое ремесло; одни занимаются земледелием, другие участвуют в торговых делах, а большинство их в демократических государствах шляется на народные собрания, надругаясь над государственностью в интересах собственных выгод и раздач, которые они получают от демагогов; у египтян же, если кто-нибудь из ремесленников станет принимать участие в государственных делах или заниматься сразу несколькими ремеслами, он подлежит тяжелому наказанию» (I, 74, пер. С. Я. Лурье).[721]
Итак, перед нами — типичная «утопическая модель» совершенного государственного устройства, проецирующая платоновский и аристотелевский планы идеального полиса на подвергшуюся эллинизации древнейшую монархию, по-прежнему вызывавшую восхищение у теоретиков консервативного толка.
Несколько иной тип утопических конструкций выявляется при анализе различных описаний образа жизни народов Древней Индии — последней из стран, достигнутых греками в период походов Александра. В индийском походе принимал участие один из самых известных учеников Диогена — Онесикрит из Астипалеи, сочинивший «похвальное слово» македонскому завоевателю по образцу «Киропедии» Ксенофонта (DL., VI, 84; Stral·., XV 1, 31). До этого похода знания об Индии греки черпали в основном из сочинений Геродота и Ктесия (около 400 г.) —придворного лекаря персидского царя Артаксеркса И.
Судя по сохранившимся свидетельствам античных авторов, наряду с многочисленными гротескными изображениями населявших эту страну народов, Ктесий также отдал дань и утопической традиции, оставив описание индийцев, живущих по законам справедливости.[722]
Характеризуя сочинения, оставленные спутниками Александра, Страбон подчеркивал, что, хотя все они «предпочитали выслушивать чудесные истории вместо правды, Онесикрит, по-видимому, превзошел всех их по части басен» (XV I, 28).[723]
Подобная оценка, возможно, была следствием того важного обстоятельства, что, в отличие от сочинений Неарха (р. около 360 — ум. после 314 гг.)—командующего царским флотом, у которого Онесикрит служил помощником во время знаменитого плавания от Инда к устью Ефрата (325/24 гг.), или же Мегасфена, посетившего Индию в конце IV — начале III в. в качестве посла Селевка I, Онесикрит стремился не столько к описанию географических реалий, сколько к поиску подтверждения правильности образа жизни, избранного его учителем.
В оставленной Онесикритом красочной зарисовке беседы с индийскими «философами-гимнософистами» последние выступают в образе идеальных мудрецов, презирающих земные блага и хранящих воспоминания о существовавшем в далеком прошлом «золотом веке», сменившемся «веком труда» по воле Зевса, разгневавшегося на людское высокомерие (Strab., XV 1, 64). Перенесение страданий и трудовая жизнь считаются у них наиболее предпочтительными, поскольку, укрепляя духовные силы, они делают философов способными «прекращать восстания и... всем давать благие советы как государству, так и отдельным лицам» (Ibid., XV 1, 65).[724]
Изложенные Онесикритом мнения «гимнософистов» вполне могут, на наш взгляд, рассматриваться как воспроизведение в рамках литературной фикции наиболее существенных черт мировоззрения самого Диогена и его последователей, в частности представления о «мессианском» призвании кинического мудреца, несущего людям слово истины. В этом аспекте отчетливо обнаруживается конструктивная черта кинической утопии, как бы подхватывающей характерный для политической теории IV в. мотив идеального философа-правителя и переводящей его в индивидуалистическое русло. Вставленный в канву философского романа, этот мотив оказался связующим звеном, с помощью которого писателям эллинистической эпохи удалось творчески воспринять и переработать большинство достижений, утопической мысли прошлого.
Утопии Эвгемера и Ямбула, о которых теперь пойдет речь, в немалой степени подтверждают такое наблюдение.
§ 2. ЭВГЕМЕР И ЯМБУЛ
«Священная запись» Эвгемера (340 — 260 гг.) уже давно стала камнем преткновения для ученых, что во многом определяется ее особым местом в истории античной утопической литературы. Из всех раннеэллинистических памятников общественно-политической мысли это произведение по воле случая дошло до нас в степени сохранности, вполне позволяющей выделить его из общего потока незначительных фрагментов и рассматривать как некую «идеальную модель», с которой можно сравнивать другие утопические сочинения, созданные в эпоху Александра и его ближайших преемников.
Вместе с тем характер дошедших до нас в изложении Диодора и других позднеантичных писателей отрывков труда Эвгемера, как правило,, не поддается однозначной интерпретации. Более того, как показывает давний опыт их изучения,[725] исходя из одних и тех же предпосылок, исследователи нередко приходят к диаметрально противоположным выводам. Так, согласно Р. Райценштайну, «Священная запись» является одним из важнейших симптомов ориентализации греческой мысли в эллинистический период.[726] Р. Пёльман же сделал ее анализ центральным пунктом своей пристрастной критики марксизма, пытаясь установить соответствие правительственных учреждений эвгемеровской утопии «идеалу новейшего социализма».[727] Напротив, Г. Браунерт рассматривал «Священную запись» как «свидетельство раннеэллинистической политической теории», разрабатывая которую Эвгемер «стремился к компромиссу между полисом и монархией во вновь возникавших крупных территориальных государствах».[728]
На первый взгляд последняя трактовка противоречит мнениям большинства античных авторов, считавших Эвгемера прежде всего создателем оригинальной теории происхождения веры в богов, согласно которой олимпийские боги и их предки {например, Уран) первоначально были выдающимися людьми— завоевателями и правителями, законодателями и полководцами, удостоившимися божественного статуса за свои благодеяния или же учредившими свой собственный культ (Diod., VI, 2; VI, 1, 6; V, 46, 3; ср.: Sext. Emp. Adv. Math., IX, 17, 51; Plut. De Is., 23).
Исходя из этого широко распространенного мнения, Э. Роде писал об Эвгемере как об авторе, «воздвигавшем совершенный утопический роман о путешествии в качестве роскошных входных ворот, ведущих в пустыню его собственного прагматизирующего искажения мифов».[729] Многие сохранившиеся отрывки «Священной записи» также явно указывают на то, что рационалистическое толкование традиционной мифологии было, по-видимому, основной причиной создания этого произведения.[730]
Но даже если Эвгемер не был утопистом в собственном смысле этого слова, его сочинение является не менее ценным источником сведений об утопической мысли эллинизма по сравнению с трудами Феопомпа, Гекатея, Онесикрита, Мегасфена и др.[731]. Кроме того, сам факт эклектического заимствования Эвгемером многих деталей своего рассказа из появившейся в конце IV — начале III в. обширной литературы, посвященной описаниям жизни «варварских народов», на наш взгляд, не только не является доводом в пользу отсутствия в «Священной записи» самостоятельной политической концепции, но не может даже свидетельствовать о полной зависимости ее автора от этой литературы.
В нашем распоряжении имеются крайне -незначительные биографические упоминания об Эвгемере. Почти ничего неизвестно ни о времени появления его труда, ни об обстановке, в которой он создавался. Однако упоминание самим Эвгемером о путешествии «на юг к океану» от берегов «Счастливой Аравии», предпринятом им по поручению его друга царя Кассандра (Diod., VI, 1, 4), будучи элементом историко-литературной фикции,[732] дает все же исследователям весьма тонкую путеводную нить, с помощью которой можно наметить хотя бы общие контуры побудительных мотивов возникновения эвгемеровской квазиутопии.
С окружением Кассандра связаны два примечательных исторических факта, имеющих непосредственное отношение к истории утопической мысли. Первый из них относится к законодательным новшествам, введенным в Афинах учеником Феофраста Деметрием Фалерским, в течение десяти лет (317 — 307 гг.) управлявшим этим городом в качестве фактического наместника Кассандра.
Лишенные всякого военного могущества, но сохранившие свои экономические ресурсы Афины достигли в то время высокого уровня материального благосостояния и культурного расцвета, превратившись в оазис, который притягивал к себе всевозможных политических доктринеров и представителей многообразных философских течений. Именно здесь в данный период были заложены основы как стоической, так и эпикурейской школ. Оживилась деятельность Академии и Ликея, продолживших, как уже отмечалось, теоретическую дискуссию по вопросу о наилучшем государственном устройстве. Неудивительно, что на это время затишья и гражданской апатии приходятся также не имеющие никакого серьезного политического значения стремления к осуществлению на практике некоторых аристотелевских идей, популяризуемых Феофрастом и его учениками в своих многочисленных сочинениях (DL., V, 42—49).
Установленные Деметрием законы принесли ему славу скорее Драконта, чем Солона (см., напр.: Paus., 1, 25, 6; 35, 5; Ath., XII, 542; ср. однако: Cic. De legg., II, 25, 64; III, 6, 14; Diod., XVIII, 74; Strab., IX 1, 20; DL.. V, 75; Ael. V. H., III, 17), а по своему содержанию представляли собой карикатуру на аристотелевский проект идеального полиса. Так, место идеальной аристократии заняла плутократия, основанная на высоком имущественном цензе (1000 драхм). Ревизия законов свелась к постановлениям против роскоши, в частности к контролю над затратами на похороны, к ограничению числа гостей на пирах, к стандартизации имущественных контрактов и т. д. (Ath., VI, 245а).Воспитательные же меры ограничивались надзором за одеждой и поведением женщин в общественных местах, который поручался специальной «комиссии» гюнайкономов (Ibid.; ср.: Arist. Pol., IV 12, 9; VI 5, 13).
Политическую систему Деметрия Фалерского увенчивал институт семи номофюлаков (Аристотель, кстати, рекомендовал подобную меру для укрепления олигархического режима — Pol., IV 11, 9—10), созданный для проверки деятельности магистратов (Philochor., Fr. 143).
Чем более доктринерский характер приобретали проводимые Деметрием политические преобразования, тем громче они прославлялись подобострастной афинской экклесией. Народным постановлением в честь Деметрия были воздвигнуты в короткий срок 360 медных статуй (DL., V, 75), впоследствии разрушенные по приказу изгнавшего его из Афин Деметрия Полиоркета (личность последнего является наиболее яркой живой иллюстрацией теории Эвгемера). Резюмируя законодательство Деметрия Фалерского, И. Г. Дройзен совершенно справедливо писал: «Возможно, что эти и подобные им меры соответствовали политическим теориям, которые он изложил в своих сочинениях; я они несомненно имели свое оправдание, если афиняне удовлетворялись ими».[733]
Но вернемся к теории Эвгемера. В сознании древних греков граница между богами и людьми никогда не считалась непреодолимой. Воздавание еще при жизни (и тем более посмертно) божественных почестей наиболее выдающимся гражданам — основателям городов, законодателям, полководцам — явление, известное еще в архаический период. Проявленная Александром еще в период египетского похода (332 г.) инициатива, направленная на введение собственного культа (в 324 г. она принимает характер обращенного ко всем грекам требования признать его божественный статус), могла противоречить прирожденным республиканским настроениям греков, но никак не их религиозным чувствам. «... Ничто в греческих обычаях, — писал Э. Бикерман, — не препятствовало какому-либо лицу провозгласить себя богом. Трудность была лишь в том, чтобы найти верующих».[734] В эпоху диадохов эта трудность была преодолена. Почести, воздаваемые афинянами Деметрию Полиоркету и его отцу Антигону, начиная с осени 307 г., по пышности и великолепию превосходили все известные до тех пор формы поклонения олимпийским богам.[735]
Скудость дошедших до нас фрагментов сочинения Эвгемера не позволяет определить, в какой мере развернувшиеся в Афинах события повлияли на формирование его концепции. С гораздо большей долей уверенности можно говорить о воздействии на Эвгемера другого эксперимента, осуществленного братом Кассандра Алексархом. Речь идет об основании последним около 316 г. Уранополя (Небесного города) на вершине горы Афон вблизи города Акрофои (Strab., VII fr. 33, 35; Plin. Hist. Nat., IV, 10, 37). Нам ничего не известно об архитектурных особенностях Уранополя, характере его конституции и организации экономической жизни. Имеются только сведения о том, что Алексарх отождествлял себя с Гелиосом и пытался ввести особое наречие, в котором архаизмы были смешаны с намеренно испорченными греческими словами. Приводимые у Афинея отрывки из письма Алексарха, посланного главам соседнего полиса, основанного Кассандром и носящего его имя (Ath., III, 98e; Strab., VII fr. 25, 31), были восприняты У. Тарном как свидетельство проповеди всеобщего человеческого братства.[736] Однако основания для такой интерпретации являются весьма шаткими, поскольку в этом письме, вероятно, имеются в виду, прежде всего родственные отношения городов, основанных братьями.[737]
Утопические устремления Алексарха вполне определенно выражены в самоотождествлении с Солнцем — Гелиосом, издавна рассматриваемым греками в качестве защитника и гаранта справедливости, делающего явным любое зло и преступление. Представление о Солнце как олицетворении справедливости глубоко укоренилось в культуре народов Средиземноморья. В реформах, проводимых в Египте фараоном XVIII династии Аменхотепом IV (Эхнатоном — 1372— 1354 гг.) и связанных с учреждением солнечного культа Атона — Ра, на передний план выступало представление о Солнце как универсальном божестве, едином для всех народов, отрицающем их разделение «а «варварские» и «цивилизованные».[738]
Этот же круг идей просматривается и в знаменитом египетском пророчестве Исайи, предсказывавшем появление «города Солнца» в день, когда господь Саваоф будет судить Египет (Исайя, 19: 18), а много веков спустя — в восстании Аристоника в Пергаме (133— 129 гг.), называвшего своих сторонников— бедняков и рабов — «гелиополитами», «гражданами „города Солнца”» (Strab., XIV 1, 38).
Таким образом, не исключено, что деятельность Алексарха в Уранополе оказала воздействие на складывание эллинистической литературной традиции, перерабатывавшей в утопическом плане как греческие, так и ближневосточные религиозные идеи.[739] Во всяком случае, «Священная запись» является, на наш взгляд, хорошим подтверждением такого влияния. Остановимся подробнее на ее содержании.
При описании своего путешествия Эвгемер использует литературный прием, получивший абсолютное признание утопистами последующих поколений (к нему прибегал и Платон при описании Атлантиды), т. е. помещает открытые им три острова у самых дальних пределов (κατά τάς έσχατιάς) Счастливой Аравии, в Эритрейском море, к югу от ее восточной оконечности (Diod., V, 41, 4).
Близость островов к аравийскому побережью, с одной стороны, и к Индии — с другой (ее окутанные туманом берега можно наблюдать с обращенного на восток мыса самого дальнего из островов — 42, 3), должна была содействовать, по мысли Эвгемера, созданию у читателей его сочинения иллюзии достоверности рассказанной им истории.
В начале III в. описываемое Эвгемером пространство было известно большинству греков так же смутно, как и героям аристофановских «Птиц» — Эвельпиду и Писфетеру, внимавшим словам Удода о «счастливом городе на Эритрейском море» (Av., 144— 145).[740] Автор «Священной записи», однако, мог определенно рассчитывать на то, что его рассказ будет сравниваться образованными читателями с хорошо известными фактами о посылке Александром своих кораблей в Эритрейское море, а также с уже опубликованными записками царского флотоводца Неарха, описавшего ряд расположенных на нем островов (см., напр.: Arr. Ind., 21).[741]
Вместе с тем, как справедливо отмечает М. Цумшлинге, «Эвгемер совершенно умышленно стремился помешать поиску группы островов... Кажущаяся возможность того, что острова могли быть найдены, должна была способствовать ощущению правдивости рассказа. Поэтому Эвгемер использует утопический элемент желаемого пространства, располагая острова на самом краю известного грекам мира (έσχατος), по ту сторону границ, внутри которых доказательства могли бы еще приводиться на основе опыта и знания».[742] Справедливость такой характеристики подтверждается, в частности, отсутствием в «Священной записи» каких-либо конкретных указаний на расстояние от Аравии до Священного острова — Панхайи.[743]
Изображение красочного пейзажа Панхайи уцелело благодаря особому интересу Диодора к проблеме соответствия совершенной общественной жизни идеальной природе. Остров изобилует разнообразными благовониями (41,4—6), цветущими садами и лугами с удивительными цветами и травами. На равнине, где расположено святилище Зевса Трехплеменного (42,6), растут необычайных размеров деревья—огромные кипарисы, платаны, лавр, мирт, финиковые пальмы «с большими стволами и чрезвычайно плодоносные». Устремляющиеся в высоту и создающие причудливый покров виноградные лозы и многочисленные орешники снабжают местных жителей обильными лакомствами (43, 1—3).
Недра острова богаты золотом, серебром, медью, оловом и железом (46, 4). Вблизи святилища из земли вырываются источники чистой, пресной и полезной для здоровья воды, образующие судоходную реку, называемую «Вода Солнца» (44, 3). Повсюду на Панхайе водится множество диких зверей — слонов, львов, леопардов, газелей (45, 1).
Но центральное место в этой сказочной картине (подчеркивающей традиционную в утопических произведениях мысль об автаркии, полной обеспеченности жителей острова всем необходимым) занимает изображение храма Зевса Трехплеменного, напоминающего по стилю классические дорийские святилища.[744] Кроме храма Зевса на острове есть высокая гора, посвященная богам и называемая «Троном Урана», или «Трехплеменным Олимпом». Объясняя это название, Эвгемер ссылается на легенду, повествующую о том, что «в древние времена Уран, царствовавший над ойкуменой, приятно проводил время в этом месте и с вершины взирал на небо и звезды». «Трехплеменным Олимпом» гора была названа из-за обитавших на острове трех племен — панхайцев, океанитов и дойев. Последние были изгнаны Аммоном, разрушившим их города, в том числе такие главные, как Дойя и Астерусия (44, 6 — 7).
И сама легенда, и название племен и городов, конечно, выдуманы Эвгемером. В этих домыслах отчетливо проявляется тенденция к систематизации, определяемая желанием не только превратить Панхайю в прародину всех утопических идей в греческой мысли, но и неразрывными нитями соединить разнообразные утопические мотивы с историей происхождения богов.
Большую трудность для интерпретации представляет сохранившийся у Евсевия пассаж из VI книги Диодора, дающей совсем иное понятие о топографии «священных мест» на острове. Так, святилище Зевса Трехплеменного, основанное в период, когда он царствовал над ойкуменой, «будучи еще среди людей», расположено не на равнине, а на высоком холме, вероятно, соответствующем «Трону Урана» в V книге (VI, 1, 6). Если в последней хранящаяся в храме на золотой стеле запись о деяниях Урана и Зевса (с добавлением Гермесом рассказа о деяниях Артемиды и Афродиты) выполнена египетскими иероглифами (V, 46, 6—7), то в VI книге деяния Урана, Крона и Зевса записаны панхайскими письменами (VI, 1, 7).
Подобные разночтения могли быть вызваны неправильной передачей мысли Эвгемера Диодором и Евсевием. Но возможно, что в этих противоречивых сообщениях отразилось стремление автора «Священной записи» превратить Панхайю в древнейшее место, посещаемое всеми поколениями богов, а ее жителей— в предшественников гомеровских «непорочных эфиопов».
К моменту открытия Эвгемером Счастливого острова его населяли, помимо коренных жителей панхайцев, также и пришельцы— океаниты, состоящие из трех племен — индийцев, скифов и критян,[745] вероятно, привезенных туда Зевсом (V, 46, 3). Имена как автохтонов, так и пришельцев говорят сами за себя. Панхайцы (слово составлено из άνυ и χάϊος ), т. е. «весьма благородные по происхождению», «доблестные»,[746] противопоставлены Эвгемером племени дойев. Их имя, расшифрованное И. Баунаком, может быть переведено как «звериный народ» или просто «звери».[747] Такая картина хорошо вписывается в давнюю традицию противопоставления в греческой утопической литературе справедливых и лишенных этого качества народов, например феаков и киклопов у Гомера, атлантов и древних афинян у Платона, жителей Эвсебеса и Махима у Феопомпа и т. д.
Можно предположить, что в «Священной записи» имелся и рассказ о борьбе двух народов — благородного и дикого, завершившейся в результате прямого вмешательства богов и изгнания дойев Аммоном. Из переложения Диодора невозможно решить, когда именно на Панхайе появились племена, с которыми у греков был связан целый комплекс представлений об идеальной конституции и соответствующем природе образе жизни.[748] Ясно одно — после изгнания дойев на острове остались лишь благородные и воинственные народы, добровольно подчинившиеся Зевсу как царю, который установил для них государственный строй, просуществовавший в неизменном виде на протяжении тысячелетий.
Что касается общественной структуры и конституции Панхайи, то это проблема, вызывающая, пожалуй, наибольшее количество споров среди ученых.[749] Ее решение возможно только с учетом главной цели эвгемеровского рассказа — всеми способами подтвердить историческую достоверность теории происхождения богов. Такая ориентация не могла не породить эклектизма при описании основных деталей государственного устройства Панхайи. Красочный пейзаж последней более всего напоминает платоновские древние Афины и Атлантиду одновременно (Plato Crit., 110e—115с). Само название для своего произведения Эвгемер наверняка заимствовал из «Тимея» (Tim., 27b). Так, оба острова называются «священными» (Crit., 115b; Diod., V, 41, 4), и в древние времена там жили боги; оба изобилуют необычайными растениями (в дом числе и лечебными травами), благовониями, многообразными металлами и целебными источниками. Сходны и изображения священных рощ—рощи Посейдона в «Критии» и Зевса — в «Священной записи» (ср.: Crit., 117а—b). Внутри храма Посейдона на Атлантиде хранится орихалковая стела с законами и предписаниями, составленными первыми царями — потомками бога (Crit., 119с).
Все эти бесспорные заимствования не означают, однако, полнейшей зависимости Эвгемера от теоретико-политических идей афинского философа. Хотя в известном смысле конституция Панхайи и может, на первый взгляд, рассматриваться как своеобразный симбиоз идеальных конструкций Платона, она скорее всего является свидетельством глубокого интереса Эвгемера к платоновской традиции, но отнюдь не слепого подражания ей (как считает, например, У. Браун[750]).
Формально Панхайя является монархией, однако фигура царя упоминается в тексте только однажды при определении не прерогатив царской власти, но характера и способов получения царем доходов. Ему принадлежит лучшая часть земли и десятая часть произрастающих на острове плодов (42, 1). Таким образом, царь не являлся верховным собственником всей земли и не мог произвольно увеличивать натуральные платежи в свою пользу. О том, что монархический элемент учитывается Эвгемером в панхайской конституции, свидетельствует и описание «достойного упоминания» города Панары (42, 5). Его жители зовутся «умоляющими Зевса Трехплеменного» и «живут по собственным законам и без царя» (αότονομοι καί άβασίλευτοι), ежегодно выбирая трех архонтов.
Вместе с тем здесь бросается в глаза отсутствие упоминаний о роли панхайского царя в культовой сфере. Он не исполняет никакой жреческой должности, ему не воздаются божественные почести. Единственным таким объектом религиозного почитания является Зевс (и некоторые другие боги — V, 42, 6; 43, 1; 44, 1—7; 46, 2 — 3, 5 — 7; VI, 1, 4 — 5, 8).
Нарисованная в «Священной записи» картина, таким образом, шла вразрез как с раннеэллинистической практикой обожествления монархов, так и с тенденцией к архаизации, свойственной античной утопической литературе.
Основная власть находится в руках сословия жрецов — потомков критян, привезенных Зевсом на Панхайю (46, З)[751] и ставших после его смерти правителями острова. Как отмечает Эвгемер, все панхайское государство было разделено на три части: «Первая часть — жрецы, к которым присоединены ремесленники; вторая часть — земледельцы, третья же — воины, к которым присоединены пастухи. Жрецы являлись руководителями во всем: они разбирали тяжбы, а также были правомочны решать все другие общественные дела. Земледельцы, обрабатывая землю, приносят плоды в общее достояние, и тот из них, кто окажется лучшим в своем труде, получает отменную награду при распределении плодов. Жрецами выносится решение, кто — первый, кто — второй, и так далее вплоть до десяти, чтобы побудить /на соревнование/ остальных. Подобным же образом и пастухи отдают обществу закалываемый скот и прочие продукты, все точно подсчитывая по числу и весу. Ведь у них вообще ничего нельзя приобрести в частную собственность, кроме дома и сада. Все производимое и все доходы принимают жрецы, каждому по справедливости выделяя причитающуюся ему долю. Двойная доля дается одним жрецам» (45, 3 — 5). Последние выделяются среди всех обитателей острова не только утонченностью образа жизни, но и внешним видом — роскошной одеждой из льна или тонкой шерсти, шитыми золотом головными уборами. Они носят, подобно женщинам, золотые украшения (кроме серег) и т. д. (46, 2).
Все эти внешние признаки должны были подчеркнуть особый статус жрецов, сакральный характер их власти, соединяющей управление общественными делами с ревностным служением богам, в честь которых сочиняются торжественные гимны, повествующие о благодеяниях, оказанных богами людям.
Государственное устройство Панхайи лишний раз показывает, что использование числовой символики для изображения гармоничного сообщества стало уже в начале III в. самым обычным литературным приемом. Предпочтение, отдаваемое Эвгемером числу три (три острова, три племени, три группы океанитов, «трехзначное» прозвище Зевса, три архонта Панары, две тройки городов — 42, 5; 44, 7; 45, 2), объясняется, на наш взгляд, его ориентацией на классическую утопическую традицию.[752] Впрочем, неоднократно отмечаемая выше эклектическая установка и на этот раз приводит к тому, что трехчленная социально-политическая структура Панхайи обнаруживает одновременно сходство и с утопией Гипподама, и с платоновскими древними Афинами, а также с описаниями Египта Исократом и Гекатеем и, наконец, с государственным устройством Счастливой Аравии, рассказ о котором сохранился у Страбона (Plato Tim., 24а—b; Crit., 110с—d, 112b—d; Isocr. Bus., 15; Diod., 1, 73, 2, 7; 74, 1; Strab., XVI 4, 25 ср.: XVI 4, 2). Об ее весьма искусственном характере свидетельствует, например, такая деталь, как введение в роман разбойничьих шаек, нападающих на земледельцев, очевидно, с целью сделать оправданным существование касты воинов (46, 1).
Наиболее значительной чертой, выделяющей рассказ о Панхайе из других произведений классической и раннеэллинистической эпох, является идея об активном участии жрецов в организации общественного производства и распределении произведенных на острове продуктов. Попытки реконструкции идейных установок Эвгемера в этом вопросе, а также источников, на которые он мог опираться, приводят, однако, к неоднозначным результатам. До сих пор большое влияние на современных исследователей оказывает интерпретация Р. Пёльмана, рассматривавшего нарисованную Эвгемером картину «счастливого народа, над которым властвовала жреческая аристократия», сквозь призму «характерного для этой эпохи преклонения перед мудростью египетских жрецов и индийских брахманов», олицетворявших «знание и житейскую мудрость старинной культуры».[753] Именно в такой форме, согласно Пёльману, проявлялось стремление просвещенных умов «сбросить узы, стеснявшие свободную деятельность интеллигенции и талантов», поставить «иерархию способностей» на место социальной иерархии и основать таким образом «господство культурной аристократии».[754] Исходя из анализа Пёльмана, Б. Кицлер видит в жрецах Панхайи прообраз современной технократии.[755]
Для подтверждения своей интерпретации Пёльман ссылался на «корпоративное единство» высших сословий Панхайи с прикрепленными к ним профессиональными группами, полагая также, что в эвгемеровском проекте «представители искусств и ремесел образуют особый отдел, входящий в состав первого класса, т. е. стоят в известном отношении непосредственно наряду со жрецами».[756] Аналогичным образом «класс пастухов» занимает «весьма почетное положение», находясь в составе воинской корпорации.[757]
На первый взгляд в пользу гипотезы Пёльмана свидетельствуют многие детали «Священной записи». Панхайцы (и смешавшиеся с ними океаниты) с самого начала описываются как идеальный народ, живущий в соответствии с традиционным утопическим каноном в условиях, близких к «веку Кроноса». Уступая жрецам в роскоши и утонченности образа жизни, они тем не менее по своему внешнему виду вполне соответствуют статусу свободных и благородных людей: и мужчины, и женщины одеваются в мягкие одежды, носят золотые украшения—витые ожерелья, браслеты, подвесные кольца в ушах, обуваются в высокую и пестро раскрашенную обувь (45, 6).
Отсутствие на острове рабства заставляет предполагать, что проблему присоединения ремесленников к жрецам и пастухов к воинам нельзя оценивать, как это делал, например,
С. Я. Лурье, в категориях «крепостной зависимости».[758] С нашей точки зрения, не может найти однозначного подтверждения в тексте и другая гипотеза Лурье, считавшего, что проект панхайской конституции при общей ориентации на «египетскую модель» был также и результатом творческой переработки Эвгемером аристотелевских замечаний к проекту Гипподама путем внесения в последний существенных поправок. К числу таких поправок относится, например, предложение отвести часть земли под государственное пастбище, для того чтобы воины могли вносить «в общую кассу» продукты скотоводства, получая взамен необходимые земледельческие продукты.[759]
Последнее предположение не лишено правдоподобия. Однако в нашем распоряжении имеется другая хорошая параллель к рассказу Эвгемера, а именно описание образа жизни древних индийцев в утопии Мегасфена. В Индии, как и на Панхайе, нет рабов. Одеждой и украшениями даже простые индийцы удивительно напоминают панхайских жрецов (Strab., XV 1, 54; ср.: 1, 58). Принадлежащие к касте философов мудрецы, подобно жрецам на Панхайе, проявляют заботу как о государственном управлении, так и об увеличении урожая и приплода животных (Ibid., XV 1, 39). Философы, живущие в горах, почитают Диониса и воспевают его деяния почти таким же образом, как это делают панхайские жрецы в отношении Зевса (Ibid., XV 1, 58). Картина мирного труда индийских земледельцев под охраной воинов также весьма близка к панхайской (Ibid., XV 1, 40; ср.: Arr. Ind., 11 —12).[760]
Отмеченные факты сходства с утопией Мегасфена необходимо учитывать и потому, что в плане политических ориентаций Эвгемер настолько же решительно отходит от индийского образца, насколько он игнорирует центральный пункт созданных его предшественниками идеальных моделей египетского государственного устройства, а именно прерогативы царской власти. Так, власть жреческой аристократии основывается в утопическом государстве Эвгемера не на политическом угнетении, а на добровольном подчинении. Косвенным подтверждением этого является следующий факт: в сознании Эвгемера всеохватывающая компетенция жрецов не вступает ни в какое противоречие с их изоляцией пределами храмовой территории, несомненно, затрудняющей возможность контакта с подчиненным им населением острова. Жрецам категорически запрещено «выходить за пределы священной земли, а кто выйдет, — того имеет право убить первый встречный» (46, 4).
Конечно, нельзя исключать и того варианта, что тема изоляции жрецов (как и идея автаркии) была задумана в качестве дополнительного аргумента, поясняющего, почему правда о происхождении богов так долго оставалась неизвестной грекам. Вряд ли тем не менее Эвгемер был до такой степени невнимателен к деталям и забыл про эпизод, который, будучи необъясненным, несомненно, вызвал бы много нареканий со стороны искушенных читателей.[761] Очевидно, следует предположить, что в его романе занятым в сельском хозяйстве и ремеслах сословиям были свойственны стоическая любовь к труду и послушание, словом, весь идеальный набор качеств, делающий ненужными частную собственность и своекорыстные амбиции.
Все вышесказанное в конечном счете противоречит попыткам слишком жесткого привязывания «Священной записи» {несмотря на сходство некоторых черт)[762] к группе проектов, авторы которых увлекались «египетским миражом», являясь его активными творцами. В то же время невозможно найти сколько-нибудь серьезных текстуальных подтверждений для характеристики Пёльмана, рассматривавшего Эвгемера как радикального эгалитариста и утверждавшего, что сословная иерархия на Панхайе имеет «лишь чисто внешнее сходство с восточным сословным общественным строем».[763] Такого рода выводы были необходимы Пёльману для проведения несостоятельных аналогий между «панхайским социализмом» и современными ему социалистическими учениями.[764] Но если отказаться от тенденциозных идеологических искажений и встать на научную точку зрения, то можно заметить, что принцип разделения общества на сословия, выдвинутый такими утопистами старшего поколения, как Гипподам, Платон и Аристотель, не только полностью воспринимается Эвгемером, но и вполне соответствует общей политической направленности его романа.
Заслуживает специального внимания и вопрос о том, может ли зыдвинутый Эвгемером проект государственного устройства рассматриваться «в качестве особой формы смешанной конституции, принимающей во внимание монархические, аристократические и демократические элементы, посредством которых отдельные общественные группы должны были таким же образом гарантировать себе собственное право, как это было сделано в μική πο>ιιεία Аристотеля».[765] Так, Г. Браунерт, мнение которого было только что приведено, разрабатывал данную гипотезу, руководствуясь стремлением «найти связующие звенья между политическими концепциями Аристотеля и Полибия.
Исходя из факта существования в «Священной записи» египетских элементов, Браунерт считал, что положение царя Панхайи является аналогичным статусу египетского фараона, которому, согласно литературной традиции греков об Египте, воздаются культовые почести исключительно как представителю жречества. Соответственно, панхайские жрецы, по Браунерту, представляли собой «академически образованную элиту» и, выполняя важнейшие управленческие функции, играли в государственной структуре ту же ограничивающую свободу действий монарха роль, которую играли «друзья царя» в эллинистических монархиях. «Демократический элемент» панхайской конституции представлен городом Панарой, автономный статус которого свидетельствовал о стремлении эллинистических царей учитывать особые интересы греческих полисов.[766]
Концепция Г. Браунерта является одной из разновидностей интерпретации сочинения Эвгемера в качестве образца особого рода произведений, нередко называемых «зеркалом для монархов» и содействующих в эллинистическую эпоху развитию «монархической пропаганды».[767] Невозможно, однако, провести каких-либо аналогий между царем Панхайи и эллинистическими правителями, с самого начала рассматривавшими себя в качестве «одушевленного закона», т. е. абсолютных монархов, властвующих над «завоеванной копьем» страной и, как правило, воспринимаемых туземным населением прямыми наследниками правивших прежде династий.[768]
Как уже отмечалось, в период пребывания Эвгемера на Панхайе царь не идентифицировался с государством и не являлся верховным собственником земли, претендуя только ка ее лучшую часть, а также на десятую долю урожая.[769] Такая картина радикально отличается от ситуации, сложившейся, например, в птолемеевском Египте или в государстве Селевкидов, где цари были верховными собственниками земли и, естественно, могли сами требовать с нее доходы.[770]
Единственное правдоподобное объяснение положения панхайского царя заключается, с нашей точки зрения, в том, что, согласно Эвгемеру, он является лишь номинальным наследником Зевса в его должности. Воздаваемые Зевсу божественные почести, естественно, не распространяются жрецами на его заместителя, которому полагается лишь почетная рента. Но если Эвгемер ограничивает монархический элемент государственного устройства Панхайи чисто представительскими функциями, отпадает не только предлагаемая Браунертом аналогия между жрецами и «друзьями царя», но и описание всего устройства как «смешанной конституции». Сама ссылка на институт «друзей» представляется в данном контексте неправомерной, равно как и попытка обосновать подчиненную роль панхайских жрецов, исходя из греческой литературной традиции об Египте. Платон, Исократ и Гекатей с полным единодушием подчеркивают господствующее положение египетских фараонов, при которых жрецы играли роль мудрых советников (Plato Pol., 290b — e; Isocr. Bus., 22—23; Diod., I, 73, 4—5; ср.: I, 70; I, 71, 1). Что касается «друзей царя», то, например, при дворе Селевкидов они даже не считались высшей категорией сановников и, конечно, не могли играть роль «ограничителей монархии».[771]
Равным образом предоставление греческим полисам автономии и подтверждение их свобод не противодействовали укреплению центральной власти эллинистических царей и не могли способствовать «демократизации» их власти.[772]
В каком же контексте следует тогда понимать эвгемеровскую характеристику жителей города Панары как «живущих по собственным законам и без царя»? Возможность для правильной интерпретации этого фрагмента открывается только в том случае, если признать, что юрисдикция панхайского «теневого царя» не распространяется на Панару, а граждане последней освобождены от уплаты ему налогов. Вероятно, по мысли Эвгемера, автономный статус Панара получила еще. во времена царствования Зевса. В дальнейшем этот статус (как и все другие установления царя) подтверждался многими поколениями жрецов-правителей. Возможно также, что именно Панара явилась тем центром, где первоначально был учрежден культ Зевса, распространившийся в дальнейшем на весь остров.[773]
В свете всего вышесказанного является вполне правомерным вывод о том, что в своем описании правления на острове жреческой касты Эвгемер, исходя из формулы «смешанной конституции» в самом общем ее виде (вспомним, что Аристотель в «Политике» не рассматривал «смешанное правление» в качестве наилучшего), использует ее для дальнейшего развития концепции идеальной аристократии, детально разработанной в свое время Платоном и Аристотелем. Эвгемер полностью воспринял платоновскую формулу, оправдывающую существование жесткой социальной иерархии отсутствием у правящей элиты каких-либо своекорыстных мотивов, противоположных стремлению к обеспечению счастья всех остальных элементов внутри государственного целого. Отчужденные от всякого участия в решении политических вопросов и даже от продуктов собственного труда, обитатели Панхайи не ставят под сомнение право жрецов на безраздельное господство.
Вполне возможно также, что Эвгемер переосмыслил в духе своей концепции платоновско-аристотелевскую псевдоисторическую версию о превращении монархии в аристократию. Ход мыслей Эвгемера состоял, очевидно, в следующем: после смерти Зевса, превосходившего добродетелью всех смертных, не нашлось ни одного человека, который смог бы занять его место. Именно поэтому царская власть сохранилась лишь в виде исторической реликвии; реальная же власть перешла в руки жрецов, управляющих Панхайей путем «коллективного подражания» божественной форме правления, учрежденной Зевсом, служителями культа которого они и являются. Хорошей (и едва ли случайной) параллелью такого хода рассуждений является история происхождения государственного устройства, описанного Т. Мором в «Утопии»: после смерти основателя идеального государства—царя Утопа центральная царская власть была вообще упразднена, и ее рудименты сохранились в должности принцепса, учрежденной в каждом из 54 утопийских полисов, объединившихся в своеобразную федерацию.[774]
Но означает ли такая направленность мысли приверженность Эвгемера к концепции идеального полиса? Данному выводу препятствует, например, изображение Эвгемером характера отношений между панхайскими жрецами и архонтами Панары, которые не только неправомочны выносить приговоры по уголовным делам, за преступления, караемые смертью, но и вообще добровольно передают жрецам решение наиболее важных вопросов, касающихся управления их собственным городом (42, 5). Такая картина очень напоминает реальное положение греческих полисов в эллинистических монархиях, воспроизводя в закамуфлированной форме процесс утраты полисами самостоятельности, прикрываемой различными юридическими фикциями. В сокращенном пересказе Диодора, во всяком случае, не содержится даже намека на какие-либо реставраторские полисные идеи. Это вполне позволяет сделать вывод о том, что Эвтемер, предпочитая при разработке своей концепции происхождения веры в богов ориентироваться на политическую теорию V — IV вв., довольно трезво оценивал окружавшую его действительность и, конечно, не верил в возможность осуществления на практике полисного идеала.
«Священная запись» была, пожалуй, последним произведением, в котором классическая утопическая традиция играла определяющую роль. Большинство же авторов, подражавших Эвгемеру, либо уходили в мир чистой фантазии, либо ориентировались в своих утопиях на комплекс идей, развиваемый приверженцами кинической и стоической школ. Так, например, в двух дошедших до нас утопиях современника и прямого последователя Эвгемера — Дионисия Скитобрахия (жившего и работавшего, по-видимому, в Александрии)—«Геспера» и «Низа» мы встречаемся с чрезвычайно полным набором искусно подобранных фантастических деталей, характерных для утопической литературы данного периода (Diod., III, 53, 4 — 6; 57, 2; 68, 4; 71, 5; 32, 7 — 8).
В отличие от «Священной записи», в утопиях Дионисия художественный вымысел превалирует над теоретическими построениями. Они были написаны отнюдь не с целью обосновать какую-либо философскую концепцию.[775]
Совсем иной подход мы находим при анализе сохранившихся у Диодора отрывков из сочинения Ямбула о его жизни на Солнечном острове, написанного в жанре приключенческого романа, в котором, однако, нетрудно распознать немало примеров художественной переработки стоических и кинических идей, связанных с мотивом «природной жизни».[776]
Правда, Диодор не сообщает никаких подробностей о родине Ямбула и времени его жизни. Явно не гречески звучащее имя делает вполне правдоподобным предположение о семитском происхождении автора романа.[777] Гораздо труднее решить вопрос о времени его создания. Почти все выдвигаемые в XIX — XX вв. гипотезы носили более или менее умозрительный характер. Достаточно сказать, что стремления отнести роман Ямбула к «конструктивному периоду эллинистической мысли», т. е. к III в. (Тарн, Фергюсон), или же по ряду косвенных признаков сблизить его со временем жизни Посидония—135 — 51 гг. (Роуз), а также доказать непосредственное влияние ямбуловских идей на восстание Аристоника (Пёльман и др.),[778] разбиваются о глухую стену молчания, которой окружено имя Ямбула вплоть до последней трети I в. Так, Онесикриту и Мегасфену оно неизвестно. А Эратосфен, высмеивавший Эвгемера и сравнивавший «Священную запись» с писаниями Антифана из Берги, тоже ничего не знает о Ямбуле( Strab., I 3, 1; II 4, 2; ер.: II 3, 5). Аполлодор Афинский (середина II в.), подробно изучавший сочинения Феопомпа, Гекатея и Эвгемера, также ничего не пишет о нем (Ibid., VII 3, 6). То же самое можно сказать и о Посидонии, интересовавшемся рассказом Платона об Атлантиде (Ibid., II 3, 6). И наконец, сам Страбон, являвшийся младшим современником Диодора, при всем своем внимании к индийским mirabilia полностью игнорирует рассказы Ямбула об Индии, которые сицилийский историк специально рекомендовал (Diod., II, 60, 4).
Анализ текста II и III книг «Истории» Диодора заставляет предполагать, что отрывок, посвященный Ямбулу, был обнаружен случайно и вставлен автором во II книгу, возможно, уже на завершающей стадии его труда.[779]
Гипотеза о позднем происхождении романа Ямбула имеет основание и в самом тексте. Например, А. И. Зайцев обратил наше внимание на заключительный раздел пересказа Диодора, повествующий о том, как Ямбул, потеряв в конце своего путешествия товарища, наконец добрался до индийского города Палиботры и, удостоившись там пышного приема у местного царя-филэллина, получил от него, сопроводительный конвой, с которым и доехал до Персиды, а оттуда «впоследствии спасся в Элладу» ( II, 60, 3). Надо отметить, что до середины II в. путешествующим из Индии на родину грекам не нужно было «спасаться» из Персиды, входившей в состав державы Селевкидов и завоеванной царем Парфии Митридатом в период между 170— 138/37 гг.[780]
Написанный купцом-путешественником роман получил широкое распространение в эпоху империи.. О его художественных достоинствах говорит хотя бы тот факт, что сатирик Лукиан, избрав Ямбула в «Правдивой истории» чуть ли не в качестве главной мишени для своей пародии, признавал его выдумки «не лишенными привлекательности» в отличие от «несообразностей» других «писателей-фантастов» эпохи эллинизма (I, З).[781]
Сюжет ямбуловского рассказа весьма традиционен. Занявшись после смерти отца торговлей, Ямбул отправился через Аравию в страну ароматофоров, а в пути вместе с одним из своих товарищей был захвачен разбойниками и обращен в пастуха. Впоследствии оба попали к эфиопам, решившим использовать пленников для ритуального очищения своей страны. По эфиопскому обычаю (подтвержденному оракулом), каждые 600 лет два чужестранца должны были отправляться на небольшом суденышке на юг к Счастливому острову и его блаженным обитателям. Благополучный исход путешествия обеспечивал эфиопам мир и благоденствие на следующие 600 лет.
После четырех месяцев опасного плавания по бурному морю Ямбул и его товарищ наконец достигли острова окружностью в 5000 стадиев и были с почетом приняты его жителями, резко отличавшимися по своему внешнему облику и образу жизни от людей, обитавших где-либо в известных грекам странах (II, 56, 2). Их рост превышает четыре локтя, «все они почти одинаковы по телосложению», отличаются необычайной силой мышц и гибкостью в движениях. Помимо необыкновенной красоты, островитяне обладают также удивительной способностью воспроизводить «любую человеческую членораздельную речь, многоголосие птиц и вообще звуки любого рода», так как язык, разделен у них на две половинки. Благодаря этому каждый может одновременно поддерживать разговор с двумя собеседниками (56, 2 — 6; ср.: Luc. V. H., I, 23; Plato Pol., 272b).
Сам остров расположен на экваторе; на нем день всегда равен ночи. Климат же там самый умеренный, и плоды созревают на протяжении всего года (56, 7). Море вокруг этого острова— пресное (58, 7); в нем водится множество разнообразных рыб (59, 2). На самом острове в изобилии имеются целебные источники с теплой и холодной водой (56, 3); произрастают всевозможные деревья, оливки и виноградные лозы; водится невероятное количество животных и птиц (59, 3 — 4), в том числе громадные змеи, мясо которых съедобно, а также удивительные круглые животные, напоминающие черепах. У них четыре глаза и четыре рта, размещенные попарно как бы па сторонам света. Благодаря расположенным по всей окружности ногам, эти животные легко двигаются в любую сторону; их кровь обладает удивительным свойством сращивать отсеченные части тела (57, 2 — 4).[782]
Островитяне живут «по родственным объединениям и группам» (κατά συγγενείας καί συστήματα);[783] численность каждой из них не превышает 400 родственников (των οικείων — 57, 1; ср.: Plut. Agis, 8). В каждой группе руководство принадлежит старшему по возрасту, которому остальные повинуются, как царю (58, 6). Несмотря на то, что все на острове «рождается самопроизвольно» и притом в количестве, превышающем любые потребности, островитяне добровольно их ограничивают, поскольку «стремятся к простоте и принимают только необходимую пищу» (57, 1; 59, 1). Им совершенно неизвестны гастрономические ухищрения других народов. Сам порядок питания строго регламентирован путем установления определенных дней для приема различных видов животной и растительной лищи (59, 1,5).
На острове нет рабов. Поэтому все виды работ выполняются в родственных группах сообща. Их члены «поочередно прислуживают друг другу: одни ловят рыбу, вторые занимаются каким-нибудь ремеслом, третьи заняты чем-либо из остальных полезных вещей, а прочие по определенному кругу выполняют общественные обязанности, кроме уже состарившихся» (59, 6).[784]
Благодаря такому строгому распорядку жизни, островитяне отличаются здоровьем и долголетием и живут до 150 лет. Суровый закон требует, чтобы увечные и больные добровольно уходили из жизни. У гелионеситов существует «обычай жить до определенного возраста, и достигшие этого срока добровольно умирают необычной смертью: у них растет трава особого свойства, на которую когда кто-нибудь ложится, умирает в забытьи и легко, погрузившись в сон» (57, 1; ср.: Plato Protag., 323d).
Островитяне практикуют общность жен. Новорожденных, как и в платоновском «Государстве», подменивают, чтобы матери не узнавали своих детей, которые считаются общими и получают одинаковое воспитание. Каждая группа содержит огромную птицу, с помощью которой испытывается характер детей. Так, «выдерживающих полет они растят, а страдающих приступом тошноты и преисполняющихся страхом — они сбрасывают вниз» как недолговечных и малодушных (58, 5).[785]
Благодаря отсутствию индивидуальной семьи, «евгенической профилактике» и строгому распределению трудовых и общественных функций у островитян «нет никакого соперничества, они живут без раздоров, более всего дорожа согласием» (58, 1). У них процветает «всяческое образование», и особым почетом пользуется астрономия.
Алфавит жителей этого острова состоит из 28 букв — по числу значений, «а по начертаниям — 7, и каждая буква принимает 4 вида. Строчки пишут, не вытягивая вбок, как мы, но записывают сверху вниз в прямой столбик» (57, 3 — 4).
Островитяне «проводят время на лугах... во время празднеств и пиров у них произносятся и поются в честь богов славословия и гимны, особенно в честь Солнца ...» (57, 1; 59, 7). Умерших хоронят, зарывая в песок во время отлива; с приливом море окончательно сглаживает места захоронений (59, 8).
Всех островов — 7. Они сходны по величине, симметрично расположены по отношению друг к другу и «пользуются одними и теми же обычаями и законами» (58, 7). Все, кто там обитает, называют себя «жителями островов Солнца» (гелионеси-тами).[786] «Они почитают богами весь небесный свод и солнце, и вообще все небесные явления» (59, 2).
Даже такой сравнительно небольшой сжатый обзор основных элементов ямбуловского рассказа выявляет полное тождество лежащей в основе его проекта утопической контрукции с более ранними произведениями этого жанра, сочетающими традицию «золотого века» с утопическими идеями чисто рационалистического плана, тяготеющими к жестким утопическим построениям.
Не вызывает, однако, сомнений близость Ямбула к «Священной записи», проявляющаяся не столько в прямом заимствовании, сколько в общей ориентации на искусное комбинирование идей, восходящих к Гомеру и Геродоту, с философскими учениями IV — III вв. И Панхайя, и острова Ямбула ассоциируются с Солнцем. Астрономические интересы свойственны гелионеситам в такой же мере, в какой и панхайским богам. Деяния богов записаны жрецами на стеле египетскими иероглифами, в то время как используемый на «островах Солнца» метод записи в колонку вызывает скорее ассоциации с Китаем.
Похоже, что Геродоту и Эвгемер, и Ямбул обязаны многими импульсами, определившими как внешнее оформление, так и некоторые черты исходных замыслов их проектов. На это указывает, в частности, подмеченная Р. Пёльманом и Ж. Жерне[787] прямая связь между геродотовским рассказом о «столе Солнца» у эфиопов (III, 17—18) и описанием времяпрепровождения гелионеситов «на лугах» (57, 1), которое без учета первоисточника вступает в некоторое противоречие с рисуемой Ямбулом картиной организации трудовой деятельности на Счастливом острове.
Нельзя обойти и свойственную эллинистическим авторам тенденцию к симбиозу индийских и аравийских элементов в их повествованиях. Например, сохранившийся у Страбона рассказ об общественной системе набатеев легко мог послужить прототипом для Ямбула. «Набатеи — разумный и хозяйственный народ... Так как рабы у них — редкость, то большей частью они пользуются услугами родственников или же служат друг другу; этот обычай распространяется даже на царей... Царь держится настолько близко к народу, что не только обходится без слуг, но даже сам иногда, в свою очередь, оказывает ответную услугу» (XVI 4, 26, пер. Г. А. Стратановского).
Конечно, «принцип ротации», заимствованный Ямбулом из предшествующих этнографических работ и положенный в основу описания хозяйственной деятельности и приема пищи у гелионеситов, не имеет ничего общего с «социалистической организацией производства и распределения», которую пытался отыскать на «островах Солнца» Р. Пёльман.[788] Вместе с тем С. Я. Лурье, подвергший выводы Пельмана резкой критике, впал, на наш взгляд, в иную крайность, отрицая какое бы то ни было серьезное значение данного принципа и считая, что «мы ... здесь имеем превратившийся в сказку миф типа мифа о Кроносе, где господа меняются работой с рабами».[789]
Исходя из текста Диодора, нельзя с полной определенностью сделать вывод о том, что при помощи «принципа ротации» Ямбул стремился решить многократно встававший впоследствии перед утопистами нового времени вопрос, «кто же согласится принять на себя выполнение низших и непривлекательнейших, работ в идеальном общежитии?».[790] Более предпочтительной представляется остроумная гипотеза Д. Фергюсона о заимствовании Ямбулом данного принципа непосредственно из аристотелевской критики «Государства» Платона (Pol., II 1, 5).[791]
На наш взгляд, эта гипотеза, вопреки мнению ее автора, могла бы стать дополнительным свидетельством близости подходов Эвгемера и Ямбула к разработке идеальных принципов, лежащих в основе их проектов. Основное различие во взглядах обоих утопистов состоит не в отрицании наследия Аристотеля, но прежде всего в ориентации на различные направления философской мысли. Так, внимание Ямбула к аристотелевской критике Платона было, вероятно, мимолетным. Его роман вполне может рассматриваться как наиболее полное (из имеющихся, в нашем распоряжении) художественное воплощение стоических представлений об идеальной общине.[792]
Влияние основоположников стоического учения проявляется, конечно, не в абсолютизации принципа симметрии, в соответствии с которым строятся утопические образы Ямбула. В этом, плане они напоминают скорее платоновское идеальное государство (особенно, если учесть приверженность обоих утопистов к. числовой символике). Основным признаком стоического влияния может служить сам факт последовательного использования принципа симметрии не для обоснования необходимости социальной иерархии, а, наоборот, для создания картины всеобщего равенства, где отрицаются все традиционные государственные институты. Как и в зеноновской утопии, у Ямбула единство достигается через единообразие: «острова Солнца» населяют общины мудрых людей, во всем подобных друг другу, подчиняющихся универсальному закону справедливости и равенства, олицетворяемых небесным светилом. Гелионеситы носят одинаковые, окрашенные пурпуром одежды, изготовленные из особого рода тростника (59, 4).
В утопии Ямбула нельзя найти никаких упоминаний о полисных институтах: на «островах Солнца» нет гимнасиев и храмов, поскольку физическое совершенство дано гелионеситам от природы, а для почитания небесного свода и звезд не нужны ни особый культ, ни специальные помещения. Суды также не нужны вследствие царящего среди гелионеситов согласия. Не случайно поэтому Ямбул и его товарищ были изгнаны из идеальной общины как «злодеи, воспитанные в порочных привычках» (60, 1), в полном соответствии с требованием, предъявляемым Зеноном к гражданам своего утопического государства. Наконец, захоронение покойников в морском песке весьма схоже с безразличным отношением Зенона к судьбе тела после смерти (Sext. Emp. Adv. Eth., XI, 194).[793]
Картина же брачных отношений напоминает скорее платоновскую и лишена сексуальных вольностей, допускаемых в «Государстве» Зенона и у киников. Но совершенно очевидно, что любая попытка наглядного изображения в «нарративной утопии» всякого рода половых излишеств выглядела бы в глазах читателей как пародия и невольно ассоциировалась бы с эротическими вакханалиями, описанными Аристофаном в финале «Женщин в народном собрании».
Такая сдержанность, диктуемая законами жанра, конечно, не избавляет роман Ямбула от неизбежных противоречий между воспеваемым им идеалом всеобщей гармонии и счастья и теми последствиями, к которым неизбежно приводит ригористическое требование самоотречения, предусматривающее, например, добровольную смерть стариков и увечных. Возможно ли безупречное выполнение гелионеситами общественных обязанностей и вообще длительное сохранение согласия, если старейшина-царь, еще вчера признаваемый «наиболее пригодным к руководству остальными, сегодня должен ... уйти из жизни»?[794] Добровольное самоубийство, даже если оно и обосновывалось у Ямбула стоическими аргументами (см., напр.: DL., VII, 130; ср.: Strab., XV 1, 66, 68), будучи представленным наглядно, выглядит не менее отталкивающим, несмотря на все атрибуты гесиодовской эвтаназии.[795]
В итоге личное счастье жителей идеальных общин приносится в жертву абстрактному принципу всеобщего совершенства. Ригористическая жесткость и абсолютная симметрия построений Ямбула, последовательно отстаиваемая им даже, например, в том случае, если она совершенно противоречит исторической или географической достоверности (в частности — авторитетным суждениям Эратосфена о положении солнца на экваторе и т. п.[796]), не позволяют причислить его роман исключительно к развлекательному жанру, чуждому какой-либо теории.
Принимая во внимание это немаловажное соображение, вероятно, нельзя признать правомерной точку зрения тех исследователей, которые ограничивают «конструктивный период» эллинистической утопии исключительно III в. Рационалистическая традиция утопической мысли и политической теории, идущая от Платона и Аристотеля через Зенона и Хрисиппа к Средней Стое, никогда не прерывалась абсолютно. Оттесненная на периферию в позднеэллинистический период, она вновь частично возрождается в учениях Полибия, Панетия и Посидония, дав мощный импульс развитию политической мысли в период кризиса Римской республики.
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВДИ—Вестник древней истории
BЛ— Вопросы литературы
ВФ— Вопросы философии
ЖМНП—Журнал министерства народного просвещения
АС — L’Antiquité classique
AGPh—Archiv für Geschichte der Philosophie
AJPh—American Journal of Philology
ASAW—Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaft
ASNSP—Annali della Scuola Normale Superiora di Pisa
BICS—Bulletin of Institute of Classical Studies
CAH—The Cambridge Ancient History
CPh—Classical Philology
CQ—Classical Quarterly
CR—Classical Review
CW—The Classical Weekly
FGrH—Fragmente der griechischen Historiker / Ed. F. Jacoby
FHG—Fragmenta Historicorum Graecorum / Ed. C. Müller
HTR—Harvard Theological Review
IBKW—Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft
JAOS—Journal of American Oriental Society
JHI—Journal of the History of Ideas
JHS—The Journal of Hellenic Studies
JNS—Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik
JR—Journal of Religion
LSKPh—Leipziger Studien der klassischen Philologie
NRL— Nouvelles de la Republique des Letires
PAPA—Proceedings and Adresses of the American Philosophical Association
PBA—Proceedings of the British Academy
PhQ—The Philosophical Quarterly
PhR—The Philosophical Review
PP—La parola del passato
QC—Quaderni Catanesi di studi classici e medievali
RCSF— Rivista critica di storia della filosofia
RE— Pauly’s Real-Encyclopädie der classischeii Altertumswissenschaft.
Neue Bearbeitung / Begonnen von G. Wissowa; hrsg. von W. Kroll
REG— Revue des études greques
RF— Rivista di filosofia
RH— Revue historique
RhM— Rheinische Museum für Philologie
RHR—Revue de l’histoire des religions
RIL--Rendiconti dell* Instituto Lombardo
RMM—Revue de métaphysique et de morale
RPh— Revue de philologie
SBAW—Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften
SBB—Sitzungsberichte der Bayerischen Akademie de; Wissenschaften (München)
SC— Studi Clasice
SIFC-- Studi Italiani di filologia classica
SMSR—Studi e materiali di storia del le rcligioni
SVF— Stoicorum Veterum Fragmenta / Ed. von Arnim
TAPA—Transactions and Proceedings of the American Philological Association
WS---Wiener Studien
ZVK—Zeitschrift für Volkskunde