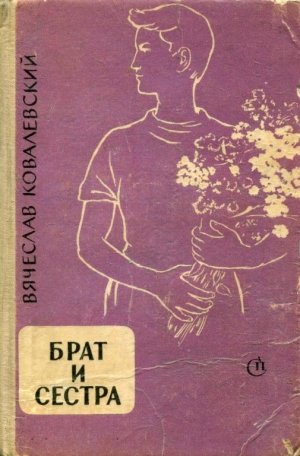
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Сын школьной уборщицы Петя Симонов торопил весну. Он прокопал в снегу глубокую канаву вокруг волейбольной площадки, и когда вдоль тротуаров побежали мутные ручьи, Петя каждый день сгонял метлой под откос талую воду. Вот почему площадка просохла раньше, чем весь остальной школьный участок.
Волновался не один Петя Симонов. Множество глаз зорко поглядывало в этот угол двора, едва первые пятнышки земли зачернели из-под снега. Волейбольная площадка дразнила всех школьников.
Петя учился в девятом классе «А», в той самой школе, где работала его мать. Опередить Петю было невозможно — он жил рядом с площадкой, в одноэтажном домике, поставленном здесь для преподавателей. Одну из комнат в этом узеньком и очень длинном строении, с отдельным входом со двора для каждого жильца, директор школы отдал родителям Пети; к ней примыкала кухонька; вместе с холодными сенями все это составляло совершенно отдельную квартиру. Отец Пети тоже работал при школе, он был конюхом: в его ведении находился слепой, но вполне еще крепкий и выносливый тяжеловоз рыжей масти по кличке Бурка.
И вот наступил-таки день, когда можно было натягивать на воле сетку, подбирать команды и начинать наконец боевые схватки. Мяч давно уже был надут, и пятерка ребят из девятого класса «А», самых страстных любителей спорта, весь день провела в напряжении — ждала окончания занятий.
Вот уже и шестой урок. Едва он закончился, не только привычный сигнал школьного звонка сорвал всех с места, — нет, сегодня, казалось, само солнце апрельское ударило высоко в небе в огромный голубой колокол — позвало ребят из-под крыши на вольный простор. Петя Симонов, Димочка Кутырин, Виктор Терпачев, Ярослав Хромов, обгоняя друг друга, понеслись к выходу — надо было во что бы то ни стало захватить для класса площадку.
День был удивительно теплый и яркий. Когда Зоя вышла под открытое небо и солнце осветило ее и согрело, у нее вдруг возникло такое чувство, словно все, что она видела перед собою, было только сегодня придумано и только сегодня начинало существовать, и все было одинаково значительно и прекрасно: и длинные, гибкие ветви голых берез на участке санатория имени Воровского, прямо против школы, и школьная железная ограда, и розовый сверток в руках какого-то гражданина, спешившего к трамвайной остановке, и одинокое белое облако, словно специально пригнанное ветром к школе, чтобы передать привет с далекого юга, и необыкновенно ярко освещенная асфальтовая дорожка, ведущая к воротам, и тень от молодой липки, и младенческие язычки травы, только что начавшей пробиваться из отогретой солнцем земли.
Не только весна взбудоражила Зою — сегодня у нее опять была большая удача. Преподавательница литературы, Вера Сергеевна Новодворцева, прочла вслух для всего класса домашнее сочинение Зои «В чем заключается величие личности Чернышевского?».
Как тут не радоваться? Зоя тоже вдруг рванулась и побежала вместе со всеми к спортивной площадке, хотя времени у нее оставалось очень мало: надо было успеть приготовить обед прежде, чем мать возвратится с работы.
Зоя бежала, откинув назад голову, и коротко остриженные волосы то открывали ее высокий лоб, то закрывали его, как бы порывисто дышали в лад с быстрым движением девушки. Она не забыла о том, что надо будет ей сделать сегодня дома: нарезать для борща капусту и провернуть через мясорубку говядину, а до этого забежать в булочную купить хлеба, — нет, она никогда ничего не забывала, но сейчас мысли о хозяйстве лишь заставили ее бежать быстрее: при желании можно все успеть сделать.
Пока в обычных спорах определяли состав команд, Шура Космодемьянский, брат Зои, высокий и широкоплечий юноша, в узеньком коричневом пиджачке, из которого он давно уже вырос, подошел к натянутой сетке и начал примеряться к ее высоте, вытянув вверх руку с очень крупной, словно у взрослого мужчины, широкой ладонью.
— Так не пойдет, — сказал он. — Низко. Терпачев, давай перевязывать.
— Ничего подобного — хорошо! — крикнул Димочка Кутырин, круглый отличник, всеми уважаемый в классе за острый ум и самостоятельный характер, но самый низкорослый из ребят. Родители до сих пор не покупали ему длинных брюк, не хотели расстаться со своим отношением к нему как к маленькому. Его никто в классе иначе не называл, как Димочка.
Вот он разбежался по площадке, в коротеньких велюровых бриджах, в курточке с белым отложным воротничком, и прыгнул изо всех сил, но до верхнего края сетки не достал. Ребята рассмеялись. Тут же поднялся спор: некоторые требовали, чтобы сетка оставалась так, как висит, но самые высокие в классе, все почти одинакового роста, — Петя Симонов, Шура Космодемьянский, Ярослав Хромов и Виктор Терпачев — настаивали на том, что сетку необходимо поднять.
— Мы будем играть или мы не будем играть?! — сказала Люся Уткина и добавила с обычной своей высокомерной манерой, четко выговаривая каждое слово, как на уроке: — Подумаешь, какая неразрешимая задача — правильно натянуть сетку!
Это была общепризнанная лучшая ученица класса, единственная дочь директора крупного военного завода, отличавшаяся тем, что у нее чаще, чем у других девочек в классе, появлялось новое платье; она же первая из всех девочек, еще в седьмом классе, надела открытые туфли на высоком каблуке.
Училась Люся Уткина, как говорили обычно на заседаниях педагогического совета, «с блеском». Однако относилась ревниво к своим знаниям. Если кто-нибудь обращался к ней за помощью, особенно в дни школьных экзаменов, она помогала, но делала это с таким видом и таким тоном, что отпадала всякая охота просить ее о чем-нибудь в другой раз.
Был только один предмет в школьной программе, по которому Уткиной не всегда удавалось удержать первенство, — литература. Домашние сочинения у Зои получались лучше. Раза два в году Люся делала ошибку в диктанте, чего почти никогда не случалось с Зоей. Это было причиной тайной зависти, которую Уткина скрывала даже от самой себя. Она считала свое отношение к Зое совершенно беспристрастным и все-таки находила случай упрекнуть ее в чем-нибудь или в общем разговоре на перемене подать в ее адрес какую-нибудь колкую реплику. Это Люсе Уткиной принадлежало изречение: «Зойка у нас чересчур уж правильная!»
Сейчас им обеим очень хотелось играть. Но в то время как Зоя, ринувшись в игру прямо с бега, делала это от полноты своей радости, Люся пришла на площадку, чтобы заглушить ощущение неудачи: ведь она надеялась, что ее сочинение, а не Зоино будет прочтено вслух для всего класса. Теперь она пришла сюда, чтобы взять реванш хотя бы здесь, на площадке.
Нажав рукою на сетку, — сетка хорошо пружинила, — Зоя крикнула:
— Товарищи! Каждая минута дорога, давайте начинать!
Казалось бы, это вполне совпадало с интересами Люси Уткиной, однако Люся сказала:
— Ну, Зоя, если тебе так некогда — иди, пожалуйста, домой! Раз поднялся спор — надо натянуть по всем правилам.
Но Зоя, встряхнув головой, как бы желая сказать: «Какие здесь могут быть споры!» — и одновременно этим движением откидывая упавшую на лоб прядь черных волос, подстриженных, как у мальчика, мгновенно преобразилась. Она перехватила на лету кем-то посланный через сетку мяч, ударила им о землю и побежала с ним к задней линии, все время ударяя мяч рукой и гоня его перед собой, как делала она это в детстве, играя в узеньком коридоре их коммунальной квартиры.
Игра началась.
Подавала Зоя. Она не рассчитала сил: мяч «свечкой» взвился от ее удара, и сразу стало видно, что он идет за черту. Шура Космодемьянский успел крикнуть:
— Зойка, что ты делаешь? Побьешь стекла в трамвае!
Видя, что Шура все-таки собирается «вытянуть» мяч, Петя Симонов и Ярослав Хромов крикнули в один голос:
— Не бери — аут!
Но Шура уже подпрыгнул и сумел отбить мяч. На Зоиной стороне мяч приняла Лиза Пчельникова. Стоявшая на втором номере Ната Беликова растерялась. Зоя вырвалась вперед, чтобы спасти положение. Коля Коркин, замирая от волнения, скороговоркой попросил ее:
— Зоинька, голубушка, накинь мне длинный!
Зоя удачно подала ему, и Коркин, очень высоко подпрыгнув, вбил через сетку, казалось, «мертвый» мяч. Но Люся Уткина, игравшая в противоположной команде, мгновенно присела и взяла этот трудный мяч, — он с сильным треском влип в ее ладони и, отскочив, пошел обратно через сетку.
— Ребята, не «стрелять»! — крикнул Симонов. — Играем на три паса!
— При чем тут «три паса»? — обиделся за Люсю Терпачев. — Молодец Люся — какой мяч взяла!
Пока он успел это вымолвить, мяч уже возвратился и упал на землю около ног Терпачева.
— Спишь, Витя! — добродушно упрекнул его Шура.
— Только начали играть, а уже не продохнешь от разговоров, — сказала Люся Уткина.
— Внимание! — крикнула Зоя. — Продолжаем! Кто-нибудь ведите счет.
— Я посужу! — сказал, становясь у столба под сетку, приятель Виктора Терпачева, Яша Шварц, отличавшийся тем, что у него зимой и летом жарко горели красные, большие, хрящеватые уши, словно он только что выскочил из бани. Шварца не принимали ни в одну партию за то, что он мазал, но если в игре участвовал Виктор Терпачев, значит Шварц находился где-то поблизости.
На этот раз Зоя удачно подала мяч и он долго носился над сеткой с одной половины на другую — никто не мог его забить. Минуты две все молчали, слышались только тугие удары по мячу и учащенное дыхание игроков да шарканье по земле и торопливый, неровный топот ног при внезапных прыжках и перебежках. Но чем дольше мяч был в игре и не падал на землю, тем жарче накалялся азарт, — молчать становилось невозможно. Послышались реплики, торопливые просьбы:
— Дай мне!
— Олег, не лезь на чужой мяч!
— Не «стреляйте»! Товарищи, играем с распасовкой!
— Захват!
Шура играл с азартом. Через пять минут рубашка на нем была уже вся в темных пятнах от пота.
В шестом классе товарищи дали Шуре кличку «Ведмедь» за его добродушную улыбку и наивную застенчивость, сочетавшуюся с большой для его возраста физической силой, за его преждевременную солидность и невозмутимо спокойные жесты.
Как только Шура начал помнить себя, с самого раннего детства, он всегда был самым высоким среди сверстников. Постороннему человеку сразу бросалась в глаза несуразность его роста, когда Шуру видели играющим в палочку-выручалочку вместе с малышами или же гоняющим с ними футбольный мяч на улице. Если кто-нибудь разбивал мячом стекло или же случалось в компании играющих еще какое-нибудь чрезвычайное происшествие — первым виновником считался только Шура Космодемьянский.
Брат был младше сестры, но учились Зоя и Шура в одном классе. Это произошло потому, что, когда Зоя должна была первый раз в жизни переступить порог школы (через несколько дней Зое исполнялось уже восемь лет), Шуру просто не с кем было оставить дома. Отец и мать уходили рано, они работали: Анатолий Петрович бухгалтером в Тимирязевской академии, а Любовь Тимофеевна — учительницей в начальной школе, тоже недалеко от академии. Обычно дети оставались одни. Мать беспокоилась о Зое и Шуре во время уроков. Однако она была совершенно уверена: если Шура затеет какую-нибудь опасную игру или шалость — Зоя обязательно его остановит. Зоя с младенческих лет привыкла, что она старшая, а Шура — маленький, она рано научилась помогать матери одевать Шуру и обувать, умывать его и кормить, следить за тем, чтобы Шура чего-нибудь не разбил и не ушибся. Зоя и Шура всегда были неразлучны, поэтому для них не было ничего странного в том, что мать привела их в школу обоих вместе: совершенно естественно, что брат и сестра сели на одну парту.
Когда перешли в четвертый класс, Шура наотрез отказался сидеть на одной парте с сестрой.
Это был первый шаг Шуры на пути к самостоятельности. С этой осени он еще нетерпимее относился к какой бы то ни было опеке. Если Зоя, сидевшая впереди, оглядывалась во время урока и следила, как ведет себя Шура, он злился, морщил лоб и начинал ерзать на парте.
Однако на деле, и в школе и дома, Зоя всегда оказывалась более опытной, более взрослой и самостоятельной. Это проявлялось во всем — и в повседневных мелочах домашнего быта, когда надо было помочь матери по хозяйству, и в делах более сложных, — хотя бы во время приготовления заданных на завтра уроков. Шура робел и терялся при разговорах со взрослыми. Если какое-нибудь поручение матери требовало объяснений со взрослыми, он старался отделаться от него, сваливая на Зою. В отношениях с матерью у Шуры долгое время сохранялось много ребяческого, хотя Любовь Тимофеевна никогда своих детей не баловала и особенно после смерти мужа воспитывала их в суровой простоте и правдивости, готовила к трудовой жизни. Зоя любила помогать матери, всегда старалась угадать, в чем мать нуждается, и не ждала напоминаний.
Иногда по вечерам, когда все уроки уже приготовлены, а отец и мать все еще не возвращались с работы, Шура поднимал возню, старался раздразнить Зою. Начиналась шумная беготня. Шура был намного сильнее Зои, но никогда не делал ей больно. Ему важно было только доказать свое физическое превосходство — во что бы то ни стало догнать Зою, схватить ее за руки и свести их вместе в свою ладонь, как бы связать Зою, чтобы она не могла вырваться. Но и тут Зоя вдруг находила какое-нибудь насмешливое, убедительное словечко или же просто говорила: «Ну, хватит — надоело!», но говорила таким тоном, что веселая возня сразу же теряла свою прелесть, и Шура отпускал сестру на свободу.
Брат и сестра никогда не играли в волейбол в одной команде. Шура заявлял, что он принципиально против этого. Если Зоя предлагала ему стать на площадке вместе, Шура улыбался и, придавая, по своему обыкновению, словам иронический оттенок, произносил что-нибудь вроде: «Нет, сестрица, хватит мне твоего деспотизма дома. Играть с тобой вместе мы можем только при условии, если нас разделяет сетка!»
Но в самой уже игре, — как бы Шура ни был увлечен, — он редко забывал о Зое, и хоть делал вид, что они враги, и порою поддразнивал Зою насмешливыми замечаниями, он всегда хотел, чтоб игра ее была удачной, и злился, если Зоя делала промахи.
На площадке Шура неузнаваемо менялся. Обычные его застенчивость и медлительность, мешавшие ему отвечать на уроках внятно и сжато, делавшие все его движения вялыми и нечеткими, здесь, на площадке, исчезали без следа в первые же минуты игры. Он словно вдруг вырывался на свободу из собственного плена, или, вернее, только теперь становился самим собой.
Шура играл с таким самозабвением, словно это была последняя игра в его жизни — больше уже никогда ему не доведется взять мяч в руки. Он ни минуты не стоял на месте, то и дело наскакивал на своих партнеров, перехватывая чужие мячи. На Шуру постоянно кто-нибудь кричал, но так как он редко мазал и порою мог в самый трудный момент игры выручить всю команду, — на него никто не сердился по-настоящему. Происходило это еще и потому, что он обладал неиссякаемым добродушием. Как бы зло ни огрызались на Шуру, обычно он отвечал лишь улыбкой. А улыбка у Шуры была своя, совершенно особенная: когда Шура улыбался, получалось так, словно невидимый шнурочек оттягивал его губы чуть-чуть в правую сторону, как бы тянул за уголок рта.
Во время игры эта улыбка часто выводила из себя Люсю Уткину. Люся кричала:
— Шурка, опять ты лезешь со своей кривой улыбкой! Выхватил мой мяч из-под носа и еще смеет улыбаться!
Команда, в составе которой сражался Шура, явно брала верх: она быстро довела счет в свою пользу до 8 : 5.
Шура то и дело обтирал рукавом красное, распаренное лицо. Бросаясь за трудными мячами, он часто падал; рубашку на правом боку и весь левый рукав измазал глиной. Поднимаясь после очередного падения и отряхиваясь, Шура каждый раз успевал обменяться с Зоей молчаливым взглядом. Никто этого не замечал, но брат и сестра понимали друг друга. Зое приходилось самой стирать рубашки Шуры. Чувствуя себя виноватым, он как бы говорил своим взглядом: «Зойка, не сердись — я сам принесу воды из колонки, сам согрею». А Зоя отвечала: «Удерешь на футбол — только тебя и видели!»
Зоя тоже распалилась в игре и раскраснелась. Взглянув на ее лицо, всегда можно было угадать, что происходит на площадке. Вот мяч идет прямо на Зою — голубовато-серые глаза Зои расширяются и от этого становятся голубее. Удачно передав мяч для удара соседу и глядя затем, как мяч уходит через сетку, Зоя сужает глаза, и тогда они, в узкой щели среди ресниц, кажутся совсем темными оттого, что ресницы у Зои черные, необыкновенно густые и длинные. Вот она прикусила нижнюю губу своими ровными белыми зубами. Это она боится, что Коркин или Пчельникова не отобьют мяча. Но через секунду все лицо ее мгновенно озаряется, рот слегка приоткрыт — Коркин сделал огромный прыжок и, «как кол», вогнал в землю «мертвый» мяч возле растерявшегося Терпачева. Люся Уткина успевает сказать ему с досадой: «Зойка сегодня сияет, как медный пятак!»
Выиграла команда Шуры и его товарищей. Да иначе и не могло быть — Шура, Хромов, Симонов и Терпачев с Люсей Уткиной часто тренировались, даже среди зимы, в спортивном зале, а у Зои и Лизы Пчельниковой почти никогда не оставалось для этого свободного времени. К тому же команда на их стороне подобралась сегодня совершенно случайная.
И все-таки Зое и Лизе Пчельниковой захотелось взять реванш.
Внезапно Зоя вспомнила, что обед еще не готов. Какой тут реванш! Теперь на счету каждая минута. Она подхватила портфель с книгами, лежавший у столба под сеткой, и сразу же побежала к домику, где жили отец и мать Пети Симонова, — очень уж хотелось пить, к тому же совершенно необходимо было вымыть руки.
Зоя постучала в дверь и, не дождавшись ответа, нетерпеливо распахнула ее и прямо с порога попросила, шумно переводя дыхание:
— Ой, Марфа Филипповна, умираю — хоть глоток водицы!
ГЛАВА ВТОРАЯ
Мать Пети Симонова, Марфа Филипповна, гордилась тем, что к ее сыну то и дело заходят товарищи, не сторонятся их маленькой горницы, не брезгуют. Она вешала на кухне отдельное полотенце возле раковины — пускай кто пожелает моет руки после возни с мячом. Такой порядок был заведен еще с седьмого класса.
Марфа Филипповна давно уже знала, у кого из ребят какие родители: где работает отец, чем занимается мать. Это увеличивало ее радость за своего Петра, которого они со стариком лет восемь назад имеете с остальными своими детьми перевезли в Москву из деревни.
У Димочки Кутырина (шустрый такой мальчонка — мал, но смышлен, больно востер и расторопен; личико у него все собрано в горсточку, стянуто, словно в кулачок: тут тебе и носик с курносинкой, и ротик, и черные глазки под гнутыми бровками), у Димочки Кутырина отец работает научным сотрудником в архиве Академии наук; мать Ярослава Хромова (красавица такая, да и сын тоже хорош на лицо) — вроде инспектора по детским яслям, а его отец заведует хирургическим отделением в большой больнице; отец Виктора Терпачева, всеми уважаемый старший мастер на инструментальном заводе, зарабатывает вполне даже прилично (вот только сынка избаловал: дипломат малый, аккуратист с форсом, много о себе понимает, вроде артист); мастером работает и отец Лизы Пчельниковой (хороша девушка: скромница, видать, работящая); а мать Космодемьянских Шуры и Зои — учительница.
Вот с кем сидит в одном классе Петя. Одна только гордячка Люся Уткина, дочка директора завода, ни разу не была у них, а то, кажется, перебывали все ребята из девятого «А». Так ведь недаром же Люсе Уткиной дали прозвище «принцесса».
Два старших сына и дочь Марфы Филипповны давно уже отделились от родителей, работали на фабрике, и каждый из них обзавелся семьей. Марфа Филипповна любила всех детей одинаково, никого не выделяла, когда жили они вместе. Но теперь, когда Петя остался при отце и матери один, оказалось, что он и есть самый любимый. Но Марфа Филипповна была и к нему строга, по самой природе своей баловать кого-нибудь она никогда не умела.
В школе Петю любили за доброту и отзывчивость. С виду не очень складный, длинный, худощавый и узкоплечий, с обветренным лицом, — кожа на скулах и на буграх над бровями шелушилась зимою и летом, — с обметанными губами, влажными и белесыми в углах рта, Петя в то же время был ловкий и сильный, выносливый и до отчаянности смелый. Он настолько был талантлив в проявлении к людям доброго чувства, что его знали не только в девятом «А», но и в параллельных классах, и в младших, и в старших. Марфа Филипповна слышала, как на переменах то и дело раздается призыв к нему о помощи: «Петя!», «Петька Симонов!» Это пищал какой-нибудь малыш — мальчик или девочка. Петя уже тут как тут: своими длинными, костистыми руками он расшвыривал обидчиков и выручал жертву. Он ненавидел, если кто-нибудь из старших отыгрывался на слабых и маленьких, в таких случаях от него пощады не жди!
Марфа Филипповна и дома и на работе одевалась всегда одинаково: черное платье с широкой юбкой в сборку, сверху одноцветный серый джемпер с черными пуговицами; голову она туго повязывала простым белым платком, никогда не увидишь, какого цвета у нее волосы. Для своих пятидесяти лет выглядела моложаво и почти всегда сохраняла одно и то же спокойное выражение лица, отражавшее сознание своей удачи и благодарность судьбе за то, что довелось попасть в Москву и работать при такой школе.
Пете она не раз говорила:
— Держись крепче за науку! Дорога тебе открыта, лестница широкая — шагай куда хочешь. Не отставай от других!
Начало работы для Марфы Филипповны совпало как раз с таким моментом, когда школа только что была переведена в новое здание: еще не успели убрать строительного мусора с участка; учитель биологии, Иван Алексеевич Язев, еще не посадил вокруг школы ни одного деревца; еще даже место под сад не было намечено. Но в самой школе-красавице все уже сверкало.
Когда Марфа Филипповна впервые приступила к работе, огромный школьный корпус в четыре этажа был для нее как храм: чистый, светлый, с четкими, яркими дольками дубового паркета, с небывало широкими окнами, легкими для сердца пологими лестницами и гулкими коридорами, с физкультурным залом и многочисленными учебными кабинетами, одни названия которых казались ей таинственными и недоступными для ее понимания.
Марфа Филипповна с первого же дня привязалась к школе, и когда выходила на уборку с тряпкой и щеткой, то казалось, не пыль она уничтожает и не сор выметает, а гладит, ласкает и уговаривает, чтобы все осталось таким же хорошим и никогда бы не портилось, потому что здесь учится Петя с товарищами. Каждую новую царапину на штукатурке стены или ссадину на двери она воспринимала как болячку на собственной коже.
Еще с большим уважением относился ко всему, что было связано со школой, отец Пети, конюх Аким Гаврилович, высокий, крепкий старик с длинными, жилистыми руками. Однако привыкнуть к своему новому положению в городе он все еще не мог и, работая, всегда сохранял на своем сухощавом лице такое выражение, как будто он временный гость на школьном участке. Он все делал необыкновенно старательно, но тихо и молча, даже возле лошади обходился без понукающих слов и кнута, действовал одними вожжами. Когда его начинала одолевать тоска по деревенскому полевому простору, он усмирял ее тем, что находил для себя работу потяжелее.
Сама всегда чистенькая и аккуратная, Марфа Филипповна следила за тем, чтобы и Петя не ходил неряхой. Когда Петя перешел в девятый класс, Марфа Филипповна приготовила ему к началу занятий новый костюм: купила темно-синей полушерстяной материи, сама скроила и сшила сама. Получились ладные брюки и двубортный пиджак. Через несколько дней у матери с сыном состоялся по этому поводу разговор:
— Петя, что ж это такое получается?.
— А что?
— Как же! Да костюм!
— А что?
— Как надел в понедельник, так и во вторник, и в среду, и во всю неделю таскаешь его и в хвост и в гриву!
— А для чего же его шили?
— Как для чего? Это отец Уткиной — директор, или у Терпачева — старший мастер… Разве мы можем за ними тягаться? Другого костюма у тебя теперь до конца школы не будет, что ж ты его треплешь?
— А для кого его беречь?
— Здрасте! А в чем ты в кино или еще куда пойдешь, или в парк летом, или, случится, из деревни родня кто-нибудь в гости приедет? Походил, кажется, хватит. Теперь можно опять в старом, а этот сними да почисти за порогом щеткой, обверни простынкой и повесь на гвоздик.
Петя сначала угрюмо нахмурился и замолчал, а потом чистосердечно, с горячим убеждением сказал матери:
— Мама, прошу вас, никогда больше об этом не говорите! Вы должны понять, школа — это вся моя жизнь, больше ничего у меня нет. Тут все мои товарищи, все мои друзья. Здесь и мое кино, и мой праздник — все здесь. Если костюм нельзя носить в школу, тогда он мне совсем не нужен — отнесите на барахолку.
Больше о костюме разговор ни разу не поднимался.
Школу Петя любил совершенно особой любовью. Постороннему человеку трудно даже было понять его отношение к ней. Школа для Пети не измерялась и не определялась часами пребывания на уроках или на занятиях в кружках — он знал ее всю, что называется, назубок: от подвала, где находилась котельная и куда они вместе с отцом таскали уголь, и до огромного чердака над четвертым этажом, служившего студией, столярной и электромеханической мастерской, где Петя вместе с товарищами помогал учителю черчения оформлять всевозможные празднества и юбилеи и школьные самодеятельные постановки.
Первые, годы своей жизни Петя провел в деревне. Но и с переездом в город перемена в его жизни, как она ни была крута, не оборвала его прежних привычек, связанных с колхозным раздольем: он и здесь, на окраине Москвы, помогал отцу ухаживать за лошадью. Это не только не роняло его в глазах городских ребят, а, наоборот, как он скоро заметил, служило предметом их зависти. Он поил слепого коня, задавал ему корм, а во время вспашки школьного огорода весной или уборки картофеля осенью водил в поводу, чтобы конь не сбивал борозду.
Что касается приволья, то вокруг школы его тоже было немало. По ту сторону трамвайной линии, до самой железной дороги, тянулись огороды и пустыри. А прямо против школьных ворот начинался участок санатория имени Воровского, на котором под старыми березами и многолетними соснами рос густой подлесок — кустарник; здесь в зарослях попадалась даже малина. В заборе было много проломов, и ребята с давних пор считали своим неоспоримым правом пользоваться здесь в жаркие дни благословенной тенью и душистой травой. Огромный парк Тимирязевской академии ребята тоже никогда для себя не считали запретным.
Город с таким привольем Петя принял в свой душевный мир без отказа и быстро в нем освоился. Такой город ничего у Пети не отнял, но прибавил бесконечно много.
Петя учился старательно, но часто все-таки бывал не в ладах с наукой. Особенно трудно давались ему русский письменный и литература. Это очень огорчало Марфу Филипповну. Однако она считала, что так оно и должно быть: ведь у других ребят родители грамотные, а чем она со своим стариком может помочь Пете?
Вот почему Марфа Филипповна больше, чем кого бы то ни было из одноклассников Пети, любила Зою Космодемьянскую: та помогала отстающим.
Забежав к Марфе Филипповне помыть руки, Зоя и сейчас не забыла, что в девять часов ей предстоит заниматься диктантом с Хромовым и Петей.
…Она пила, пила воду большими, громкими глотками и никак не могла утолить свою жажду. Сегодня так хотелось пить, что Зоя сразу же ухватилась за стакан, даже не вымыв рук, как делала она это обычно, забегая сюда после игры. Ей хотелось бы взять большой ковш, наполнить его прямо из-под крана и окунуть в холодную воду сразу все лицо. Дома Зоя так бы и сделала, а здесь постеснялась. Вода с подбородка текла на шею, а Зое от этого было только приятно…
— Да ты присядь, Зоя, садись, — уговаривала ее Марфа Филипповна, глядя, как сжимается, проталкивая каждый глоток, ее тонкое горлышко. — Сядь, что ж ты стоишь! Нехорошо пить не остывши.
Боясь прикоснуться к лицу грязными руками, Зоя, изгибаясь, вытерла о плечо мокрый подбородок и сказала:
— Некогда, Марфа Филипповна, надо бежать домой. Передайте Пете: вечером обязательно приду диктовать.
— Куда ты спешишь, будто за тобою кто гонится? Правду сказать, в твоих годах я тоже была торопыга. Бывало, свекровь все говорила: «Не спеши жить, Марфа, придет смерть — скажешь: рано!» Посиди, Зоя, расскажи что-нибудь. Здорова ли мама?
— Мама здорова! — сказала Зоя. Пока говорила Марфа Филипповна, она уже успела умыться над раковиной и теперь вытиралась кончиком полотенца, стараясь как можно меньше измять его. Теперь, когда она освежилась холодной водой и немного пришла в себя, Зое захотелось рассказать о своей матери, о том, как трудно ей работать. Рассказать о матери именно Марфе Филипповне было бы легче, чем кому-либо другому. Но Зоя совершенно не переносила мысли: а вдруг ее могут заподозрить в том, что ей хочется распустить нюни, пожаловаться, будто бы она ищет у кого-то утешения и сочувствия. Нет, она даже с Марфой Филипповной не стала говорить о своих домашних делах. Она только сказала: — Заигралась в волейбол. Мама придет с работы, а у меня обед не готов.
— Ну, тогда беги, беги! — теперь уже стала подгонять ее и Марфа Филипповна. — Маму жалеть надо — беги!
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Но Зое не суждено было сегодня вернуться домой вовремя.
Выйдя от Симоновых и сразу же услыхав гулкие, соблазнительные удары рукой по тугому мячу, Зоя тут же запретила самой себе смотреть на игроков, чтобы не потерять ни одной минуты. Она любила испытывать силу своей воли и постоянно находила повод устраивать маленькие тренировки. Взяв разбег, Зоя пронеслась мимо всего школьного здания и, ни разу не взглянув на площадку, выскочила на улицу.
Обычно Зоя ходила пешком. Сегодня драгоценна была каждая минута. Увидев девятый номер, не дошедший до остановки каких-нибудь метров двести, она мгновенно приняла решение: «Сяду на трамвай» — и рванулась вперед. Но учитель биологии, Иван Алексеевич Язев, увидел ее через решетку школьной ограды и окликнул. По инерции Зоя пролетела мимо и, затормозив, проехала на подошвах, как на лыжах.
— Как раз ты мне и нужна, Космодемьянская, — сказал Язев. — Возвращайся обратно. Я тебе покажу, что должен сделать ваш класс в воскресенье.
Зоя схватилась за верхнюю перекладину ограды и подтянулась на руках, намереваясь перелезть через нее. Язев мгновенно поднял вверх обе свои руки, как бы охраняя невидимое сокровище, и сказал Зое, изменившись в лице:
— Забудь то, что ты хотела сделать! — Опустив руки, он добавил уже более спокойно: — Подумай, Космодемьянская, во что превратится наш сад, если каждый будет перелезать с улицы через ограду?!
Никакого сада еще не было. Иван Алексеевич стоял на пустыре, похожем на свалку. По всему угловому участку валялся строительный мусор, который не успели убрать после того, как возвели здание школы: битый кирпич, стружки, щепки, доски, комья засохшей известки, ржавые обрезки кровельного железа, перепутанные мотки проволоки, металлические прутья, торчащие из земли… Вот все это Иван Алексеевич и называл садом. Только по другую сторону школьного здания в предыдущие два года посадили десятка три молодых вишенок и яблонь, да еще сумели вдоль северной границы участка выходить долго болевшие после пересадки кусты шиповника.
Сад только еще предстояло создать. Но он уже существовал как замысел Ивана Алексеевича Язева, как его мечта, а значит, нужно было его и защищать.
Иван Алексеевич не скоро отпустил Зою. Он никуда не торопился. Наслаждаясь возможностью подышать свежим воздухом, он принялся подробно объяснять Зое, какую работу должен будет выполнять ее класс в воскресенье.
Зоя слушала его с трудом. Разве она могла забыть про обед? Мать придет с работы уставшая, проголодавшаяся, а обед еще только в проекте. Даже звонки проходивших мимо школы трамваев она воспринимала сейчас тоже как напоминание, точно вожатый дергал Зою за рукав: «Скорее беги домой, а то опоздаешь! Скорее беги, а то опоздаешь!»
А Язев входил во вкус все больше и больше. Порой он прикладывал указательный палец к далеко выступающему вперед подбородку своего худощавого, узкого лица и надолго задумывался, умолкал или же что-то тихо говорил про себя. И это спокойствие, любовное обдумывание плана работы по созданию сада на пустыре постепенно передались и Зое, она тоже начала успокаиваться.
В детстве Иван Алексеевич болел костным туберкулезом. Опасались, как бы не начал расти горб. Болезнь удалось приостановить, но у него на всю жизнь одно плечо осталось выше другого; манеру держать голову он тоже сохранял напряженную, как бывает у людей с искривленным позвоночником: ходил слишком выпрямившись и как бы даже откинувшись слегка назад. Он много времени проводил на открытом воздухе, но нездоровый, желтоватый цвет лица оставался у него всегда — и зимой и летом. Однако болезненное и даже некрасивое лицо Ивана Алексеевича делали прекрасным его удивительные глаза, вдумчивые, проницательные, казалось, никогда не мигающие, большие и очень темные, так что невозможно было в них различить даже зрачков.
Теперь он стоял, совершенно забыв о том, что перед ним голый пустырь, захламленный строительным мусором, и, медленно опуская свою большую, тяжелую голову то к одному плечу, то к другому, рассказывал Зое о том, какой здесь будет сад, словно деревья, которые еще только предстояло посадить, уже стоят перед ним в полном цвету.
Иван Алексеевич принадлежал к числу самых уважаемых преподавателей в школе; ребята любили его, но как заместителя директора побаивались. Стоять навытяжку перед самим директором, когда ты в чем-нибудь провинился, куда было легче, нежели, усевшись на вежливо предложенный тебе Иваном Алексеевичем стул, корчиться от мучительного стыда, не зная, куда девать глаза, под проницательным взглядом Ивана Алексеевича, которому известно наперед все, что ты придумаешь в свое оправдание. Директор «протирал с песочком», но пересыпал свою проборку хоть и язвительным, однако явно дружелюбным подтруниванием.
Совсем иное дело оказаться с глазу на глаз с Иваном Алексеевичем.
Иван Алексеевич был совестью школы, абсолютным авторитетом и для педагогов и для тех, кто сидел за партой. Страшно потерять уважение этого человека.
Порою Язев бывал суровым, но ребята давно уже поняли, какой это прекрасный человек, глубоко правдивый и безукоризненно справедливый. Ребята ревнивы. Если учитель их любит, они требуют, чтобы он отдавал им себя всего. Это Язев и делал. Никаких привязанностей и страстей, кроме школы, у него не существовало, ибо и сама страстная его любовь к природе тоже была совершенно неотделима от ребят, от тех, кому он стремился привить это чувство.
Объясняя Зое план разбивки сада, Язев в то же время обращался к ней и за советами. Он спросил ее, как она находит лучше: посадить ли вдоль ограды, со стороны трамвайных путей, сирень или же устроить здесь заслон от уличной пыли — посеять дальневосточную коноплю, за одно лето поднимающуюся выше человеческого роста?
Решили сеять коноплю.
— Но это вопрос будущего, — сказал Язев, — а пока что надо убрать всю эту дрянь. — Язев показал рукою на кучи битого кирпича, перемешанного с щепой и стружками, на рассыпавшиеся деревянные клепки бочек из-под цемента, на расщепленные балки, ржавые полосы железа и прочий строительный мусор. — Когда очистите все вплоть до самой ограды, — начинайте копать ямы для посадки лип! Весна не ждет!
Язев показал, на каком расстоянии от ограды надо копать ямы, глубину ям, диаметр и какие оставлять между ними промежутки. Объяснив все, что требовалось от ребят, Язев вдруг улыбнулся, заглянув Зое в глаза, как улыбнулся бы своей дочери, и на его добром лице обнаружилось великое множество крошечных морщинок, которые до этой минуты совершенно не давали о себе знать, даже при ярком солнце. Он спросил:
— Успеете ли за один раз? Задание не пустяковое. Спасибо, если выроете двенадцать ям. Но честь вам и слава, если посадите хоть одно деревце!
— Само собой разумеется, посадим, — сказала Зоя, встряхнув головой, — И даже успеем посадить не одну, а все липы!
— Ого! — удивился Язев и нахмурился так, что его глаза ушли далеко в тень под брови. Помолчав, он спросил Зою: — А думала ли ты когда-нибудь, Космодемьянская, о том, что существует все-таки разница между уверенностью в своих силах и самоуверенностью? Советую тебе, когда ты придешь домой и приготовишь все, что вам задано на завтра, советую тебе подумать как следует о том, что я тебе сказал.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Космодемьянские жили по Старопетровскому проезду, не более как в километре от школы.
Эта далекая окраина Москвы вдруг сразу стала близкой, как только было построено метро. Зое исполнилось одиннадцать лет, когда под землей прошел первый поезд до станции «Сокол». Трамвайная линия, проложенная по Новоподмосковной улице, на которой стоит школа, связала последнюю станцию метро с Тимирязевской сельскохозяйственной академией. После этого весь район вокруг деревни Старое Коптево начал быстро застраиваться.
Лес, примыкавший к парку академии, почти весь свели и выкорчевали; началось строительство многоэтажных жилых корпусов и стандартных домов для рабочих и служащих; над районом поднялись трубы новых заводов. Но повсюду между свежесложенными стенами и заборами, огораживающими участки, куда только что привезли строительный материал, повсюду сохранилось еще много деревьев и кустарника, а среди огородных делянок попадались совершенно нетронутые луговины. Трава на них никогда не выгорала, — местность здесь сыроватая, подпочвенная вода стоит высоко; на границе отдельных огородных участков прорыты осушительные канавы; они тоже обильно зарастают сочной, яркой травой.
Ранней весной здесь желтым-желто от одуванчиков. Из всех цветов эти цветы, должно быть, самые неистребимые. Когда они появляются в несметном количестве, медовый, солнечный свет, исходящий от их лепестков, преображает всю местность. Сколько бы ни плели венков девочки в мае, сдваивая цветы и страивая в каждом круге, от этого одуванчиков не убудет; не могут их истребить и мальчишки, засовывающие в рот стебель одуванчика и для того, чтобы он завивался, как пружинка, приговаривающие: «Баран, баран, завей рожки! Баран, баран, завей рожки!» Даже прожорливые козы не успевают расправиться с одуванчиками, прежде чем они отцветут.
Коз много, их пасут древние старушки — матери стеклодувов из кустарной артели, той, что возле плотины Тимирязевского пруда, матери слесарей, фрезеровщиков, шлифовальщиков, мастеров, наладчиков со станкостроительного завода, из ремонтных мастерских. Передвигаясь следом за своими козами, они вяжут теплые чулки, не выпуская поводка из рук.
Пасут коз вдоль канав и ребята младших возрастов. Забив колышек в землю, пристроив коз на приколе, они лихо треплют свою обувку, с азартом гоняя по кочкам, канавам и огородным грядкам футбольный мяч или, если нет мяча, тряпичный ком, сшитый из ветоши и лоскутов. Немало страдал от их азарта и находившийся поблизости опытный участок совхоза при Тимирязевской академии, сплошь засаженный редкостными сортами клубники.
Дом, где жили Космодемьянские, — двухэтажный, рубленный из толстых бревен; невысокое крыльцо его в шесть ступенек, обшитое узкими строгаными досками, служило общим входом и выходом прямо на улицу для жильцов второго и первого этажей.
Такие дома с очень скучным, ничем не украшенным фасадом еще доживают свои последние дни на московских окраинах. Но уже повсюду между ними поднялись стальные стрелы огромных подъемных кранов, и куда ни глянешь, из-за крыш двухэтажных домов с удивительной быстротой поднимаются кирпичные корпуса многоэтажных великанов, облицованные керамикой. Эти исчезающие теперь почти ежедневно деревянные дома обычно окрашивались в очень темный кирпичный цвет, как товарные вагоны на железных дорогах. Но дом, в котором жили Космодемьянские, не был окрашен еще ни разу; его добротные сосновые бревна хорошо сохранились и лишь слегка потемнели от времени. По ночам на фонаре, прибитом возле крыльца, светилась цифра порядкового номера дома: 7.
Участок вокруг дома никогда не огораживали, но по его границе густо, как ограда, рос боярышник; узловатые ветви боярышника к весне начинали отливать краснотою с темными пятнами прозелени, становились словно бронзовые; цвел он всегда удивительно щедро.
Комнату Космодемьянские получили маленькую, но солнечную, очень приветливую — широкое окно ее смотрело прямо на юг. Летом вид из него был совершенно дачный. По обе стороны окна росли, дотягиваясь своими ветвями до самых стен дома, две сосны, сохранившиеся еще от той поры, когда здесь стоял лес. Зимою то и дело на ветвях показывались синицы-московки; иногда мелькало алое пятнышко пухлой грудки снегиря. И дальше, перед окном, по всему участку сохранилось еще немало сосен и берез. Кое-где почва среди деревьев была вскопана и разделена грядками под огородики, но большая часть ее оставалась все еще нетронутой; она густо поросла муравою — «гусиными лапками», того сорта жмущейся к земле, низкорослою травкой, которая не боится ребячьих ног.
Здесь можно было без всяких помех играть в палочку-выручалочку, в чижика или гонять футбольный мяч. Можно было и просто поваляться на траве или почитать книгу, найдя тень под березой или сосной. Зоя, когда подросла, любила читать, сидя, как на удобном диванчике, на стволе причудливо изогнувшейся березы. Это дерево росло недалеко от невысокого забора соседей, за которым, тоже среди обильной зелени, поднималась крыша небольшого домика в три окошка по фасаду. Здесь жил сын железнодорожного служащего Миша Чижов — отчаянный любитель футбола, сподвижник по этой части Шуры Космодемьянского; он не мог сделать и десяти шагов без того, чтобы не наподдать носком ботинка какой-нибудь камешек или сбитый ветром сучок. На участке Чижовых чуть поблескивал сильно затененный березками крошечный, так сказать, домашний прудик; здесь в жаркую пору можно было по знакомству даже искупаться ребятам, если солнце так донимало, что до пруда в парке академии казалось нестерпимо далеко.
Пейзаж по другую сторону дома № 7, если с крыльца взглянуть через улицу, прямо на север, был гораздо просторнее: его ограничивал по горизонту только густой Тимирязевский парк; но парк начинался метрах в восьмистах, не ближе, а до него сплошь тянулись огороды, канавки, заросшие травой, и козьи лужайки. Среди огородов просторно стояли, как бы опасаясь приблизиться один к другому, только пять или шесть домиков полудачного типа. Мимо них шла к парку грунтовая дорога, сильно заросшая травою, как обыкновенный деревенский проселок. Зоя и Шура за годы своей жизни на Старопетровском проезде множество раз промерили ее своими шагами.
Сейчас по этой дороге невозможно пройти — так ее развезло после весенних дождей. Ведь это только на школьном дворе сухо, — школа стоит все-таки чуть-чуть повыше, там появилась даже травка на тех местах, где вдоль ограды граблями соскребли прошлогодний мусор, расшевелили землю, А здесь, на огородных делянках, неряшливо валяются затекшие грязью бурые плети неубранной картофельной ботвы, мертво торчат на обмякших, расплывшихся грядках грязные кочерыжки капусты; канавы не могут вместить всей талой воды, она переливается через край и как раз против дома Космодемьянских напрудила в низинке целое озеро.
Но над всем этим сияет животворящее солнце, и даже ребенок малый знает — пройдет еще несколько погожих дней, и все, что видимо здесь глазу, сказочно переменится.
ГЛАВА ПЯТАЯ
По деревянной лестнице Зоя быстро поднялась на второй этаж. После яркого солнца весенней улицы она, как слепая, вошла в темный коридор и лишь ощупью отыскала маленький висячий замок на дверях своей комнаты. Не успела она еще попасть ключом в скважину, как вдруг — и замок сердечком, и дверь с железной скобой, и белая, поцарапанная штукатурка стены — все сразу возникло перед Зоей в потоке дневного света, вырвавшегося из комнаты соседки Космодемьянских Лины Ермолаевой. Она настежь распахнула свою дверь за спиной у Зои и проговорила со вздохом облегчения:
— Ну, слава богу, пришла! Я заждалась тебя, Зоя!
— А что такое?
— Побегу в райсобес насчет пособия. Обещали сегодня оформить. Послушай, Зоя, моего Васю, а то как бы без меня не проснулся.
— Иди, не беспокойся, — сказала Зоя. — Только знаешь, Лина, что я тебя попрошу? Дай мне, пожалуйста, твою керосинку — опаздываю с обедом; на двух керосинках я успею до маминого прихода.
— Бери! Ставь свою кастрюлю прямо у меня в комнате, зачем тебе таскать туда-сюда керосинку?
Лина сняла с вешалки пальто, надела его и, заправляя сзади платок под ворот, продолжала говорить:
— Я бы взяла Васю, понесла бы с собою, да кой-чего купить надо — он мне руки свяжет. Кабы мне один хлеб, а то и круп надо взять, и соль на исходе, и мыла нет.
Из всех жильцов второго этажа, — а здесь так же, как и внизу, было шесть отдельных комнат, — с Линой Ермолаевой, работавшей фрезеровщицей на станкостроительном заводе, у Космодемьянских еще с давних пор установились самые хорошие отношения. Она помнила Зою и Шуру маленькими детьми и знала их покойного отца. Когда семья Космодемьянских переехала на Старопетровский проезд, Лина уже жила в этом доме. Она и сама тогда была еще молодая, — сейчас ей шел только двадцать девятый год, — и вышла замуж тоже здесь же, при Космодемьянских. Ее сосватал тихий, молчаливый милиционер. Он любил выпить, но и после приема обильной дозы горячительного умел оставаться в квартире незаметным. Никаких скандалов в их комнате никогда не было слышно. Как переживает Лина то, что муж в последнее время стал редко бывать дома, тоже никто не знал.
Хорошие были у Лины глаза — светло-карие, широко открытые под мягко изогнутыми бровями, лицо — приветливое и простое, но в то же время по-особому сосредоточенное, с тою как бы затаенной значительностью, какую часто можно видеть у молодой матери, кормящей грудью первого ребенка.
Лина всегда охотно помогала матери Зои: то, бывало, постирает что-нибудь из белья, то принесет воды из колодца, — в первые годы жизни по Старопетровскому проезду еще не было водоразборной колонки, — или же, отправляясь за покупками в магазин, выполнит заодно и какое-нибудь поручение. Но по мере того, как Зоя и Шура подрастали, поручений и просьб становилось все меньше. Зоя и Шура сами носили воду, Шура колол дрова и приносил их наверх из сарая, Зоя топила печь. Она давно уже приучилась мыть пол и могла приготовить обед; постепенно она все больше и больше принимала участие в хозяйстве. Положение менялось: теперь уж Зоя помогала Лине.
Почувствовав себя неожиданно хозяйкой двух комнат, Зоя улыбнулась: после ухода Лины дверь в ее комнату оставалась широко открытой; раскрыла Зоя дверь и в свою комнату. Некоторое время она постояла в коридоре в раздумье, соображая, что надо делать в первую очередь, чтобы напрасная суетня не занимала лишнего времени. Но это стояние на одном месте отняло у нее не более минуты, — дальше все пошло быстро и без всякой задержки.
Прежде чем вымыть после школы руки, Зоя наполнила обе керосинки: сначала в комнате Лины, — заодно взглянув на ходу на ее спящего сынишку, — потом налила керосин в свою. Тут же Зоя зажгла фитили, чтобы не прикасаться больше ни к чему пахнущему керосином. После этого она тщательно вымыла руки и, не вытирая их, хорошенько промыла в миске мясо, а заодно уж, чтобы не мочить больше рук, промыла рис, растирая его между ладонями. О котлетах, о возне с мясорубкой и думать нечего — не успеет. От завтрака осталось молоко. Зоя решила на второе сварить молочную кашу. Рис она поставила на керосинку Лины, а в своей комнате — мясо, здесь удобнее готовить суп, ближе к припасам. В их маленькой комнате все было рядом, стоило только протянуть руку: направо от двери прислонился к стене маленький стол; на нем готовили и здесь же обедали; возле стола — коричневый шкафчик для посуды, в нем же, внизу, хранились продукты, всегда в небольшом количестве: никогда не делали запасов; слева от двери стояло ведро с водой и тут же — табуретка и на ней керосинка; дрова и бидон с керосином держали во дворе, в дощатом сарайчике.
Комната для троих была мала — негде даже поставить третьей кровати, и Шура спал на полу.
По мере того как дело с приготовлением обеда подвигалось вперед, настроение у Зои поднималось. Она начала петь, когда промывала еще только рис, довольная тем, что чистые белые зерна лежали на дне кастрюли, не поднимая больше мути, сколько бы она ни терла их между ладонями. Сначала Зоя пела тихо, потом все громче и громче. Во время стряпни и возни по хозяйству Зоя пела почти всегда, при этом она часто обходилась даже без слов, просто выводила своим чистым, мелодичным, мягким голосом какие-нибудь рулады, вроде: «Тра-та-там, тру-тра, трам!» Но сегодня Зоя сразу же запела:
Обычно в эти предвечерние часы Зоя старалась петь тихо, потому что как раз в это время к преподавателю музыки Синицыну, жившему со своей семьей в двух комнатах, самых дальних по коридору, приходили заниматься ученики.
Сегодня у Синицына тоже шли занятия. Зоя видела, как по коридору прошел к нему хорошо запомнившийся ей по предыдущим посещениям рыженький восьмиклассник из двести двенадцатой школы; часа через полтора появилась девочка лет двенадцати с широкой папкой для нот. До слуха Зои, как всегда, доносились звуки гамм и разыгрываемых учениками Синицына упражнений. Но все эти звуки были такие привычные для Зои, невыразительные и скучные, что она безо всякого труда забывала о них, продолжала делать свое дело и не переставала петь. А так как сегодня надо было торопиться, она невольно была в приподнятом настроении и, сама того не замечая, пела необычно громко, совершенно не обращая внимания на то, что дверь в коридор открыта настежь. И даже переходя по нескольку раз из своей комнаты в комнату Лины и обратно, она тоже пела, не убавляя голоса. Ребенок Лины продолжал спать — он мог спать при каком угодно шуме.
Все было еще ничего, пока Зоя не начала чистить картошку, — пора было заправлять суп. Радуясь тому, что с приготовлением обеда дело подходит к концу, — значит, можно будет приниматься за уроки, — Зоя запела «Песенку Клерхен» Бетховена:
Только было Зоя, бодро подчеркивая боевой ритм песенки, приноровилась опустить очищенный и нарезанный дольками картофель в бьющий крутым паром бульон, — в коридоре раздались резкие шаги Синицына, и вот он появился на пороге.
Это был высокий худощавый человек лет сорока пяти, с отброшенными назад довольно длинными вьющимися светлыми волосами, с продолговатым лицом, которое сильно портили бесцветные брови и напряженный взгляд серых, навыкате глаз.
В доме большинство жильцов работали на ближайших заводах. Синицын считал себя среди них натурой артистической и ко всем относился высокомерно. В его манерах и привычках, даже в костюме и в прическе сквозило желание ото всех отгородиться и поставить себя в особое, привилегированное положение; его подчеркнутая брезгливая опрятность также вызывалась все тем же мелочным стремлением возвыситься над окружающими. В доме всем было известно, что со своей женой он живет не в ладах: постоянно уходит куда-то по вечерам, а иногда и вовсе не ночует дома.
Работая преподавателем в музыкальной школе и давая частные уроки на дому, Синицын много зарабатывал, семья его ни в чем себе не отказывала.
Но никогда за все годы совместной жизни, ни разу никто в доме не слыхал, чтобы Синицын что-нибудь сыграл для своей семьи, для своих учеников или хотя бы для самого себя, что называется, для души — он только преподавал. Зато нередко по всему коридору, несмотря на закрытые двери, раздавались резкий, крикливый голос Синицына и его грубая брань. Во время семейных ссор он не считал нужным себя сдерживать.
И вот этот человек появился сейчас на пороге и, устремив на Зою недобрый взгляд своих холодных серых глаз, заговорил, раздражаясь все больше и больше:
— Зоя, ты еще девчонка, чтобы издеваться надо мною. Мало того, что орешь во все горло, ты еще вдобавок открыла дверь настежь. Ты же знаешь, что в эти часы у меня уроки!
— Андрей Петрович! — успела только сказать Зоя. Она хотела извиниться и объяснить Синицыну, почему открыта дверь, напомнить о ребенке Лины. Однако он не дал ей договорить.
— Безобразие! Извольте не забывать, что ваша семья живет в коммунальной квартире. Когда советская власть предоставит вам отдельный особняк, тогда будете там делать что угодно, хоть хрюкайте и стойте на голове! Безобразие! — повторил он еще раз, с лицом, вдруг побледневшим до синевы, и, круто повернувшись, так хлопнул дверью, что она открылась бы снова, если бы ей не помешало пальто Зои, упавшее с вешалки на пол.
Зоя подхватила пальто, бросила, чтоб не терять времени, к себе на кровать и, распахнув дверь, выскочила в коридор. Она хотела ответить Синицыну. Но Синицын уже скрылся у себя в комнате. Через минуту оттуда снова донеслись однообразные звуки музыкальных упражнений, извлекаемые из пианино неуверенными пальцами ученика.
«Жалкий человечишка!» — проговорила Зоя про себя и, возвратившись в комнату, повесила пальто на место. Но еще долго она не могла успокоиться: лицо Синицына в пышном ореоле откинутых назад волос, с глазами холодными и совершенно пустыми, навязчиво возникало перед нею, словно он все еще стоял на пороге.
Чтобы отделаться от неприятного ощущения и скорее приняться за приготовление уроков, Зоя решила принести ведро воды из колонки, хотя это было обязанностью Шуры. Она даже взяла уже ведро, но потом задвинула его с громким стуком на место в угол, проговорив: «С какой стати! Неужели я так слаба, что какое-то ничтожество может выбить меня из колеи, может нарушить мои планы? Ни за что на свете!»
Каша сварилась. Зоя поставила ее на стол, закрыла кастрюлю газетами и шерстяным платком, чтобы она оставалась теплой до прихода матери. А мясо пускай себе уваривается. Зоя убавила огонь, прикрутила фитили. Можно садиться за стол, готовить уроки.
Стол для занятий, поставленный между кроватями Зои и матери, упирался в подоконник узкой стороной. Это было сделано для того, чтобы Зоя и Шура могли заниматься за одним столом одновременно, иначе между столом и кроватями не поместились бы стулья.
Зоя решила сначала заняться физикой. Но едва она сосредоточилась и, казалось, начала уже догадываться, какую применить ей формулу для решения задачи, она вспомнила хулиганские слова Синицына, и опять возникли перед нею серые глаза Синицына, злые, холодные. Ниточка, за которую она только что было ухватилась, чтобы пойти за нею по сложному лабиринту алгебраического решения, мгновенно выскользнула у нее из рук, мысли стали бесформенными, расплывчатыми, перескакивающими с одного предмета на другой. Зоя терпеть не могла такого беспомощного состояния, она становилась противной самой себе. «Где же моя сила воли? — думала она в такие минуты. — Я тряпка, я ничтожное существо и еще смею критиковать других!»
Она резко поднялась со стула и хотела с грохотом его отодвинуть. Но стул стронулся всего только на несколько сантиметров и уперся в кровать.
Зоя распахнула окно, затрещавшее в пазах, и жадно вдохнула холодеющий перед вечером воздух. Солнце передвинулось уже далеко на запад. В его косых лучах, казалось, жарче накалялся красноватый ствол сосны; кора сильно шелушилась, и отдельные, покоробившиеся чешуйки просвечивали сейчас насквозь, как папиросная бумага.
От резкого, быстрого движения, от нескольких вздохов полной грудью у открытого окна и оттого, что Зоя беспощадно пробрала сама себя, что-то в ее сознании вдруг совершенно изменилось. Заветная ниточка теперь снова была в ее руках, Зоя тянула за нее сильней, сильней и — вот она, необходимая для решения задачи формула, вдруг вспыхнула в ее сознании вся целиком, как на экране.
— Какая я дура! — сказала Зоя вслух и громко расхохоталась.
Она с размаху села на затрещавший под ней стул и принялась записывать решение. Однако закончить эту работу Зое удалось не скоро. В комнате Лины начали раздаваться хорошо знакомые Зое звуки, очень тихие вначале, но тем не менее отчетливо слышные, несмотря на бурные гаммы, разыгрываемые в назидание ученикам на этот раз, по-видимому, самим Синицыным. Сначала это было что-то среднее между пыхтением и чмоканьем, и, наконец, потек, как тоненький ручеек, жалобный, тихий младенческий плач, вызвавший у Зои улыбку.
Зоя прикрыла медным колпачком чернильницу, положила возле нее ручку и, откинувшись на спинку стула, громко, нараспев проговорила, намеренно подражая интонации и самому голосу Лины:
— Иду! Иду-у, сокровище ты мое ненаглядное, иду!
Не в первый раз Зоя оставалась одна с ребенком Лины. Окинув быстрым взглядом ее комнату, Зоя увидела на привычном уже месте, возле печки, сохнувшие на веревочке пеленки и, сдернув их на ходу, подошла к детской кроватке.
— Ну так и есть! — сказала она, сунув руку под стеганое одеяльце. — Море разливанное…
Она считала себя виноватой: надо было раньше вспомнить о ребенке и пощупать пеленки, не дожидаясь, когда заплачет, тогда бы не промокло до такой степени одеяло. Во что теперь завернуть? Зоя быстро побежала к себе в комнату и сняла с кровати свое шерстяное одеяло. Пока она складывала его вдвое и для удобства расстилала на столе, разглаживала поверх него пеленку, пока она затем разворачивала плачущего ребенка и освобождала его от мокрых пеленок, она не переставала уговаривать его, успокаивать:
— Ну, виновата, ну, извини, пожалуйста, меня, не сердись, виновата: заучилась, забыла про тебя. Но зачем же так орать, подожди одну минуточку!
И ребенок в самом деле начал понемногу затихать и только нетерпеливо, жалобно стонал.
— А вот мы сейчас будем сухие. Умный мальчик, он понимает, что кричать нельзя. Хороший мальчик, красивый мальчик, он сейчас опять будет спать.
Никто никогда не видел Зою такой растроганной, в умиленном состоянии. Когда Зоя оставалась с ребенком один на один, без свидетелей, она неузнаваемо изменялась. Она постеснялась бы при других обнаружить себя такой ласковой и мягкой, точно в этом ее нянченье с ребенком было что-то ненастоящее, как игра в куклы.
Бережно, но без всякой боязни Зоя подняла ребенка из кроватки и уложила его на столе, ловко заправила ему меж ножек высохший у печки, чистенький треугольник-подгузничек, умело справилась с пеленками и, завернув в свое одеяло, взяла на руки и принялась укачивать.
Но ребенок вдруг резко закричал, словно его оскорбили, обманули, — он ожидал совершенно не этого. Теперь он начал извиваться, корчиться на руках у Зои, как бы пытаясь сбросить все, чем она так старательно его обернула.
Она понесла его в свою комнату, села на кровать матери и, тихо укачивая, стала напевать колыбельную песню; потом опять вернулась в комнату Лины и начала ходить из угла в угол, все время разговаривая с крикуном: «Да, да, ты никого не боишься. Ты будешь смелым, ты будешь храбрым… Только замолчи, пожалуйста… А может быть, ты будешь изобретателем? Тогда расскажи мне, что же ты изобретешь? А может быть, ты будешь оратором, «агитатором, горланом, главарем»? Тогда побереги свой голос, малютка, он еще тебе пригодится!»
Наконец Зоя поднесла ребенка к большому зеркалу, стоявшему на комодике у Лины, и проговорила:
— Посмотри на себя. Кто это? И тебе не стыдно?
Но ребенок залился еще сильнее.
Когда же вернется Лина? А что, если она задержится еще надолго? Ну, а если вообще с нею случилось какое-нибудь несчастье, как же тогда накормить ребенка? Хоть бы скорее пришла из школы мама, она может что-нибудь придумать.
А ребенок не унимался. Наоборот, казалось, что голос его становится все громче и громче. Когда он «заходился» от нестерпимого крика, на его верхней десне обнажались два крошечных зубика, как две влажные розоватые жемчужинки. Он так ужасно раскрывал рот, что видна была вся зияющая гортань, и становилось страшно, что ребенок задохнется от крика.
Он хочет есть. Но что же Зоя может сделать? Она с отчаянием крепко прижала, притиснула его к своей девичьей груди… И ребенок вдруг смолк, на мгновение притих, а в ней самой шевельнулось какое-то совершенно неведомое ей прежде странное чувство. Нагнув голову до боли в шее, Зоя пристальнее взглянула на притихшее существо, точно только сейчас его узнала, словно это был ее собственный ребенок. Что-то горячее бросилось ей в лицо и медленно разошлось по всему телу. Она взглянула на себя в зеркало, вмещавшее ее по пояс вместе с прижатым к груди ребенком, но почти ничего там не увидела, потому что от нестерпимого, радостного смущения у нее на глазах выступили слезы.
Но в это мгновение ребенок, как бы решительно протестуя против нахлынувших на Зою переживаний, трепыхнулся у нее на руках что есть силы и, после минутного отдыха, завопил с удвоенной силой.
— Ах, мама, — сказала Зоя, — когда же придет наша мама?!
Она снова принялась ходить по комнате из угла в угол и, резкими движениями укачивая ребенка, запела с решительной энергией боевым тоном:
Мужественное очарование этой песни нисколько не действовало на ребенка. Он так кричал над самым ухом у Зои, а она в свою очередь так старалась его перекричать, что совершенно не слыхала шагов Синицына, и только когда она закончила последнюю фразу, до ее слуха дошли наконец слова:
— Лина, прекратите это безобразие! Сколько раз я вам говорил, что в эти часы я работаю с учениками! Почему у вас дверь настежь? Почему вы позволяете орать в свой комнате посторонним? Мало вам того, что орет ваш ребенок?!
Увидев наконец, что Зоя одна с ребенком, Синицын, перешагнув порог, уперся, распялив руки, в оба косяка двери и так на мгновение замер от душившего его возмущения.
— Безобразие, Космодемьянские! — вырвалось наконец из его горла почему-то во множественном числе, словно он раз навсегда хотел заклеймить всю породу Космодемьянских. — Вы решили целый день не давать мне работать, — продолжал Синицын, сохраняя официальное «вы». — Черт знает, что такое! Раскрыли дверь настежь, ребенка превратили в свою куклу и забавляетесь, а на других вам плевать с высокого дерева. Заткните ему рот, или я вышвырну его за окно!
Зоя положила ребенка поперек кровати Лины и вплотную подошла к Синицыну. Он опустил руки и отступил за порог в коридор. Ему хорошо было видно лицо Зои — на нее падал свет из окна.
— Знаете, что я вам скажу, гражданин Синицын?
Зоя стояла, слегка расставив ноги, как бы для того, чтобы иметь больший упор, голову она, по своему обыкновению, когда бывала раздражена или требовалось доказать что-то очень трудное, наклонила чуть-чуть набок, глаза сильно сощурила и пристально смотрела сквозь ресницы в серые, застывшие, навыкате глаза Синицына. Встряхнув головой, чтобы легла на место спустившаяся было на правую бровь упрямая прядь волос, Зоя повторила:
— Знаете, что я вам скажу?
Синицын молчал. Он сделал еще несколько шагов назад. Во взгляде Зои было что-то такое, чего не мог выдержать Синицын. Он отступил еще на один шаг и вдруг, отвернувшись от Зои, пошел в дальний конец коридора, к себе в комнату.
Ребенок закричал опять.
— Хороший мой! Ведь ты же у нас умный мальчик, — сказала Зоя, успокаиваясь, растроганная тем, что ребенок молчал, пока длилась сцена, вызванная приходом Синицына.
Беря его снова на руки, Зоя услыхала, как на лестнице заскрипели деревянные ступеньки. По тому, как этот скрип торопливо поднимался, будто по клавиатуре, все выше и выше, она поняла — возвращается Лина.
— Мама идет! Наша мама идет! Скорее идем встречать маму, — сказала Зоя, высоко поднимая ребенка и поворачивая его лицом к выходу.
В самом деле, хлопнула первая дверь тамбура, затем открылась вторая и — вот она, на пороге уже стоит, улыбающаяся, довольная Лина.
— Сейчас, сейчас! — заговорила она с притворной сварливостью, вынимая из сумки покупки и раскладывая их на подоконнике. — Я уж с улицы крик услыхала. Ах ты бессовестный, Васька, не можешь спокойненько мать подождать. Небось замучил тетю Зою, руки ей оборвал?
Повесив пустую сумку на гвоздик, Лина вдруг заметила, что ее сын завернут в чужое одеяло.
— Да что же это такое?! Да ведь у меня под подушкой — сухое свернуто, зачем же ты свое?! Зоя, милая ты моя, уж как я тебе благодарна, как благодарна! Что бы я без тебя смогла? А теперь, гляди, все взяла, что хотела. Сыночек ты мой родной, теперь мы с тобой богатые.
Зою сейчас раздражала говорливость Лины, ей казалось, что Лина все делает слишком медленно.
— Да перестань ты хвалиться, после все расскажешь. Он же есть хочет, измучился без тебя, охрип.
— Ничего, пускай привыкает! Чего тут такого? Зато голос будет крепче! Какой же это ребенок без крика? Кто погорластее — тот и в жизни свое скорее возьмет. Валяй, сынок, заливайся! Скажи, сыночек, тете Зое, что рабочему человеку голос нужен твердый, настойчивый.
Произнося все это суровым голосом и нисколько не торопясь, не обращая внимания на крик, который для Зои теперь стал почти нестерпимым, Лина между тем была полна нежной материнской прелести, глаза ее лучились. От быстрого бега она разрумянилась, но и румянец у нее был не ярко крикливый, а мягкий, и вся кожа лица влажная, нежная. Когда Лина, сняв жакетку, закатала рукава кофточки выше локтей и подставила ладони под струю воды умывальника, Зою удивила белизна ее рук. Морщась от крика ребенка, Зоя спросила:
— Лина, я тебя давно хотела спросить: вот ты работаешь на заводе, в буквальном смысле, у станка. Почему у тебя такие руки?
— А-а, завидуешь? — сказала Лина, намыливая пальцы, поворачивая и рассматривая их со всех сторон. — Ничего хитрого, Зоя, нет. У нас на фрезерном станке детали из обработки выходят горячие — голой рукой не возьмешь. Вот и весь секрет моей косметики: работаем в резиновых перчатках — руки парятся!
— Ну, теперь давай сюда моего сорванца, — сказала она, поудобнее усевшись на кровати и расстегивая маленькие пуговицы белой кофточки. — Давай его сюда!
Как только она взяла своего сына у Зои, он мгновенно замолчал, когда же она высвободила из одеяла его ручонки, он вцепился ими в кофточку матери и весь затрясся от мелкой дрожи нетерпения и в то же время часто-часто дышал, как бы задыхаясь.
— Ну сейчас, сейчас, моя золотиночка, кровинка моя ненаглядная! На!
Ребенок, ухватившись обеими ручонками за грудь матери, засопел, жадно зачмокал ртом, ко скоро успокоился и постепенно затих с широко открытыми глазами, ставшими вдруг блаженно бессмысленными.
Зоя тоже затихла. Все это она видела уже много раз, начиная от того, как порывисто открывалась дверь, появлялась на пороге Лина, и кончая этими блаженными, немигающими глазенками младенца, припавшего к материнской груди, но ее никогда не переставало удивлять превращение, которое в течение каких-то мгновений совершалось с Линой. Придет она с работы и пока суетится по комнате: снимет пальто, развяжет платок, тщательно умоется и поправит волосы перед зеркалом, она все еще сохраняет озабоченный будничный вид; в ее движениях еще оставалось что-то от жестов на заводе; она еще как бы не вся возвратилась домой. Но вот Лина села поудобнее на свою кровать, пальцы проворно выдавливают из петелек на кофточке одну за другой маленькие пуговицы, и сынишка, весь затрепетав от нетерпения, ухватился обеими ручонками за грудь, до такой степени переполненную молоком, что сквозь кофточку проступили два влажных пятнышка — как только припал он к ней горячим своим ротиком и жадно принялся утолять голод, Лина вдруг как бы озаряется изнутри. Необыкновенная тишина устанавливается в комнате, независимо от того, что бы ни происходило в доме — внизу или же на втором этаже.
После долгого молчания Лина проговорила, не сводя глаз с сына:
— Вот для каких героев мы работаем, коммунизм строим!
Подняв голову и встретившись взглядом с широко раскрытыми, ярко заголубевшими глазами Зои, Лина вдруг заметила в этих глазах что-то ранее незнакомое ей. Улыбнувшись чуть-чуть с лукавинкой, Лина сказала:
— Придет время, я тоже тебе так-то помогу. Кончай скорей школу, Зоя!
Зоя слегка покраснела и, сощурив глаза, тихо покачала головой. Не зная толком, так ли поняла ее Зоя, но убежденная в том, что сейчас они не могут быть не согласны в мыслях друг с другом, Лина добавила:
— Ведь есть же такие дуры несчастные — остерегаются иметь детей. А потом бьются головой о стенку, да уже ничем не поможешь — поздно!
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Шура не сразу попал домой после игры в волейбол — Димочка Кутырин попросил его зайти к нему, хотел посоветоваться по поводу сборки подвесного мотора для лодки.
Димочка начал собирать мотор еще в середине зимы. Большинство деталей он покупал на рынке у случайных людей, покупал постепенно, по мере того как у него накапливались деньги. Все шло как будто неплохо, но когда попробовал запустить мотор, — ничего не получилось. Ему хотелось обойтись без посторонней помощи, пригласить товарищей на готовое. Приехали бы они к нему под Коломну, где он каждое лето проводил у дяди на даче, а лодка с мотором уже на плаву́!
Теперь это дело могло сорваться — чего-то он не понимал в моторе: три раза разбирал все детали до винтика, промывал их в бензине и снова собирал, но когда пробовал запустить, — мотор глох после первых же оборотов.
Оба приятеля увлекались технической литературой и оба любили рисовать, хотя мечты у них были совершенно несхожие: Димочка давно уже решил поступить в авиационный институт на конструкторский факультет, а Шура мечтал стать художником.
Страсть к рисованию у друзей была настолько серьезной, что они вместе ездили в Музей изящных искусств и занимались там в студии. В то же время Шура неплохо разбирался в вопросах техники и порою мог дать дельный совет. Димочка не раз в этом убеждался.
Что же касается самого Димочки, то он проходил круг развития, типичный для подростка, мечтающего стать изобретателем, инженером-механиком, кораблестроителем или авиаконструктором; как известно, такие ребята чуть ли не с младенчества ломают игрушки для того только, чтобы понять, как они устроены, носят в карманах гвозди, мотки проволоки, плоские слитки олова и «всякую дрянь», по определению матери, что-то выкраивают из картона и клеят, кромсают консервные банки, мастерят какие-то сложные конструкции, потом внезапно все это бросают, чтобы дня через два снова что-то клепать, грохая молотком, и плавить на примусе олово, выбрав время, когда никого нет в кухне.
Но теперь, когда Кутырин подрос, не нужна стала и кухня — дело было поставлено на более широкую ногу: он оборудовал в дровяном сарае настоящую мастерскую, куда то и дело просились даже взрослые соседи, не говоря уже о ребятне, — кому вставить-заменить проржавевшее донце в ведре, кому запаять чайник; одному починить сундучок перед поездкой в колхоз на отпуск, у другого гвоздь в сапоге — колет ногу, а загнуть-забить не на чем. Все это делали они, конечно, своими руками, но инструментом и всякой снастью пользовались Димочкиными.
Единственная плата, которую Димочка взимал со своих посетителей, — требовал, чтобы они безропотно выслушивали его язвительные, но добродушные шуточки. У Димочки не было в настроении средних состояний: он или глухо молчал, или же становился суетливо-разговорчив, но то и другое он делал добродушно. Его молчание никогда не имело мрачной окраски, а говорливость выливалась в непрерывные остроты, с уклоном в добродушное подтрунивание над товарищами, иногда с оттенком ворчливости, что весьма шло к его несколько стариковскому складу маленького рта с поджатой нижней губой и вытянутым книзу подбородком. Вообще черты лица у Димочки были мелкие, аккуратные, точеные, экономно размещенные на маленьком личике. Говорил он быстро, выбрасывая скороговоркой целую пригоршню кругленьких, метко подобранных словечек.
Его прозвали «добродушным скептиком», впрочем, он имел и другое прозвище — «ходячая энциклопедия», так как брался ответить на любой вопрос.
В дровяном сарае Кутырина перебывали многие из девятого «А», даже Виктор Терпачев и Яша Шварц сюда приходили. Но девочки терпеть не могли это заведение. С легкой руки Люси Уткиной они прозвали завсегдатаев дровяного сарая Шуру Космодемьянского, Петю Симонова, Димочку Кутырина и Ярослава Хромова «Клубом пылесосов», такая, по их мнению, завелась в мастерской пылища и грязнота от всевозможных обрезков металла, стружек, опилок и прочего хлама. Они злились, что мальчишки вполне довольствовались только своим собственным обществом, и боялись острот Димочки, на которого именно в их присутствии находило особо ядовитое вдохновение. Доставалось от него главным образом Люсе Уткиной и Нате Беликовой.
Не любил шуток Димочки и Петя Симонов: он огрызался на него и до смешного обижался. Но все же Петю неизменно тянуло и к Димочке Кутырину, и к Шуре Космодемьянскому, и к молчаливому, задумчивому Ярославу Хромову, неизвестно зачем приходившему сюда тоже, хотя все его интересы были совершенно в другой области — он любил музыку и геологию.
Петя Симонов и Ярослав Хромов порою сидели на пороге сарая, даже не обращая внимания, над какой там загадкой бьются около мотора Димочка и Шура, они любовались полетом голубей, которых разводил на чердаке своего домика глухонемой сосед Кутыриных, совершенно седой старикашка, резвый на крыше, как мальчик. Наивысшего предела восторг хозяина голубей и всех его зрителей достигал в то заветное мгновение, когда поднятая им при помощи утробного мычания и отчаянных взмахов руками белая стая, ввинчиваясь в небесную высь по широкому кругу, вдруг вся вспыхивала розовым светом, достигнув в вечернем воздухе той высоты, где еще не потеряли своего действия лучи заходящего солнца, в то время как здесь, на дворе, уже лежала сплошная тень, предвещавшая скорый приход ночи.
После волейбола Шура охотно пошел к Кутырину — повозиться вместе с ним над мотором. Однако и к нему он попал не скоро. Дело в том, что их путь лежал мимо стадиона станкостроителей, на расстоянии одного квартала от школы. Соблазн был слишком велик.
Спортивное поле еще не просохло, под забором с южной стороны даже лежал не дотаявший еще, грязный снег, но зато около ворот был натоптан сухой островок. Здесь, среди тренировавшихся ребят, Шура узнал Васю Смирнова, сына молочницы. Не важно, что никого из остальных Шура не знал. Глупо упустить возможность потренироваться возле полноценных ворот с задней и боковыми сетками, на первоклассном спортивном стадионе.
Димочке пришлось пока что удовлетвориться Шуриным обещанием зайти к нему через полчаса: «Надо размяться немного, — сказал Шура, — а то разве волейбол — это игра!»
Домой Шура смог попасть, когда уже стемнело, и Зое скоро надо было опять идти в школу — заниматься диктантом. Она только что закончила последнее задание к завтрашнему дню.
Разговор брата и сестры начался бурно с первых же слов Зои:
— Шурка, не хватайся за хлеб грязными руками! Ты посмотри в зеркало, на кого ты похож!
С минуту стояла тишина. Шура, почти не прожевывая, громко глотал куски хлеба, отламывая их пальцами прямо от буханки, хотя тут же возле тарелки на столе лежал нож.
— Повторяю, оставь хлеб в покое — обед стоит разогретый! Что тебе, лень умыться и самому налить суп в тарелку? А потом, скажи, пожалуйста, почему ты пришел так поздно? Когда же ты успеешь приготовить уроки?
— Ты что? — спросил Шура, сразу почувствовав, что Зоя «не того». — Ты что на всех кидаешься?
— Тебе мама ничего не говорила?
Шура настороженно молчал, стараясь вспомнить, что ему поручали по хозяйству и нет ли за ним какой-нибудь задолженности, не забыл ли он чего?
Но выяснилось, что Зоя всего лишь беспокоится о матери — почему она до сих пор не вернулась с работы.
Шура, подчеркивая свою взрослость, сказал:
— Зойка, ты прямо как маленькая, честное слово… То паникуешь, то на всех кидаешься. На волейболе за тебя стыдно было — ко всем придиралась.
— То есть?
— Да прежде всего к Люсе Уткиной.
— Ну, знаешь ли, братец ты мой, это для всех вас она принцесса, а для меня Уткина прежде всего комсомолка, и, к сожалению, ей слишком много еще не хватает для того, чтобы стать настоящей комсомолкой. Давай не будем сейчас об этом. Лучше скажи, почему у тебя сегодня не убрано на столе? Прежде чем сесть за уроки, я должна была убрать за тебя.
Пока Зоя все это говорила, Шура успел вымыть над тазом руки и густо намылил лицо. Приподняв медный тычок умывальника и напуская в пригоршню воды, он ответил сестре:
— У меня нет своего стола, точно так же как нет и своей кровати! — Проговорив это и очень довольный тем, что у него, по его мнению, получилось здорово, почти как афоризм, Шура принялся смывать с лица мыльную пену, отдуваясь и громче, чем надо, звякая рукомойником, желая этим показать, что после такого меткого ответа всякий разговор следует прекратить.
Зоя посмотрела на его взъерошенные волосы, на красные, отдувающиеся щеки и на лужу на полу и сказала:
— Что это за истерика? Само собою разумеется, что своего стола у тебя нет и не будет, пока ты человек не самостоятельный. Может быть, ты обратил внимание — у нашей мамы тоже нет отдельного стола для занятий, или в своем артистическом величии ты таких мелочей не замечаешь? И уж совсем нехорошо, что ты заговорил о кровати.
— Ну ладно! — попытался Шура прекратить разговор. Он уже успел повесить полотенце и наливал себе суп.
— Нет, совсем даже не ладно! Неужели ты забыл, что ты сам поднял вопрос о покупке шкафа?
— Ну, оставь, пожалуйста, дай мне спокойно пообедать!
— А когда мама сказала, что он не поместится, ты что ей ответил?
Шура молча принялся есть суп.
— Ведь ты же ради шкафа сам согласился спать на полу, а постель на день прятать в шкаф.
Зоя замолчала, Шура тоже ничего ей не отвечал; он усиленно работал ложкой и старался не смотреть на сестру. Шура слышал, как Зоя подошла к этажерочке, втиснутой между кроватью и шкафом, и, достав с полки книгу, принялась перелистывать страницы. Должно быть, она искала материал для диктанта. Шура положил на тарелку молочной рисовой каши. Закончив и тщательно подобрав крупинки с тарелки, он не оставил ложку в тарелке, а положил ее на покрытый клеенкою стол, слегка ею пристукнув. Зоя хорошо изучила этот звук, всегда означавший одно и то же: «Я закончил, но я еще не сыт». У Шуры всегда был аппетит лучше, чем у кого бы то ни было в семье, а сегодня он особенно проголодался. Обычно Зоя так хорошо все это чувствовала, точно сама ощущала голод, и Шуре не приходилось ни ждать, ни напоминать. Но сейчас она молчала. Шура не выдержал:
— Зоя, а как насчет добавки?
— Возьми! Зачем спрашиваешь? Оставь маме и на утро — остальное возьми.
Шура чувствовал себя виноватым перед Зоей, потому что действительно ведь это он сам был инициатором покупки шкафа, ради которого пришлось вынести кровать. Глупо было поднимать разговор и о столе, ведь ни у кого из них действительно нет отдельного стола для занятий.
Шура терпеть не мог долго носить в себе, как постылую обузу, чувство собственной вины. Он был для этого не приспособлен. Он должен взбунтоваться и бурно доказывать, что он совершенно прав и винить его не в чем, или же откровенно признать свою вину и поскорее найти способ «отработать», как в таких случаях называл он свое стремление загладить ее.
— Зойка, нет, в самом деле, ну как мы живем?! Ты только посмотри, — и он сам оглядел, поворачивая голову, всю комнату, — посмотри, нет ни одного яркого, интересного предмета. Мне не из чего даже скомпоновать хороший натюрморт. А ведь мне хочется рисовать, писать красками, работать!
Зоя нахмурилась и сильно прищурила глаза. Шура понял, что у него получилась осечка. Постепенно к Зоиному лицу начинала приливать кровь, и оно становилось ярче. Когда Зоя молчала и вот так хорошела, прямо на глазах, от одного только какого-то скрытого, еще внутреннего порыва, и черты ее лица становились тоньше, — для Шуры всегда это было зловещим признаком.
Но Шура говорил совершенно искренне, только то, что он действительно думал, теперь уж никакое препятствие не могло его остановить, наоборот, догадываясь, что Зоя сейчас будет с ним спорить, он упрямее и тверже начал ставить ударение на каждом слове:
— Зойка, я не знаю, почему ты злишься? Может быть, ты хочешь сказать, что мы с Димкой ходим заниматься в студию — чего нам еще надо? Так ведь, пойми же, это только один раз в неделю. Этого, черт возьми, слишком мало! Ты же прекрасно знаешь, мы рисуем там только с гипса. Это, конечно, надо делать, но помимо этого хочется что-нибудь яркое, интересное, решать правильно задачу в цвете. И так — каждый день! А что я могу взять дома? Кастрюлю, веник? Ты посмотри, как мы живем? Нет, я не шучу — ты в самом деле посмотри…
Зоя не дала ему говорить.
— Как тебе, Шура, не стыдно?! Не вздумай сказать, что ты сейчас говорил, при маме. Ты совершенно о ней не думаешь. Как у тебя язык поворачивается сказать, что мы плохо живем? Ты обеспечен, кажется, решительно всем. Единственно, чего тебе не хватает — чуткости и совести, чтобы задать самому себе вопрос: «Откуда же все это берется?» Ты посмотри на себя в зеркало — какого детинушку выкормила мама! А сама она какая худенькая! Ты, Шура, подумал хоть раз по-настоящему, что пережила она после смерти папы, когда у нее осталось нас двое — тебе восемь лет, мне девять с половиной? А ведь она осталась с нами совершенно одна.
Зоя пристально смотрела на брата, но он не отвечал ей.
— Ты хорошо рисуешь, почему же ты задрал нос кверху, когда дядя Сережа предложил достать для тебя чертежную работу на дом? Как ты отнесся к возможности хоть немного заработать?
Шура сидел молча; он даже сейчас сохранял обычное для его лица добродушно-застенчивое выражение, и, как всегда, казалось, что он улыбается, — правый уголок его рта чуть-чуть был вздернут невидимым шнурочком кверху. Эту особенность — улыбаться независимо от настроения — Шура сохранял даже во сне. Сидел он, опершись на стол обоими локтями, и, не изменяя положения рук, то и дело наклонял голову к ладоням, проводя волосами по ладоням как щеткой, не отнимая локтей от стола.
— А потом, Шура, давай поговорим серьезно.
— Значит, до этого ты шутила?
— Скажи мне, что тебе нужно: золотые кубки, хрусталь, парча? Ты что, хочешь «компоновать», как ты выражаешься, натюрморт в духе эпохи Возрождения или задумал картину из жизни Людовика Четырнадцатого? У нас в сарае есть нестроганые доски. Если бы ты из них сколотил помост и нарисовал бы их красками, в сочетании с серым, дождливым небом… Вот мне почему-то так кажется… А потом, ты мало рисуешь людей. Так нельзя. Ведь нужна целая толпа, и у каждого человека свое лицо с неповторимым выражением…
Шура перестал теребить кожу на лбу; сняв локти со стола и выпрямившись на стуле, широко раскрытыми глазами смотрел он на сестру: неужели она знает уже его мечту, его мысли?
А Зоя продолжала:
— Если бы у меня были такие способности к рисованию, как у тебя, я бы одну только Лину писала бы красками без конца. Ты посмотри, как богато оттенками ее лицо, как оно меняется: сидит ли она у окна, нагибается ли, чтобы бросить полено в печь, или же кормит ребенка.
До того взволнованный догадкою Зои, что его даже начинало знобить, Шура в то же время колюче топорщился, он ревниво оберегал свой авторитет в семье относительно всего, что касалось живописи.
— Зойка, что ты меня учишь, как будто я слепой? По-твоему выходит так, что я никогда не видел Лину?
Но Зое он не мог помешать сейчас, сколько бы ни перебивал ее, она продолжала говорить и хорошела на глазах у Шуры все больше и больше.
— Когда мы последний раз были в Третьяковской галерее, ты мне показал Касаткина и Ярошенко. Скажи, очень необходимы были для Касаткина хрусталь и парча, когда он создавал своего шахтера?
Шура молчал.
— Скажи, очень нужна была Ярошенко хрустальная бутафория, когда он создавал образ ребенка среди арестантов у окна вагона? Как называется картина, помнишь, внизу на перроне голуби?
— «Всюду жизнь», — подсказал Шура.
— Если бы у меня были такие способности, как у тебя, я бы на мокрых, нестроганых досках нарисовала бы цветы, сделала бы десятки вариантов-эскизов, как ты говоришь, чтобы добиться настоящей силы.
Как только Зоя упомянула о нестроганых досках, Шура сразу понял, о чем идет речь. В этом не было ничего удивительного: брат и сестра и раньше понимали друг друга с полуслова, они жили одними и теми же интересами и всегда внутренне были очень близки друг другу, несмотря на постоянные их стычки между собой и борьбу Шуры с «деспотизмом Зойки», за право не считаться в семье младшим.
В девятом «А» как раз проходили Чернышевского. Молодая преподавательница литературы, Вера Сергеевна Новодворцева, всего лишь два года тому назад закончившая педагогический институт, с вдохновением рассказала своим ученикам биографию Чернышевского. Для Шуры понятнее всего и внутренне ближе становилось лишь то, что входило в его сознание через зрительный образ, — не случайно же он тянулся с младенческих лет к набору цветных карандашей, и любимым занятием его было следить не отрываясь, как набранная мягкой кистью краска покрывает слепое пространство белого листа бумаги.
Подвиг всей жизни Чернышевского, все величие этого человека, с его мужественным поведением в Петропавловской крепости, с отказом подать царю просьбу о помиловании, — все это раз и навсегда врезалось в сознание Шуры, лишь только он увидел, слушая рассказ Веры Сергеевны, яркий букет цветов, вспыхнувший под пасмурным петербургским небом, как факел, брошенный кем-то из толпы и упавший на мокрый от дождя помост-эшафот к ногам Чернышевского.
Когда Вера Сергеевна закончила урок, Шуру охватило горькое чувство своей собственной беспомощности и бессилия, — ведь он же еще не художник, — но вместе с тем зарождалась и надежда: если работать, учиться и очень много работать… может быть, и он, Шура Космодемьянский, окажется достойным создать картину «Гражданская казнь Чернышевского».
Теперь то и дело возникали перед Шурой, — и когда сидел он в классе на уроках, и дома, особенно перед тем, как заснуть, — отдельные зрительные образы, не связанные друг с другом детали: поверхность шершавой доски, цветок белый и рядом с ним — красный, сапог жандарма со шпорой, шпага, преломляемая над головой «государственного преступника», и… глаза, глаза Николая Гавриловича Чернышевского! Теперь, когда бы ни посмотрел Шура на портрет Чернышевского, его глаза неотступно преследовали Шуру, как будто укоряли его, чего-то ждали и в то же время настойчиво требовали.
И вот, оказывается, Зоя тоже думает о гражданской казни Чернышевского. Сестра догадалась, она поняла, какое значение должна иметь для Шуры мысль о картине.
С той минуты, когда Шуре и Зое стало совершенно ясно, что они думают об одном и том же, их обоих охватило чувство глубокой серьезности происходящего и безграничного братского доверия друг к другу. О чем бы после этого ни заговорила Зоя, Шура воспринимал ее слова уже без обычного своего протеста, хотя иногда и огрызался, просто уже по привычке.
Заметив, как взволнован Шура, в какое состояние привел его их разговор, Зоя сказала:
— Но почему, Шура, ты не работаешь над собой? Почему ты не закаляешь свою волю, не тренируешь ее? Почему ты часто бываешь такой расхлябанный, почему ты так мямлишь на уроках? Для меня всегда бывает пыткой слушать, как ты отвечаешь у доски. Не вынимай ты по крайней мере платка из кармана. Ведь это мука смотреть: ты его комкаешь, поминутно вытираешь лицо. Даже плечи у тебя становятся мокрые — пот проступает сквозь рубашку! Взять хотя бы математику… Ведь ты же знаешь ее гораздо лучше меня. А сколько раз ты валял дурака у доски только из-за своей робости?
— Зойка, но ты же сама понимаешь… — пробовал убедить ее без всякой обиды Шура, но она настаивала на своем и не давала ему говорить.
— Я тебя понимаю, но необходимо закалять себя.
— Ты говоришь, как преподаватель, а попробуй-ка сама.
— А ты думаешь, я не пробовала? Ты думаешь, мне так уж все легко дается? Помнишь в прошлом году наше комсомольское собрание, когда я поставила вопрос о том, что мы должны помочь ликвидировать остатки неграмотности среди взрослого населения нашего района? Одно дело — постановить, другое — выполнить. Почти все отказались — «далеко ходить, не остается времени для себя, готовить уроки». Конечно, со временем трудно, но не в этом дело. А дело в том, что страшно вечером ходить через парк — ведь это же лес целый! Ты думаешь, я не колебалась? Ты думаешь, мне легко было ходить в темноте к жене сапожника на плотину? Думаешь, мне не было иногда страшно? Я поставила себе целью: как бы далеко, как бы страшно ни было — надо идти. Какая бы погода ни была, какой бы мрак ни стоял, я говорю себе: «Зоя, ты должна!» Так и было: страшно, а я иду. Особенно было трудно в дни получки, когда в парке попадались пьяные. Но я ни разу не пропустила ни одного занятия. Когда я с этим справилась, я поставила себе задачу гораздо труднее. Пойти, когда страшно, — этого мало. А вот чтоб идти домой, а в парке совершенно ничего не видно и вдруг вплотную перед тобой на тропинке возникает фигура выше тебя ростом и впереди, куда ты должна идти, слышна пьяная ругань, — вот в этих условиях добиться, чтобы тебе совершенно не было страшно! Выработать в себе полную уверенность в своих силах. И я добилась — ходила без всякой боязни!
— Ну, это ты врешь! — сказал Шура.
Зоя помолчала немного, потом сказала:
— После этого следовало бы никогда больше с тобой не разговаривать!
— Зойка, не злись! Что ты можешь сделать с хулиганом одна в темном лесу? У него может быть нож.
— А слово? — ответила Зоя, высоко приподняв брови, всем своим видом и тоном выражая удивление — как это Шура до сих пор не знает таких простых истин. — Очень хорошую пословицу мне недавно сказала жиличка внизу, наша партизанка: «Человек — не свинья: его словом убить можно». Человеческая речь — это самое могущественное оружие: оно может пригвоздить человека к месту, чтоб он встал как вкопанный, и оно же может бросить его вперед, на подвиг! Важно только, чтобы ты был абсолютно прав и абсолютно уверен в своих внутренних силах. Ты представляешь себе силу человеческого слова, когда Ленин, стоя на броневике, произносил свою речь в Петрограде? А клятва Сталина у гроба Владимира Ильича Ленина?!
После всего того, что сказала Зоя, брат и сестра сидели теперь молча, как будто бы они отдыхали, взобравшись на трудную для подъема горную вершину.
Внезапно Зоя повернулась на стуле так, что Шура даже вздрогнул. Она смотрела на дверь и прислушивалась. Потом опять прислонилась к спинке стула и со вздохом сказала:
— Нет, не она! Мне показалось, что по лестнице поднимается мама.
Шура попросил ее:
— Зоя, не двигайся, посиди так: ты очень удачно села — замечательно ложится свет. Я хочу поработать карандашом.
Шура встал и торопливо начал доставать бумагу, боясь, как бы Зоя не переменила положения. Но сестра тоже поднялась со стула.
— Нет, Шура, только не сегодня — скоро надо уходить. Ведь сегодня четверг — Ярослав и Петя будут ждать меня. Я только хочу докончить мысль о том, что надо все время работать над самим собой. Помнишь, как тренировал себя Рахметов у Чернышевского, какое значение придавал он закалке воли? А потом, Шурка, дурень ты, — продолжала Зоя, меняя тон, — ну какую ерунду говорил ты о нашей комнате, о том, как мы живем? Разве это зависит не от нас с тобой?!
— Ну ладно, ладно, Зойка! — сказал Шура. — Не приставай. Квартиру получу я! Запомни это и запиши! Я буду художником.
— Само собой разумеется! — сказала Зоя.
— Но одновременно поступаю в авиационный институт на конструкторский. Я это твердо решил. Я добьюсь своего, я получу комнату!
— Шура, в самом деле, ты посмотри, сколько за последние два года выстроили новых домов в нашем районе.
— Конечно! И в первую очередь дают комнаты и квартиры новаторам — рабочим, инженерам, ученым, прежде всего тем, кто по-настоящему работает, кто ведет большую общественную работу.
— Заслуженным педагогам, — добавила Зоя.
— Зойка, ты не смейся и не считай меня хвастуном, но квартира у нас будет!
— Да я и не думаю смеяться. Ведь в самом деле, у нас начали строить удивительно быстро. Старший брат Лизы Пчельниковой возвратился из Комсомольска. Ты подумай, совершенно новый город вырос на Амуре, там, где раньше была одна тайга!
— Зойка! — сказал Шура и обеими руками начал расправлять свой ворот, растягивать его шире, словно ему было душно. — Тебе хотелось бы куда-нибудь поехать?
— А я всюду уже побывала, — произнесла вдруг Зоя не задумываясь, совершенно серьезным тоном. — Хочешь, скажу тебе, где я была, только пообещай, что не будешь смеяться.
— Хорошо, обещаю, — сказал Шура, — только дай, сестричка, сначала я пощупаю у тебя лоб, а кстати и пульс: «Мне что-то не нравятся твои глаза». — Такую фразу обычно произносила мать, если начинала беспокоиться о том, что кто-нибудь из них заболевает.
— Скажи, Шура, — спросила Зоя, которую не могла остановить уже никакая ирония, — бывает ли у тебя когда-нибудь так… понимаешь, появляется такое замечательное чувство… мне начинает казаться, что мне совсем не восемнадцать лет…
— Вношу первую поправку, — перебил ее Шура, — тебе только в сентябре будет восемнадцать лет.
— Начинает казаться, что я живу уже очень долго… что я тоже принимала участие во всем, что создано у нас в стране, во всех замечательных событиях: что я летала вместе с Чкаловым через Северный полюс в Америку, участвовала в спасении челюскинцев, что будто бы и я была среди участников первого полета в стратосферу, что будто бы это и я строила Магнитогорск и Днепрогэс, что и я…
— Остановись, Зойка! — крикнул Шура, схватив ее за руку. — Ответь мне только на один вопрос: тебе не кажется, что это ты придумала порох, перочинный нож и стеариновую свечку?
— Дурачок ты все-таки, Шурка, — сказала Зоя смеясь и, вырывая свою руку, взъерошила, спутала у Шуры на голове волосы. Она тотчас же отскочила, но Шура за нею погнался. Началась обычная у них в таких случаях возня.
Через несколько секунд Зоя уже лежала, брошенная поперек кровати матери, и Шура пытался поймать обе ее руки, чтобы зажать их в свои ладони.
— Нечестно, Шурка, ты дал мне подножку!
— А ты не нападай первая!
Шура задел ногою стул, и он упал с грохотом.
— Тише, Синицын идет! — проговорила Зоя громким шепотом и рванулась с кровати.
Шура мгновенно отпустил ее. Вскочив на ноги и поправляя волосы, Зоя крикнула:
— Трус несчастный!
Шура бросился было за ней опять, но, увидев ее лицо, ставшее вдруг серьезным, остановился. Зоя посмотрела на часы.
— Хватит! — сказала она. — Я не хочу, чтобы мальчикам пришлось меня ждать.
— Кто тебя держит? Уходи, пожалуйста, поскорее, из-за тебя я никак не могу начать химию.
Шура снял с гвоздя демисезонное пальто Зои и, подавая его, предложил, совершенно меняя голос и ломаясь, давая этим понять, что перед ним теперь уже не девятиклассница, а педагог, отправляющийся на диктант в школу:
— Наденьте, пожалуйста, Зоя Анатольевна, вечером стало свежо, а к ночи совсем будет холодно.
Зоя вырвала пальто и, не надевая его, а просто накинув на плечи, вышла в коридор, но тотчас же вернулась и торопливо проговорила:
— Шура, не забудь воды принести. Обязательно с вечера принеси, а то забудешь. Два ведра!
Подойдя к столу, она сунула руку под платок и полотенце, которыми был закрыт обед.
— Ой, совершенно холодный! Шура, сейчас же подогрей — мама должна прийти с минуты на минуту.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Крутая деревянная лестница с шестнадцатью скрипучими ступеньками всегда казалась Зое слишком длинной. Чтобы не было так скучно подниматься по ней и спускаться по нескольку раз в день, Зоя обычно закрывала глаза и ставила перед собой задачу: пройти лестницу «наизусть» с обязательным условием — не считать ступенек. Прислушиваясь к своему внутреннему ритму и вспоминая с давних пор заученное расстояние, Зоя в большинстве случаев безошибочно угадывала последнюю ступеньку. Так сделала она и сейчас, хоть и торопилась в школу; она даже усложнила себе задание: спустилась с закрытыми глазами не только по лестнице, но прошла «наизусть» и нижние сени, а также тамбур выходных дверей, сошла по шести ступенькам наружного крыльца на землю и здесь, одновременно втягивая всей грудью воздух, удивительно свежий и пахнущий сырой землей, она широко открыла глаза и чуть не ахнула. На западе, левее Тимирязевского парка, на совершенно чистом небе стояла луна (и все, что было на небе, удваивалось такой же картиной на земле — отражалось в разлившейся между огородами по луговине весенней воде), стояла луна, освещенная только лишь по самому краешку давно уже ушедшим за горизонт солнцем, — светил только что народившийся месяц, такой еще тоненький, что его свет не мешал видеть все остальное тело луны, находившееся от солнца в тени и сейчас имевшее такую окраску, как будто Зоя смотрела на эту часть луны через закопченное стекло. А в одну линию с месяцем, создавая впечатление астрономической шарады, пристроились две одинаковые звездочки. Зоя сразу угадала: Кастор и Поллукс — близнецы.
По Старопетровскому проезду стояло совсем мало фонарей, а дом № 7 попадал как раз в интервал между ними — ничто сейчас не мешало видеть небо со всей его глубиной и загадками. Ночная весенняя свежесть, это небо и отдаленный трудовой гул огромного города вызвали у Зои радостное возбуждение, ощущение большой внутренней силы и веры в то, что ей по плечу будет совершить очень многое.
Зоя рванулась с места и почти побежала.
До школы от дома можно было идти налево по тропинке, проложенной между новыми домами, — их построили для рабочих стекольного завода. Обычно Зоя так и ходила. Но сейчас она пошла направо. Так тоже попадешь в школу, через Новоподмосковную улицу, и этот путь всего лишь минут на пять займет больше времени. Зоя выбрала его сейчас в надежде на то, что ее лучшая подруга, Ира Лесняк, жившая рядом, выйдет проводить ее до самой школы, а по дороге, при желании, можно успеть поговорить об очень многом.
Маленький домик — четыре окна по фасаду, — где жил со своей семьей бухгалтер одного из отделений Энергосбыта, Сергей Сергеевич Лесняк, стоял среди огорода, метрах в семидесяти от коммунального дома № 7. Между двумя земельными участками не было даже забора — их отделяла просто одна из осушительных канавок, которую Зоя или же Ирина, если очень спешили одна к другой, перелетали, что называется, одним махом.
Ни Ирина, ни Зоя не помнили, когда они познакомились. Это произошло где-то вот здесь, среди огородных грядок, канав, пустырей и козьих лужаек, во время детских игр.
Ира и Зоя учились в разных школах, но школы их стояли на одной и той же улице — рядом, и дорога по утрам среди неогороженных корпусов новостроек у девочек была одна и та же. То Зоя забегала, чтобы вместе идти в школу, то опережала ее Ирина, заходила за ней первая, — и в зависимости от этого они шли из дома направо или налево.
Но разве за какие-нибудь десять минут до начала занятий успеешь переговорить обо всем, о чем хочется, — нет, это не могло насытить Ирину и Зою на целый день, и они тянулись друг к другу и по вечерам. Чаще всего беседовали под открытым небом, даже зимой. Они не любили, чтобы их слушал кто-нибудь третий, и никакой мороз не мог помешать их прогулкам. Иногда перед ужином они вместе шли к стандартным домам, где в маленькой будочке кубовщица отпускала кипяток для жителей всего квартала.
Зоя легко доставала рукой прямо с улицы до низенького окна в комнате Ирины и — «тук-тук» — два раза ударяла кончиками своих длинных, тонких пальцев по стеклу, матовому от наросшего на него изнутри морозного инея. Ирина хорошо изучила этот звук и хоть ничего не видела через ослепленное инеем окно, никакая сила не могла удержать ее в доме, как только раздавалось это «тук-тук»; застегивая на ходу пальто, она появлялась на пороге с темно-зеленым эмалированным чайником и, еще не успев даже закрыть за собой дверь, начинала говорить, говорить, всегда первая, как будто бы перед этим они не встречались целый месяц, а на самом деле еще накануне до тех пор провожали друг друга, пока в чайниках не остыл кипяток и пришлось им обеим идти за ним снова.
Не было такого случая, чтобы, выйдя на улицу, Ирина и Зоя гуляли спокойно. Шура часто подтрунивал над ними, утверждая, что вся их дружба основана на возможности получить удовольствие от нескончаемого спора.
Они спорили решительно обо всем: о прочитанных книгах, о последней кинокартине или пьесе, которую только что видели в театре, о художниках, после экскурсии в Третьяковскую галерею, о том, что обе вычитали из газет. Спорили, не соглашаясь друг с другом в оценке того или иного педагога, спорили о характерах школьных товарищей.
Зоя чувствовала себя более старшей — некоторые интересы Ирины казались Зое детскими. Даже повышенное внимание Ирины к мальчикам и ее успех у мальчиков Зоя отказывалась считать признаком взрослости Ирины и ее преимуществом, — Зоя видела в этом доказательство слабости Ирины, ее недостаточную самостоятельность и зависимость от настроения других людей.
Ирина же в свою очередь не считала себя менее взрослой и в спорах не давала Зое пощады, держалась с нею совершенно как равная. Учились они одинаково хорошо. Однако в глубине души Ирина все же чувствовала превосходство Зои, хотя никогда об этом не говорила, — она понимала, что Зоя ко многому в жизни относится гораздо серьезнее, чем она.
На этот раз им не удалось поговорить как следует, но поспорить они все же успели. Услыхав «тук-тук» и даже увидев мелькнувшую в окне на мгновение руку Зои, Ирина тотчас же вышла наружу. Надевая на ходу пальто и не теряя времени, она сразу же заговорила:
— Ой, Зойка, как хорошо, что ты пришла! Я не знаю, как мне быть: сегодня, после уроков, Виктор сказал, что если я еще хоть один раз пойду в кино с Хохловым, он перестанет со мною разговаривать.
Не успела еще Ирина закрыть за собою дверь, как в сенях раздался голос ее матери:
— Ирина, Иринка, вернись! Без десяти восемь — сейчас придет тетя Муня примерять платье. Ведь ты сама назначила ей время, что же ты делаешь?
— Ах, какая досада! — сказала Ирина. — Вот так всегда бывает: если очень нужно поговорить, обязательно что-нибудь помешает. Зойка, умоляю тебя, как только кончишь заниматься с мальчиками, постучи, пожалуйста, мы еще с тобой поговорим.
— Не могу, Ира, я целый день не видела маму. Она обещала прийти рано и не пришла. Я ужасно беспокоюсь за нее. Ирина, ты видела, какой сегодня месяц — прямо перед твоим окном? Обрати внимание, как расположились Кастор и Поллукс. И вся луна видна, не только месяц. Это так называемый «пепельный свет» — часть луны освещена отраженным светом земли. Какая красота, посмотри!
Ирина оглянулась и долго смотрела на месяц широко открытыми глазами и вдруг звонко расхохоталась. Потом, еще раз взглянув на небо, как бы для того, чтобы проверить себя, чтобы не было ошибки, она сказала, сдерживая смех:
— Зойка, ей-богу, ты сумасшедшая какая-то. Ну скажи, что здесь особенного? Обычное явление природы! Ты посчитай: тебе семнадцать лет… семнадцать помножить на двенадцать… значит, в твоей жизни это повторялось уже две тысячи четыре раза!
— Во-первых, не две тысячи, а только двести, — поправила Зоя Ирину, — а во-вторых, это доказывает только то, что каждый раз, когда ты начинаешь говорить о своем Викторе, ты сразу глупеешь!
— Ах вот как?! — проговорила Ирина, стараясь придать своему голосу как можно более невозмутимый тон. — В таком случае тебе действительно не следует затруднять себя и заходить ко мне!
Проговорила это Ирина в самом деле совершенно спокойно, но дверь она захлопнула с такой силой, что тотчас же раздался голос ее матери:
— Опять не сошлись во взглядах? Ты что же, Ирина, хочешь, чтоб из замка все винты повыскочили?
Буквально через пять минут после того, как Зоя отошла от крыльца своего дома, мать Зои, Любовь Тимофеевна, начала подниматься по лестнице к себе наверх. Ей даже показалось, что она слышит голос Зои с той стороны, где едва различимый в темноте стоял домик семьи Лесняк, и она помедлила немного возле крыльца, подумав, что, может быть, Зоя заканчивает обычный свой разговор с Ириной и сейчас тоже пойдет домой, но потом она вспомнила, что сегодня ведь четверг — Зоя отправляется в школу помогать отстающим товарищам.
Любовь Тимофеевна тоже заметила необычайное сочетание месяца с двумя звездочками, удвоенное отражением в черной воде, разлившейся по огороду.
Если крутую лестницу в шестнадцать ступенек даже Зоя считала скучной оттого, что для нее она была слишком длинна, то для Любови Тимофеевны, хотя ей и минуло всего только сорок два года, эта же самая лестница в конце рабочего дня казалась раз в десять длиннее. Сегодня ступеньки стали даже как будто круче — Любовь Тимофеевна несла в раздутом портфельчике несколько десятков тетрадей для проверки да, кроме того, большую связку книг — заказ Зои.
Когда Зоя изучала какого-нибудь писателя и, особенно, если она увлекалась им, то одного учебника ей было недостаточно — она старалась как можно шире ознакомиться с дополнительной литературой. В школьной библиотеке необходимые книги расхватывались мгновенно. Зою выручала мать. Вот и сегодня по просьбе Зои Любовь Тимофеевна принесла несколько книг со статьями о Чернышевском и все, что смогла достать о творчестве Маяковского. В одной библиотеке не дали бы столько книг, но Любовь Тимофеевна работала преподавательницей в школе для взрослых на трех точках: на заводе «Борец», на заводе «Красный металлист» и на военном заводе, и на каждом из этих заводов имелась своя библиотека. Однажды Любовь Тимофеевна принесла на завод «Борец» целый список книг и сказала, что это заказ ее дочери. «А в каком вузе учится ваша дочь?» — спросила библиотекарша, — она отказывалась верить, что все эти книги необходимы ученице девятого класса.
Поднявшись наверх, Любовь Тимофеевна остановилась перед дверью своей комнаты, чтобы внутренне сосредоточиться и привести себя в порядок, — никакая усталость и никакая оглушенность своими заботами не могли заставить Любовь Тимофеевну забыть, что дети должны видеть ее всегда только бодрой, подтянутой и деятельной: это было одним из основных правил, которых она придерживалась, воспитывая Зою и Шуру.
После смерти мужа Любови Тимофеевне пришлось очень трудно с двумя детьми.
Борьба, которую приходилось вести ей со всякого рода невзгодами, оставила свои следы: Любовь Тимофеевна стала с годами строже и суровее. Некоторые из сослуживцев считали Любовь Тимофеевну даже сухим человеком; она не любила жаловаться на свои беды, постоянная сдержанность делала ее напряженной. В прежние годы она бывала общительнее с людьми, живее и мягче. Ее продолговатое лицо, всегда сосредоточенное и строгое, приобретало черты застарелой, долгое время накапливаемой усталости: голубовато-серые глаза, такие же, как глаза Зои, смотрели напряженнее и суровее; губы неяркого большого рта сжимались плотнее, и начала обозначаться прямая складка, идущая от крыльев носа к углам рта; оттого, что Любовь Тимофеевна мало бывала на свежем воздухе, цвет ее лица потускнел. Однако в ее черных волосах, слегка вьющихся в тех местах, где отдельные прядки выбивались на лоб, не было еще ни одного седого волоса. Какою бы ни была утомленной Любовь Тимофеевна, при своем высоком росте она всегда держалась прямо, походка у нее сохранялась все такая же быстрая, деловая. Для таких взрослых детей, как Зоя и Шура, это была совсем еще молодая мать.
Как только Любовь Тимофеевна открыла дверь, Шура прижал пальцем строку в учебнике химии на том месте, где он остановился, и спросил:
— Мам, что ж ты в самом деле?
Этот грубоватый по тону упрек Шуры не вызвал у матери и тени досады, нет — в тоне было еще слишком много капризно-детского, милого; как только увидела она немного сдвинутую на сторону улыбку Шуры и его несуразно широкие для шестнадцати лет плечи, ее охватило чувство долгожданного домашнего покоя и полного освобождения от тревог хлопотливого дня.
— Зойка с ума сходила, — продолжал Шура. — Ты же обещала ей, что придешь рано.
— Заигралась в футбол, — сказала, устало улыбаясь, Любовь Тимофеевна.
— Ой, мамочка! — вдруг вскрикнул Шура и схватился руками за голову. — Не говори Зойке, она велела разогреть, а я забыл. — И Шура бросился зажигать керосинку.
Когда он подошел близко к Любови Тимофеевне и наклонился к стоявшей на табуретке керосинке, она ужаснулась, увидев, до чего выпачкана у Шуры рубашка.
— Как тебе самому не противно, почему ты не переоделся? — сказала она, шаркая ладонью по его мускулистой, широкой спине, стараясь сбросить на пол прилипшие и въевшиеся в ткань сырые мазки грязи.
— Оставь, пожалуйста, не трогай, я сам все сделаю, когда высохнет. — Шура вывернулся из-под руки матери. — Ты бы посмотрела, мам, какая игра была сегодня! Мировая! Первый раз вышли на площадку. Наша Зойка прямо подметки у всех на ходу срезала!
— Шура, следи за тем, что ты говоришь, — сказала Любовь Тимофеевна, поморщившись. — Ты — сын преподавательницы литературы, не заставляй меня краснеть за тебя.
— Нет, мам, в самом деле! Ты бы посмотрела, какие она сумасшедшие мячи брала. Сегодня я простил ей все грехи против меня, весь ее варварский деспотизм, который мне приходится терпеть с детства.
Любовь Тимофеевна, успевшая уже вымыть руки, нарезая хлеб, спросила:
— Ты серьезно считаешь, что Зоя к тебе несправедлива?
— Кто же в этом сомневается? Точно ты первый раз об этом слышишь. Смешно в самом деле считать человека, который носит пятидесятый номер костюма и выше сестры на целую голову, считать его младшим только на том основании, что он имел несчастье родиться на один год позже ее. Можно ли найти более яркий пример несправедливости?
Любови Тимофеевне после ее позднего обеда предстояла еще сосредоточенная работа по проверке тетрадей. Чувствуя, что у Шуры нарастает охота побалагурить, а времени мало и у него для приготовления уроков и у нее, — решила сразу же покончить со всеми хозяйственными заботами и освободиться.
— Шура, возьми карандаш и запиши, — сказала она. — Я оставляю деньги — пойдешь завтра в продовольственный магазин.
— Нет, мама, — перебил ее Шура, — ходить за картошками и окрошками — это дело девчонок. Я не отказываюсь от работы, пожалуйста! Но давайте мне настоящую мужскую работу, чтобы можно было размахнуться: мое призвание — отгребать снег, колоть дрова, носить воду, — пожалуйста! — в виде исключения, керосин — это тоже моя обязанность.
И, не останавливаясь, Шура продолжал говорить, взяв со стола чайник и наливая в него воду, которую он черпал кружкой из ведра:
— Сейчас поставлю кипятить чай и посмотрю, что там Лина делает; давно уже хочется порисовать живое человеческое лицо — надоел гипс!
— Ну, а как же химия?
— Ерунда! Осталось на каких-нибудь пять минут. Ты посмотри, мам, какой я рисунок сделал.
Любовь Тимофеевна взяла из рук Шуры тетрадь.
— Кроме химии, завтра у вас и физика?
— Ерунда! Мы с Димкой Кутыриным еще вчера все задачи решили, пока ехали в метро, возвращались из студии.
— Шура, сознайся, что при твоих способностях ты мог бы идти в числе отличников?!
— Что ты, мама! — сказал Шура с искренней убежденностью. — Пожалуйста, не мечтай об этом и не расстраивай себя понапрасну. Немецкий всегда будет для меня кирпичом преткновения. А кроме того, разве я могу когда-нибудь угнаться по литературе за нашей Зойкой и за Люськой Уткиной?
— А я, Шура, все еще не потеряла надежду стать отличницей, сейчас засяду за свои тетрадки. Вот только приведу себя немного в порядок.
Любовь Тимофеевна села на кровать и, вынув гребешок и шпильки, распустила длинные, легко рассыпавшиеся в руках волосы и принялась их расчесывать.
Всю жизнь Любовь Тимофеевна руководствовалась обязательным для себя правилом: постоянно быть внутренне близкой со своими детьми, разделять вместе с ними все их интересы, все помыслы и желания; ни на одну минуту, ни на одну йоту дети не должны сомневаться в этой материнской близости. Такого правила придерживался до самой своей смерти и ее муж. От него Любовь Тимофеевна усвоила и другое незыблемое правило: воспитывай своих детей не резонерскими нотациями и надоедливыми наставлениями, а всем своим поведением в жизни, своим отношением к труду и даже своим внешним обликом.
Как только Любовь Тимофеевна уложила на голове волосы опять обычной своей прической, — небольшой, не туго связанный узел, прикрывающий шею, — и села на Зоино место проверять тетрадки, Шуре стало совестно бездельничать. Ни слова не сказав, он тоже сел за стол против матери и не встал, пока не закончил все задания к завтрашнему дню.
Убирая со стола книги и тетрадки, Шура среди них обнаружил тетрадь Зои по литературе. Как она сюда попала? Очевидно, он нечаянно захватил ее вместе со своими, когда доставал их с этажерки. Он вспомнил сегодняшний разговор с Зоей о Чернышевском. Опять перед глазами с необыкновенной яркостью, до мельчайших деталей, встала картина гражданской казни Чернышевского. Шуре захотелось посмотреть, какой материал о Чернышевском записан у Зои.
Обычно брат и сестра делали вид, что не интересуются состоянием тетрадей друг у друга. Каждый хотел быть совершенно самостоятельным. По математике, физике и химии Шура шел ничуть не слабее Зои; иногда он даже помогал ей разбираться в некоторых вопросах по этим предметам; а по литературе он считал безнадежным пытаться идти с Зоей в ногу; пользоваться же в какой бы то ни было мере ее тетрадками он считал ниже своего достоинства. Он позволил себе заглянуть сейчас в тетрадь сестры потому, что вопрос о Чернышевском и для Шуры и для Зои выходил далеко за пределы одних только школьных интересов.
Как только Шура раскрыл тетрадь, на стол из нее выпало несколько карточек, вырезанных из плотной чертежной бумаги. На таких карточках Зоя записывала высказывания политических деятелей о данном писателе и цитаты из его произведений, наиболее ярко характеризующие писателя. Карточки были заведены на Тургенева, Чернышевского, Герцена, Добролюбова, Гончарова и Островского. Помимо этого, в самой тетради Зоя записала хронологическую канву жизни этих писателей, затем главные произведения их, а также темы для сочинений и тезисы для каждой темы.
Карточка на Чернышевского начиналась высказываниями В. И. Ленина:
«Он был также революционным демократом, он умел влиять на все политические события его эпохи в революционном духе, проводя — через препоны и рогатки цензуры — идею крестьянской революции, идею борьбы масс за свержение всех старых властей».
Записала Зоя также и слова Плеханова:
«В истории нашей литературы нет ничего трагичнее судьбы Н. Г. Чернышевского. Трудно даже представить себе, сколько тяжелых страданий гордо вынес литературный Прометей в течение того длительного времени, когда его так методически терзал полицейский коршун».
На отдельную карточку Зоя внесла запись самого Чернышевского из его дневника:
«Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока…»
И дальше, о крестьянской революции, его же слова:
«Я приму участие… меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня.
Произойдут ужаснейшие волнения, и в них может родиться настоящая народная революция…»
Дальше еще одна карточка, размером больше всех предыдущих:
Н. Г. Чернышевский«Что делать?»«С тех пор как завелись типографские станки в России… ни одно печатное произведение не имело в России такого успеха, как «Что делать?» Чернышевского»
(Плеханов).
«Ни одна из повестей Тургенева, никакое произведение Толстого или какого-либо другого писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, как эта повесть Чернышевского»
(революционер Кропоткин).
«Должен сказать, — ни раньше, ни позже не было ни одного литературного произведения, которое так сильно повлияло бы на мое революционное воспитание, как роман Н. Г. Чернышевского»
(Г. Димитров).
Жизненные принципы Рахметова:
1. «Не имею права тратить деньги на прихоть, без которой могу обойтись».
2. «Я не пью ни капли вина. Я не прикасаюсь к женщине».
3. «То, что ест простой народ, и я могу есть. Того, что никогда не доступно простым людям, и я не должен есть! Это нужно мне для того, чтобы хотя несколько чувствовать, насколько стеснена их жизнь сравнительно с моею».
4. «У меня занятия разнообразны; перемена занятий есть отдых».
5. «Каждая прочтенная мною книга такова, что избавляет меня от надобности читать сотни книг».
6. «Он приобрел и, не щадя времени, поддерживал в себе непомерную силу:
«Так нужно, — говорил он, — это дает уважение и любовь простых людей, это полезно, может пригодиться».
Положив тетрадь Зои на этажерку, Шура подумал: «Интересно, тренировался ли Рахметов гирями или на кольцах и перекладинах?»
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Петя Симонов и Ярослав Хромов условились прийти пораньше, они хотели вместе решить задачи по физике до того, как начнет с ними заниматься Зоя.
По математике и физике дела шли у Пети неплохо, он не отставал от Хромова, и сейчас они помогали друг другу, как равный равному: Петя начинал чертить на доске, и если у него происходила заминка, Ярослав тут же вторгался в чертеж со своим кусочком мела, или же Ярослав начинал выводить формулу, а Петя ее заканчивал. Иногда они спорили в поисках верного решения. Работа шла дружно, хотя и по своим характерам, по манере держать себя и по тому, чем каждый из них наиболее дорожил в жизни, это были несхожие люди.
Ярослав больше всего в жизни любил музыку и серьезно занимался ею — играл на рояле. Помимо его воли и без всякого с его стороны старания ему постоянно, и даже в мальчишеском возрасте, было присуще чувство изящного: сидел ли он неподвижно за партой, шел ли торопливо по улице, или же играл в волейбол — его походка и все его движения подчинялись внутреннему ритму, и так как он никогда об этом не думал, то в его манере держаться среди товарищей была какая-то особенная прелесть сдержанности и в то же время свободы и непринужденности, точно он с младенческих лет занимался художественной гимнастикой. У него было продолговатое, красивое, но не приторное, а по-мужскому гармоничное лицо, с очень живыми темными глазами, резко выделявшимися оттого, что кожа лица у него была светлая и слабо загоравшая, сколько бы времени он ни проводил на солнце. Этому соответствовали и светлые с рыжеватым отливом волосы, слегка вьющиеся и жесткие, так что, зачесанные с утра назад, они уже в продолжение всего дня плотно лежали на своем месте. Голову он держал почти всегда слегка наклоненной и смотрел как бы исподлобья, но совсем не угрюмо, а задумчиво, словно все время что-то припоминал или слушал едва уловимый, откуда-то доносящийся мотив. Кисти рук и длинные пальцы у Ярослава были как раз такие, о которых говорят, что они «музыкальные», даже если человек, обладающий такими руками, не имеет никакого отношения к музыке.
Вырос Ярослав в семье врача, — его отец заведовал хирургическим отделением одной из крупнейших больниц Москвы; мать работала в системе Мосгорздравотдела — обследовала детские дома и ясли; своих детей у нее было трое — хлопот хватало, так что в семье Хромовых не находилось охотников излишне баловать ребят, к тому же Ярослав был в семье средним, а главное внимание в таких случаях сосредоточивается чаще всего на старшем ребенке или же на младшем.
Одевали Ярослава скромно, но он очень следил за собой, каждое утро чистил щеткой куртку и брюки и сам умел их отутюжить, поэтому одежда выглядела на нем всегда опрятно; он отличался в классе тем, что был брезглив по отношению к какому бы то Ни было неряшеству.
Вряд ли еще кто-нибудь в классе молчал так много, как Ярослав Хромов, он ни с кем не откровенничал, но и скрытником Ярослава никто бы не назвал, во всяком случае, он никогда не избегал общества своих товарищей.
Любовь к музыке далеко не исчерпывала всех его интересов: он с детства увлекался геологией; особенно в последнее время Ярослав подолгу просиживал над книгами по истории Земли. И это еще не все: вместе с Петей Симоновым, Димочкой Кутыриным и Шурой Космодемьянским он часто занимался гимнастикой на снарядах; в этом деле он был ловок и вынослив; особенно удавались ему упражнения на параллельных брусьях: его пружинистые, четкие движения, безукоризненные по чувству ритма, тоже производили на всех впечатление опрятности, сдержанной жизнерадостности и чистоты.
Именно любовь к гимнастике и к физкультуре проложила дорогу для дружбы этих четырех одноклассников: Ярослава, Димочки, Пети и Шуры. В восьмом классе они все вместе даже записались в гимнастический кружок при стадионе станкостроителей. Петя Симонов и Шура Космодемьянский скоро отстали от товарищей, но Ярослав и Димочка Кутырин проявили в этом увлечении большое постоянство, особенно Дима, который боялся, как бы его малый рост и вялая мускулатура не стали препятствием для поступления в авиационный институт.
Решая задачу, Ярослав старался как можно меньше пачкать мелом пальцы: он проводил на доске тонкие линии, без нажима, и то и дело вытирал руку носовым платком; он старался как можно меньше пользоваться тряпкой, слишком уже забитой белой меловой пылью; от прикосновения к тряпке у Ярослава оставалось неприятное ощущение мучнистой сухости в пальцах — хотелось поскорее вымыть их.
Петя, наоборот, стирая с доски свои ошибки, пылил без стеснения — то хватался за тряпку, то за свой лоб, оставляя на нем белые отметины; он размашисто стучал мелом по доске — крошки сыпались на пол и хрустели у него под ногами. Когда все задачи были решены, Петя глянул наконец на пол и, проговорив: «Пока мать не видела, надо убрать», побежал за веником и совком.
Когда он возвратился, Зоя входила уже в класс. Ярослав задал им обоим вопрос:
— Читали о налете германской авиации на Лондон?
Он вынул из кармана сложенную и перегнутую несколько раз «Правду».
В это время Петя Симонов, увидев издали крупный заголовок «Бой в Средиземном море», попросил:
— Ярослав, давай прочти, кто там кого?
Ярослав прочел об уничтожении английским флотом группы немецких кораблей. Потом он читал информацию о военных действиях: «На африканских фронтах», «На греческом фронте», «Военные действия в Албании». Дальше шла сводка германского командования и выступление президента США Рузвельта, в словах которого грозно звучало предупреждение Германии, начавшей топить американские торговые пароходы.
Ярослав сказал:
— Черт возьми, во всем мире идет война!
— Нет, не во всем мире, — возразила Зоя. Она взяла у Ярослава газету и, расправляя ее у себя на коленях, показала: — Посмотрите заголовок передовицы: «Важнейшее средство повышения плодородия почвы», а вот, смотрите: «Весенняя путина», «Шахматный матч-турнир» — разве это война?
И Зоя, вскинув голову, посмотрела в глаза Ярославу.
— Здорово Смыслов рвется вперед, — сказал Петя.
— А вот, смотрите, расширяется улица Горького, пятиэтажный дом номер девятнадцать передвигают в глубину на двадцать метров, — продолжала Зоя.
Ярослав перебил ее:
— А Гитлеру наплевать на плодородие почвы, наплевать на то, что надо расширить улицу Горького, — возьмет и ударит в нашу сторону, а мы тут какими-то диктантами занимаемся, волнуемся о каких-то экзаменах!
— Никогда этого не будет! — сказал Петя с убеждением. — Кишка тонка у твоего Гитлера. Мы не Бельгия и не Норвегия. А потом, что ему такого у нас надо — он и так как кот в масле катается!
— Сыр в масле, — поправила его Зоя, засмеявшись, и сказала: — Кстати, Петя, застегни на вороте пуговицу.
— Что ему надо, — продолжал Петя, покорно застегнув пуговицу, — в Норвегии — селедки, в Голландии — молочко.
Ярослав перебил его:
— В волейбол ты играешь, Петя, неплохо, на турнике у тебя еще лучше получается, а вот политик ты слабоватый. А ты, Зоя, как думаешь: будет война?
— Шура говорит, что Гитлеру нельзя верить, — сказала Зоя.
— Нет, ты прямо говори — будет или нет?
— Я думаю, что не будет. Во всяком случае, мы успеем окончить школу и поступить в вуз. Ну как, ты бесповоротно решил стать пианистом?
Ярослав неопределенно покачал головой и ответил:
— Еще есть время подумать. А ты, Зоя, куда?
— Я куда-нибудь в гуманитарный. У меня тоже есть время, чтобы все это обдумать.
У Зои была одна заветная мечта, но она хранила ее пока в тайне. Чтобы отвлечь от себя внимание, она спросила Петю:
— А ты куда, детинушка, в Тимирязевскую академию?
— А куда же? Мне далеко ходить не надо, моя дорога прямая.
Зоя резко поднялась с парты и, встряхнув головою, отбросив вверх спустившуюся на правую бровь прядь волос, сказала:
— Пора, друзья мои, раскрывайте-ка ваши тетрадки! В Тимирязевскую академию принимают тоже только грамотных.
На этот раз диктант закончился сравнительно благополучно: у Пети и Ярослава оказалось только по две ошибки. Всех рассмешило то, что обе ошибки они сделали совершенно одинаковые, словно списывали друг у друга: в слове «огарок» вместо буквы «о» написали «а» и в глаголе «улыбается» поставили ненужный мягкий знак.
Когда Зоя только что закончила разбор ошибок, резко раскрылась дверь и на пороге класса появился учитель по черчению, Николай Иванович Погодин.
— Великолепно! — сказал он, обрадованный тем, что нашел-таки то, что ему нужно. — Вас здесь трое? Всех мне не надо, а Петю я у вас забираю. Авария: во втором этаже погас свет. Пошли, Петя!
И, не допуская никаких возражений, вернее, не подозревая, что они могут существовать, Николай Иванович, оставив дверь открытой, повернулся, как на оси, на каблуке своей здоровой правой ноги и, сильно припадая на левую, изувеченную еще в раннем детстве, понесся по коридору, все время кланяясь и выпрямляясь, точно он хотел вскочить на какое-то препятствие и каждый раз срывался с него.
Николай Иванович был криклив, раздражителен и резок, но именно этому человеку из всех педагогов школы большинство ребят, особенно мальчики, отдавали свою любовь и привязанность, хотя он был очень некрасив, а в минуты раздражения даже уродлив. Никто никогда не видел его узкого, острого лица в состоянии покоя: оно или сияло щедрой улыбкой сочувствия и одобрения, или же бывало перекошено болезненной гримасой, выражающей досаду; когда же Николай Иванович приходил в состояние внезапного раздражения, то на него и вовсе старались не смотреть — до того неприятным становился напряженно-пронизывающий взгляд его глаз.
Нервный, всегда взбудораженный каким-нибудь своим очередным увлечением, Николай Иванович обладал редким даром возбуждать к себе симпатию — сколько бы он ни кричал и ни раздражался, в школе не существовало ни одного человека, который бы на него обижался. Ребята тянулись к нему, быстро к нему привязывались.
Официально Николай Иванович занимал штатную должность преподавателя черчения, но это была лишь малая доля того, что делал он для школы. Семьи своей он не имел; отдавая школе все свое время, он здесь и жил, холостяком; никакого иного общества, кроме школьных ребят, Николай Иванович не искал и не хотел, и все его интересы определялись только их интересами и жизнью всей школы.
Без участия Николая Ивановича не обходился ни один вечер самодеятельности, ни один концерт: декорации, костюмы — начиная от первого замысла-эскиза до окончательного завершения — все было предметом его бурного беспокойства, порывов отчаяния и радостного умиротворения, когда опускался наконец занавес и он видел сквозь специально прорезанное отверстие, как сияют в зрительном зале физиономии рукоплещущих ребят.
Все знали, что главным режиссером-постановщиком, основным автором спектакля всегда является Николай Иванович, поэтому всякий раз, вместе с вызовом актеров, зрители неистово начинали требовать, чтобы появился на сцене и Николай Иванович — они вопили, стучали ногами, требовали, чтобы он возник перед ними.
Но в таких случаях его нигде не могли найти — он исчезал: счастливый и совершенно изнеможенный, он забивался куда-нибудь в самый неожиданный угол — на чердаке, в кабинете биологии или порой даже на приступках в подвал-котельную — и молча курил там. Ему больше решительно ничего уже не надо было, он никого не хотел видеть. В присутствии ребят он никогда не позволял себе дымить папиросой.
В помощниках Николай Иванович никогда не испытывал недостатка. Он всех любил и со всеми держался совершенно одинаково, но были все-таки и у него три кита, три любимца: Петя Симонов, Шура Космодемьянский и Дима Кутырин — на этих друзей он мог положиться, как на самого себя.
Петя неплохо столярничал: строгал, пилил, хорошо знал, как пользоваться клеем — не жиже и не гуще, мог сам наладить рубанок, наточить и развести зубья у любой пилы; он делал из сосновых реек опору-каркас под декорации, по рисункам Николая Ивановича выпиливал из фанеры ветки с листвою, целые кусты и кроны деревьев, а также всякие прочие детали и эмблемы для сцены и революционных праздников.
Шура Космодемьянский и Дима Кутырин орудовали кистью и краской.
Для того чтобы осуществить работу такого размаха, Николай Иванович приспособил под мастерскую-студию чердак — огромное сухое помещение, простиравшееся над всем южным крылом школьного здания.
Вот сюда и привел он сейчас Петю Симонова после того, как они вместе с ним заменили перегоревшие пробки на втором этаже. От паутины между стропилами и обычного чердачного хлама и мусора давно уже не осталось никакого следа; здесь хранилось от праздника и до праздника все оформление школы, сложенное вдоль стен и возле деревянных стропил, создававших на длинном чердаке впечатление стройной колоннады; здесь же был и склад всевозможных материалов: красок в банках и ведрах, кистей, белого холста и кумача, досок, теса, планок, реек и прочего строительного добра вместе с инструментами.
Пройдя с Петей Симоновым в самый дальний край чердака, где к столярному верстаку прислонилось несколько поставленных напопа́ строганых березовых досок, ярко освещенных стосвечовой лампочкой, спускавшейся на проводе, подвешенном от стропила к стропилу, Николай Иванович сказал строго, как говорил обычно Петин отец:
— Довольно, Петр, бездельничать! Давай, брат, соорудим для литературного кабинета рамку: метр на семьдесят сантиметров. Вера Сергеевна просит такую, чтоб поместился весь материал о «Войне и мире». Покажи, Симонов, на что ты способен, дело, брат, идет не о ком-нибудь, а о самом Льве Толстом!
И они вместе принялись перебирать доски, отыскивать, что среди них посуше и не перекошено, да и поменьше бы поверхность древесины пятнали темные сучки.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Зоя и Ярослав не пробыли в классе и двух минут одни. На пороге появилась Марфа Филипповна. Она сразу поняла: занятия по диктанту Зоя закончила. Принимаясь обтирать тряпкой филенки двери, Марфа Филипповна добродушно заворчала:
— Директор ругается, когда зря свет горит.
Зоя поднялась из-за парты и торопливо вышла в коридор. Она оглянулась, — Ярослав шел следом за нею. Потом они молча пошли рядом.
Впереди, через широко раскрытую дверь зала, в полутьме, был виден рояль. Зоя вспомнила последний школьный концерт. Как здорово аплодировали Ярославу, а он ломался, не хотел играть на «бис». А может быть, волновался?
Зоя несколько раз видела Ярослава на школьной сцене. Ей нравилось, как он играет. А как он играет дома, когда остается один? Каких композиторов он любит, какое произведение для него дороже всего? И Зоя подумала, что из всех мальчиков своего класса Ярослава она знает меньше, чем кого бы то ни было. Он никого не сторонится и никогда не уклоняется от общественных поручений, но в то же время какой-то углубленно отдельный ото всех и почему-то до сих пор откладывает свое вступление в комсомол.
А что, если вот сейчас попросить его поиграть — будет он ломаться или нет? Как хорошо, что в зале нет никого. Редкий случай: сегодня нет хорового кружка и никто не разучивает сольных номеров для концерта.
— Ярослав, — попросила Зоя, — сыграй что-нибудь. Ты хорошо играешь!
— Пускай будет по-твоему, — ответил Ярослав совсем просто и, направляясь в темный зал, принялся тереть руку об руку, словно они у него мерзли. Он сел перед роялем на стул, отодвинул его слегка и, устроившись поудобней, туго провел ладонями по своим жестким волосам, хотя они и без того, как всегда, хорошо у него лежали.
— Что ты хочешь, чтобы я сыграл?
— То, что ты больше всего любишь. В общем, на твой выбор, — ты же все играешь хорошо.
— Попробую, — ответил Ярослав, — только не принимай это как согласие с твоей оценкой «хорошо».
От первых же музыкальных фраз, многоголосых аккордов, которые с большой силой, энергично, ни секунды не колеблясь, вырвал своими руками из рояля Ярослав, у Зои по спине прошел легкий холодок озноба и почему-то стало трудно смотреть широко раскрытыми глазами, захотелось их сузить. Как будто бы Ярослав нарочно захватил Зою врасплох, поймал на месте и теперь уж не выпустит, пока не заставит ее выслушать до конца какую-то мучительную историю, в которой он целиком замешан и безусловно виноват; и он просит ее выслушать до конца, не произносить пока ни единого слова и уж потом произнести над ним неизбежный приговор, ее дело — какой, но он верит, что приговор будет справедливый.
Сначала это был поток музыки, всеобщее сплошное звучание, захватывающее душу и подчиняющее волю, всеобъемлющий порыв, как вихрь бури, проходящей по вершинам леса, когда в мощном гуле не слышно лепета отдельных листьев.
«Вероятно, это и есть вдохновение», — подумала Зоя. И Ярослав передал ей частицу своего состояния. У Зои возникло чувство благодарности к Ярославу.
Потом в хаосе звуков, в ропоте листвы качали выделяться отдельные голоса, появилась основная тема, перед глазами начали возникать отдельные картины. Настойчиво звучала одна и та же вопрошающая музыкальная фраза. Но ответа на мучительный вопрос не было.
Получалось так, словно Ярослав пробился, прорвался сквозь все заслоны и преграды, проломал для себя тропу в непроходимой чаще, дотянулся до заколоченной двери и рвет ее руками, чтобы открыть, переступить через порог и кого-то спасти, искупить свою ужасную вину. Но не хватает сил — дверь закрыта. И все начинается сначала, и опять звучит вопрошающая музыкальная фраза.
Да, это вдохновение!
Почему же Ярослав с такой силой откровенного признания никогда не играл на концертах? Почему? Значит, все это только для нее, для Зои? Да?
Когда он окончил, Зоя вздохнула с облегчением. Ей захотелось узнать: так ли она понимала то, что он играл, и совпадает ли ее ощущение музыки с тем, что переживал Ярослав. Поколебавшись немного, она решила его спросить:
— Скажи, о чем ты думал, когда играл, какое чувство вызывает у тебя музыка?
Ярослав нахмурился и медленно опустил на клавиатуру крышку. Казалось, он обдумывает трудный вопрос и не находит необходимых слов. Желая помочь ему, Зоя сказала:
— По-моему, ты никогда еще так хорошо не играл, как сегодня!
Не обращая никакого внимания на похвалу, Ярослав проговорил:
— Отвечу тебе словами Шумана: «Лучший способ говорить о музыке — это молчать о ней…»
Зое стало обидно, однако она преодолела в себе это чувство и задала Ярославу еще вопрос:
— Скажи, Ярослав, ты не хотел бы стать музыкантом на всю жизнь?
Ярослав ничего не ответил и начал играть новую вещь; потом он сразу оборвал игру, резко убрав руки с клавишей к себе на колени, и сказал, усмехнувшись:
— Чудаковатая ты, Зоя… Представь себе: вот ты идешь по лесу и рвешь, собираешь свои любимые цветы, а в это время кто-нибудь подойдет и спросит тебя: «Зоя, ты твердо решила всю жизнь собирать цветы?»
Зоя выпрямилась около рояля, пожала плечами и, сузив глаза, тоже усмехнулась:
— Я спросила очень просто, а ты отвечаешь с какой-то кокетливой загадочностью. Если бы мне хотелось тебя подразнить, я бы сказала, что ты, вероятно, в кого-нибудь влюблен.
— Нет уж, давай лучше я тебя буду дразнить, — сказал Ярослав и сильно покраснел. Чтобы скрыть смущение, он опустил крышку на клавиатуру и встал, шумно отодвинув стул. — Раз уж ты заговорила первая о таких делах, раз уж ты такой знаток в подобных вопросах, скажи мне: что такое любовь?
Зое стало неприятно, что она сама дала повод перейти на такой тон, и она с досадою проговорила:
— Посмотри в энциклопедическом словаре на букву «л», если тебя так интересуют эти проблемы.
— Глупая ты, Зойка, — продолжал донимать ее Ярослав, — неужели ты в самом деле твердо уверена в том, что любовь начинается с буквы «л»?
Зоя внезапно расхохоталась. Она смеялась долго и, что называется, от всей души. Тотчас же со сцены брызнул яркий свет. Это Терпачев раздвинул занавес и, просунув свою голову, закричал:
— Кто ржет здесь как сумасшедший? — хотя он сразу узнал искренний, неудержимый смех Зои. — Ведь мы же ведем репетицию, как вы не можете этого понять?! Из-за вас придется начинать этюд сначала.
Зоя зажала рот ладонью и, схватив свободной рукой Ярослава за рукав, потащила его из зала в коридор. Мать Пети Симонова сказала Терпачеву:
— Ты тоже не очень кричи, кавалер! Лучше убавь света, — сколько раз просить надо?!
Терпачев что-то там еще кричал и, топая ногами по дощатому полу сцены, кому-то грозил. Но Зоя уже закрыла за собою дверь и сказала Ярославу в коридоре полушутя, полусерьезно:
— С сегодняшнего дня я прекращаю с тобой занятия.
Ярослав спросил:
— Почему?
— Если после стольких диктантов ты до сих пор не усвоил, с какой буквы какое слово пишется, то здесь одно из двух: или я бездарный педагог, или ты совсем не о том думаешь, не тем занимаешься, чем всем нам следует заниматься в школе.
Ярослав тоже от шутки неуловимо начал переходить на серьезный тон. Глядя на Зою пристально, словно только сейчас что-то заметив в ее глазах, он сказал:
— А ведь верно Люся Уткина определила: «Зойка Космодемьянская ужасно правильная, все для нее раз навсегда ясно, словно лежит перед ней, как на тарелочке». Что же касается меня, то я серьезно не знаю, с какой буквы начинается то чувство, о котором мы пробовали говорить.
При упоминании о Люсе Уткиной Зоя брезгливо поджала губы и сказала:
— Просто я терпеть не могу, когда из мухи стараются сделать стадо слонов.
— И это все, что ты хочешь мне сказать?
— Нет, не все! Я еще раз хочу спросить: почему ты не в комсомоле! Ты еще ни разу не ответил мне серьезно.
Ярослав слегка покраснел и спросил:
— Сказать по всей совести?
Зоя молча ждала.
— Я сам понимаю, это глупо… по-мальчишески… Все это произошло без тебя, когда ты в прошлом году заболела и была в санатории. Я подал заявление, а через неделю взял обратно. Так глупо получилось. Мне дали поручение покупать театральные билеты. Потом Уткина и Терпачев начали обвинять меня, будто я нечестно распределяю билеты, пошли сплетни… Я решил — раз такие, как Уткина и Терпачев, состоят в комсомоле, то я не хочу быть вместе с ними, и взял заявление обратно… Глупо… надо было бороться. Теперь я понимаю, конечно, свою ошибку. Если бы ты в прошлом году была групоргом, я уверен, что получилось бы не так.
— Ну хорошо, — сказала Зоя, — это было в прошлом году, а почему ты тянул в этом году, я же несколько раз тебе об этом говорила?
— А теперь — поздно, теперь мне стыдно. Получается, что я лезу в комсомол по корыстным соображениям: раньше не хотел в комсомол, потому что боялся всяких поручений и нагрузок, боялся общественной работы, а теперь, на пороге в десятый класс, когда дело приближается к вузу, я вдруг спохватился, потому что в институт легче попасть, состоя в комсомоле.
Ярослав замолчал и посмотрел на Зою.
Она тоже молчала. Ярослава удивило выражение лица у Зои, не совсем ему понятное: то ли она злилась, то ли была глубоко в чем-то разочарована.
Медленно двигаясь по коридору, Зоя и Ярослав подошли к площадке; дальше надо было с третьего этажа, где был расположен их класс, спускаться к выходу вниз. Но Зое не хотелось уходить. Ярослав это чувствовал. Он тоже хотел, чтобы она не уходила. Вместо того чтобы спускаться вниз, Зоя подошла к витрине, висевшей на стене в начале коридора; здесь были выставлены на полочках за стеклами награды — кубки, значки и грамоты, призы, завоеванные отдельными классами на состязаниях по легкой атлетике.
Зоя оглянулась на Ярослава, который задумчиво смотрел на паркетины пола и совершенно не интересовался витриной.
Ярослав неожиданно для самого себя задал ей вопрос:
— Зоя, а ты дала бы мне рекомендацию?
— Что за вопрос! — сказала Зоя.
Она пристально посмотрела Ярославу в глаза, потом, встряхнув головой, как бы отгоняя от себя нерешительность, бодро заговорила:
— Знаешь что, Ярослав, давай так с тобой условимся: ты должен помочь Тасе Косачевой — у нее опять тройка по алгебре. Согласен?
— Тася обидчивая, примет ли она от меня помощь?
— Дипломатические переговоры я беру на себя. Но это еще не все, Ярослав. Ты знаешь, что в воскресенье мы должны провести серьезную работу в саду. Вся школа выходит на субботник. Я боюсь за наш класс. Терпачев начнет рассказывать анекдоты. Коркин может и вовсе не прийти — он связался с какой-то скверной компанией на улице; он вообще становится для нашего коллектива неуловимым. Слабая надежда и на Шварца. Он все время смотрит в рот Терпачеву, ловит каждое его слово, притащит с собой папиросы, начнутся перекуры в уборной.
— Я поговорю кой с кем из ребят, — сказал Ярослав.
— Вот об этом я и хотела тебя попросить. Считай это своей общественной нагрузкой.
Ярослав спросил:
— Скажи, Зоя, страшно было, когда тебя утверждали в райкоме комсомола?
— Нет, это совсем другое чувство… Это трудно объяснить… Когда тебя примут в комсомол, мы с тобой обязательно об этом поговорим, вспомним, как мы стояли вот здесь, и поговорим. Ты понимаешь, когда я ушла из райкома и несла в руке комсомольский билет, у меня было такое чувство… Нет, когда ты получишь билет, ты мне сам расскажешь о том, что переживал…
Вспомнив о доме, Зоя заторопилась.
— Пойдем вместе, — сказал Ярослав, — я тебя провожу.
— Нет, не надо! Ты мне будешь мешать, я должна бежать.
И, повернувшись, Зоя начала стремительно спускаться по лестнице, перепрыгивая, пропуская по две, по три ступеньки.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Несмотря на усталость, Любовь Тимофеевна проверяла тетрадки. Она скучала без Зои. Шуры тоже весь вечер не было дома: на него нашло вдохновение, он рисовал. Сначала ему позировала Лина, по он скоро отказался от попытки сделать хотя бы набросок, — Лина не понимала, чего он от нее ждет: то и дело вскакивала со стула, вспомнив что-нибудь недоделанное по хозяйству, и начинала возиться. Шура рассердился и начисто стер резинкой все, что успел набросать карандашом, и на оборотной стороне листа принялся рисовать голову спящего сынишки Лины. Это у него получилось быстро и очень удачно. Взглянув на рисунок, Лина приложила к щеке сложенные вместе ладони и с умилением, протяжно проговорила:
— Ой, Шура, ну в точности мой Вася, в точности, как на карточке!
Шура тоже остался доволен собой. На него нашло состояние какой-то необыкновенной душевной легкости и уверенности в себе, когда все, за что ни возьмешься, удается: можешь с закрытыми глазами пройти на огороде по бревну над канавой и не свалиться, ударить по мячу и с двадцати метров попасть в ворота, начать решать задачу по алгебре и первый же вариант окажется верным.
Ни за что не хотелось расставаться с таким состоянием, надо рисовать еще и еще! Он решил спуститься вниз и там делать наброски.
В первом этаже, под комнатой Лины, жил гармонист Саша Прохоров; он имел придурковатый вид, растерянно хлопал глазами и никогда не закрывал плотно рта; у него был высокий, суженный кверху череп и вздернутые белесые брови. Жил Прохоров холостяком, и никто толком не знал, сколько ему лет. Работал он в кустарной мастерской, выдувал там из стекла елочные украшения и серебрил их. Кроме того, Саша бойко и с большим увлечением исполнял всевозможные танцы и песни на баяне, — его часто приглашали на вечеринки, и это давало ему дополнительный заработок.
Посередине его пустой, почти голой комнаты стоял некрашеный табурет; он был для Прохорова тем же, что жердочка в клетке у канарейки: здесь Саша без у́молку заливался на своем голосистом баяне.
Взрослым жильцам дома № 7 его навязчивая музыка часто надоедала, особенно если, проиграв подряд все известные ему танцы и песни, Саша делал большую паузу и после нее начинал подбирать что-то глубоко свое, личное, складывать что-то заветное, что, казалось ему, наконец он вот-вот сейчас схватит, уловит и это будет самая замечательная, хватающая за душу музыка, которую еще никогда никто не сочинял. Часто в таких случаях Синицын спускался по лестнице вниз, заходил к Саше Прохорову в комнату и долго там оставался. Неизвестно было, о чем они разговаривали, но когда Синицын уходил опять к себе наверх, Саша Прохоров больше в этот вечер уже не играл.
Молодежи он никогда не надоедал. Его любили за отзывчивость и доброту. Если вдруг у кого-нибудь приходила охота потанцевать на улице, перед домом, он никогда не отказывал: выносил баян и усаживался на скамеечке. Но бывали с ним и такие казусы: увидев, что на огороде ребята собираются играть в футбол, он вдруг забывал про танцы, клал баян на скамеечку, прикрывал его пиджачком и, проговорив: «Подождите, я сейчас!», кидался вслед за мячом.
Рисовать Сашу Прохорова оказалось удивительно интересно: он сидел на табурете посредине комнаты, совершенно не изменяя позы, словно был профессиональным натурщиком. Легкое покачивание корпусом в такт музыке и работа руками при растягивании и сжимании меха нисколько не мешали Шуре закреплять мягким карандашом на бумаге самое главное в облике гармониста, самозабвенно ушедшего в свой мир переживаний: сильно склоненную набок голову, по-рембрандтовски контрастно освещенную голой лампочкой, свисавшей на шнуре с потолка, худую спину с резко выступающими лопатками, оттого что рубашку примял закинутый на спину широкий ремень баяна, ногу, заложенную на ногу, и прилаженный для упора на колено сверкающий перламутровыми и медными накладками огромный баян.
Сашу Прохорова совершенно не интересовало, получается что-нибудь у Шуры или нет, и когда Шура ушел из комнаты, он так же продолжал исполнять для самого себя свой привычный репертуар, номер за номером, как до его прихода. Но Шура остался очень доволен наброском, и ему захотелось во что бы то ни стало продлить это удивительное ощущение уверенности в том, что тебе сейчас все удается, к чему бы ты ни прикоснулся. Он постучал в дверь к Седовым, прямо против комнаты гармониста. В этой семье были два сверстника Шуры и Зои — Зина и Коля. Особой близости у Космодемьянских с Седовыми теперь уже не было, да и учились они в разных школах, интересы у них теперь были разные, но в детские годы Зина и Коля тоже были непременными участниками всех игр и событий вокруг дома, на улице, во дворе и на огородах — простота отношений между Седовыми и Космодемьянскими сохранялась по-прежнему.
На стук Шуры никто не отозвался; он дернул дверь — заперта. Досадно, должно быть, всей семьей ушли в кино. Седовы так всегда и делают: если уходят вечером, то, значит, все вместе. Отец сам покупает билеты на четверых, заходит по пути в кассу кинотеатра, когда возвращается с работы.
Шура постоял в полутемном коридоре, соображая, к кому бы еще пойти с карандашом и бумагой. У партизанки Александры Александровны в большой щели под дверью туда-сюда передвигался яркий свет, иногда его что-то притеняло, потом он возникал опять, как бывает, когда кто-нибудь ходит по комнате. В коридоре отчетливо были слышны грузные, неторопливые шаги. Шура поднял было руку, чтобы стукнуть в дверь, но не решился — он всегда побаивался Александры Александровны.
Вот кого интересно нарисовать, только, конечно, не просто делать набросок, а поработать подольше и попробовать сделать настоящий портрет. Лицо у Александры Александровны суровое, мужского склада, с прямым крупным носом, с резкими морщинами, которые заключают как бы в скобки большой рот с плотно сомкнутыми губами; брови — седые, широкие; глаза она неохотно поднимает на собеседника, все больше смотрит в землю и во время разговора порою оглядывается назад, словно ждет, что кто-то должен прийти к ней. Все в доме уважают Александру Александровну, хотя каждому известно, что над нею тяготеет тайный недуг: раза три в году она наглухо запирается в своей комнате и начинает в одиночестве пить. Но это ей прощают. В годы гражданской войны интервенты повесили в Архангельске ее мужа, замучили родного отца и младшую сестренку; у самой Александры Александровны от пыток остались на всю жизнь изуродованными пальцы. Но мимо чужой беды она не проходила, и у нее было несколько должников, которым она умудрялась уделять деньги из своей небольшой пенсии.
Шура еще раз поднял руку и опять не решился. Александра Александровна слышала, что кто-то остановился около ее порога, она подошла и открыла дверь. Шура сделал вид, что шел мимо.
Шура и Зоя возвратились и вошли в комнату почти одновременно.
Любовь Тимофеевна уже закончила проверку тетрадей; она вытаскивала из-под кровати таз, задвинутый туда Зоей вместе с замоченными в нем занавесками. Вместо того чтобы обрадоваться встрече с матерью, Зоя вдруг вспыхнула и резко сказала:
— Как тебе не стыдно, мама! Почему ты не отдыхаешь? Ведь это моя стирка. Не мешай — у меня свой план: завтра стирка и пол. Потом я давно уже хотела договорить с тобой — ты как-то совершенно перестала думать о своем здоровье, последнее время позже возвращаешься. По-моему, тебя эксплуатируют. Это никуда не годится. Неужели ты не можешь постоять за себя? Здесь что-то не так, какая-то ненормальность. Дай, пожалуйста, сюда таз и давай раз и навсегда условимся, что ты не будешь вмешиваться в мои дела. Кажется, это само собой разумеется!
Любовь Тимофеевна терпеливо смотрела на Зою, не скрывая доброй улыбки. Ворчание дочери мать принимала сейчас почти как ласку.
Зоя! Как она выросла за последнее время! В строгом, пристальном взгляде чуть прищуренных глаз, кажется, уже не осталось ничего детского. При вечернем свете глаза Зои утрачивали голубизну и вместе с нею свою мягкость. Сейчас на мать смотрели строгие серые глаза.
Любовь Тимофеевна позволила Зое задвинуть таз под кровать и сказала:
— А может быть, ты сначала скажешь «здравствуй»? Мы с тобой не виделись целый день.
— Нет, мама, пожалуйста, не разговаривай со мной, как с маленькой, не превращай серьезный вопрос в шутку. Честное слово, меня злит твоя беспомощность! Почему ты не поговоришь на работе?
Это был не первый разговор в таком роде. Новое в нем только то, что тон у Зои с каждым разом становился все более настойчивым, властным, иногда даже задиристым. Но Любовь Тимофеевну «ворчание» Зои не беспокоило: обижаться на это почти так же смешно, как и на то, что рукава пиджачка Шуры становятся ему с каждым днем все короче и короче. Любовь Тимофеевна смотрела сейчас на Зою и вспоминала свою раннюю молодость, угадывала в дочери свой собственный характер. Разве не так же она, желая облегчить труд матери, с каждым днем все больше и больше забирала домашнее хозяйство в свои руки, и по мере того, как росла доля ее участия в хозяйственных заботах, сама того совершенно не замечая, так же, как Зоя, поднимала голову все выше и выше; стремясь избавить мать от излишних тревог, она вместе с тем оттесняла ее, постепенно брала над нею верх. В этом сходстве было что-то бесконечно трогательное и в то же время щемящее душу острой болью. Но иного Любовь Тимофеевна и не желала бы — разве можно остановить движение жизни? И вот, глядя сейчас на Зою, она мысленно произносила: «Расти, расти, доченька, становись большой, самостоятельной и сильной!»
Нет, это ворчание Зои и ее петушиные наскоки не могут обидеть мать. Не она ли сама приучала Зою с самых ранних лет к самостоятельности и труду, к заботе о тех, кто живет рядом с нею? Когда родился Шура, ежедневным припевом в доме стало: «Зоя, ты у нас уже большая, а Шура маленький — ты должна ему помочь!» И Зоя помогала: то принесет ложку по просьбе матери, то развесит сушить на веревочке выстиранные мамой пеленки или же поможет брату надеть туфельки и застегнет ему лифчик. По мере того как брат и сестра росли, круг обязанностей Зои увеличивался и, сознавая себя старшей, а значит, более сильной и ловкой, она с радостью убирала комнату, играя «в няню», водила Шуру гулять, следила за тем, чтобы он как следует вел себя во время обеда, пришивала пуговицы себе и брату, штопала чулки, помогала маме в стряпне. Вместе с чувством долга у нее росла и любовь к труду. Что же удивительного в том, что постепенно Зоя привыкла считать самым тяжелым в жизни только безделье: она согласна делать все что угодно, но только не сидеть сложа руки и не смотреть бессмысленно на улицу, облокотившись на подоконник.
В последнее время, видя, как утомляется Любовь Тимофеевна, Зоя старалась еще больше освободить мать от домашних забот. Постепенно на Зою перешло почти все хозяйство, даже стирку она отобрала у матери. Но вместе с этим, незаметно для нее самой, изменился и самый тон ее во время разговоров с матерью: обсуждая с нею житейские, будничные дела, она становилась строже и суровей, порою позволяла себе поучать мать и часто упрекала ее за отсутствие практического, трезвого отношения к бытовым мелочам. Одного только она не замечала, потому что была все еще девочкой, хоть и семнадцатилетней, не замечала того, что в таких случаях мать почти любуется ею и продолжает про себя повторять: «Расти, доченька, становись большой и сильной!»
Шура не принимал никакого участия в разговоре. Вначале, когда Зоя, вспыхнув, начала отбирать таз со стиркой, Шура попытался было повлиять на ход событий шуткой: «Ну, если вы будете перед сном ругаться, я брошу вас обеих, перееду в общежитие, стану существовать один!» Но на его шутку ни мать, ни сестра не обратили никакого внимания. Тогда он молча подсел к столу и решил кое-что добавить по памяти к наброску «Гармонист», но, заметив, что без натуры, не видя перед собой Саши Прохорова, только портит рисунок, Шура отложил его в сторону и принялся читать журнал «Техника — молодежи», который сегодня дал ему Дима Кутырин. Шуре сразу же попалась статья «Как самому сделать лодку», с превосходными чертежами. Оставалось сообразить, как к такой лодке приладить подвесной мотор? Шура задумался, потом взял клочок бумаги, карандаш — фантазия заработала, и ему стало совершенно безразлично, что там пытается Зоя доказать матери.
Шура не мог бы ответить на вопрос: сколько прошло времени, когда он заметил, что в комнате и во всем доме стало вдруг удивительно тихо. Он отложил на минуту журнал в сторону, поднял глаза и увидел прямо перед собой по другую сторону стола Зою: подперев руками голову, она тоже читала какую-то книгу, теребя мизинцем черную прядку, сползающую на лоб.
Шура быстро, так, чтобы сестра не успела разозлиться и остановить его, и в то же время желая узнать, что же она читает, захлопнул перед ней книжку и, увидев заглавие «Овод», мгновенно раскрыл ее снова на той самой странице, где читала Зоя. Он проделал это действительно так быстро и ловко, что сестра подняла только на секунду глаза, как бы говоря взглядом: «Ты что, с ума сошел?», и, не переменив позы, продолжала читать.
Да, Зоя читала «Овод», книгу, которую принесла ей сегодня мать. Как только, во время своего досадного разговора с матерью, она увидела долгожданную книгу, которую никак не удавалось получить в школьной библиотеке (ее брали нарасхват), Зоя сразу же пожалела о том, что так долго досаждала матери. Она подошла к Любови Тимофеевне и, обхватив рукой шею, крепко прижалась лбом к ее плечу. Любовь Тимофеевна остро почувствовала всю глубину этой молчаливой благодарности дочери.
Немедленно принявшись читать «Овод», Зоя забыла обо всем на свете. Острый интерес возник у нее сразу же, как только она дошла до страницы, где упоминалось, что Джемме — семнадцать лет, то есть столько же, сколько сейчас было самой Зое; Джемма уже вела подпольную революционную работу, состояла в подпольной организации «Молодая Италия». Зою охватило смущение, близкое к чувству стыда: ей показалась ничтожной и полной вопиющих недостатков та работа, общественная и комсомольская, которую она ведет в школе. Потом, когда она отделалась от мыслей о самой себе, мешавших ей в течение нескольких минут продолжать чтение, ее поразило предательство Артура, пускай невольное, предательство будущего бесстрашного Овода, доверчиво рассказавшего на исповеди подлецу священнику о подпольной работе своих товарищей по организации. Когда Зоя дошла до этих страниц, она уже знала, что не ляжет спать, прежде чем не закончит всю книгу.
Шура не поверил бы, что она за ночь прочла книгу, если бы Зоя сама своими руками не передала ему на следующий день «Овод» и не сказала, чтобы он обязательно прочел эту книгу.
Она не слыхала, как мать перемыла посуду и убрала ее в шкафчик (а то бы Зоя не дала матери этого делать), не видела, как та вымыла на столе клеенку и улеглась спать; точно так же Зоя совершенно не заметила возни Шуры, вытаскивающего из шкафа свою постель. Кажется, Шура что-то говорил ей, но она замычала от досады, затрясла головой и наконец зажала уши ладонями, чтобы он отстал от нее.
Поздно ночью Зоя отвела глаза от книги и задумалась, стараясь определить: какая основная черта в характере Овода? В эту минуту она вдруг ощутила, какая глубокая тишина стоит во всем доме и на улице. Все спят. Который же теперь может быть час? Она хотела было встать, чтобы взглянуть на ручные часы матери, — Любовь Тимофеевна на ночь прикрепляла их у себя над головой к перекладине кровати, но побоялась разбудить ее и осталась сидеть на месте. Теперь уж и не важно было — который час, все равно она не ляжет, пока не дочитает удивительную историю Овода до конца. Зоя прикрыла настольную лампу газетой, чтобы свет не мешал матери, и продолжала читать.
Незадолго до рассвета Любовь Тимофеевна стремительно поднялась и села на краю кровати. Сначала, после глубокого сна, ей показалось, что случилось нечто ужасное, непоправимое. Прямо против нее, по ту сторону стола, сидела Зоя. Книга уже была закрыта. Зоя положила на обложку обе ладони и на них опустила голову. Плечи у нее вздрагивали, и слышны были судорожные, громкие глотки — Зоя старалась подавить рыдания, чтобы никого не разбудить. Но вот она подняла голову и убрала руки на колени. Любовь Тимофеевна узнала книгу и все поняла… Зоя только что присутствовала при казни Овода, видела смерть этого удивительного борца, революционера, была потрясена нечеловеческими мучениями, которые ему пришлось перенести, его несгибаемой волей и неистребимой жаждой бороться до последнего вздоха.
Глаза дочери и матери встретились. Любовь Тимофеевна потом никогда не могла забыть этого взгляда.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Поднявшись на третий этаж, Зоя уже издали поняла, что в классе происходит что-то необычное. Несколько девочек громко хохотали, Бояринцева даже повизгивала от удовольствия. Когда Зоя вошла в класс, Люся Уткина зашипела:
— Тсс… ш-ш-ш, — он сейчас придет… Давайте скорее положим в парту! — И, высоко подняв над головой большую бутылку с вином, проговорила торопливым шепотом: — Зоя, смотри, какой мы приготовили подарок для Коркина! Сегодня у него день рождения.
Прямо к бутылке была прибинтована оранжевой лентой с роскошным бантом записка. Лента ярко горела в лучах солнца, проникавшего через широкое окно. Но самое замечательное в подарке, так сказать, гвоздь всей этой затеи заключался в том, что девочки на горлышко натянули резиновую соску. Такие соски продаются во всех аптеках для грудных младенцев.
— Люся, пускай Зоя прочтет записку, — предложила Лиза Пчельникова.
Но несколько голосов решительно запротестовало:
— Не надо, не надо — не успеете… Скорей кладите в парту!
Подарок предназначался Коле Коркину. Мысль эта пришла в голову Люсе Уткиной. Своей выдумкой она поделилась кое с кем из девочек, те с восторгом поддержали ее, и вот купленная в складчину бутылка вина появилась в девятом «А». Мальчикам не сказали ни слова — боялись, что эффект будет сорван.
Не захотела Люся ничего говорить и Зое — не была уверена, как та отнесется к подобного рода затее. На днях Зоя слышала на ходу в коридоре разговор о каком-то подарке Коркину, но подробностями не поинтересовалась и не придала этому никакого значения. Теперь же, увидев бутылку с соской и весь подарок в «оформленном» виде, она решила, что придумано неплохо, — Коркина такой сюрприз заставит задуматься.
Дело в том, что Коркин в последнее время сильно изменился. С ним происходило что-то нехорошее. Месяц назад его отец получил длительную командировку на Дальний Восток. Как только он уехал, Коркин перестал интересоваться школой: отказывался от всяких поручений, не выполнял домашних заданий; несколько раз его видели в компании каких-то парней, перепродававших на Коптевском рынке запасные части к мотоциклам.
Мать Коли Коркина не могла следить за ним как следует, — она работала в городском отделе здравоохранения инспектором и редко возвращалась домой раньше девяти вечера. Коркин менялся даже внешне: своей походке он намеренно придавал черты развязной независимости; и без того невысокий, начал горбиться, чуть поскребывать на ходу подошвами, воображая, что это придает ему более мужественный вид; руки держал глубоко засунутыми в карманы; курил в школьной уборной; отрастил прядь каштановых прямых волос спереди, и она болталась, как подбитое крыло птицы, мешая ему смотреть. Казалось, что даже глаза у него изменились: раньше Коркин всегда был наблюдателен, смотрел на всех остро и пытливо, как бы боясь что-нибудь пропустить из того, что происходит вокруг него, а теперь он не выдерживал взгляда товарищей, и в его глазах появилось что-то ускользающе-неверное, никак не вязавшееся с его напускной развязностью.
За последнюю неделю Коркин два раза пропустил школьные занятия: в понедельник, ни у кого не спросив разрешения, самовольно ушел со второго урока, а в среду вовсе не приходил в школу. На прямой вопрос Зои, почему он не был в школе, Коркин ответил что-то несвязное о семейных обстоятельствах и постарался переменить разговор, а Уткиной и Бояринцевой признался, что проспал, — накануне у его знакомых была устроена в складчину «приличная» выпивка.
Совершенно не подозревая, что его собираются разыграть в день рождения, и даже не допуская мысли, будто кто-либо знает в школе о том, что сегодня ему исполнилось семнадцать лет, Коркин неторопливо поднимался на третий этаж, считая по пути вертикальные прутья металлических перил лестницы. Его угнетала мысль: он опять не приготовил урока по биологии. Коркин загадал: если число прутьев четное, то его не вызовут сегодня, а если нечет — биолог Язев обязательно заставит его отвечать. Прутьев на лестнице оказалось триста семьдесят — не вызовет. Коркин выше поднял голову и бодро зашагал в свой класс, не задерживаясь, против обыкновения, в коридоре, где обычно толпились ребята до начала уроков, тогда как девочки усвоили привычку задолго до звонка забираться в класс.
— Идет, идет! — сказала взволнованным шепотом Бояринцева, поджидавшая Коркина у порога. Уткина быстро записала на доске основные, положения задачи по физике; к ней подошли Лиза Пчельникова и Ната Беликова и сделали вид, что проверяют формулу; Носова и Серегина принялись повторять биологию. Остальные девочки тоже притворились, будто заняты обычными делами и не интересуются, кто входит или выходит из класса. Одна только Зоя, усевшись за стол преподавателя, не сводила глаз с Коркина; увидев ее пристальный взгляд, он, вместо того чтобы поздороваться, опустил голову.
Вот он подошел к своей парте и сел; сунул было портфель с книгами — не лезет. Он сказал с раздражением:
— Опять какая-то раззява из второй смены свои книги оставила!
Он с силой вдвинул портфель; бутылка гулко покатилась в пустом ящике парты и стукнула в заднюю стенку. Носова и Серегина прыснули, с трудом удерживаясь от смеха. Коркин сунул руку поверх портфеля, пощупал около стенки ящика и замер… Осторожно, так, чтобы не выдать волнения, он начал оглядываться сначала в одну сторону, потом в другую. Кроме Зои, никто на него не смотрел, но Коркин сразу понял, что все девчонки о нем только сейчас и думают и лишь делают вид, что отвлечены. Он быстро вытащил бутылку, но, увидев на горлышке соску, мгновенно задвинул бутылку обратно, словно обжегся об оранжевый бант.
Зоя видела, как побледнел Коркин и какое отчаяние появилось у него в глазах. Ей стало жаль Коркина. Если бы он посидел на парте еще хотя бы минуту, она бы подошла и заговорила с ним. Но он вдруг сорвался с места и вышел из класса, даже не взяв портфеля.
Раздались ликующие возгласы девочек, поднялся хохот.
— Здорово! — старалась всех перекричать Люся Уткина. — По-моему, лекарство прописано правильно!
К Зое подошла Лиза Пчельникова и смеясь сказала:
— Так ему и надо! Здорово Кольку проучили!
Зоя тоже смеялась:
— Неплохо получилось! Не хотела бы я быть на его месте.
В это время в класс ворвалось несколько встревоженных мальчиков, и впереди всех, самый высокий из них, Виктор Терпачев. Он что-то говорил, но из-за шума невозможно было ничего разобрать. Тогда Терпачев поднял руку, призывая этим жестом к вниманию, и, когда немного стихло, спросил:
— Девочки, что произошло? Коркин плачет, уткнулся в угол около уборной и плачет.
В классе стало совершенно тихо. Зоя пошла за Коркиным, но в коридоре его уже не было.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Сегодня это было первое происшествие в классе, но не последнее и не самое худшее из них. Совсем не того ждала Зоя, когда шла утром в школу.
За Ириной она не забежала. Не из-за обиды, конечно. Зоя даже не вспомнила о вчерашней вспышке капризного раздражения у Ирины и о том, как та хлопнула дверью. Теперь, после чтения «Овода», детские выходки и всякого рода житейские мелочи отодвинулись от Зои страшно далеко и казались ничтожными пустяками.
После ночного чтения «Овода» Зоя проснулась с ощущением только что пережитого душевного потрясения. Как всегда, сделала утреннюю зарядку, но обычной бодрости и подмывающей громко петь волнующей легкости после этого не почувствовала.
Пошла в школу одна, потому что надо было сосредоточиться и вспомнить все, что она намечала на сегодня сделать по комсомольской работе. Но она не могла сосредоточиться, и до самой школы ее не оставляло такое чувство, словно погиб кто-то самый близкий, драгоценный человек и что это непоправимо.
Страница за страницей перелистывала она теперь наизусть прочитанную ночью книгу, и у нее перед глазами проходили картины борьбы бесстрашного, растерзанного врагами революционера с такой яркостью, точно она всю жизнь не отходила от него ни на шаг, боролась в одних с ним рядах, и когда его расстреливали, стояла тут же, возле него.
Ни о чем другом Зоя сейчас не могла думать. Будь это в другое время, Зоей овладела бы обычная тревога за свой класс, она обязательно вспомнила бы, что в классе многое обстоит совсем не так, как того хотелось бы: не налажена проверка исполнения комсомольских и общественных поручений, дисциплина оставляет желать много лучшего, и никак не удается изжить проклятых троек, а у Носовой и Петрова, для полноты коллекции, имеется даже по две двойки. Нельзя дольше терпеть все это, надо как-то по-новому взяться за работу, необходимо добиться перелома. Так бы Зоя внушала самой себе, если бы она могла об этом думать.
Обязательно надо проверить, готовы ли к политинформации Лиза Пчельникова и Люся Уткина, ведь до понедельника остается недолго.
Лиза Пчельникова, решила бы Зоя, пускай возьмет на себя обзор событий по Советскому Союзу, а Уткина сделает сообщение о международном положении. На первой перемене можно будет поговорить с ними об основных тезисах. Материала в газетах сколько угодно.
На большой перемене надо зайти в школьную библиотеку, узнать у заведующей, как ребята выполняют поручения по дежурству: помогают ли подшивать газеты, заполнять карточки, записывать в инвентарь вновь поступающие книги, следят ли за соблюдением тишины в читальне?
Такой бы план на этот день наметила себе Зоя. Но ни о чем подобном сейчас она не могла думать. С необыкновенной яркостью, вновь и вновь вставали перед ее глазами отдельные эпизоды из необыкновенной жизни Овода; и она думала о том, как ничтожно все то, что она делает, и как это ужасно, что ей уже семнадцать лет, а до сих пор она еще не принесла людям никакой пользы.
Только добравшись до школы, Зоя начала приходить в себя и, поднимаясь по лестнице, вспомнила, что прежде всего, еще до начала уроков, надо переговорить с Тасей Косачевой о том, что ей будет помогать по алгебре Ярослав Хромов.
Но Тася Косачева опоздала, а потом произошла эта история с бутылкой и с соской, которую переживали всю первую перемену. Пришлось разговор с Косачевой отложить, а на втором уроке все были возбуждены новым происшествием.
Это был урок биологии. Ребята любили уроки Ивана Алексеевича Язева. Один уж переход из привычной, будничной обстановки класса в прекрасно оборудованный биологический кабинет вызывал у большинства ребят особое настроение сосредоточенной готовности узнать что-то новое. Уроки Язева отличались стройностью, ясностью цели и всегда проходили в спокойной и плодотворной тишине.
Здесь, в биологическом кабинете, среди всевозможных заспиртованных препаратов, возле аквариумов с рыбками и клеток с живыми птицами, морскими свинками и белыми мышами, возле растений, хорошо идущих в рост от правильного ухода за ними ребят, Иван Алексеевич особенно полно и щедро раскрывал лучшие стороны своего существа.
Физический недостаток, — одно плечо выше другого, — бросавшийся в глаза на открытом воздухе, в саду, здесь исчезал совершенно. Глаза его, глубоко ушедшие под надбровные дуги, начинали влажно блестеть и как бы излучать сосредоточенную мысль.
Не было случая, чтобы ему не хватило того времени, которое отведено на урок, хотя он никогда не смотрел на часы в присутствии учеников; ни разу еще звонок не заставал его на неоконченной фразе, и не было случая, чтобы он не успел детально объяснить то, что задавал приготовить к следующему уроку: ощущая урок как единое целое и владея его ритмом, Иван Алексеевич успевал и спросить, кого следует, и объяснить все, что считал необходимым.
Но сегодня в девятом «А» с самого утра все пошло не так, как следует. Не суждено было и Ивану Алексеевичу провести свой урок в обычной манере. Едва он произнес несколько фраз, дверь биологического кабинета широко распахнулась и на пороге появился запыхавшийся, красный и возбужденный Виктор Терпачев, вытирая носовым платком потный лоб. Быстрым взглядом он оценил обстановку и, увидев свободное место в дальнем углу, предусмотрительно оставленное для него Шварцем, прошел туда, бесцеремонно ступая на всю подошву, и опустился на край скамейки, выставив не помещавшиеся под столом ноги в проход и закинув их одна на другую.
Он не попросил разрешения войти и присутствовать на уроке.
Иван Алексеевич остановился на полуслове и, опустив глаза, молчал. В кабинете не было слышно ни единого звука. Все сидели затаив дыхание. Зоя физически ощутила духоту, как будто все эти чучела на кронштейнах, банки с заспиртованными ящерицами и рыбами, таблицы и плакаты поглощали воздух и растения выделяли сейчас не кислород, а углекислый газ.
Иван Алексеевич продолжал молчать. Он молчал долго, как будто желал этим самым предоставить Терпачеву возможность извиниться. Но Терпачев тоже молчал. Наконец Иван Алексеевич спросил его:
— Терпачев, почему вы опоздали на урок?
Терпачев поднялся и развязно ответил, заносчиво посматривая по сторонам, чтобы видеть, какое впечатление производят его слова:
— Что же особенного? Иногда бывают непредвиденные обстоятельства!
Дело в том, что он только что сломал спинку диванчика, подняв в опустевшем после звонка коридоре возню с десятиклассником Аверкиевым. Терпачев вообще всегда стремился быть поближе к старшим, пренебрегая своими одноклассниками, старался вместе с десятыми классами попасть в театр, ему иногда удавалось втереться в их экскурсию.
Терпачев убедил Аверкиева, что поломку диванчика необходимо скрыть. Но ему не удавалось замаскировать своего возбужденного состояния. К тому же в манере держаться у Терпачева сейчас сказывалась и обычная рисовка в присутствии девочек. Если бы Иван Алексеевич спрашивал его в присутствии одних мальчиков, Терпачев держал бы себя иначе. Особенно важно было ему сохранить собственное достоинство на глазах у Люси Уткиной.
Ответив Ивану Алексеевичу, Терпачев, не ожидая, будет ли тот еще задавать ему вопросы или нет, снова сел, откинувшись на спинку и опять заложив ногу на йогу.
— Я вас прошу сесть как следует, — спокойно сказал Иван Алексеевич, — и после окончания урока подойдите ко мне!
— Хорошо! — сказал Терпачев не вставая, все тем же заносчиво-снисходительным тоном и пожимая плечами, как бы призывая присутствующих быть свидетелями чудаковатости педагога; ноги он убрал под стол.
Словно стремясь поскорее очистить атмосферу от чуждого духа развязности и нахальства, Иван Алексеевич попросил:
— Дежурный, откройте, пожалуйста, окно — сегодня очень тепло.
Шура Космодемьянский постарался как можно скорее взобраться на подоконник и опустил верхнюю фрамугу оконной рамы. Ворвалась свежая струя воздуха. Все вздохнули с облегчением.
На этом дело еще не закончилось.
Едва Иван Алексеевич приступил к объяснению задания, которое он собирался дать на дом, Лида Бояринцева и Ната Беликова громко прыснули от трудно сдерживаемого смеха. Дима Кутырин внятным шепотом сказал: «Даже шкелет осуждает Витьку!» Все посмотрели на человеческий скелет, стоявший около стены у окна, и тут уж рассмеялся весь класс.
Нижняя челюсть у скелета, укрепленная на медной пружинке, вздрагивала и слегка покачивалась под сильной струей воздуха, врывавшегося в комнату через открытое окно. Создавалась полная иллюзия, что скелет недоволен и что-то бормочет. Зоя тоже не могла удержаться от смеха и, по своему обыкновению, — раз уже это с нею случилось, — искренне расхохоталась от всей души.
Язев сначала не понял, что происходит, он сильно побледнел и поднялся со стула. Болезненно сведя брови к переносице, он не поднимал головы и смотрел на стол, ожидая, что будет дальше. Потом он поднял голову и, поняв наконец, в чем дело, показал Шуре Космодемьянскому жестом руки, что надо отодвинуть скелет от окна. В классе стоял шум, но Шура правильно понял жест Ивана Алексеевича, и челюсть у скелета больше не тряслась.
Когда стало тихо, Иван Алексеевич сел и сказал с горькой улыбкой, слегка наклонив голову в сторону скелета:
— У Терпачева появился опасный конкурент по части умения отнимать у класса драгоценное время.
С этой минуты урок больше ничем не нарушался. Правда, Иван Алексеевич не успел никого вызвать, но заданный им на следующий раз материал он объяснил с обычным своим совершенством, опять сумел увлечь ребят, и они слушали его с напряженным вниманием.
Раздался звонок. Иван Алексеевич закрыл книгу, но не ушел из кабинета. Из ребят тоже никто не вставал — ждали, как поведет себя Терпачев и что ему скажет Иван Алексеевич.
Поднялся с места один только Терпачев; он подошел к Язеву уже не такой небрежной походкой, как можно было от него ожидать, — он понимал, что для него сейчас наступает серьезное испытание: глаза всех были устремлены только на него; во что бы то ни стало нужно не потерять собственное достоинство. Он ни на одну минуту не забывал, что Люся Уткина тоже смотрит на него. Он молча остановился, но так как Иван Алексеевич тоже не произносил ни слова, ему пришлось сказать:
— Иван Алексеевич, вы просили меня подойти после урока.
— Да!
Обратившись к остальным, Иван Алексеевич тихо сказал:
— Товарищи, урок закончен, — кто хочет, может идти.
Но никто не вставал. Все ждали. Иван Алексеевич, взглянув на Шуру Космодемьянского, проговорил:
— Я попрошу дежурного принести стул из учительской.
Пока Шура ходил за стулом, никто не вышел, все продолжали ждать, что будет дальше, и сидели молча. Терпачев слегка пожал плечами и, обернувшись, обменялся взглядом с Люсей Уткиной, как бы спрашивая ее с недоумением: «Это что еще за комедия?» Лицо у Люси покрылось красными пятнами; ей было стыдно за него, она не сомневалась в том, что Иван Алексеевич собьет с Терпачева фатоватый, развязный тон и он останется в дураках.
— Садитесь! — сказал Иван Алексеевич, показав рукой на стул, который в двух шагах от него поставил Шура Космодемьянский.
— Нет, я постою, — отказался Терпачев, сделавшись вдруг угрюмым, понимая, что стул для него теперь самое опасное место.
— А я прошу вас сесть! Вы уже совершенно взрослый человек. Сейчас у нас происходит уже неофициальная, так сказать, беседа, и мне было бы неудобно разговаривать с вами сидя, в то время как вы стоите.
Терпачев еще раз пожал плечами и сел на край стула, но потом решительно подвинулся к спинке стула и сел удобнее.
По-прежнему никто не уходил из кабинета.
— Скажите, Терпачев, вы когда-нибудь у себя в семье, в разговоре среди ваших домашних, среди ваших близких, позволяли употреблять площадную брань, уличные выражения?
— Странный вы задаете вопрос! — сказал Терпачев, заливаясь краской и поднимаясь со стула. — Конечно нет! — Он больше уже не садился и ни с кем не переглядывался.
А Иван Алексеевич продолжал:
— Почему же вы этого не позволяете себе?
Терпачев молчал, совершенно пристыженный, хотя Иван Алексеевич ничего особенного еще и не сказал.
— Вы молчите? — спросил Иван Алексеевич, больше не предлагая ему сесть. — Тогда я сам отвечу за вас: вы не делали этого, не употребляли в кругу семьи площадной брани потому, что для вас уже ясно, что такое поведение дома недопустимо. На эту ступень культуры вы уже поднялись. Но следующая ступень для вас пока недоступна. Вам только предстоит подняться на нее. И вот, когда вы подниметесь на следующую ступень культуры, тогда вы поймете, что делать вид, будто, кроме вас, никого на свете больше не существует, недостойно культурного человека. А теперь, — закончил Иван Алексеевич, — прошу вас взять этот стул, на котором, хорошо, что это вы сами почувствовали, сидеть вам еще рано, и отнести его в учительскую.
Терпачев получил то, что он заслужил, однако история с поломкой диванчика осталась неразоблаченной. Никто не видел, как это произошло, но подозрения упали на ни в чем не повинного ученика из восьмого класса, Колю Булавина, должно быть потому, что это был известный во всей школе драчун, не пропускавший ни одной перемены, чтоб с кем-нибудь не повозиться; его отцу не один раз приходилось возмещать убытки, причиненные Булавиным школе: то он каким-то образом умудрился во время возни выдавить плечом стекло, хотя подоконники в школе очень высокие, то сорвет со стены головой гравюру или же опрокинет подставку и разобьет горшок с цветком. Но Коля никогда не скрывал своих проделок — он был смелым и правдивым мальчиком. Однако на этот раз было слишком много улик против него, и директор допустил ошибку: он не поверил «честному комсомольскому слову» Булавина и потребовал, чтобы Коля пришел вечером вместе с отцом или матерью. В первый раз увидели в школе Колю Булавина с заплаканными глазами.
А Терпачев молчал.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Ирина Лесняк два раза забегала к Космодемьянским, но смогла только потрогать висячий замок на двери. Комната Лины тоже была заперта.
Уходить ни с чем не хотелось. Много накопилось событий — надо бы как следует обо всем поговорить — без всяких помех, досыта. Последние их встречи с Зоей происходили урывками, на ходу, — разве за несколько минут успеешь что-нибудь сказать друг другу?
Зайдя в третий раз, Ирина застала одного только Шуру. Он сказал, что Зою задержали в школе комсомольские дела: в классе появились двойки, а, кроме того, Зоя боится, как бы не сорвалась работа в саду в ближайшее воскресенье.
Шура предложил Ирине:
— Посиди, Зоя скоро появится, а я хочу попробовать тебя нарисовать. Надеюсь, ты не возражаешь?
Прежде чем дать ответ, Ирина сразу же начала поправлять свои жгуче-черные волосы, пушистые и непокорные, оттого что они вились мелкой, как дрожащая проволочка, волной и плохо укладывались в прическу. Ища зеркало, она по привычке пробежала взглядом по стенам, хотя давно уже знала, что висячего зеркала у Космодемьянских нет. Ирине было приятно, что Шура предлагает ей позировать, и она знала, что ее считают хорошенькой, но из кокетства спросила:
— Неужели ты не можешь найти сюжет более интересный?
— Могу, — сказал Шура, не задумываясь.
Ирина пожала плечами от досады на то, что Шура не воспользовался случаем сказать ей что-нибудь приятное. Она даже хотела назвать его «Ведмедь», как все его часто называли, однако побоялась возможных осложнений, уж очень ей хотелось, чтоб он сделал ее портрет. Ирине нравились рисунки Шуры, она верила: у него обязательно получится хорошо.
— Дело в том, — сказал Щура, отлично понимая, что его ответ по поводу сюжета Ирине не мог понравиться, — дело в том, что у меня с тобой в данный момент редкое совпадение интересов: тебе надо ждать Зойку, а мне тренироваться. Договорились?! Что касается сюжета, то вы обе — и ты и Зойка — для художника находка.
Ирина все еще колебалась. Она знала, что за этим комплиментом может в самый неожиданный момент последовать какой-нибудь обидный эпитет или колючая шутка. Шура любил поддразнивать Ирину и Зою. Множество раз он вносил ералаш в их мирные беседы, дергал за волосы, ставил подножки, швырялся подушками, — им надоедало усмирять его, приходилось уходить и продолжать оборванную беседу на улице. В школе застенчивый и от этого часто неловкий, Шура отводил душу дома.
Как только Шура сказал, что она и Зоя — находка для художника, Ирине очень захотелось, чтобы он подробнее объяснил, что именно в ее лице интересно художнику, но, боясь прямым вопросом вызвать насмешку, сначала заговорила о Зое:
— Да, Зоя красивая! Если бы я была художником, я бы нарисовала Зою, когда она хохочет во все горло. Когда она смеется, — невозможно удержаться.
Подправляя острие карандаша лезвием безопасной бритвы, Шура сказал:
— У Зойки трудное лицо: сколько я ни пробовал — почти никогда ничего не получается. Черты лица нельзя назвать правильными, а в то же время она определенно красивая, и никак не поймешь, в чем дело.
Пододвинув стул Ирине, он продолжал:
— Садись вот здесь. Пускай свет падает слева, хотя тебя где ни посади — все равно будет хорошо. У тебя устойчивые черты лица: если даже ты будешь реветь, все равно останешься красивой. Но лицо у тебя проще, чем у Зойки, понятнее. Если не будешь вертеться, у нас с тобой что-нибудь должно получиться.
— Можно читать книгу? — спросила Ирина, самолюбие которой было теперь удовлетворено.
— Не стоит. У тебя красивые глаза. Ты лучше смотри прямо на меня или, если стесняешься, немного повыше.
Ирина покраснела от удовольствия так сильно, что чудесный румянец проступил сквозь ее очень смуглую кожу.
Шура спросил:
— Скажи, дедушка и бабушка не были у тебя цыганами?
— А что?
— Ничего. Теперь уж не вертись. Как зовут того пацана, что вчера был с тобой в кино?
— А что, ты его тоже хочешь нарисовать?
— Не вертись! Давай, девушка, помолчим!
Но молчать Ирине всегда было трудно, а теперь, когда Шура, словно нарочно, коснулся новой темы, стало просто невыносимо.
— Шура, можно задать только один вопрос?
— Давай, если очень важный, а лучше — помолчи.
— Скажи, как по-твоему, может существовать дружба между девочкой и мальчиком?
— Почему же! — ответил Шура. — Существует же дружба между собакой и кошкой.
— Шурка, какой ты все-таки нахал! Неужели ты так и не способен вести серьезный разговор?
— Сейчас тебе отвечу, — сказал Шура и надолго замолчал. Прикусив нижнюю губу, он делал первоначальный набросок головы Ирины, намечая пока только контур, отыскивая лишь общие пропорции. — Сейчас тебе отвечу, — повторял он время от времени. Ирина перестала уже ждать, когда он наконец ответил: — Присущее мне от рождения чувство справедливости лишает меня возможности вести с тобой серьезные разговоры. Потому что…
Но Шура опять замолчал и сосредоточился. Общий овал лица был найден, теперь надо было едва уловимыми штрихами карандаша разбить его на части: найти место для бровей, для кончика носа и подбородка, оставив пока место для рта, для губ пустым. Увидев, что Ирина приоткрывает рот, Шура предупредил ее:
— Помолчи, девушка! Если ты пришла сюда за серьезными разговорами, то сиди и терпеливо жди, когда придет Зойка.
— Неумно!
— И не надо! Я же только что объяснил мою принципиальную установку на серьезный разговор с тобой. А в общем, помолчи — ты же видишь — я работаю.
Он чуть-чуть наметил, пока лишь приблизительно, место для ее яркого рта с немного выступающей вперед и как бы слегка припухшей нижней губой и начал отыскивать форму затененных глазниц, откуда должны поблескивать угольно-черные глаза с голубоватым цыганским белком. Шура увлекся и долго молчал. Где-то глубоко в сознании у него затеплился маленький огонек, зарождалась уверенность, что он работает правильно: перед ним теперь не просто белый лист бумаги, что-то уже начинает отделяться от его плоскости, заявляет о своем желании существовать самостоятельно.
А Ирине было трудно сидеть, ей хотелось говорить, и Шура то и дело просил ее: «Не вертись!», «Сиди смирно, а то получится два носа!», «Смотри в эту сторону, я хочу, чтоб на портрете у тебя в глазах была хоть какая-нибудь мысль!»
Ирина сидела долго, у нее уже затекли ноги, ей мучительно хотелось повернуть голову в другую сторону и потянуться всем телом. Неожиданно она сказала:
— Его зовут Виктор!
Шура даже не сразу сообразил, что это относится к его собственному, давно уже забытому вопросу о том, с кем Ирина была в кино. Он даже на минуту опустил руку с карандашом. Но, вспомнив, в чем дело, опять продолжал рисовать и медленно выговаривал слова:
— «Виктор», значит — «победитель» в переводе с древнего языка. Если я что-нибудь понимаю в вопросах психологии, то побежденная, выходит, ты?!
Ирина едва сидела на стуле, — у нее болела шея и начала ныть спина, она открыла было рот, чтобы попросить устроить перерыв, но Шура строго сказал:
— Закрой рот, ты мне мешаешь!
— Один вопрос…
— Какой может быть вопрос, когда все абсолютно ясно: девушка, ты переживаешь опасный возраст!
— Ну, знаешь ли что, Шурка, ты определенно нахал! — Ирина вскочила со стула и тотчас же, сморщившись от боли, присела на занемевшие ноги; по мускулам, как пузырьки в газированной воде, побежали мелкие, булавочные уколы.
— Ирина! — взмолился Шура. — Прошу тебя, будь умницей — еще только минут десять, а завтра устроим второй сеанс…
Но Ирина уже открыла дверь и, переступив порог, так ею хлопнула по обыкновению, что дверь открылась опять. Как бы воспользовавшись этим обстоятельством, Ирина вернулась и крикнула, не выпуская скобы из руки:
— Передай Зое, что я бы бросилась под трамвай, если бы у меня был такой брат, как ты!
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Зоя была недовольна собой и всей своей комсомольской работой.
Она решила посоветоваться с активом. Время от времени Зоя обсуждала дела своего класса с комсоргом школы, секретарем школьного комитета. Иногда на собрании комитета даже ставились наиболее важные вопросы, связанные с комсомольской группой девятого «А». Но чаще всего текущие, неотложные дела Зоя, не откладывая, обсуждала с наиболее активными комсомольцами, своими одноклассниками. Обычно это были Лиза Пчельникова, Дима Кутырин и Петя Симонов. Довольно часто на этих летучих совещаниях присутствовал и Шура Космодемьянский. Сегодня она тоже попросила их остаться, не успела предупредить только Шуру — он сразу же исчез после уроков. Многое хотелось бы ей обсудить, но прежде всего надо договориться о работе в саду, ведь до воскресенья остался всего только один день.
Из всех школьных товарищей Лизу Пчельникову Зоя ценила больше других: в любом деле на нее можно положиться не задумываясь, она никогда не подведет, Лиза верна своему слову.
Некоторых сбивала с толку ее скромная молчаливость и сдержанность, — они не понимали, что за этим скрывается внутренняя сила, — но Зоя давно ужа полюбила эти черты характера Лизы.
В шестом классе мальчишки прозвали Лизу «монахом»: она носила подрезанные, но все-таки длинные, до самых плеч, темно-русые волосы, с пробором прямым, будто проведенным по линейке.
В седьмом классе прозвище переделали на более ласковое: «монашка»; в восьмом — оно совсем отвалилось от нее, как шелуха, — Лиза принадлежала к числу девочек, дразнить которых неинтересно: она никогда не обижалась.
Прическа делала худенькое, продолговатое лицо Лизы с тонкими губами еще более вытянутым, зеленовато-карие глаза смотрели из-под малозаметных, тоже тоненьких бровей всегда внимательно и спокойно. Лиза никогда ничему не удивлялась. Вообще все черты ее лица, походка, все жесты и движения выражали невозмутимое спокойствие и внимательность во всех обстоятельствах жизни.
О своей внешности Лиза никогда не думала, — не больше чем о книжке, на которой — хочешь не хочешь — необходимо менять обертку; но всегда ходила — и дома и в школу — чистенькая, аккуратная, в наглухо закрытом платье. Два раза в неделю она подшивала под высокий ворот белую, накрахмаленную каемочку.
Училась Лиза хорошо, но никогда не была круглой отличницей. Ее характер не выделялся среди одноклассников какой-либо яркостью и оригинальностью, зато основной чертой этого характера была безупречная добросовестность в каждой мелочи: Лиза делала все неторопливо, и времени у нее на все хватало. Еще никогда никто не пришел в класс раньше Лизы; все книги у нее, даже самые тоненькие, обернуты чистой бумагой, тетради — в образцовом порядке.
Шура Космодемьянский, все окружающее воспринимавший через свое отношение к живописи, верно подметил, что Лиза Пчельникова похожа на комнатную девушку-служанку с картины Перова «Утро молодой хозяйки». Он же дома сказал, что Лиза напоминает ему сибирскую бабушку, к которой мать отвозила однажды в раннем детстве Зою и Шуру на все лето: строгую, молчаливую, справедливую и работящую.
В седьмом классе Лиза брала поручения главным образом по библиотеке: заполняла карточки, подшивала газеты, разбирала новинки и записывала их в инвентарную книгу, дежурила в читальне. В восьмом Лиза была старшим санитаром класса: следила за чистотой, чтобы дежурные сдавали класс второй смене в образцовом порядке; контролировала поливку цветов на окнах.
В девятом классе Лизу выбрали старостой. Казалось, кто же станет слушаться девочку с таким тихим голосом, которую не волнуют никакие страсти? Однако дела у нового старосты класса пошли хорошо.
Другим деятельным членом комсомольского актива был Дима Кутырин, хотя всегда казалось, что сидит он на совещаниях без всякого удовольствия.
Как бы для того, чтобы восполнить недостаток своего роста и не ощущать себя на две головы ниже других, Дима Кутырин во время совещаний чаще всего сидел или на подоконнике, или на столе. И в том и в другом случае он смотрел со скучающим видом в окно: обычная для Димы Кутырина пружинистая живость, насмешливая словоохотливость, непоседливость затухали на время, он словно досадовал на то, что его зачем-то задержали после уроков: что, мол, здесь еще обсуждать, о чем думать, когда и так все ясно?
Однако ни одного собрания Дима Кутырин не пропустил и к комсомольской работе относился с большой добросовестностью. Он быстро все схватывал, но пренебрегал доказательствами; его мысли и суждения порою казались непоследовательными, скачущими, клочковатыми, но потом всякий мог убедиться, что у Димы Кутырина всегда есть своя логика и твердая линия, от которой он никогда не отступит.
В трудных обстоятельствах, когда требовалось быстро найти выход из положения, чаще всего именно Дима Кутырин подсказывал верное решение.
Больше всего производил шума на собраниях Петя Симонов. Он не вникал в существо вопроса, не вдавался в обсуждения, скоропалительно делал выводы, а потом легко отказывался от своих предложений. Останавливать Петю было бесполезно — прежде чем он не разрядит свою энергию, он никому не даст говорить. Но в конце концов, сколько бы он ни противоречил, когда принималось решение, Петя тоже поднимал свою руку, если Зоя голосовала «за»; в этом отношении он был преданным ей до конца.
Сегодня тоже, едва собрались в пионерской комнате, Петя Симонов первый крикнул, прежде чем Зоя смогла объяснить, зачем она собрала актив:
— Определенно Витька Терпачев — хам! Как он держался с Иваном Алексеевичем?! Доиграется до персонального дела! Я предлагаю ставить о нем вопрос на ближайшем собрании. Зачем откладывать? Ребята, я предлагаю проработать Витьку завтра!
— Зоя, наведи порядок! — сказал Кутырин. — Какие там у тебя будут вопросы? Мне надо успеть в театральную кассу.
Дима выполнял поручения по хозяйственной части: закупал тетради, чертежную бумагу, учебники, доставал билеты в театры, на концерты, в кино и на лекции.
— Вопросов много, — сказала Зоя, — но прежде всего — сад! Послезавтра вся школа выходит работать на участок. Надо, чтобы наш класс не оскандалился!
Симонов перебил Зою:
— Главное — обезвредить Витьку Терпачева, он своими анекдотами все дело изгадит.
— Подожди, Петя! Нам надо распределить между собой обязанности.
Дима сказал:
— Как работают стахановцы? Приходят к станку, а инструмент уже весь под рукой, на месте.
— Что ты предлагаешь? — спросила Зоя.
— Ты говорила — Язев указал наше место?
— Да! Наш участок от угла вдоль тротуара и до входа в школу.
— Тогда все ясно! — И Дима предложил: — Петя живет, можно сказать, прямо в саду, — поручим ему, чтоб весь инструмент до нашего прихода был уже на месте, с самого утра. Да не в куче, а чтобы все было в порядке: лопаты, грабли, носилки…
— Правильно, — согласился Петя. — Только давайте помощника — ведь там одних лопат будет две тонны, а нести их надо со склада через весь участок.
— Рано стонать начинаешь! — упрекнул его Кутырин.
— Петя совершенно прав! — сказала Зоя. — Иначе он не успеет до нашего прихода. Дадим ему Ярослава Хромова. Хромов живет рядом со школой. Кроме того, Хромову вообще надо давать больше поручений — он решил подать заявление в комсомол.
— Догадливый мальчик, — сказал Дима. — Если бы он это сделал два года назад…
— Брось, Димочка, — сказал Петя. — Ярослав хороший парень.
Молчавшая до этих пор Пчельникова внесла свое предложение:
— Обязательно надо, чтоб на участке была вода. А то такие, как Бояринцева и Ната Беликова, то и дело будут бросать лопату и бегать за водой в школу.
Зоя, улыбнувшись, внимательно посмотрела на Петю, и он понял, чего она от него хочет.
— Вода будет! Мать поставит на табурете прямо на участке.
— А я, — сказала Зоя, — прихожу раньше всех и, не дожидаясь, пока соберутся все, каждому покажу на месте, что нам предстоит сделать.
— Да уж конечно, не митинг же нам там устраивать, — заметил Кутырин, по обыкновению глядя в окно.
— Зоя, зайди, пожалуйста, по пути за мной — мне тоже надо быть раньше других, — попросила Лиза.
— Зайду! А теперь давайте обсудим: нужна листовка-молния или нет?
Петя пришел в восхищение:
— Здорово! Я предлагаю посредине участка воткнуть деревянную лопату и прямо на лопату наклеивать через каждые полчаса молнию.
Лиза выразила сомнение.
— А не будет ли отвлекать? Ребята станут толпиться около листовки, начнутся около нее пересуды.
Но Пете все больше и больше нравилась идея выпускать на участке листовку. Еще не было написано ни одного слова, а он уже злорадно посмеивался, как будто листовка уже готова, наклеена и он ее читает. Петя сказал Кутырину:
— Заготовь карикатуры на этих голубков. — Он имел в виду Люсю Уткину и Терпачева. — Ты нарисуй так: Люська и Виктор стоят рядом, а физиомордии ихние закрыты лопатой. Каждый поймет, чем они там за лопатой занимаются.
Зоя резко запротестовала:
— Ни в коем случае! Никакого зубоскальства, а то действительно все будут отвлекаться от работы. Вообще Лиза права: не надо никого отвлекать. Лучше весь материал мы дадим в стенгазете. Не надо листовки!
Дима нетерпеливо сдвинул на руке обшлаг курточки и, взглянув на часы, стал торопить Зою:
— Давай, давай, Зоя, дальше! Какие еще вопросы?
Но Зоя не скоро отпустила товарищей, — не затем она собрала их, чтобы через десять минут махнуть рукой на все, что было так важно для класса.
Посоветовавшись, решили, что пора устроить собеседование на тему о выборе профессии, хотя Кутырин отнесся к этому иронически — ведь он еще в седьмом классе сделал выбор: авиационный институт. Петя тоже ясно представлял свою дорогу — в Тимирязевскую академию. Но многие, в том числе и Пчельникова, несмотря на определенность ее характера, еще не отдавали себе отчета, куда их влечет. Таким надо помочь разобраться в самих себе чем раньше, тем лучше, необязательно ждать, когда они перейдут в десятый класс.
Договорились перестать церемониться с Люсей Уткиной и Терпачевым: надо заставлять их тоже выполнять поручения — пусть они пригласят для беседы о выборе профессии преподавателей: одного — с физико-математического факультета МГУ, другого — из пединститута.
Решили также устроить очень важную перед экзаменами беседу на тему «Как соблюдать режим дня?» Зоя взялась уговорить Ивана Алексеевича Язева, чтобы он сам провел эту беседу.
Самым последним встал вопрос о Коркине, на которого так неожиданно подействовала бутылка с соской.
— Черт с ним! — сказал Петя Симонов. — Пускай помучается! Марает класс, а мы должны нянчиться с ним? Может, прикажете пойти к нему просить прощения?
Так же думал и Дима: «Пускай Коркин подольше переживает «подарок», — иначе пропадет весь эффект». Совершенно иного мнения придерживались Лиза и Зоя: нельзя оставлять Коркина одного, необходимо сегодня же поговорить с ним; он должен понять — класс не отворачивается от него, наоборот, хочет помочь ему и требует, чтобы Коля отказался от приятельских отношений с подозрительной уличной компанией.
В раздевалке Зоя увидела, как Николаю Ивановичу Погодину восьмиклассники помогают натянуть между колоннами вестибюля огромное полотнище-плакат с призывом:
«В воскресенье дружно, все, как один, выйдем на работу! Пускай вокруг нашей школы зашумит зеленый сад!»
У Зои, как говорила она в детстве, «защекотало что-то на душе». Стало радостно и необыкновенно легко.
Она шла мимо решетки, отгораживающей школьный участок от тротуара, и, глядя сквозь железные прутья на обломки кирпича и строительный мусор, несколько раз повторила про себя: «Здесь зашумит наш зеленый сад!»
В таком приподнятом настроении, уверенная в своих силах и не сомневаясь, что Коркин поймет ее как следует, Зоя быстрым шагом завернула в Вокзальный переулок и направилась к новому четырехэтажному дому.
Квартира Коркиных находилась в первом этаже. Коля увидел Зою из окна раньше, чем она позвонила.
Зоя совершенно отчетливо слышала, как Коркин на цыпочках подошел на ее звонок к двери, затаился, но не открывал. Зоя не сомневалась, что слышит его дыхание. Она знала, что, кроме него, никого в квартире быть не может: мать на работе, отец — в командировке. Зоя сказала:
— Коля, открой! Ведь это же глупо! Нам надо поговорить с тобой. Меня прислали к тебе товарищи.
Но Коркин молчал. Скрипнула половица, слышно было, как он прошел через переднюю в кухню и закрыл за собой дверь.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Ирина долго ждала Зою в этот вечер. От напряженного ожидания она два раза даже обманулась: ей показалось, что Зоя стукнула пальцем в оконную раму на кухне. Ирина не посмотрела бы на Шуру и опять поднялась бы наверх к Космодемьянским, но ей стало обидно, что Зоя может так долго обходиться без нее. Ирина решила выдержать характер: пускай теперь подружка зайдет за нею, к Зое она не будет больше бегать.
Зое самой очень хотелось поговорить с Ириной, но после бессонной ночи, проведенной за чтением, она чувствовала необычайную усталость. Как только Зоя возвратилась домой, раздосадованная бесплодной попыткой встретиться с Коркиным, она против своего обыкновения легла на десять минут отдохнуть и незаметно для себя уснула.
Это было так необычно, что, приподняв через час голову с подушки, Зоя не могла сообразить, что же с ней произошло? Даже комната показалась ей чужой. Сначала Зоя подумала: уже утро — пора идти в школу; но, взглянув на ствол сосны за окном, удивилась необычному для утренних сумерек освещению и только тогда вспомнила, как все произошло. Болела голова. Сон не освежил ее.
Мать еще не приходила — опять задержалась на работе. Шуры тоже не было дома — куда-то ушел и бросил на столе раскрытую тетрадку по алгебре, опять не убрал за собой. Очищая на столе место, чтобы засесть за уроки, Зоя увидела оставленную Шурой записку:
«Спорю на что угодно — задачу тебе не решить! Оставляю тетрадь на столе. Можешь воспользоваться добротою своего брата!!»
Вместо подписи Шура нарисовал миниатюрную картинку: большеухий щенок поймал за хвост кошку.
Зоя положила тетрадь Шуры на этажерку и даже не заглянула в нее. Не было еще случая, чтобы Зоя списала что-нибудь у Шуры. Решать вместе с ним на равных правах или пользоваться его помощью в порядке консультации — это да! Он ведь постоянно советуется с нею по вопросам литературы. Но неужели Шурка в самом деле воображает, что она воспользуется готовым решением задачи?! Мальчишка!
Однако задача оказалась невероятно трудной: сколько Зоя ни билась над ней, ничего не получалось. Тогда она применила обычный свой способ — переключилась на другой предмет.
Иногда это очень помогает: после истории или географии вернешься снова к физике или алгебре, и вдруг задача, которую раньше не понимала, станет отчетливо ясной, точно на нее кто-то навел луч прожектора.
Но сегодня и это средство не помогло. Зоя выучила историю, сделала перевод с немецкого на русский и затем с русского на немецкий. А когда вернулась к алгебре, опять ничего не получилось.
Зое захотелось пить, но она сказала себе, что не выпьет ни одной капли, прежде чем не решит задачу, если бы даже для этого ей понадобилось просидеть всю ночь до рассвета.
Неужели Шурка восторжествует? А сам, вероятно, даже не принимался за немецкий перевод. Зоя достала Шурину тетрадь с этажерки. Невероятно, но факт! — как любил выражаться, кстати и некстати, Димочка Кутырин: Шура успел сделать перевод и с немецкого и с русского на немецкий. Однако Зоя, к своему удовольствию, сразу нашла в его переводе три грубые ошибки. Тогда она оторвала от Шуриной записки текст и на оставшемся чистом месте вписала убористым почерком так, чтобы вместо подписи тоже остался внизу лопоухий щенок, схвативший кошку за хвост:
«Запомни раз навсегда: Mutter пишется через два «t», Ring — мужского рода, следовательно требует der, а sprechen в третьем лице становится spricht!»
Однако это торжество над Шуриной немощью в вопросах немецкой грамматики ни на одну йоту не сдвинуло Зою в решении задачи. Она зашла в тупик, а вот Шурка решил эту же самую задачу, и Зоя не сомневалась, что он решил правильно.
Очень хотелось пить. Но она не дотронется до воды, пока не решит задачу! В комнате Лины заплакал ребенок. Зою потянуло туда: отобрать бы его у Лины, прижать его к себе и спеть колыбельную песенку… Но она запретила сейчас себе и это. Однако решение задачи все равно не двигалось с места.
Зоя вскочила со стула, резко его отодвинула и начала быстро ходить по комнате — от стола до двери и обратно. «Какая я идиотка! — бичевала она себя. — Какое я ничтожество! И я что-то еще воображаю о себе, поучаю других!»
Она подошла к столу и захлопнула задачник. «Стирать белье, мыть пол — вот твое настоящее дело!» Нагнулась к лежавшему у порога старенькому коврику, о который она никак не могла приучить Шуру как следует вытирать ноги, сорвала его с места с такой силой, будто он был прибит к полу гвоздями, и побежала во двор выколачивать из него пыль.
Лестницу она, как зазубренную наизусть, протараторила, гулко выстукивая ногами, сверху донизу опять с зажмуренными глазами, но за дверью, уже на приступках наружной лестницы, споткнулась и чуть было не упала. Это ее рассмешило. Она обошла вокруг дома и принялась выколачивать коврик о ствол сосны.
Легкий ветер относил пыль в сторону. Ударив несколько раз о сосну, Зоя остановилась. Она убегала от задачи, а оказалось совсем наоборот: от быстрого движения сердце учащенно колотилось, но в голове, в мозгу, омытом свежей волной крови, стало вдруг как-то свежо и необыкновенно ясно: она видела сейчас всю задачу, точно страница тетради была перед ее глазами. Зоя ударила коврик еще несколько раз о ствол, потом остановилась, — это теперь ей только мешало. Продумывая новый ход решения, она подняла голову вверх.
Было уже совсем темно, между ветвями сосен, посверкивая, шевелились звезды. Зоя оперлась спиной о дерево и некоторое время смотрела на них, продолжая мысленно прослеживать дальше ход решения. Потом она медленно пошла с ковриком домой, продолжая напряженно думать о задаче, боясь потерять уже найденную нить и стараясь ни на что не отвлекаться.
После возни с ковриком захотелось вымыть руки: пока Зоя намыливала их и, нажимая на медный сосок умывальника, ополаскивала водой, работа в ее мозгу не прекращалась. Постепенно весь ход решения становился для нее ясным. Оставалось сесть к столу и приняться за вычисления.
Победа была полная — теперь можно было бы набрать в чашку воды и вволю напиться. Но странное дело, как только единоборство с задачей было закончено, Зоя совершенно перестала испытывать жажду.
Она вспомнила об Ирине. Как быстро идет время! Неужели они не виделись целых два дня? Надо сейчас же пойти к ней, рассказать про историю с соской и о хамстве Терпачева, надо заставить Ирину как можно скорее прочесть «Овод». Разве можно существовать, не прочитав до сих пор такой замечательной книги?
Но и в этот вечер они не встретились. Вернулась с работы Любовь Тимофеевна, и Зоя, увидев утомленное лицо матери, не захотела уходить из дома.
Остаток вечера мать и дочь провели вместе. Сегодня Любови Тимофеевне не надо было проверять тетрадок, ничто не мешало им говорить, спрашивать и слушать.
Какой-то странный день. Оттого, что Зоя уснула после обеда, все, что случилось до этого, казалось ей теперь очень далеким: и дрожащая челюсть скелета и соска на винной бутылке, точно все это произошло по крайней мере месяц назад.
Вспоминали с матерью лето в Сибири. Любовь Тимофеевна спросила: помнит ли Зоя, как одна ушла в лес, чтобы всем ребятам доказать, какая она храбрая, и вдруг там заблудилась? Зоя хорошо помнила этот случай. Тайга со всех сторон обступила ее таким множеством заманчивых загадок, что Зое даже некогда было почувствовать какое-либо подобие страха: не она отыскивала бабушкину деревню, а вся бабушкина родня разыскивала Зою — уж не задавил ли какой-нибудь лесной зверь, не свалилась ли в ловчую яму, не засосала ли ее бездонная трясина?
Ярче, чем что-нибудь другое, в памяти Зои сохранились голоса птиц. Ей тогда казалось, что все птицы о чем-то ее спрашивают. Теперь Зоя могла бы перечислить их всех и назвать, потому что давно уже изучила по чучелам в биологическом кабинете. А тогда, в тот далекий солнечный лесной день, неведомые существа задавали ей бесчисленные вопросы: спрашивала о чем-то переливчатым, витиеватым свистом желто-лимонная иволга на ветке березы; свистел, как милиционер, дятел-кардинал — сам густо-черный, а тюбетеечка красная; потом привязалась к Зое сорока и подняла такую панику своим стрекотом, что мгновенно созвала еще штук двадцать сорок! Куда бы Зоя ни сунулась — сороки за ней, не спускали с нее глаз. Благодаря этой взбудораженной стае Зою и разыскали сравнительно скоро.
Шура возвратился поздно — он вместе с Кутыриным занимался рисованием в студии. Когда он открыл дверь и увидел мать и Зою сидящими рядом на одной кровати, плечом к плечу, и по выражению лиц догадался, что беседа их была очень хорошей, ему захотелось поделиться с ними своей радостью: сегодня он очень удачно нарисовал углем голову Марка Аврелия. Но едва Шура подошел к столу и начал развязывать большую картонную папку, в которой принес рисунок, ему бросилась в глаза записка Зои по поводу трех ошибок в его переводе с русского на немецкий. Шутливая картинка (нарисованная, главное, им же самим), попав как концовка под записку теперь уже Зои, показалась Шуре нестерпимо ехидной. Он скомкал записку, скатал ее в шарик и хотел было швырнуть в Зою, но не посмел — ведь рядом с нею сидела на кровати мать. Сестра заметила его нетерпеливый жест и, поняв, что он сейчас испытывает, усмехнулась.
— Чего ты смеешься? — спросил Шура, сам уже улыбаясь. — Разве я не говорил тебе, что немецкий язык создан без учета моих способностей.
Любовь Тимофеевна попросила:
— Ты лучше покажи нам с Зоей, что ты сегодня делал в студии?
Шура вынул из папки рисунок и поднес его к лампе так, чтобы сестре и матери лучше было видно.
— Шурка, честное слово, здорово! — сказала Зоя.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Это была самая продолжительная из всех их прогулок: вышли, когда светило еще вечернее солнце, вернулись — при луне.
Никто им не мешал. О чем только они ни говорили, каких только вопросов ни касались! Несколько раз подруги ссорились. Но жажда делиться своими мыслями и переживаниями сегодня была так велика, так давно, им казалось, они не видели друг друга, что, даже поссорившись, они продолжали идти рядом и постепенно, само собою, совершалось примирение.
В начале прогулки Зоя все время заговаривала о том, что больше всего ее беспокоило: о завтрашней работе в саду, боялась, как бы не оскандалился класс. Одно только успокаивало: в саду вместе со всей школой будет Иван Алексеевич Язев.
Зоя, конечно, рассказала, как в биологическом кабинете Язев сделал из гордого артиста Виктора Терпачева жалкого мальчишку.
Вспомнив о Язеве, Зоя пожалела Ирину: ведь она даже представить себе не может, какое наслаждение учиться у Язева.
— Ира, — сказала Зоя, — переходи с будущего года к нам! Ты должна захватить у нас хотя бы десятый класс… Да нет, это уже невозможно… Я так люблю, так люблю свою школу! Наш Язев — удивительный человек! Никогда не забуду экскурсий с ним за город. Он научил меня понимать природу. До него я не могла отличить орешник от клена; все цветы у меня делились на беленькие, красненькие и синенькие, из названий я знала только ромашку да василек. В этом году, — продолжала Зоя, немного помолчав, — Язев обещает поехать с нами под Звенигород. В прошлом году он научил нас, как без компаса и карты, по одним только деревьям и муравьиным кучам, определить в лесу, где находится север, а где юг. А в этом году он, знаешь, какую предложил тему для экскурсии? «Как человеку не умереть с голода, если он заблудится в лесу?» Он покажет нам съедобные корни и растения и вообще все, чем можно прокормиться в лесу.
Ирина засмеялась:
— Где же здесь логика? Сначала учит, как не заблудиться, и тут же боится, как бы вы, пользуясь его способом, не заблудились и не умерли с голоду?!
— Ой, Ирина, у тебя примитивный ум, у тебя домашнее, комнатное представление о жизни. Вообрази себе научную экспедицию, у которой горным потоком во время грозы унесло все продовольствие, или представь себе вынужденную посадку самолета… Ирина не дала ей закончить:
— А ты знаешь, что я думаю о вашем Язеве, когда я вижу, как он копается у вас на грядках за железной оградой? Мне кажется, что это злой, горбатый карлик, посаженный в клетку, чтоб не кусался!
— Глупая ты, Ирка! Как тебе не стыдно! Это его жизнь — он все дни проводит в саду, пользуется малейшей возможностью. Первое деревце, которое два года назад появилось на нашем участке, посадил Язев. Наш директор — прекрасный хозяин, он все может раздобыть: лопаты, грабли; достанет все необходимое для посадки, получит удобрение, одним словом — хозяин. Но душа школьного сада — Иван Алексеевич. Он говорит, — продолжала Зоя, — что книгу природы надо читать только собственными глазами, под открытым небом, иначе ничего в ней не поймешь, и терпеть не может канцелярщины. Ты бы посмотрела, Ирина, какой он был, когда нянечка принесла ему в сад подписать протокол педагогического совета. Я первый раз в жизни видела его таким разъяренным. Он копался в земле на опытной грядке. Нянечка окликнула его — он не обратил никакого внимания. Тогда она стала ему объяснять, зачем пришла. Вдруг он как вскочит, как закричит: «Подите вы к черту со своими бумажками! Разве вы не видите, что я работаю?!» Нет, наш Иван Алексеевич — замечательный человек, — закончила Зоя. — Если мы выполним все, что он задумал, наш школьный сад будет самым лучшим в Москве.
— Зойка, последнее время ты стала много хвалиться, — сказала Ирина. — Единственно, чему я завидую, — это вашей Вере Сергеевне. У нас такая деревянная кукла преподает литературу: задает «от» и «до», на ее уроках от скуки мухи дохнут. Мне Виктор много рассказывал о вашей Вере Сергеевне, он живет с ней в одной квартире.
— Ну что может рассказать твой Виктор? — сказала Зоя, иронически скривив губы. — Надо присутствовать на ее уроках, надо учиться у нее, чтобы понять, что это за человек!
— Ой, Зойка, смотри, какие смешные кукольные одуванчики, смотри — как маленькие игрушечные солнышки. Ты посмотри, сколько их здесь!
Ирина спрыгнула в канаву, вырытую на границе Тимирязевского парка, отделяющую парк от огородов.
— Какие же это одуванчики? — сказала Зоя. Она тоже спустилась в канаву и сорвала цветочек. — Разве ты не помнишь — у одуванчиков фигурные, вырезные листья? А у этих совсем нет листьев. Смотри, цветок выходит прямо из земли на голом стебле. Это «мать-мачеха». Листья появятся гораздо позже, когда от цветов уже ничего не останется. У них очень интересные листья. Может быть, поэтому растение и называется «мать» и «мачеха»: листья с одной стороны теплые — покрыты волосиками, пушистые, а с другой — гладкие, холодные.
Цветы не отвлекли Зою, она не забыла о том, что разговор шел о ее любимой преподавательнице Вере Сергеевне. Вдоль канавы шла хорошо утоптанная тропинка по узкому горбику, образовавшемуся от выброшенной при рытье земли. Здесь идти рядом было тесно. Подруги шли вдоль канавы по обе стороны горбика и не замечали, что каждая из них уступает тропинку другой. Идти было неудобно, под ногами осыпалась глина, но они так и не воспользовались тропинкой; на повороте канавы сошли с горбика на огороды, среди которых была накатана широкая проселочная дорога.
Пока они шли вдоль канавы и потом, когда свернули на огороды, Зоя не переставая говорила о Вере Сергеевне:
— Когда она появилась в первый раз в школе, у нас словно началась новая жизнь. Мы даже в коридоре стали вести себя по-другому. До Веры Сергеевны я глупо воображала, что думать надо только в математике, а литературу надо просто читать.
Постепенно воодушевляясь, Зоя убыстряла шаги. Ирина должна была почти бежать, чтобы поспевать за нею. Обе разогрелись, лица их пылали, и оттого, что они так воодушевлялись, разница в их внешности теперь была еще заметнее: лицо Зои стало ярче, но, как всегда при этом, рядом с резко обозначенным румянцем кожа под глазами, на висках и особенно возле корней волос на лбу бледнела и как бы истончалась до голубизны. Упругая, как на пружинке, прядка волос дышала в лад с широким шагом, качалась, то затеняя лоб, то широко открывая его, подставляя под вечернее солнце, все ниже спускавшееся к Тимирязевскому парку.
А на лице Ирины еще резче проступало что-то неспокойное, цыганское: жгучий румянец с трудом пробивался сквозь природную смуглость кожи; брови нервно подрагивали; она оглядывалась по сторонам, словно ища одобрения у изредка попадавшихся им навстречу прохожих: посмотрите, мол, какая у меня чудесная подруга!
— Знаешь, что мне недавно пришло в голову? — говорила Зоя легко, почти не замедляя речи для подыскания необходимых слов. — Я подумала о том, что литература удлиняет человеческую жизнь. Как бы тебе это объяснить?.. Когда ты читаешь новую книгу, то получаешь возможность, помимо своей жизни, прожить частицу еще другой жизни, дополнительно к своей. Читая книгу, я удлиняю свою собственную жизнь, увеличиваю число дорог, по которым я прошла: мне семнадцать лет, но я уже жила и жизнью Печорина, и жизнью Татьяны Лариной, и Лизы Калитиной; трагическая судьба Овода — это и моя собственная судьба; я лежала раненая вместе с князем Андреем и видела его глазами удивительное, высокое небо; я скакала по степи вместе с Чапаевым…
— Ой, Зойка, не беги так — я не могу за тобой поспеть! — взмолилась Ирина.
Если бы кто-нибудь наблюдал за их прогулкой со стороны, он мог бы без ошибки определить по одному только темпу движения — говорят ли они о том, что их обеих волнует, или же предмет разговора стал менее интересен.
Ирина и Зоя не замечали, где они идут: почему-то не вошли в парк, а повернули обратно. Вот они прошли совсем недалеко от своего жилища и направились к новым домам.
Разговор о литературе не прекращался.
— Когда я прочла о Рахметове, — говорила Зоя, — мне стало стыдно: я почувствовала себя беспомощным существом, тряпкой какой-то, — у меня слишком слабая воля. Я начала работать над собой, тренировала волю. Я даже и сейчас иногда прямо на ходу тренирую ее: вот мне хочется оглянуться назад, а я запрещаю себе; ужасно хочется моргнуть, кажется, что в глаза песок насыпали, но я запрещаю себе моргать прежде, чем не сосчитаю до пятидесяти; текут слезы, а я все-таки терплю и не моргаю. Или, наоборот, что-нибудь не хочется делать, а я себя заставляю это сделать!
Ирина брезгливо фыркнула:
— Скучно быть надсмотрщиком над самим собою. Это какие-то фокусы.
— Нет, не фокусы! Ты не смейся. После этого появляется уверенность в своих силах, начинаешь чувствовать себя хозяином своей воли.
Разговор о силе воли Ирину не интересовал. Она заговорила опять о литературе.
— Я не понимаю, как это некоторые жалуются, что можно устать от чтения. Я несколько раз пробовала начитаться до такой степени, чтобы мне надоело, но ничего не вышло.
— Я умерла бы, если бы нечего было читать, — сказала Зоя.
— Но Маяковского мне все-таки никогда не понять! — неожиданно сказала Ирина.
Для Зои это не было новостью, они часто спорили о нем. Она только сказала:
— Маяковского меня научила любить тоже Вера Сергеевна. До нее мне казалось, что те, кто говорит о своей любви к Маяковскому, просто хотят казаться оригинальными. Мне стыдно об этом вспомнить. Теперь, когда я читаю Маяковского, кажется, что взбегаешь по огромной лестнице, пропуская сразу несколько ступенек — все выше и выше. Я люблю Маяковского за резкость его стиха, за прямоту, за то, что он без каких-либо намеков, прямо бросает правду в глаза!
Ирина принялась спорить. Она доказывала, что любовь Зои к Маяковскому — временное увлечение, под влиянием Веры Сергеевны. А сама Вера Сергеевна преподает Маяковского только по обязанности: этого требует программа. Если же говорить по правде о том, что каждый любит просто «для души», то для характера Зои, конечно, ближе всех должен быть Лермонтов. Лермонтов — любимый поэт и самой Ирины.
Спор получился жаркий. Они чуть было не разошлись в разные стороны. Для Зои была нестерпимою мысль, что ее кто-то подозревает в несамостоятельности: будто она говорит лишь с чужих слов, в данном случае со слов Веры Сергеевны.
Они остановились на тротуаре и спорили, перебивая друг друга. Зоя не могла идти дальше. Она не двинется с места, пока Ирина не поймет, что для Зои самые близкие и любимые поэты — Пушкин и Маяковский.
Спор кончился неожиданно. Ирина обратила внимание на то, что на противоположной стороне улицы остановилась какая-то старушка, повязанная белым платочком, в теплом джемпере домашней вязки, остановилась и пристально смотрит на Зою.
— Кто это? — спросила Ирина, делая едва заметное движение головой, чтобы обратить внимание Зои на старушку.
Когда Зоя посмотрела в ту сторону, старушка тотчас же приветливо закивала ей и неторопливо пошла дальше.
Лицо Зои сразу преобразилось: исчезло суровое, напряженное выражение, обычное для нее во время резкого спора, оно вдруг стало детским, ласковым. Зоя объяснила:
— Это одна из моих самых прилежных учениц. Я научила ее читать и писать, а раньше она не умела даже расписаться.
Подруги пошли дальше и больше не возобновляли разговора о Маяковском.
Неожиданно Ирина спросила:
— Зоя, а бывает тебе когда-нибудь без всякой причины грустно-грустно? Понимаешь… какая-то тоска. Или вдруг все люди покажутся хорошими, хорошими, и тебе всех хочется обнять и почему-то грустно-грустно!
Зоя молчала. Ирина продолжала добиваться ответа:
— Бывает ли когда-нибудь тебе тоскливо? Ну, понимаешь… сама не знаешь, чего хочется, чего-то боишься, как будто что-то тебя ждет, что-то должно случиться… Ну, одним словом, тоска! Бывает?
— Бывает!.. — сказала Зоя и опять замолчала.
— Ну?
Зоя не торопилась отвечать. Ирина взяла ее за руку и принялась ласково теребить, вытягивать из нее ответ.
— Ну?
— Понимаешь, Ирина, очень многое хочется знать… так много, что разум сам тебе подсказывает, что один человек не может всего этого объять… Хочется знать все, что известно современной астрономии о происхождении звезд… Хочется узнать историю музыки, как появилось первое созвучие и почему музыка, то есть колебание волны, вызывает у человека такое необычное состояние? Хочется прочесть всю художественную литературу, все самое лучшее, что создано в мире. Но это еще не все. Хочется подняться в стратосферу и опуститься на десять километров под воду, узнать — есть ли жизнь на дне Тихого океана; хочется участвовать в раскрытии тайн физики… что такое составные части атома и можно ли их в свою очередь расщепить или нельзя, потому что это уже только энергия, а если это энергия, то что такое энергия?
— Конечно, этого не может охватить один человек, да я совсем не об этом тебя спрашиваю, — сказала Ирина.
Зоя продолжала:
— А Язев говорит, что совсем необязательно охватывать звездные миры, не надо никаких галактик. Возьми просто квадратный метр земли у нас в школьном саду, и это уже может быть предметом изучения нескольких институтов и академий: тут тебе и химия, и микробиология, и ботаника, и кристаллография. И вот когда взвесишь свои силы, увидишь, как они ничтожны по сравнению с тем, что необходимо еще сделать людям, охватывает душу такая тоска, такая тоска!
— Но ведь я не о том спрашиваю! — повторила Ирина.
Зоя слоено не слушала ее.
— Но такое состояние бывает ненадолго. Потом вдруг наступает мгновение, точно у тебя вырастают крылья! Такая вдруг нахлынет волна восторга от одного только сознания, что я человек, что я родилась на земле не стручком гороховым и не одуванчиком, не орлом и пусть даже не львом в африканской пустыне, а просто обыкновенным человеком! А быть человеком, как ты знаешь, это звучит гордо! Ирина, у нас с тобой впереди огромная жизнь! Мы с тобой еще увидим столько прекрасного и так много можем сделать сами вот этими самыми руками!
Зоя остановилась и, внезапно схватив Ирину за руки, вихрем завертела ее вокруг себя. Та не сопротивлялась и, наоборот, согласуя свои движения с усилиями Зои, еще больше убыстрила круговое движение. Потом обе они внезапно остановились и, чтобы не упасть от сильного головокружения, прислонились спиной к стене дома, закрыли глаза, чтобы не видеть, как все вокруг них шатается и куда-то уплывает.
Находясь в состоянии какой-то необычной размягченности и опьяняющей слабости от головокружения, Ирина еще сильнее сжала руку Зои и спросила:
— Зоя, я давно хотела тебя спросить… Зоя, можно? Сегодня все можно, сегодня какой-то удивительный вечер. Понимаешь, два дня назад Виктор у меня спросил…
Говоря это, Ирина открыла глаза. Резкий свет вечернего солнца, отраженный в стеклах окон дома на противоположной стороне улицы, ослепил ее, и то, что казалось нетрудно сказать с закрытыми глазами, стало теперь невозможным. Ирина выдернула руку и, взяв Зою под локоть, потащила по тротуару, проговорив:
— Идем! Идем, что же мы остановились!
Но Зоя не любила, чтоб ее подталкивали; она переменила руку и сама взяла Ирину под локоть. Она молчала, но Ирине молчать долго было не под силу. Через минуту она уже говорила:
— Вчера мы получили письмо из Ленинграда. Моя двоюродная сестра вышла замуж. Ей восемнадцать лет!
— Глупо! — сказала Зоя.
— Ничего глупого не вижу.
— А я говорю — глупо!
— Ты можешь хоть десять раз повторить одно и то же — от этого ничего не изменится.
Зоя вспомнила ребенка Лины с его ручонками и задранными вверх ножками, представила его сейчас необыкновенно отчетливо, ощутила теплую живую тяжесть, когда прижимаешь его к себе покрепче. Она сказала:
— Глупо так рано выходить замуж! Чему же твоя двоюродная сестра может научить своего ребенка, если она как следует ничего еще в жизни не испытала?
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Ирина перескочила уже на другую тему, сегодня ее мало что интересовало, кроме взаимоотношений с Виктором. Ирине хотелось говорить только об этом, но она боялась, догадываясь, что Зоя относится к Виктору с неприязнью.
И она, как бы ощупью, сама того не сознавая, бродила вокруг да около, говоря об отношениях между мальчиками и девочками, поэтому и сказала о замужестве двоюродной сестры, а теперь спросила Зою:
— С кем ты больше всех дружишь в классе?
Зоя ответила быстро, словно давно уже продумала этот вопрос:
— После того как меня выбрали групоргом класса, я стараюсь со всеми быть ровной, за исключением, конечно, таких персон, как Терпачев, Уткина и еще некоторых индивидуалов.
— Ровной, в смысле справедливой? — спросила Ирина. — Но все-таки ближе всех есть же кто-нибудь у тебя? А потом, не всегда же ты была групоргом?
Зоя немного задумалась и ответила:
— Ты же знаешь — ближе всех мне Лиза Пчельникова.
— Староста класса?
— Лиза — верный товарищ! Она глубоко все переживает, а главное, ей во всем можно верить, на нее можно спокойно положиться в любом деле. Но она замкнутая. Я хорошо понимаю, что это не плохая замкнутость, то есть не скрытность. Это, может быть, неуверенность в своих силах… Но полного равенства во взаимоотношениях у нас не получается, может быть, от ее замкнутости.
Ирина порывисто повернулась к Зое и, остановившись, спросила:
— Зойка, хочешь, я тебе скажу?.. — Но тут же оборвала себя: — Нет, не надо!..
— Нет уж, раз начала — говори!
— А ты не обидишься?
— Ой, терпеть не могу твоей манеры играть в таинственное! Сейчас же говори, а то я повернусь и пойду одна!
Ирина сказала:
— У тебя потому не получается ни с кем равенства в дружбе, что ты деспотична, захватываешь первенство!
Зоя покраснела и сильно нахмурилась, потом расправила складки на лбу и пристально посмотрела на Ирину широко раскрытыми глазами, как бы желая убедиться — то ли Ирина хочет сказать, что на самом деле думает? «А может быть, Ирина права? — мелькнула у нее мысль. — Ведь Шура говорит почти то же самое». Слова Ирины задели ее.
— А ты очень страдаешь от моего деспотизма?
— Зойка, ты же сама прекрасно это знаешь! Отчего мы с тобой часто ссоримся? Потому что ты постоянно перебиваешь меня, когда я говорю, и начинаешь поучать тоном превосходства. Чего, например, стоит одна только твоя самоуверенная поговорка: «Само собой разумеется…»
— Ну ладно, — сказала Зоя, — обижайся, сколько тебе вздумается. У тебя тоже есть любимая поговорка: «А вчера Виктор мне сказал…»
Ирина остановилась как вкопанная и недоверчиво смотрела на Зою: действительно ли она это сказала? На глазах Ирины медленно проступили слезы. Зоя взяла ее за обе руки:
— Ирка, ну что ты? Неужели ты серьезно?..
Но Ирина вырвала руки, круто повернулась и пошла одна в противоположную сторону. Зоя тотчас же направилась следом за нею. Ирина пошла быстрее, но Зоя догнала ее и схватила за руки теперь уже так крепко, чтобы та не могла вырваться. Зоя старалась заглянуть ей в глаза. Она хорошо знала, что Ирина долго не может выдержать ее взгляда. Та несколько секунд крепилась, потом вдруг фыркнула и рассмеялась.
— Ты знаешь, что я вспомнила, когда ты вот так взяла меня за руки? — спросила она, продолжая смеяться.
— Ну?
— «Омлет»!
Как только Ирина произнесла это слово, Зоя откинула голову назад и тоже расхохоталась.
В седьмом классе Ирина писала стихи. Однажды она написала даже целую поэму. Понаслышке она знала слово «омлет», но думала, что это иностранное собственное имя, такое же, как шекспировский Гамлет, и дала герою поэмы, средневековому рыцарю, боровшемуся на стороне восставших крестьян, имя Омлет.
Ирина и Зоя стояли посредине тротуара и хохотали. Они долго не могли успокоиться. Стоило им взглянуть друг на друга — смех начинал их душить снова. Они перестали смеяться только тогда, когда увидели, что к ним приближается пьяный. Одет он был хорошо и вел себя спокойно. Но когда Ирина и Зоя хотели пройти мимо него, он небрежным движением руки сдвинул шляпу немного набекрень, потом, широко расставив руки, загородил проход и сказал с наглой улыбкой на красивом самоуверенном лице:
— Всю жизнь мечтал познакомиться с девушками, у которых такой непринужденный, искренний смех!
Ирина оробела, ей казалось, что именно с нее пьяный не сводит плотоядных покрасневших глаз. Она взяла Зою под руку и, прижавшись к ней, шепнула:
— Давай убежим!
— Ты с ума сошла! — громко сказала Зоя, освобождая руку, чтобы не чувствовать себя связанной в движениях. — С какой стати?!
— Совершенно верно! — подхватил ее слова нахал и, продолжая загораживать им дорогу, проговорил таким тоном, как будто обо всем уже договорился: — Сейчас мы возьмем на Ленинградском шоссе такси и поедем на Химкинский речной вокзал. Там чудесная отварная осетрина в белом соусе!
Ирина опять взяла Зою под руку, но та нетерпеливо отстранила ее от себя и смело пошла на пьяного, как будто тротуар был совершенно свободен.
Пьяный повторил было попытку помешать им пройти — опять широко расставил руки, но по мере того, как Зоя подходила к нему, он опускал их все ниже и ниже. Наконец он и вовсе не выдержал пристального, сурового взгляда Зои, отступил в сторону и, потупившись, снял шляпу с театральным шутовским жестом, делая вид, что разметает ею дорогу, и стараясь тем самым скрыть смущение.
Когда они отошли шагов на десять, Ирина заговорила:
— Глаза у него точно пиявки, после его взгляда хочется стать под горячий душ…
Но Зоя ее перебила:
— Не будем о нем говорить, с какой стати тратить время на всякую дрянь! О чем мы с тобой говорили?
Ирина все-таки боязливо обернулась назад, но увидела только спину пьяного.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Внезапно на нее нахлынуло чувство восхищения подругой, ей захотелось броситься Зое на шею и крепко поцеловать ее. Но та терпеть не могла подобного рода нежностей, Ирина прекрасно это знала. Она удержала порыв и ограничилась тем, что взволнованно заговорила:
— Какая глупая я была в прошлом году, совсем еще глупая! Представь себе, Зоя, я совершенно серьезно ревновала тебя к Нате Беликовой. Мне казалось, что у вас начинается дружба, вы часто ходили с ней вместе.
Зоя даже остановилась и с удивлением посмотрела на Ирину: неужели та может говорить об этом серьезно?
— Ната? — спросила она и после долгого молчания задала Ирине еще такой же короткий вопрос: — Ты что?
Потом, отмахнувшись с досадой от Ирины, опять пошла по тротуару.
— Ната и сейчас еще напрашивается на дружбу. Так разве же это человек?! Это — человечишка! Мальчики прозвали ее «и нашим — и вашим». Она бегает от Уткиной ко мне и обратно к Уткиной. Ей рассказывает обо мне, а мне пытается шептать об Уткиной. Ненавижу таких слизняков! Двуличная тихоня, неискренняя, завистливая, обидчивая. Стремится все разузнать, расспросить, а сама скрытная и делится только сплетнями. Нашла к кому ревновать! Хорошего же, оказывается, ты была мнения обо мне в прошлом году… Разве может у кого-нибудь завязаться с Натой Беликовой настоящая дружба? Разве можно ей что-нибудь доверить? Да если бы она даже клялась мне в своей преданности, я бы никогда не поверила ее клятве!
Ирина неожиданно спросила:
— Зоя, неужели тебе не хотелось бы дружить с кем-нибудь из мальчиков?
— А я отношусь к ним не хуже, чем к девочкам, — ответила Зоя. — Ты ведь знаешь Симонова — прекрасный товарищ! Димочка Кутырин тоже очень хороший.
— Да я не о том…
Зоя понимала, куда клонит разговор Ирина, но ей не хотелось говорить на эту тему. Здесь все было какое-то неясное, зыбкое, неизведанное, неопределенное, мысли обо всем этом приводили к каким-то тягостным неясным состояниям, которых Зоя терпеть не могла. Не обращая внимания на намеки Ирины, она продолжала:
— Так же, как я отношусь к Пете и к Димочке, я хотела бы относиться и к Ярославу Хромову. Он мне нравится. Ярослав прекрасно играет на рояле, но ему чего-то не хватает.
Зоя хотела сказать, чего же не хватает Ярославу Хромову, но ей помешала Ирина, резко вздрогнувшая от свистка паровоза, медленно пятившего задом состав пустых товарных вагонов на территорию завода, мимо которого подруги как раз проходили.
Железнодорожная колея пересекала улицу поперек. Зое не хотелось останавливаться и ждать, пока пройдет весь длинный состав, она рассчитала, что они с Ириною вполне еще успеют перебежать через рельсы, и уже поставила одну ногу на деревянный настил. Но Ирина вцепилась в ее руку выше локтя, сильно рванула назад и крикнула:
— Ты с ума сошла, что ты делаешь?!
Ирина только что закончила читать последнюю часть «Анны Карениной». Не отрываясь смотрела она теперь под колеса вагонов, гулко вздрагивавших на стыках.
— Как Анна могла лечь под колеса? — сказала она, закрывая лицо ладонями. — Мне так жаль, так жаль Анну… Я ненавижу ее мужа! Брр… лягушка! — Ирина брезгливо поежилась. — Ты знаешь, я так ненавижу Каренина, словно это мой собственный муж.
Зоя звонко расхохоталась, откинув назад голову. Потом, словно устыдившись порыва внезапного веселья, нахмурилась и тоже стала смотреть на медленно вращавшиеся колеса. И постепенно перед ее глазами тоже возникла картина гибели Анны Карениной.
— Анна сама во всем виновата!
— Так ведь Каренин не любил ее, — возразила Ирина. — Ему важны были только приличия света. Одни уши его чего стоят! А руки с надутыми жилками?!
— Не перебивай! — резко сказала Зоя. — Анна Каренина сама себя убила, как ты этого не понимаешь? Она убила себя до того, как бросилась под поезд. Она совершила два преступления, — поэтому и погибла, а куда она потом бросилась, это уже не играет никакой роли. Первый раз она совершила преступление против себя самой: продала свою свободу — согласилась выйти замуж за Каренина. Помнишь, Ирина, замечательные слова у Чернышевского: «Умри, но не давай поцелуя без любви!» Второе преступление Анна совершила против сына: она бросила его. Ты помнишь, как Сережа на прогулках ищет ее среди прохожих? Разве это можно простить? После таких преступлений она, конечно, погибшая.
— А любовь? — порывисто спросила Ирина. — Ведь она же любила Вронского?! Как можно осуждать женщину, которая способна любить с такой силой?
Зоя посмотрела на Ирину с удивлением. Она не ожидала, что Ирина может так волноваться, говоря о любви.
— Ты, Зойка, рассуждаешь, как старуха какая-то. Недаром о тебе Уткина говорит, что ты «слишком правильная». Неужели в тебе нет никакой жалости к Анне Карениной?
Ирина сказала об Уткиной и сама испугалась. Она боялась, что Зоя сейчас же круто повернется к ней спиной. А ей еще о многом хотелось бы поговорить. Она хотела спросить Зою: что такое любовь? Хотелось бы ей поговорить также о том, как отличить настоящую любовь от ненастоящей? И можно ли любить одновременно двоих? Иногда Ирине казалось, что Сережа Смирнов нравится ей так же, как нравится Виктор, хотя она еще ни разу не разговаривала с Сережей так откровенно, как с Виктором. Но говорить о Викторе Ирина не решалась и вместо этого еще раз упрекнула Зою:
— Об Анне Карениной ты рассуждаешь, как ребенок; это потому, что ты никого еще не любила.
Зоя остановилась и, соединив за спиной руки, крепко сжав одной другую, твердо сказала, наклонив голову набок:
— Да, я еще никого не любила! Да, никого! Во всяком случае, я никогда не смогу полюбить человека, если я не буду его уважать. Скажи мне, Ирина, ведь в начале зимы ты сама мне говорила, что не уважаешь Виктора за то, что он два раза нарушил свое слово.
— Мало ли что было в начале зимы! Теперь Виктор стал неузнаваемым. Разве ты не знаешь, если очень сильно любишь человека, то можно его перевоспитать как угодно!
Зоя хотела сказать еще что-то, но Ирина, вся просияв от своих слов (ей казалось, что она «очень здорово обрезала» Зою), не дала ей говорить и, крикнув:
— А ну, давай, кто первой перепрыгнет канаву? — устремилась вперед.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Они опять подходили к Тимирязевскому парку.
Пока они бродили и сделали большой круг по улицам и переулкам, солнце опустилось уже совсем низко и сейчас светилось между стволами деревьев, как раскаленные угли за черной чугунной решеткой жаровни. На вскопанную землю огородов легла густая лиловая тень от сплошной стены деревьев. Зоя не побежала за Ириной. После всех этих разговоров ей захотелось вздохнуть поглубже, и она, слегка раздувая ноздри, втянула в себя полной грудью посвежевший воздух.
Около парка местность едва заметно поднималась, — земля здесь просохла раньше, чем в других местах; почти все участки были уже вскопаны, и поэтому сейчас здесь пахло землею сильнее. Зоя любила этот запах. Только весной так пахнет. Зоя еще и еще раз втянула в себя воздух. Оттого, что она шла, стволы деревьев тоже двигались, и если всмотреться в самую глубину парка, то казалось, что они даже меняются друг с другом местами, а раскаленные угли за решеткой переливаются, гаснут, вновь вспыхивают и мерцают. Но чем ближе подходила Зоя к канаве, отгораживающей парк от огородов, тем глубже пряталось солнце, и когда Зоя присоединилась к поджидавшей ее за канавой Ирине, то солнце уже было полностью заслонено деревьями.
— Как здесь хорошо! — сказала Зоя. — Давай пойдем к пруду без всякой дороги, напрямик.
— Ой, какая прелесть! — вдруг вскрикнула она. Стремительно наклонившись под самый куст орешника, Зоя быстро сорвала беленький цветочек, как будто промедли она еще немножко, и от испуга он скрылся бы под землей. — Какой счастливый день: первый раз в жизни я нашла подснежник! Ты только загляни в самую середочку, посмотри, какой он чудесный!
Зоя поднесла цветок к Ирине, и, склонившись над белой звездочкой, рассматривая в ее сердцевине золотой венчик тычинок, подруги почти прижались друг к другу головами, так что волосы Ирины защекотали лоб Зои.
В парке на Ирину нашло редкое для нее настроение — желание помолчать, после того как они сегодня так много обе разговаривали. В стороне от тропинок и дорожек, среди высоких старых деревьев, они не встретили еще ни одного человека. Вот куда ушла с улиц и переулков тишина, вот где она затаилась! Только где-то по направлению к плотине изредка раздавались короткие сигналы автомашин.
Тишину нарушала Ирина, загребавшая носками туфель и подбрасывавшая вверх прошлогодние, слипшиеся от лежания под снегом, темно-коричневые сырые дубовые листья. Деревья и кустарники напомнили Зое о завтрашней работе в саду, и в ней начала подниматься прежняя тревога, но когда они обе вышли на прямую широкую аллею, как стрела показывавшую направление к пруду, это чувство у Зои исчезло.
Небо, открывшееся перед ними в просвете аллеи, было до такой степени жарко накалено, что появилась надежда: солнце еще не зашло, оно где-то здесь, совсем-совсем близко! И Зое захотелось во что бы то ни стало увидеть сегодня солнце, хотя бы еще на одно мгновение. Она схватила Ирину за руку и потащила ее за собой, торопливо проговорив:
— Бежим, давай догоним солнце!
— Давай бежим! — отозвалась Ирина, не сопротивляясь.
Она быстро все поняла — ей передалось настроение Зои. Они так и побежали, не разнимая рук, как бы помогая друг другу; бежали изо всех сил, словно оттого, что увидят ли они сегодня солнце еще раз или не увидят, зависело — взойдет ли снова солнце завтра или же сегодня оно погаснет для всего человечества на веки веков.
И они в самом деле его увидели, вырвавшись из-за деревьев на широкий простор, к берегу большого пруда. На солнце уже не больно было смотреть; оно как бы нарочно задержалось еще на одно мгновение, чтобы дать возможность двум девушкам, крепко державшим друг друга за руки, добиться того, что они задумали.
Взглянув на Зою, озаренную последним лучом, который она догнала, на ее сильно побледневший лоб и откинутые назад волосы, на сияющие от счастья глаза, Ирина сказала, порывисто дыша:
— Зойка, какая ты сейчас красивая! Вот такой тебе надо сфотографироваться!
Смущенно усмехнувшись, Зоя нагнулась и подняла с земли камень. Она тоже запыхалась; чтобы отдышаться, начала ходить туда-сюда, около самой кромки воды, перебрасывая камень из одной руки в другую.
— Ты думаешь, мне было легко бежать на высоких каблуках? — сказала Ирина, дыша уже ровнее.
Зоя все еще носила туфли на низком каблуке. Но как раз теперь, этой весной, у нее впервые появилось желание надеть туфли на высоком каблуке. Предполагалось, что после экзаменов у кого-нибудь из подруг, скорее всего на квартире Уткиной, будет устроен вечер с танцами. Обычно Зоя стеснялась танцевать, ей казалось, что у нее получается неуклюже. Но в этом году она решила, что обязательно пересилит смущение и заставит себя танцевать.
— Ирина, давай — кто добросит до острова! — предложила она, переложив камень в правую руку и уже примериваясь к его тяжести.
— Ой, Зойка, не надо — ты только все испортишь. Посмотри, как чудесно отражается весь остров: каждая веточка видна в воде, даже каждая почка. А вода какая розовая… не надо трогать.
— Не бойся, не разобью я твоего зеркала!
Зоя разбежалась и бросила. Камень глухо стукнул о мягкую землю острова.
— Ты бросаешь, как мальчишка, — сказала Ирина. — А у меня получается, как у всякой девчонки: рука махнет сверху вниз, и камень обязательно падает в двух шагах от меня.
Зоя сказала:
— Ты бросала бы не хуже меня, если бы потренировалась. Когда мы жили в Сибири у бабушки, у нас там была игра в «белую палочку» — надо бросать как можно дальше, чтоб труднее было ее найти. Мальчишки из моей партии не давали мне бросать. Это злило меня до слез. Я ходила потихоньку на огород и тренировалась. Если очень сильно захотеть, можно добиться чего угодно!
И Зоя запела:
Домой возвращались, уже когда появились первые звезды. Казалось бы, о чем же еще можно говорить? Однако и на обратном пути Ирина говорила почти без умолку. Но Зоя вставляла реплики все реже и реже, подолгу молчала. Чем ближе они подходили к дому, тем тревожнее становились ее мысли. Не проспит ли Петя Симонов, все ли он успеет приготовить с Ярославом? А Коркин? Может быть, он не простит классу обиды и не сочтет нужным выходить на работу в воскресенье?
Подруги простились у калитки около домика Ирины. Но едва Зоя отошла несколько шагов, Ирина догнала ее и сказала:
— Я тебя немного провожу. Я еще не спросила: ты бесповоротно решила идти в педагогический?
— Скорее всего в педагогический, — ответила Зоя.
У Зои было одно заветное желание, но она никому в нем не признавалась. В прошлом году, когда она училась в восьмом классе, Любовь Тимофеевна принесла ей билет на спектакль в детский театр. При входе в театр зрителям были розданы анкеты. Таким способом режиссер театра хотел узнать мнение зрителей о спектакле. Зоя не стала отвечать на анкетные вопросы, этот способ ее не удовлетворял и показался обидно шаблонным. Но, возвратившись домой, она села к столу и не легла спать, пока не исписала тетрадку всю целиком.
В детском театре Зоя почувствовала себя совершенно взрослой. Она без всякого труда, с полной откровенностью изложила на бумаге все, что думала о постановке.
Утром, по дороге в школу, Зоя опустила в почтовый ящик большой пакет. Через четыре дня неожиданно Зоя получила письмо из театра. Режиссер благодарил ее и уверял, что она несомненно обладает способностями, позволяющими ей в будущем стать критиком, если она, конечно, будет учиться и много работать над собой.
Этот случай произвел на Зою неизгладимое впечатление. Она понимала, что учиться где-нибудь специально, чтобы стать критиком, невозможно и, вероятно, даже бессмысленно. Надо сначала поступить в педагогический институт, чтобы изучить историю литературы и русский язык. Это необходимо каждому критику. А если критик из нее не получится, она сделается педагогом.
Еще в детстве Зоя любила играть в школу: она переодевалась, накрывалась маминой шляпой, цепляла на нос «очки», вырезанные из картона, и устраивала диктант для маленьких ребят из соседних домов. В шестом классе Зоя уже без всяких переодеваний, по-серьезному, занималась с несколькими ребятами из своего дома, кроме них приходил заниматься сын молочницы Вася. Пример Веры Сергеевны подогрел у Зои интерес к преподаванию. Она стыдливо боялась признаться самой себе, что была бы счастлива, если бы ее когда-нибудь так любили, как любят в школе Веру Сергеевну.
Но Ирине роль педагога казалась прозаической и обидно скучной. Педагог представлялся ей главным образом жертвой ребят. Ей жаль было Зою — она ее искренне любила.
— Брр!.. — поежилась Ирина, когда Зоя призналась, что пойдет в педагогический. — Зойка, ты еще передумаешь. Я не хочу, чтоб ты была учительницей, не хочу!
Но Зое об этом больше не хотелось говорить. Она позевывала от усталости. Становилось холодно по мере того, как светлая полоса, оставшаяся на горизонте после заката, постепенно передвигалась на север. От огородных канав, еще полных весенней воды, поднимался туман. Зою начинало знобить — она вышла на прогулку в легкой кофточке. Хотелось выпить горячего, сладкого чаю, — должно быть, мама и Шура давным-давно уже дома.
Прощаясь, Зоя спросила Ирину:
— А ты, конечно, будешь штурманом дальнего плавания?
— Да! — подхватила Ирина новую тему, не желая придавать никакого значения иронической нотке, явно звучавшей в голосе Зои. — Только не говори маме, — попросила она Зою, — а то она сойдет с ума. Недавно у нас как раз был спор об океане. Дядя утверждает, что научно доказано, будто волна не бывает выше пятнадцати метров, а папа уверяет, что на океанском пароходе меж двух волн такая амплитуда, как если бы ты стояла в Охотном ряду между домом Совнаркома и гостиницей «Москва». Правда, страшно, если такие волны? У нас с дядей заговор: он обещал через начальника главка устроить меня в одесское мореходное училище. Понимаешь, Зойка, оказывается, во всем Советском Союзе есть только одна женщина — штурман дальнего плавания. Здорово?!
Пока перед расставанием подруги торопливо обо всем этом разговаривали, они успели еще несколько раз проводить одна другую. Наконец, приблизительно на одинаковом расстоянии между домами Ирины и Зои, они пожелали друг другу покойной ночи.
Но на этом прогулка их еще не закончилась.
Едва Зоя поднялась на крыльцо, Ирина окликнула ее издали:
— Зоя, подожди еще минуточку!
Она подбежала к ней и спросила, показывая рукой на восток, где небо потемнело уже совсем по-ночному:
— Ты не знаешь, как называется это созвездие, видишь, три звезды в одну линию, самая яркая посередине?
— Созвездие Орла, а самая яркая — Альтаир, — сказала Зоя, не спускаясь с крыльца. — Пора бы штурману дальнего плавания кое-что знать о небесных светилах!
— Зойка, я почему-то была уверена, что ты знаешь.
— Мне эту звезду показал Кутырин. Он у нас в школе главный консультант по всем вопросам: все, что Дима где-нибудь прочтет, — навсегда остается в его голове. Он говорит, что это даже мешает ему, много застревает в голове ненужной чепухи.
— Зоя, знаешь, что я предлагаю? — Ирина тоже поднялась на крыльцо. — Давай дадим друг другу обещание: где бы мы с тобой ни находились и что бы с нами в будущем ни случилось, — всякий раз, когда мы увидим эту звезду Альтаир из созвездия Орла, мы всегда будем вспоминать друг друга!
Зоя крепко сжала ее руку.
— Честное комсомольское? — спросила Ирина и услыхала в ответ:
— Честное комсомольское!
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Иван Алексеевич Язев пришел раньше всех. На участке вокруг школы не было еще ни души. Он так и рассчитывал — застать здесь самое раннее утро и на свободе, без всякой суеты, не отвлекаясь, еще раз продумать свой план.
Ни единое облако не мешало сегодня солнцу отогревать промороженную зимними стужами землю — почва оттаяла уже на всю глубину и лежала теперь под ногами размякшая, потная, а кое-где она уже совершенно подсохла.
В воздухе — безветренно и тепло, а около стены школьного здания, сильно разогретой солнцем, совсем жарко. Как раз здесь и зародился школьный сад: посаженные два года назад вдоль стены первые деревца вишенок, два десятка яблонь и столько же кустов смородины дали право называться садом и всему школьному участку площадью в один га с четвертью, пока еще совсем пустому.
Ветви вишенок уже покраснели — тронулись в свой весенний путь и блестели, словно натертые воском; а яблоньки и кусты смородины как будто еще и не знали, что на дворе апрель, — не пробуждались; но если присмотреться поближе — кора и на их ветвях, ожившая после озноба, помолодела, словно кто-то промыл каждую веточку отдельно и насухо вытер ее. Трава лезла из земли, где надо и где не надо, и пока еще не загрубела, так водянисто-прозрачно сквозила против солнца, что казалось, видишь движение соков в каждом побеге. Солнце же не брезговало ничем — все прогревало глубоко и щедро, на участке стоял чудесный весенний запах теплой земляной сырости.
Иван Алексеевич ходил по хорошо утрамбованной центральной дорожке, пересекавшей весь участок. Наслаждался. Иногда останавливался и проделывал упражнения из предписанной ему лечебной гимнастики, самые несложные, не обременяющие сердца: вытягивал перед собой руки и ритмично сжимал пальцы в кулак и расправлял их снова, как будто ловил что-то в воздухе и опять выпускал на свободу; потом делал дыхательное упражнение: разводил руки в сторону и опускал их без всякого напряжения, как плети. Походив после этого несколько минут взад и вперед по дорожке, Иван Алексеевич сел на самый краешек садовой скамейки и сделал упражнения сидя: закинув ногу на ногу, вращал ступню ноги сначала в одну сторону, потом в другую; проделав это, он глубоко вздохнул и на выдохе поднялся.
Сойдя с дорожки, вынул записную книжку, раскрыл на развороте, где у него был нарисован план школьного сада, и начал проверять на глаз, где что намечено, мысленно перенося свой замысел уже на местность: в четырех метрах от стены — биологический участок; прямое его продолжение — участок для питомника фруктовых деревьев; здесь Иван Алексеевич мечтал создать полную коллекцию фруктовых, свободно зимующих в условиях Московской области; дальше — участок пятого класса «А»; ему будет дана тема: «Различные приемы агротехники»; для этой темы отводятся три грядки: 1) посадка картофеля яровизированными цельными клубными и верхушками клубней; 2) уплотненный посев картофеля совместно с фасолью; 3) посадка свеклы рассадой и гнездовой сев свеклы. Шестой класс сегодня займется разметкой участка для метеорологической станции.
А солнце пригревало сильнее. Иван Алексеевич присел, наклонился к земле и положил на почву ладонь.
— Очень хорошо! — сказал он, ощутив тепло, и, разогнувшись, добавил: — Просто чудесно!
Отец Пети Симонова, конюх Аким Гаврилович, в такой позе и увидел издали Ивана Алексеевича: щупает рукой землю. Аким Гаврилович только что напоил слепого Бурку и вышел из конюшни. Помимо обычного уважения к Ивану Алексеевичу, проявлявшегося к нему в школе со стороны всех, Аким Гаврилович питал к этому человеку еще особое чувство: их роднило одинаковое отношение к земле и ко всему, что на ней произрастает.
Он любил поговорить с Иваном Алексеевичем, хотя разговоры их никогда не отличались многословием. Если у него выдавалось свободное время и он видел Ивана Алексеевича в саду с лопатой или с граблями или же просто присевшего около грядки и что-то обдумывающего, он обязательно подходил к нему «для беседы». Она состояла обычно из трех-четырех неторопливо произнесенных фраз. Но смысл сказанного всегда был значителен для Акима Гавриловича, и он отходил от Язева с чувством глубокого удовлетворения: удалось, мол, поговорить с настоящим человеком, ученым человеком, но в то же время совершенно своим, простым, доступным.
Сейчас он шел по центральной дорожке сада, заложив руки за спину, чтобы они не болтались без дела. Направляясь к Ивану Алексеевичу, он в то же время шел с таким видом, как будто в саду у него был совершенно самостоятельный интерес и он даже не замечает Ивана Алексеевича, посматривает себе по сторонам, что-то для себя подыскивает и обдумывает.
На свой рост Аким Гаврилович не мог бы пожаловаться, но ходил не сгибаясь, хотя грудь у него немного запала и в плечах он был узковат; не жаловался он никогда и ни на какую болезнь; хорошо еще служили ему и сильные, длинные, костистые руки (Петя пошел в него); Аким Гаврилович не любил бриться, носил бороду и усы, но и усы и борода росли у него скупо: сквозь рыжеватую жесткую щетину повсюду на худощавом, строгом лице сквозила красноватая, словно раззуженная на ветру кожа.
Не доходя до Ивана Алексеевича, Аким Гаврилович поднял, сойдя с дорожки, комочек земли и, разминая его пальцами, стал рассматривать, что же остается от комочка на ладони, как бы желая привлечь к себе внимание. Но оба, казалось, продолжали не замечать друг друга. Первый, как всегда, заговорил Аким Гаврилович. Он подошел к Язеву ближе и, показывая, что у него на ладони, сказал:
— Вот это и есть мать наша родная землица, из-за которой на всем земном шарике драчка происходит!
Иван Алексеевич дружелюбно, как единомышленник, улыбнулся ему и протянул руку. Аким Гаврилович, быстро сбросив землю, туго обтер ладонь о штанину и соединил, не сгибая пальцев, свою руку с протянутой ему рукой.
Поворачивая голову, подставляя щеку под лучи солнца, Иван Алексеевич сказал:
— Хорошо-то как, Аким Гаврилович!
— Так уже время, Иван Алексеевич, — шестнадцатое число, апрель! Тепло, сухо!
Язев начал осматриваться вокруг себя, как будто до этой минуты он ничего и не замечал. Аким Гаврилович спросил его:
— Как скажете, Иван Алексеевич, насчет соображения относительно войны?
Язев развел руками и, словно после очередного упражнения по лечебной физкультуре, сделал глубокий вдох. Он высоко поднял брови, и от этого лицо у него сделалось таким, как будто он был в чем-то виноват. Опустив руки, он спросил:
— В зоопарке видел когда-нибудь удава?
— Три метра шесть сантиметров, — сказал Аким Гаврилович. — При мне кролика затянул в свою утробу, как насос.
— Так вот, кролика он будет переваривать очень продолжительное время. В этот период он совершенно безопасен. Можно предполагать, что то же самое происходит теперь и с Гитлером. Только метражу этого удава, конечно, другой: проглотил Францию, Бельгию, Голландию, Норвегию… — Язев смотрел на Акима Гавриловича все с той же дружелюбной улыбкой, ожидая, что тот скажет. Но тот молчал, и продолжать пришлось самому же Язеву. — Не правильно ли будет нам с тобою, Аким Гаврилович, предположить, что теперь Гитлер будет все это долгое время переваривать? Ты понимаешь, сколько он хапанул угля, металла, заводов, фабрик или хотя бы того же молочка в Голландии?!
— Иван Алексеевич, — сказал торопливо Аким Гаврилович, — Гитлер — это гад совсем не той породы. Такую змею сколько бы ни поили молоком — от этого у нее только больше будет яда.
Глаза у Ивана Алексеевича расширились и заблестели, — тронутый меткими словами, он с благодарностью и удивлением взглянул на собеседника. А тот продолжал:
— Мне Петр, сын, сказал, будто уже Америка встревает? Ну и черт с ними, пускай воюют, а нам, Иван Алексеевич, я считаю, сегодня огород пахать надо — земля поспела.
— Паши!
— В таком случае, разрешите сына взять, — пускай слепого в борозде поводит.
Как раз в это время около складского сарая раздался лязгающий стук железа о железо. Повернув голову в ту сторону, Иван Алексеевич увидел, как Петя вместе с Ярославом Хромовым накладывают на носилки лопаты и грабли.
— Нет, — сказал Иван Алексеевич, — устраивайся, Аким Гаврилович, сам, как сумеешь. Сегодня твоего Петю нельзя отрывать от товарищей. Сегодня у нас большой праздник — вся школа берется за лопату. Ты Некрасова учил в школе?
— Ну, а как же! — ответил Аким Гаврилович и, поражая Ивана Алексеевича догадливостью, вдруг стал читать наизусть, улыбаясь от сильного смущения и от этого становясь неожиданно похожим на огромного, неуклюжего школьника:
И, сразу же оборвав себя, он радостно встрепенулся: — А вот и Василий Петров уже вышел!
За решеткой сада мелькнула во дворе фундаментально плотная и вместе с тем очень подвижная фигура директора школы, Василия Петровича Ярикова.
— Пойду к нему, — сказал Аким Гаврилович, — может, наряд даст какой: либо кусты возить из Тимирязевского питомника, либо навоз с птичьей фермы. А пахать можно и завтра. Или, в случае чего, слепого коня в борозде поводит Марфа Филипповна, она у вас сегодня выходная.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Раньше других начали появляться на участке ребята из младших классов: они проходили в калитку сада по двое, по трое, а потом потянулись сплошной цепочкой, толпясь у входа, как пчелы в летке улья.
Постепенно появились и старшие — из восьмых, девятых, десятых классов.
Девочки, несмотря на то что предстояло вскапывать землю и выносить с участка всякий мусор, оделись ради выходного дня поярче: среди однообразно, по-будничному одетых мальчиков замелькали цветные майки девочек и джемперы узорной вязки или же только что проглаженные горячим утюгом легкие летние кофточки; в волосах то у одной, то у другой мелькнет цветная лента, вплетенная в косу или же стягивающая отдельную прядку на виске; у них как-то ярче, чем у мальчиков, горели на солнце алые пионерские галстуки.
Пока собрались еще не все и работа не начиналась, на участке все больше и больше нарастал непрерывный гул — разнобой радостно возбужденных голосов и взрывы внезапного смеха; кто-то требовал общего внимания, пытался что-то сказать, но его никто не слушал; а рядом девочки из шестого «А» затеяли игру в «кошки-мышки»; восьмой класс, став в кружок, затянул «По долинам и по взгорьям»; седьмые вздумали пустить в ход футбольный мяч, быстро у них отобранный классным руководителем.
Шура Космодемьянский кинулся было за мячом, точно его, помимо воли, рванула в сторону какая-то посторонняя сила, но и он вовремя обуздал себя, вспомнив, что как раз ведь этого Зоя боялась: ребята найдут какое-нибудь развлечение и работа будет сорвана.
В это время в бурном, никем не управляемом оркестре звуков произошла какая-то заминка, что-то изменилось на участке, стало тише. Шура посмотрел в ту сторону, куда были направлены взгляды большинства ребят. Оказывается, появился директор.
На центральной дорожке происходило летучее совещание: несколько классных руководителей окружили директора и стоявшего рядом с ним Ивана Алексеевича. На ярком солнце, под открытым небом, особенно резким становился контраст между высоким, улыбающимся, добродушно-жизнерадостным директором с его розовощеким здоровьем, свежевыбритой, сверкающей, как начищенный шар, головой и маленьким, затерявшимся в группе педагогов Иваном Алексеевичем Язевым: его сосредоточенное острое лицо не только не оживало от весеннего солнца и безоблачного неба, а, наоборот, казалось сегодня особенно болезненным, изжелта-бледным.
В летучем совещании о порядке работ принимали участие преподавательница географии и Николай Иванович Погодин со своей особой улыбкой, странным образом объединявшей в одно и то же время едкий сарказм и дружелюбное добродушие. Тут же находился и похожий на профессора преподаватель математики Семенов, поблескивающий на солнце золотой оправой очков со сложными, серповидно выточенными стеклами.
Директор, если ему позволяло время, любил, подобно Ивану Алексеевичу, забыв обо всем на свете, покопаться в земле. На такой случай у него постоянно хранилась в рабочем кабинете под откидным сиденьем дивана прозодежда: высокие сапоги, галифе времен гражданской войны и длинная парусиновая рубашка с белорусской вышивкой по вороту.
По образованию директор тоже был биолог, однако истинной его стихией по справедливости считалась административно-хозяйственная деятельность: работал он в этой области со вкусом, с аппетитом, порою даже с азартом и всегда с полезной для школьного дела выдумкой. Он чутко прислушивался к людям, хорошо понимал характер каждого человека и обладал способностью объединять педагогов вокруг общей для всех цели.
Обычным для директора состоянием духа было шутливо-спокойное удовлетворение тем, что происходит вокруг.
Ребята видели его всегда только в состоянии бодрой деятельности.
Шуткой и добродушным разговором директор умел добиться больше, чем иной деятель при помощи отпечатанного на машинке приказа.
Обладая превосходной памятью, директор поражал какого-нибудь ученика тем, что, не имея повода разговаривать с ним, допустим, в течение трех четвертей, вдруг в конце учебного года обращался к нему, называя его шутливо по имени-отчеству.
Особенно директор любил малышей и тщательно изучал каждой осенью новый набор первоклассников. Он быстро узнавал, в какой области хозяйства работают родители его новых питомцев, и постепенно приучал родителей к мысли, что той школе, где учится их ребенок, необходимо помогать. И все это делалось добродушно, с лукавой шуткой.
Прибегал он не раз и к таким приемам знакомства с родителями. Позовет какого-нибудь карапуза, погладит по голове и спросит:
— Ну как, Алик, научился писать?
— Я давно уже умею писать!
— А ну, покажи, как ты умеешь писать. Пойдем ко мне в кабинет.
В кабинете он усаживал Алика к директорскому столу, давал ему ручку с пером, листок бумаги и говорил:
— Пиши, я посмотрю, как у тебя получается. Пиши: «Папа».
— Очень хорошо! Молодец! А теперь напиши букву «т», а рядом «ы».
— Смотри пожалуйста, оказывается, ты в самом деле пишешь отлично! Теперь пиши, я тебе буду диктовать по буквам.
Окончив «диктант», директор говорил:
— А теперь, Алик, пускай твой папа посмотрит, как ты хорошо пишешь. Положи ему этот листок на письменный стол.
И папа маленького Алика, придя в конце рабочего дня из районной транспортной конторы, где он заведовал отделом эксплуатации, находил у себя на столе записку:
«Папа, ты плохо помогаешь нашей школе».
Папа шел к директору и всю дорогу думал о том, как он обязательно даст понять директору, что его прием педагогически вреден. Но, увидев улыбающегося директора, сам начинал разговор с шутливой фразы:
— Что же это вы делаете, Василий Петрович? Не успел мой сын поступить в ваше распоряжение, а вы у меня дома уже гражданскую войну устраиваете! Поднимаете детей против отцов!
И результатом такого рода письменного упражнения Алика из первого класса «Б» было то, что уголь, отпущенный по наряду для школы, своевременно завозили на автомашинах транспортной конторы.
Сегодня директор провозился в саду не менее двух-трех часов, но тоже почти все время не отходил от младших классов.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Зоя скоро поняла, как ошибалась она, воображая, что работа ее класса постоянно будет на виду у директора или уж во всяком случае Иван Алексеевич больше заинтересуется тем, что делает девятый «А». Когда вся школа вышла под открытое небо и на участке собрались почти все классы, вместе с параллельными, для Зои стало ясно, как смешно было бы рассчитывать на какое-то особое внимание к девятому «А». Все надо было организовывать самим, взять с самого начала хороший темп и во что бы то ни стало выдержать его до конца.
Иван Алексеевич почти весь день провел на участках других классов, где предстояла работа гораздо более тонкая, нежели просто разворошить строительный мусор, снести его на свалку, поскрести и все убрать с поверхности почвы, — эта уборка на других участках была произведена еще в прошлом году.
Иван Алексеевич следил за тем, как ребята с рулеткой в руках и с заранее обструганными сосновыми колышками делали разметку опытных делянок и разделов в полях севооборота, с дорожками между ними в два с половиной метра шириной, отходящими, как веточки, от центральной широкой дорожки.
Нужен был опытный глаз и при набивке компостом ям под фруктовые деревья, а разве можно оставить без присмотра шестой «Б», вскопавший землю вдоль решетки и уже получивший разрешение начать посадку акации? Со всех сторон к Ивану Алексеевичу обращались ребята с вопросами; объясняя, он, по своему обыкновению, углублял вопрос и, увлекаясь, переходил на проработку уже самого учебного материала.
Нет, на участок девятого «А» Иван Алексеевич не торопился!
Большинство ребят работали с увлечением. Как раз против школы находилась трамвайная остановка. Ожидающие трамвая или просто прохожие подходили к ограде и сквозь решетку смотрели на то, что творится на участке: их тянула сюда непреодолимая потребность хотя бы на несколько недолгих мгновений омолодить свою душу, вспомнить свое детство и юность, вновь докопаться в самом себе до никогда не ржавеющей сердцевины; хотелось опять с первоначальной свежестью и остротой, с ничем еще не оскверненной радостью ощутить приход на землю весны.
Некоторые из подошедших на минуту к ограде узнавали среди школьников своих детей. Ах, как бы им хотелось в такой солнечный, сияющий день вместе с ребятами взять в руки лопату или грабли и покопаться в земле!
Многим из тех, кто смотрел сюда, в будущий школьный сад, испытывая одновременно и грусть и радость, не очень вдумываясь в то, что здесь происходит, казалось со стороны, что эта азартная, дружная работа ребят на участке — нечто однородное, единое целое и что школьники давно уже приноровились в работе друг к другу.
Маленькая старушка в чистеньком беленьком платочке устало прислонилась к ограде и, не отрывая помолодевших глаз от всего, что сейчас взбудораженно, шумно копошилось вокруг школы, так и сказала:
— Один к одному — как пчелки гудят! Милые вы мои, сколько же здесь вас! Только бы не было проклятой войны!
Но как сложен и разнообразен был этот мир школьников не со стороны, а в самом своем существе! Крепко связанный невидимыми нитями в единое целое, он, как всякий живой организм, был полон внутренней борьбы. Чего только здесь не найдешь, если пристальнее в него вглядишься: добрый совет, взаимная выручка и тут же — озорное лукавство, борьба самолюбий, азартное соревнование, иногда зависть и ревность, горячая дружба, а рядом — недоброжелательность, порою и вовсе вражда, первая влюбленность и ревность… Некоторые группы работали молча, сосредоточенно, в других то и дело раздавался хохот; в каждом классе находились свои балагуры-весельчаки и тут же — хныкающие нытики и обиженные скептики. Одни группы справлялись с заданием ловко и споро, им сопутствовала удача, в других — работу тормозили неуверенность и разнобой.
В каждом классе, как бы коллектив ни был дружен и спаян в единое целое, всегда существует свой центр притяжения сил — ученик или ученица с наиболее волевым, ярким характером. Иногда таких учеников двое-трое, и тогда между ними, неосознанно и незримо, а порой совершенно открыто, происходит ревнивая борьба или же дружелюбное, веселое соревнование.
Так было и в девятом «А».
Очень скоро, после того как класс принялся работать на своем участке, соотношение сил стало ясным. Внешне все ребята, казалось, равномерно распределились по всему участку, но внутри коллектива, — и это чувствовал и знал каждый, — существовало два центра притяжения: одна часть тянулась к Зое Космодемьянской и Лизе Пчельниковой, а другая к Люсе Уткиной и Виктору Терпачеву. Это сказывалось на каждом шагу, во всем — во взаимной помощи, в разговорах и в шутках.
Терпачеву, как только он вместе с Люсей Уткиной пришел на участок, сразу же не понравилось, что придется возиться с мусором. Он протяжно свистнул и сказал:
— Так, значит, мы целый день будем увязывать битый кирпич с основами дарвинизма?
Кругом раздался смех.
Терпачев и не сомневался, что сказанная им фраза всех рассмешит. Он привык к успеху.
Учился Терпачев всегда ровно: как стал в пятом классе круглым отличником, так с тех пор, из года в год, ниже этого уровня не спускался. За что бы он ни принимался, почти все ему удавалось, и, казалось, без особого труда. Он имел хороший голос: пел и декламировал; без его участия не проходил ни один спектакль на школьной сцене, ни один концерт. Терпачев готовился стать актером. Большинство ребят, кто его знал близко, были уверены, что и это ему удастся. Терпачев обладал, по их мнению, всеми данными: рост, голос, смелый взгляд зеленовато-карих, немного навыкате глаз и умение непринужденно, одинаково уверенно держать себя и с маленькими и с большими.
По воскресеньям Терпачев занимался в театральной студии, в одном из переулков на Арбате. Вместе с ним посещал студию и Яша Шварц, мечтавший о комических ролях, низкорослый, добродушный юноша с неустойчивым характером. В классе он сидел на парте сзади Терпачева и Люси Уткиной. Яша, как тень, всюду следовал за Терпачевым. До восьмого класса они сидели на одной парте, были неразлучны, и если расставались на перемене, то уже через несколько минут в коридоре раздавался вопрошающий голос одного или другого: «Где Шварц?», «Никто не видел, где Виктор?» За то, что они всегда ходили вместе, их прозвали «Бобчинский и Добчинский».
Но равенства между этими приятелями никогда не было. Шварц неизменно находился у Терпачева в подчинении: то сторожил его портфель, пока Виктор, по дороге из школы домой, ввязывался где-нибудь в игру в футбол, то бежал куда-нибудь с его поручением, а при совместных дежурствах Шварц выполнял за Терпачева почти все обязанности. И все это он с давних пор делал легко, под флагом неразлучной дружбы и братского тяготения обоих к театральному искусству. Постепенно даже внешность Шварца приспособилась к подчиненной роли: с его узкого, продолговатого, с тонким хрящеватым носом лица никогда не исчезала робкая улыбка, как бы говорящая: «Не надо меня обижать — я маленький». При этом он имел привычку переступать на одном месте с ноги на ногу, потирая руки, словно ему постоянно было холодно.
Шварц был ошеломлен, когда Терпачев в начале занятий в восьмом классе вдруг сел на парту с Люсей Уткиной. Неожиданным это было только для Шварца. Для всех остальных ребят было вполне естественным, что Люся и Терпачев сели вместе, их взаимная привязанность развивалась на глазах у класса, и все отнеслись к этому просто и доброжелательно.
Шварц тяжело переживал «измену друга», но, быстро переболев ревностью, сумел приноровиться к новому положению, с той только разницей, что всю прежнюю покорность по отношению к Терпачеву и готовность к услугам он распространил теперь и на отношения с Люсей.
На школьных концертах и во время спектаклей Терпачев как исполнитель всегда имел успех. Неплохо обстояло дело у Терпачева и дома. В семье, кроме Виктора, детей не было, расточать свои заботы и ласки ни отцу, ни матери больше было не на кого. Работа отца сплачивалась очень хорошо — он занимал должность старшего мастера в цехе крупного завода, — Виктору ни в чем не отказывали.
Своим классом Терпачев не особенно дорожил. Его неодолимо тянуло к старшим: он находил способ участвовать в спектаклях, устраиваемых десятыми классами, не отставал от них, когда они отправлялись на экскурсию, посещал с десятиклассниками музеи и театры. Причем и к ним у Виктора не было заметно какой-либо привязанности, — общение со старшими он рассматривал просто как одну из возможностей поднять свой авторитет. По такому же признаку Терпачев отказывался или же соглашался выполнять те или иные комсомольские и общественные поручения. Охотнее всего он выполнял те поручения, которые давали ему возможность проникать в учительскую и в кабинет директора, чтобы там демонстрировать оперативность, находчивость и умение.
Все особенности характера Терпачева угадывались ясно по одному только выражению его лица и по походке. Особой скрытностью Терпачев не отличался, и у него не было стремления что-либо маскировать в себе. Черты лица он имел резкие, волевые: туго сомкнутые, когда молчит, губы и сжатые челюсти, так что проступают и шевелятся желваки на скулах, гладко зачесанные назад светлые волосы, но не мягкие, как у большинства белокурых людей, а жестковатые, прямые. Он мог бы считаться даже красивым, — таким он и был для Люси Уткиной, — но большинство девочек находили, что его сильно портят холодные, зеленовато-карие, немного навыкате глаза. Что касается роста, — только лишь Шура Космодемьянский был ему под стать; даже Симонов и тот уступал ему. Но Шура держался простецки, как бы стесняясь преждевременной солидности, а Терпачев, наоборот, держался не просто: со всеми был суховат, подтянут и подчеркнуто собран, этому вполне соответствовало и постоянное выражение лица, определявшее его отношение к окружающим: вы, мол, как хотите, а я цену себе знаю!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Зоя предложила прежде всего очистить место вдоль ограды, чтобы успеть посадить уже сегодня хотя бы несколько деревьев. Отец Пети Симонова еще накануне завез на участок предназначенные для посадки липки; они лежали вдоль центральной дорожки с прикопанными корнями.
— Какая там посадка деревьев?! — брезгливо сказала Люся голосом обиженной. — Здесь просто мусорная свалка!
Ей было жаль новых туфель на высоких каблуках, которые она сегодня надела. Люся была уверена, что и на этот раз можно будет, как в прошлом году, слегка поскрести граблями на грядках и затем отправиться с Виктором в кино.
Зоя, не обращая внимания на Уткину, сказала так, чтобы все слышали:
— Нашему классу досталось только трое носилок, сейчас мы их распределим.
— Мы с Виктором, конечно, вместе! — сказал Шварц и поскорее подошел выбрать носилки, чтобы успеть захватить самые маленькие.
— Шурка, давай таскать с тобой, — предложил Симонов.
— А я предлагаю по-другому, — сказала Зоя. — Надо к каждым носилкам прикрепить по трое ребят, чтобы, чередуясь, третьему можно было бы отдыхать. Ну, не бездельничать, конечно, а пока двое относят мусор, он должен подготавливать следующую порцию мусора, а потом с кем-нибудь меняться у носилок.
Лиза поддержала предложение Зои:
— Правильно! Выделим к носилкам девятку из наших любителей спорта: Виктора Терпачева, Космодемьянского, конечно, Петю, Ярослава Хромова…
— Оставь Ярослава в покое, я протестую! — закричал Терпачев, перебивая Лизу, и, продолжая серьезным тоном и этим самым еще больше подчеркивая язвительный смысл слов, сказал: — Необходимо создать условия для творческого роста Ярослава. Носилками он может повредить свои музыкальные пальцы.
Терпачев относился ревниво к Хромову, к тому, что он тоже всегда имел успех на школьных концертах.
— Я тоже протестую против гигантов! — сказал Димочка Кутырин. — Это глупая организация работы. Никто мне не помешает тоже таскать носилки.
— Правильно! — присоединился к нему Шварц. — Хотел бы я посмотреть, кто помешает мне работать вместе с Виктором?
Пока шел этот разговор, Петя и Шура уже успели нашвырять обломков кирпича на свои носилки и, подняв их, направились в сторону двора, слегка покачиваясь от тяжести. Оба шли молча, но каждый понимал, что перестарался — следующий раз надо будет класть меньше.
Когда они проходили мимо Терпачева, он снисходительно похлопал Шуру по плечу и сказал:
— Трудись, Космодемьянский, трудись! Не забывай, что Энгельс говорил: только честный труд дал обезьяне возможность надеть штаны и пиджак, сделал ее человеком!
Шварц захохотал и, как всегда при остротах Терпачева, посмотрел вокруг: какое это произвело впечатление на остальных?
Но все уже дружно принимались за работу, — изречение Терпачева осталось незамеченным.
Случайно оказалось, что Коля Коркин и Зоя работают рядом. Коркин старательно собирал обрезки кровельного железа, относил их и бросал в ту же самую кучу, куда и Зоя подгребала щепки и стружки. Некоторое время они не замечали друг друга, увлеченные работой. А когда Зоя встретилась взглядом с Коркиным, она тотчас же вспомнила наглухо закрытую дверь, перед которой тот заставил простоять ее так долго и все-таки не пустил к себе в квартиру.
Коркин быстро отвел глаза в сторону, но тотчас же опять пристально посмотрел на Зою, упрямо желая показать, что ничего, собственно говоря, не случилось, и этим самым еще больше подчеркивая свое смущение.
Зоя улыбнулась. Коркин не вытерпел и тоже ответил милой, растерянной улыбкой, словно ему было не семнадцать лет, а самое большее двенадцать. И у Зои возникло такое чувство, словно никакой закрытой для нее двери в квартире Коркина и не существовало, будто они тогда обо всем переговорили по-хорошему, поняли друг друга и с этого дня жизнь Коли опять войдет в колею.
Оказалось, что и говорить-то сейчас больше не о чем — надо как можно скорее очистить место вдоль ограды, чтобы можно было начинать копать ямы для деревьев.
Работали весело, ребята подзадоривали друг друга, перекидываясь шутками. Даже Ната Беликова старалась оказаться не хуже других: вот она ухватилась обеими руками за толстый железный прут, уходящий куда-то в глубину под обломки кирпича и дранки с прилипшей к ним засохшей известкой, ухватилась, напряглась, но не смогла одолеть и, посмотрев на ладони, уже выпачканные ржавчиной, добродушно рассмеялась.
— Что, силенок не хватает? — спросил ее Кутырин. — Надо больше манной каши кушать и слушаться маму!
Он помог Беликовой: они осилили железный прут вместе, отволокли его во двор и бросили около кучи со шлаком.
Лиза принялась очищать намеченный для себя участочек с обычной для нее тщательностью и последовательностью, таскала к носилкам обломки кирпичей наравне со всеми и, несмотря на то, что сил у нее, при ее хрупкой тонкой фигурке, было не так уж много, раньше всех докопалась, доскреблась до почвы, обнажившейся из-под мусора.
Отставала одна только Уткина, но что же от нее можно было ожидать? Она боялась поцарапать туфли и вообще не желала пачкаться, потому что не оставляла мысли о том, что им с Виктором так или иначе удастся уйти в кино.
Но почему такой кислый Ярослав? Нездоровится ему, что ли? Нехотя таскал он носилки, чередуясь с Симоновым и Шурой, а когда кто-нибудь из них сменял у косилок Ярослава, он ничего не делал, равнодушно ожидая, когда опять подойдет его очередь. Он думал о чем-то своем.
Зоя хотела подойти к нему, спросить, отчего у него такое настроение, но как раз в это время на участке, где работали десятые классы, раздался взрыв смеха: там стоял Виктор Терпачев и рассказывал анекдоты. Он навалился грудью на носилки, поставив их на землю торчком: две рукоятки, воздетые к небу, образовали как бы раму переносной сцены, и высунувшись из этого отверстия, сильно жестикулируя руками и гримасничая, он изображал анекдоты, что называется, в лицах.
Стоявший возле него Шварц суетливо вертел по сторонам головой с красными ушами, переживая с упоением успех Терпачева у десятиклассников, которые покатывались от хохота и отвлекались от работы.
Зоя хотела уж было подойти туда пристыдить Терпачева или по крайней мере заставить его отдать носилки другим ребятам. Но на полпути ее остановил Ярослав:
— Зоя, мне надо с тобой поговорить.
В глазах Ярослава, в выражении его лица было что-то совсем необычное. У Зои появилась тревожная мысль, как бы их дружеские отношения не пострадали от того, что Ярослав собирается сейчас сказать. Зое стало жаль этих отношений, захотелось их защитить и отодвинуть разговор. Но Ярослав уже говорил:
— Произошла некрасивая история. Я даже не знаю, станешь ли ты после этого разговаривать со мной?
Они стояли и смотрели в глаза друг другу, но Зоя не могла понять, что же случилось. А Ярослав молчал.
— Ну скорее, Ярослав, — стала торопить его Зоя. — Ты меня задерживаешь — надо работать! Терпачев устраивает балаган какой-то, мы тоже с тобой стоим и ничего не делаем.
Ярослав сказал:
— Петина мать нашла в классе пустую бутылку с соской и отнесла ее Ивану Алексеевичу.
Зоя сильно изменилась в лице.
— Кто же мог выпить?
Ярослав опять замолчал.
— Кто же выпил?
— Я выпил! — сказал Ярослав. — Я, Терпачев и Шварц.
Зою ошеломило то, что Ярослав ей сказал. Нелепо! Дико! Неправдоподобно!
С предельной ясностью возникла в ее мозгу картина… Ведь это же было всего только два дня назад! Четверг… вечер, она диктует Пете Симонову и Ярославу, потом разговор о вступлении Ярослава в комсомол, о речи Ленина на III съезде комсомола, разговор, который, Зоя со всей силой и с болью теперь это чувствовала, для нее был очень дорогим.
А Ярослав добавил:
— Мы остались в классе и выпили после уроков.
Голос Ярослава показался Зое совершенно чужим, доносящимся откуда-то издалека.
Так что же она должна была сделать? Да, Зоя вспомнила, пойти на участок десятых классов и отобрать у Терпачева носилки. И Зоя пошла… Как раз на ее пути все еще стоял, не двигаясь с места, Ярослав. И Зоя обошла его, отправляясь за носилками, как обходят неодушевленный, посторонний предмет, загораживающий дорогу.
Неожиданно прямо перед Зоей возник улыбающийся директор с лопатой на плече. Поглощенная тем, что произошло сейчас у нее с Ярославом, Зоя совершенно не заметила, как подходил директор, хотя ребята давно уже увидели, что он пробирается в этот угол, и сигнализировали друг другу. Как ни в чем не бывало, а на самом деле с удвоенным усердием каждый из них продолжал свое дело.
Директора разгорячила работа: парусиновая рубашка взмокла на спине и потемнела, он на ходу осушал платком шею, лоб, туго протирал бритую голову.
— Ну, Зоя Анатольевна, командуй — прибыл в твое распоряжение! — сказал он, снимая с плеча лопату и пробуя ею добраться до земли. Но лопата звякнула обо что-то, уперлась и дальше не пошла.
Терпачев оказался уже тут как тут! Успев на ходу схватить у кого-то грабли для директора, он услужливо протянул их, проговорив:
— Василий Петрович, вот хорошие грабли, лопатой здесь ничего не сделаешь!
Но директор не взял грабли, сказал:
— Нет уж, пускай Космодемьянская командует или Пчельникова. Что староста и групорг укажут, то и стану делать.
Ребята закричали сразу в несколько голосов, перебивая друг друга:
— Кирпичи!
— Василий Петрович, носить кирпичи!
— Таскать на носилках мусор!
Директор рассмеялся:
— Не кричите, не испугаете! А может, Космодемьянская меня пожалеет, найдет работенку полегче?
Зоя смущенно засмеялась, замотала головой и сказала:
— Ребята правильно говорят, Василий Петрович, надо носить мусор.
В это время Марфа Филипповна открыла окно в нижнем этаже школы и крикнула:
— Василий Петрович, к телефону зовут!
Директор расхохотался с добродушным злорадством и торжествующе сказал, поворачиваясь к ребятам то в одну, то в другую сторону:
— Ну, чья взяла? Вот вам и мусор! У кого не хватает лопаты, кому передать?
Но Зоя вдруг крикнула певучим голосом, торопясь, пока мать Пети Симонова не успела еще закрыть окно:
— Марфа Филипповна, скажите, что директор занят: он работает в саду на школьном субботнике!
— Ладно! — отозвалась Марфа Филипповна и закрыла окно, прежде чем директор смог запротестовать.
На этот раз торжествующе смеялись ребята.
— Мусор так мусор! — сказал директор. — Подумаешь, нашли кого испугать!
Терпачеву опять захотелось услужить директору: на этот раз он предложил ему свои носилки. Но директор не взял.
— Так твои же носилки пустые, что ты мне предлагаешь? — сказал он. — Вот я с кем потащу! Смотри, сколько Александр Анатольевич Космодемьянский наворотил. Вот это ноша! Ну-ка, Петя, уступи мне свое место!
Петя, приноровившийся было в паре с Космодемьянским поднять носилки, отошел в сторону. Директор наклонился к земле и ухватился за рукоятки; жилы на его висках надулись, и даже бритая голова покраснела от натуги.
— А ну, давай в ногу! — сказал он Шуре, и они пошли, слегка покачивая на ходу носилками.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Самолюбие Терпачева было сильно задето: он не мог спокойно переносить, если внимание сосредоточивалось на ком-нибудь другом, а не на нем. Терпачев решил высмеять Шуру Космодемьянского, как только представится случай.
Директор больше не вернулся в сад — его поймал во дворе завхоз, и они оба прошли в канцелярию. Шура вернулся один, волоча за собой пустые носилки.
Как только он приблизился, Терпачев громко заговорил, привлекая к себе общее внимание театральным голосом, каким пользовался обычно, выступая на сцене.
— Товарищи! Однажды Шура Космодемьянский зашел в ресторан «Метрополь». Он сел за столик и закинул ногу на ногу.
Едва Терпачев заговорил, Яша тотчас бросил лопату на землю и сел прямо на ворох мусора, которым он до половины уже нагрузил носилки. Приготовившись слушать, он посматривал на всех остальных, как бы спрашивая их: понимают ли, мол, они, как сейчас будет интересно? Несколько человек, следуя его примеру, тоже прекратили работу и смотрели на Шуру Космодемьянского, который сильно покраснел и улыбался обычной своей улыбкой, слегка перетягивающей рот на правую сторону. Он начал было накладывать мусор на носилки, но потом поставил лопату стоймя и, облокотившись на рукоятку, тоже приготовился слушать Терпачева. Терпачев продолжал:
— К Шуре Космодемьянскому подходит официант и спрашивает, кладя перед Шурой на стол карточку с весьма разнообразным меню…
Говоря все это, Терпачев изображал эпизод в лицах: он то подражал жестам официанта, то подделывался под глуховатый голос Шуры, и у зрителей создавалась иллюзия, что они сами присутствуют при событии, разыгравшемся в ресторане.
— Официант спрашивает: «Что желаете покушать, гражданин?» Шура Космодемьянский берет карточку и читает: «Жареный гусь с подливкой — 8 рублей 5 копеек». Шура Космодемьянский скромно облизывается и, проглотив слюну, спрашивает: «Здесь написано: жареный гусь с подливкой, а сколько же стоит одна подливка?» Официант отвечает: «Подливка, гражданин, у нас бесплатно!» — «В таком случае, — говорит Шура Космодемьянский, беря с тарелки кусок хлеба и уже откусывая, — дайте мне одной только подливки».
— Старо! — говорит Кутырин. — Это же поповский анекдот.
Но его никто не слышит, кругом стоит хохот. Добродушно смеется и сам Шура. Восхищенный успехом Терпачева, Шварц вскакивает на ноги и просит:
— Виктор, Виктор, а ну, расскажи, какая разница между папой римским и самоваром?
И, не утерпев, Шварц сам же отвечает, давясь от смеха:
— Папа римский — католический, а самовар — металлический!
Но Терпачев никому не хотел уступать своей роли и вдруг закричал с деланным негодованием:
— За работу! К носилкам! Товарищи, до каких пор мы будем бездельничать?
Однако надолго порыва у Терпачева не хватило. Он отнес со Шварцем мусор всего только раз и, возвратившись, стал поджидать Шуру, чтобы приняться за него вновь. Как только Симонов и Шура опустили носилки на землю и принялись опять нагружать их, Терпачев начал по-прежнему таким голосом, чтобы слышали все:
— Однажды Шура Космодемьянский пришел в ресторан «Арагви» и заказал себе щец!
Еще неизвестно было, какое за этим последует продолжение, а вокруг уже раздался хохот. Ната Беликова подошла слушать поближе. Зоя видела, что несколько ребят также прекратили работу. Она могла бы несколькими словами сбить настроение у Терпачева и заставить его прекратить зубоскальство, — Зоя хорошо умела это делать, но ей не хотелось, чтобы ее вмешательство было бы всеми принято как заступничество за ненаходчивого брата. Ее возмущало добродушие Шуры — с какой стати он терпит шутовство Терпачева?
Но в это время начали раздаваться голоса тех, кого поведение Терпачева тоже возмущало. Первый запротестовал Коля Коркин:
— Витька, замолчи, ты определенно мешаешь работать!
К нему присоединился Димочка:
— В самом деле, Терпачев, брось паясничать!
— Допрыгается до персонального дела, — сказал и Петя Симонов.
Терпачев, сделавший вид, что не обращает внимания ни на Коркина, ни на Кутырина, ответил только на последнее замечание:
— Петька, что с тобой? Это же нетактично, ты мешаешь публике дослушать драматический эпизод из жизни известного посетителя ресторанов.
И продолжал:
— На этот раз в ресторане «Арагви» Шура Космодемьянский попросил себе кислых щей…
Лиза не дала ему продолжать. Она догадалась, почему молчит Зоя, и сказала, подойдя к Терпачеву:
— Виктор, я тебя очень прошу, уходи домой, если ты не понимаешь, зачем мы сюда пришли! Ты сам ничего не делаешь и другим мешаешь.
— Одну минуту, — сказал Терпачев, — я только закончу и больше не буду. Нельзя допустить, чтобы такой эпизод из жизни Шуры Космодемьянского остался для человечества неизвестным… Я больше не буду повторять, что на этот раз заказал себе Шура Космодемьянский. Когда ему подали кислых щей…
Когда Терпачев это произнес, Ната Беликова взвизгнула: «Ой, не могу!», а Шварц, сидевший на пустых носилках, зажав ладони между колен, повалился на бок, обессиленный смехом.
Терпачев продолжал:
— Шура съел полтарелки щей. Вдруг его сосед по столу вскочил и с ужасом закричал, схватив Шуру Космодемьянского за руку: «Гражданин, опомнитесь, что вы делаете?! Ведь у вас в тарелке карабкается таракан!» — «Ну и что же? — сказал Шура Космодемьянский. — Пускай себе карабкается, все равно никуда не вылезет!»
Зоя с недоумением смотрела на Шуру: неужели он и теперь не возмутится? Но Шура по-прежнему спокойно улыбался среди хохочущих товарищей и продолжал наваливать на носилки щепки, стружки и комья высохшей извести. Впрочем, на этот раз не удержался от смеха и Петя Симонов; даже Лиза Пчельникова смеялась.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Иван Алексеевич, услыхав бурный взрыв хохота, направился на участок девятого «А». Он давно уже хотел посмотреть, как идут там дела, но пока пробирался в этот угол, к нему со всех сторон подходили ребята и задавали различные вопросы; отвечая им, Иван Алексеевич, как всегда, увлекался и подолгу задерживался то около одного класса, то около другого.
В шестом классе поднялся спор о названии цветка, — вроде того, что произошел на прогулке у Ирины и Зои: маленький ли это, еще не развившийся одуванчик или же «мать-мачеха»?
Огорченный тем, что у ребят могут возникать вопросы там, где и без того все само собой очевидно, Иван Алексеевич сказал:
— Нельзя на родной земле жить, как в чужой гостинице! Надо знать, что вокруг тебя растет, живет, цветет и дышит!
Потом Ивану Алексеевичу надо было посмотреть, в каком состоянии находятся трехлетние саженцы яблонь и груш, несколько дней назад привезенные из Тимирязевского питомника и пока что прикопанные землей рядом с липками, как раз на границе участка девятого «А»; саженцы оказались в превосходном состоянии. Тут же под присмотром Ивана Алексеевича восьмиклассники начали переносить деревца к приготовленным ямам.
Вот здесь-то Иван Алексеевич и услыхал шумный смех у девятиклассников. Он сразу понял обстановку, одним взглядом оценив, много ли они уже успели сделать. Не мог он, конечно, не заметить, что большинство ребят столпились вокруг Терпачева и бездельничают.
— Не вижу ваших успехов! — сказал Иван Алексеевич. — Вы рискуете остаться в хвосте. Десятые вас обогнали, а ведь их участок захламлен не меньше, чем ваш, если не больше.
Иван Алексеевич, желая поднять дух у ребят, вынул из кармана записную книжку и сказал:
— Посмотрите, друзья мои, этот план. Здесь, где вы сейчас работаете, будет один из лучших уголков сада! И все это создадите вы сами, собственными руками!
К Ивану Алексеевичу со всех сторон начали подходить ребята. Люся Уткина не стала обходить деревце, она хотела перешагнуть яблоньку, но высокий каблук туфли зацепился за ветку, Люся упала с размаху на корневище и под нею что-то хрустнуло и затрещало.
Язев крикнул, когда Люся только еще падала: «Что ты делаешь!» — и с перекошенным от страдания лицом рванулся, чтобы поддержать Люсю, но не успел. Испугавшая криком Ивана Алексеевича, Люся быстро встала на ноги, как будто под нею что-то горело. А он, опустившись около яблоньки на одно колено, — нагибаться ему было трудно, — осматривал и ощупывал пальцами сломанный боковой корень.
— Что ты наделала! — говорил он с дрожью в голосе от внутренней боли. — Нет, вы посмотрите, что она сделала!
Люся молчала, лицо у нее покрылось красными пятнами. По привычке, ища у Терпачева сочувствия и поддержки, она взглянула на него. Он ободряюще подмигнул ей, боковым движением головы указав на Язева: чудит, мол, старик, что с него спросишь!
— Петя! — крикнул Иван Алексеевич, не выпуская из рук корня и оглядываясь по сторонам, но ничего не видя из-за столпившихся вокруг него учеников. — Где Петя?
Когда Симонов протолкался к нему, Иван Алексеевич сказал:
— Петя, беги домой, принеси древесный уголь! Живо!
Стыдясь своей внезапной вспышки, он поднялся, отряхнул колени и, достав ослепительно белый под солнцем платок, принялся тщательно стирать с пальцев налипшую землю. Ему было досадно, что он не мог сдержать себя в присутствии ребят. Помолчав немного, он заговорил:
— Без деревьев, без их плодов на земле не существовало бы и человека. На месте нашего правительства я бы издал закон: каждый человек в Советской стране обязан за свою жизнь посадить хотя бы одно деревце!
Он посмотрел на Люсю Уткину, и вдруг вместо обычного «ты» Иван Алексеевич сказал ей холодное, чужое «вы», точно она училась в какой-то другой школе, а не у него:
— А вы, я думаю, не посадили еще ни одной былинки, а уже ломаете деревья.
Зое стало жаль Люсю. Не такой уж она совершила тяжкий грех. Ну, упала, споткнулась, так разве Люся это сделала нарочно? Зачем Иван Алексеевич так много говорит об этом? Зоя испытывала совершенно непривычное для нее чувство неловкости за учителя, которого она так уважала.
В калитке сада появился Петя. Он нес огромный чугун, полный углей, схватив его в охапку обеими руками. Увидев его, Иван Алексеевич отвернулся и даже махнул рукой, как бы досадуя на то, что в такую серьезную минуту Петя делает нелепость.
— Зачем целый чугун? — сказал Иван Алексеевич и вдруг затрясся от беззвучного, неудержимого смеха. Так неожиданно разрядилось его напряжение. Он схватился обеими руками за грудь и закашлялся.
Когда он успокоился, лицо у него опять стало грустным. Выбрав из чугуна хорошо обожженный березовый уголек и наклонившись к земле, он тщательно растер его в порошок между двумя кирпичами.
Тем временем Зоя, знавшая уже, что в таких случаях поврежденные места корня надо натирать угольным порошком, приподняла от земли комель яблоньки и держала его перед Язевым.
Иван Алексеевич быстро и ловко обрезал обломанные корни кривым садовым ножом. Натирая гладкие места среза углем, он сказал:
— Это как йод для нас с вами. Так же надо поступать и с комнатными растениями, если они повреждены или если при пересадке приходится удалить часть корней.
Закончив операцию, Иван Алексеевич добавил:
— Берегите деревья — это наши друзья! В Индии есть трогательная поговорка: «Дерево не лишает своей благодатной тени даже того, кто его рубит».
Иван Алексеевич ушел. Уткина, подождав, пока он отойдет на такое расстояние, чтобы ее слов не было слышно, сказала:
— Язев любит устраивать нравоучительные спектакли: в пятницу разыграл в биологическом кабинете трагедию под названием «Злодей Терпачев», а сегодня мелодраму «Деревья — наши друзья». Как будто я действительно нарочно упала на это проклятое дерево. Как ему не стыдно!
Говоря это, Уткина передразнила Ивана Алексеевича, вобрав голову в плечи и стараясь одно из них поднять выше другого. Но этого ей все еще было мало. Чтобы удовлетворить уязвленное самолюбие, она продолжала:
— У него очень редкое сочетание талантов: ставит пьесу собственного сочинения, сам драматург, сам режиссер и он же актер-любитель.
Все, что Уткина говорила о Язеве, настолько не вязалось с этим строгим, подчас даже суровым, но любимым ими человеком, что всем стало нестерпимо стыдно. Даже Терпачев молчал и не поддержал ее ни одним словом.
Зоя, которая только что пожалела ее, не дала теперь Уткиной продолжать.
— Перестань! Как тебе не стыдно?! Мы любим Ивана Алексеевича и не позволим тебе зубоскалить на его счет.
Лицо у Люси стало злое, на лбу и на щеках опять появились неровные красные пятна. Она развязно вскинула обе руки, подняла их кверху и сказала:
— Сдаюсь! Ты, Космодемьянская, по обыкновению, ужасно правильная! Разве можно тебя убедить хоть в чем-нибудь?
Люся Уткина с малых лет заслуги отца бездумно переносила на самое себя: папа считается передовым, очень способным человеком; папу от учреждения выдвигают на курсы повышения квалификации; папа получает повышение по должности; папа имеет большой авторитет: когда кто-нибудь разговаривает с папой, то даже тон у этих людей меняется; папа бывает на съездах, о которых пишут в газетах; папа работает над повышением своего теоретического уровня — изучает классиков марксизма-ленинизма; папа вместе с группой работников завода получил орден в Кремле; по выходным дням папа имеет возможность пользоваться персональной машиной.
Все это, происходящее в течение нескольких лет на глазах у дочки, кажется ей частью ее самой, неотделимой от ее собственного существования.
Люсе есть с кем посоветоваться, когда она готовит уроки; к тому же Люсе наняли репетитора по немецкому языку; сверх того по четвергам к Люсе приходит учительница музыки. Неудивительно, что Люся с шестого класса круглая отличница. У Люси достаточно денег, чтобы купить какие угодно книги и по какой угодно цене, поэтому ей никогда не приходится тратить времени ни на хождение в библиотеку, ни на посещение читальни. У Люси достаточно личных «карманных денег», чтобы, когда она захочет, пойти в театр или в кино; платье она, конечно, не покупает готовое в магазине, причем портниха приходит сама к ней на дом (опять экономия времени).
Люсе семнадцать лет, но она уже два раза побывала на Черноморском побережье: один раз — в Крыму, другой — на Кавказе.
Она не была глупа и обладала способностью быстро все схватывать, но ей не хватало глубины: все у нее лишь внешнее, поверхностное, без внутреннего искреннего интереса; никто не знал: чем же Люся увлекается по-настоящему, кроме постоянного стремления всем нравиться и во всем быть первой?
Походка у Люси сдержанная, с первого взгляда скромная, но это тоже результат привычки к исключительности — ей, видите ли, неприлично быть суетливой в движениях. Люся любит танцы, но при этом манерничает, предпочитая танцевать «стилем». И, только играя в волейбол, она по-настоящему увлекается, не следит за собой и бывает на площадке такая же подвижная и, если надо, такая же резкая в движениях, захваченная игрой, как все остальные.
Сейчас Люся понимала, что ей не удалось как следует ответить Зое, и это ее мучило. Пропала всякая охота работать. Люся и без того, как только увидела мусор на участке, с самого начала испытывала неприязнь к этой затее с выходом всей школы в сад на субботник. Чувствуя, что надолго у нее не хватит терпения, Люся принялась с демонстративным усердием орудовать граблями и, сгребая щепки и стружки, подняла вокруг себя невообразимую пыль. Ей хотелось, чтобы в струю этой пыли попала бы Зоя. Но слабый ветерок относил пыль через решетку на улицу. Грабли зацепили за обломок доски, придавленной кирпичами, и застряли. Люся попробовала вытащить доску руками, но сейчас же бросила, почувствовав острый укол.
— Черт знает, что такое! — зло сказала она, стараясь прикусить зубами кончик маленькой занозы и вытащить ее из пальца.
Подошел Терпачев. Он предложил зацепить занозу и вытащить английской булавкой. Ему было приятно взять маленькую руку Люси в свою руку, и он старался задержать ее подольше. Пока он вытаскивал занозу, Люся говорила ему тихо:
— Я не привыкла оставаться в дураках. Разве это работа в саду? Это какая-то свалка! С меня хватит, сейчас уйду.
— Подожди, Люся, — сказал Терпачев, — уйдем вместе. Сейчас неудобно. Поработаем еще полчаса. А то Зойка поднимет хай на собрании.
Но Терпачеву не удавалось вытащить занозу: кончик ее обломился, а проникнуть, булавкой под кожу глубже Люся не давала, морщась от боли, отдергивая палец. Попробовала вытащить Ната Беликова — у нее тоже ничего не получилось.
Петя предложил:
— Давайте вызовем «скорую помощь». Пускай отвезут Уткину к Склифосовскому. Тогда и Терпачев уйдет — никто нам мешать больше не будет.
К удивлению всех, Терпачев не нашелся, что ответить.
Зоя подошла к Люсе:
— Давай я вытащу, ведь это же так просто!
— Еще чего недоставало! — сказала Уткина и, повернувшись к Зое спиной, отбросила в сторону грабли, которые она все еще держала в одной руке, и заявила: — Вы, товарищи, как хотите, а с меня хватит! Я считаю, что мы достаточно поработали.
Петя Симонов, накладывавший на носилки мелкий мусор, отбросил лопату в сторону, подошел к Люсе и, уперев руки в поясницу, глядя на нее в упор, загораживая ей дорогу, сказал:
— Ты знаешь, Люська, что я тебе скажу? Ты знаешь, что я тебе скажу?
— Ну, что ты мне скажешь, что ты мне скажешь? — в свою очередь задала ему вопрос Люся.
— Ничего я тебе не скажу! Все ясно и так! — проговорил Петя с уничтожающим взглядом и пошел к носилкам.
Зоя сказала:
— Пожалуйста, уходи, Уткина! И ты, Терпачев, уходи! Вы сами ничего не делаете и другим мешаете. Завтра устроим собрание и разберем ваше поведение.
— Ты меня, Космодемьянская, не пугай собранием, — сказала Уткина. — Ты сама во всем виновата, а теперь отыгрываешься на других. Обычная твоя демагогия! Всюду хочешь быть первая, хочешь, чтоб все видели твой героизм. Почему ты согласилась, чтоб нашему классу достался такой безобразный участок? Почему ты ни с кем не посоветовалась? Разве Виктор не прав? Весь этот мусор давно уже должен был убрать Петин отец и вывезти на лошади, а после этого уже можно было бы начинать действительно учебную программу!
Петя Симонов потемнел от этих слов Уткиной. Вспыльчивый и всегда немедленно дающий «сдачу», Петя на этот раз не произнес ни звука. Зоя чувствовала, как все ребята возмущены барской выходкой Уткиной, но никто не хочет ничего говорить, потому что жалеют Петю, всем стыдно за Уткину. Зоя поняла, что теперь Уткина непоправимо упала в глазах всего класса.
Зоя и до этой минуты честно трудилась изо всех сил, но теперь она как-то вдруг вся просветлела.
— Товарищи! — обратилась она ко всем, повеселев и не обращая никакого внимания ни на Уткину, ни на Терпачева, как будто их уже не было в саду. — Товарищи, давайте дружно возьмемся за дело! Теперь нам никто не будет мешать. Смотрите, десятые и восьмые уже закончили. Мы тоже вполне можем успеть. Осталось не так уж много. Ведь больше среди нас не будет дезертиров!
— Ого! — произнесла вызывающе Уткина.
Она что-то собиралась сказать, но ее опередил Терпачев:
— Ты еще пожалеешь об этих словах, Космодемьянская. Тебе еще придется извиняться перед нами!
Вместе с ними ушел, конечно, и Шварц. Раза два он, правда, оглянулся — ему не так уж легко было оставить товарищей. Увидев, как дружно все принялись за работу, он заколебался. Но в это время Терпачев взял его под руку, и Шварц больше не оборачивался. Когда они уже прошли через калитку и скрылись во дворе, к Зое подошла Ната и заискивающим голосом заговорила:
— Зоя, милая, ты не сердись на меня. Мне надо тоже идти, я обещала маме пойти с нею в Мосторг.
Зоя ничего не ответила, — ей нестерпимо противен был заискивающий, фальшивый тон Беликовой. Руки Зои заработали быстрее: присев на корточки, она выбирала крупные обломки кирпича и швыряла их Коркину и Кутырину, — они ловили кирпич на лету и укладывали на носилки.
Беликова стояла возле Зои, все еще не решаясь уйти. Потом присела рядом с нею и заговорила тихо, чтобы никто не слышал:
— Зоя, я должна сказать тебе одну вещь… Только обещай никому не говорить. Обещаешь?
Зоя продолжала молчать.
Несмотря на то, что Зоя ничего ей не обещала, Беликова сказала:
— Только тебе могу открыть тайну, — никому другому. Вчера я встретила на улице Шварца — пьяный-пьяный, честное комсомольское! Идет и плачет. Я подошла, он говорит, что первый раз в жизни напился. Это они вдвоем с Терпачевым выпили бутылку, которую мы Коркину подарили. Я сегодня сама спросила Терпачева. Он пригрозил, что если я кому-нибудь расскажу, то всю жизнь буду раскаиваться.
— Зачем ты все это мне рассказываешь? — спросила Зоя. Она выпрямилась и пристально смотрела в глаза Беликовой, которая тоже поднялась.
— Ой, Зоя, неужели ты меня выдашь?
Зое стало противно видеть перед собой ее испуганное лицо и беспокойно бегающие по сторонам лживые глаза.
— Советую тебе прочесть стихотворение Маяковского: «Общее руководство для начинающих подхалим».
— Обязательно прочту! — угодливо сказала Беликова, не поняв даже, какой смысл придавала Зоя своим словам. — А теперь я побегу, а то мама рассердится.
Она в самом деле побежала. Обогнув через двор здание школы, Беликова вышла за ворота, и было видно через решетку ограды, как она догнала Люсю и Терпачева и пошла вместе с ними.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Не удалось все-таки девятому «А» закончить в этот день работу. Никто не заметил, как на западе поднялась огромная грозовая туча — высокий корпус школьного здания заслонял эту часть небосклона.
Младшие классы давно уже разошлись по домам; постепенно ушли десятые, восьмые; справился со своей долей работы и класс девятый «Б»; на школьном участке задержался один только девятый «А» и отдельные небольшие группы учеников из различных классов, не торопившихся уходить домой. Из педагогов дольше других оставался Иван Алексеевич, но и его наконец вызвал к себе директор и засел с ним в кабинете над уточнением плана экзаменов.
Ветер поднялся внезапно.
Лиза первая заметила, что происходит что-то необычное. Она сказала:
— Зоя, посмотри, что это такое?
Зоя разогнула спину и повернулась в ту сторону, куда смотрела Лиза. Далеко за трамвайными путями, на огородах, около насыпи Белорусской железной дороги поднялся высокий столб пыли, точно там рухнуло какое-то большое здание и за дальностью расстояния не слышно звука падения. Зоя ждала, что звук вот-вот дойдет сейчас и до них. Но долгое время ничего не было слышно, а пыль не только не улеглась, а, наоборот, захватывала все большее пространство; она поднималась уже по всему огороду, и на фоне ее общей мглы, постепенно заслоняющей Москву, полетели, как встревоженные голуби, клочки бумаги, поднятой с земли вихрем. Внезапно с противоположной стороны, точно из нутра самой школы, раздался резкий, сухой удар грома. Никакой молнии не было видно, так как на школьном участке продолжало светить яркое солнце. Но вот поднимавшаяся все выше и выше от земли желтая мгла дотянулась и до солнца. Вороватый наскок ветра, вырвавшегося из-за угла школьного здания, начисто сдул щепки и стружки с носилок, которые Симонов и Шура Космодемьянский только что подняли с земли. На школьном участке поднялась невообразимая пыль. Нарастающий ветер завертел над еще не убранным участком мусор, и мелкие щепки и стружки полетели через ограду поперек улицы, падая и катясь по трамвайным путям. Пришлось зажмуриться от пыли. Зоя хотела взглянуть, как ведут себя ребята, но тотчас же закрыла лицо ладонями. Невозможно было даже что-нибудь крикнуть, страшно открыть рот.
Раздался второй удар, еще более сильный и на этот раз более раскатистый, с постепенным замиранием вдали, за Тимирязевским прудом, отдельных, как бы отколовшихся от глыбищи основного удара и посыпавшихся от него в разные стороны звуков. И точно именно этого удара и не хватало для того, чтобы сорвать мешавшую дождю какую-то помеху: после мгновенной тишины вдруг хлынул шумный, обильный, неудержимый ливень, сразу утихомиривший пыль и уложивший неподвижно легкие стружки и щепки.
— Ребята! — крикнул вдруг Петя радостным, срывающимся от восторга голосом. — Не расходись, давайте сегодня все закончим!
Но тотчас же раздался голос директора, старавшегося перекричать шум дождя. Он высунулся из окна кабинета и кричал в рупор, свернутый из газеты:
— Сейчас же прекратить работу! Не забывайте про экзамены! Никому не разрешаю мокнуть и болеть!
С визгом и хохотом все бросились к калитке, обгоняя друг друга на ходу и прыгая через грядки и кучки навоза, принесенного в сад, но еще не разбросанного равномерно по всему участку.
Длинноногий Симонов летел впереди всех. Проскочив калитку, он на секунду задержался, скользя по уже раскисшей земле, как на лыжах. Он предложил: «Ребята, айда все ко мне!» — и понесся дальше. Некоторые приняли его приглашение, а другие соблазнились более близким укрытием — юркнули в раскрытую дверь школьного подвала, где стоял котел отопления; других больше устраивал сарай-склад садового инвентаря.
Пока Зоя добежала до сарая, она сильно промокла. Но быстрый бег взбудоражил ее, помог отбросить досаду: ее больше не угнетала сегодняшняя неудача в саду. Чем быстрее она бежала, тем больше нарастала у нее уверенность, что все-таки она добьется того, что хочет. В ее сознании на бегу проскакивали, как искры, отдельные мысли: «Завтра, после уроков, устроим собрание, поборемся с дезертирами, посмотрим, кто кого! Уж там-то мы своего добьемся!»
В сарае отряхивались, шумно дыша, ее брат Шура и Ярослав. Следом за нею перескочила порог Лиза Пчельникова, сразу как-то осунувшаяся, словно вдруг похудевшая от быстрого бега; она тяжело дышала и торопливо облизывала посиневшие губы; растрепавшиеся волосы прилипли к ее мокрому лбу.
Блестела голова от дождя и у Зои, короткие мокрые волосы плотно, как прилизанный парик, обтянули голову, делая ее совершенно похожей на мальчишку с торчащими, резко выделяющимися теперь ушами. Намокшая материя кофточки, как пластырь, приклеилась к телу, и это вызывало у Зои стыдливое чувство. Отойдя в дальний угол сарая, она отвернулась от мальчиков и старалась отлепить кофточку от кожи, расправить ее на груди.
В это время раздался удар грома, более резкий, чем все предыдущие. Лиза вобрала голову в плечи и присела, но тотчас же выпрямилась и сама же смущенно рассмеялась над своим испугом.
Ярослав стоял в сарае ото всех в стороне и молча обтирал носовым платком шею и уши.
Никого не стесняясь, Шура принялся стаскивать с себя туго подававшуюся, мокрую рубашку, чтобы как следует отжать ее.
Лиза что-то сказала, с трудом приоткрыв рот — ее сильно знобило. Она скрестила на груди руки, обхватив ладонями плечи, и так старалась согреться.
Никто не расслышал, что она пролепетала, над самой головой гудела от потоков воды низкая железная крыша. Дима Кутырин подставил ухо к вздрагивавшим губам Лизы и потом, как во время детской игры «в телефон», улыбаясь, пересказал Зое на ухо: «Передай своему брату: завтра собрание!»
— Само собой разумеется — завтра собрание! — крикнула Зоя так громко, что ее услышали все.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
В понедельник, едва раздался звонок, зовущий к первому уроку, в класс вошел Иван Алексеевич и, не дожидаясь, пока все займут свои места за партами и успокоятся, объявил:
— Прошу участников безобразия, которое здесь было совершено в субботу, зайти ко мне в кабинет после первого урока.
О пустой бутылке Язеву доложила мать Пети Симонова еще в субботу после уроков. Все ребята успели уже разойтись по домам, поднимать же разговор об этом чрезвычайном происшествии в саду, будоражить ребят во время работы Иван Алексеевич считал недопустимым.
Никто не посмел отрицать свою вину. Язев и не сомневался, что так оно и будет. Но он по-настоящему был поражен, когда после стука в дверь и разрешения войти первая переступила порог его кабинета Зоя Космодемьянская. За нею шли Терпачев и Шварц, имевший несчастный, униженный вид: уши у него так горели, точно ему только что кто-то надрал их. Последним вошел и закрыл за собою дверь Ярослав Хромов.
Язев спросил Зою:
— Зачем ты здесь, я тебя не звал!
Зоя, и без того стоявшая ближе всех к Язеву, после его вопроса сделала еще шаг вперед и заговорила:
— Я считаю себя виноватой больше всех. Я видела бутылку, я знала, что она находится в классе. Я могла бы все это предотвратить и ничего не сделала. Можно было бы налить в бутылку простой воды и чем-нибудь подкрасить, это произвело бы ничуть не меньшее впечатление на Коркина.
Язев взял один из стульев, стоявших у стены, и, перенеся его к окну, сказал тихо и этим сразу отделил Зою от остальных:
— Сядь и не мешай нам!.. А вам вот что скажу, — произнес он суровым голосом, выйдя на середину комнаты: — Вы совершили постыдный поступок! Вы осквернили школу, то есть то, что для всех нас является святым!
Язев долго молчал, переводя глаза с одного на другого: то на Терпачева, то на Хромова или же на Яшу Шварца. Никто из них не отвечал на его вопрос, потому что он и не требовал ответа. Все стояли молча, и каждый смотрел в пол, не выдерживая взгляда ясных, суровых глаз.
Язев продолжал:
— То, что вы сделали, вызывает у нас презрение. Уходите, мне тяжело с вами говорить! На сегодня вы лишаетесь права сидеть рядом с теми, кто пришел сюда учиться человеческому достоинству. Но после того, как ваши товарищи закончат трудовой день, вы обязаны явиться на собрание, которое состоится после уроков. И вы будете отвечать перед всем коллективом. А сейчас уйдите из школы, вы ее недостойны!
Никогда Зоя не думала, что она может увидеть Ярослава таким, какой стоял он сейчас перед Иваном Алексеевичем, рядом с Терпачевым и Шварцем: бледное его лицо было спокойным, но верхняя губа, затененная чуть наметившимся золотистым пушком, все время дергалась, дрожала. И это производило самое тягостное впечатление. Хотелось встать, подойти к Ярославу и прижать пальцем губу, лишь бы она так невыносимо не дергалась. Зоя не могла больше-смотреть на него, перевела взгляд на Шварца.
Оттого что Шварц боролся с собой, стараясь не расплакаться, его лицо искривила гримаса. Иван Алексеевич, подумав, что Шварц хочет что-то сказать, выставил вперед, как запрет, руку с поднятой ладонью и резко сказал, останавливая всякую попытку начинать разговор:
— Ступайте!
Язев долго стоял посреди комнаты, подтянутый и суровый, высоко подняв голову. Казалось, он совершенно забыл о том, что Зоя сидит у окна. Постепенно приходя в себя, он глубоко вздохнул и, достав из бокового кармана пиджака чистый, нетронутый еще носовой платок и широко его расправив, приложил, прижал ладонями к своему лицу, а затем принялся вытирать им руки, каждый палец отдельно, словно только что умывался. Пряча платок, он повернулся к Зое и спросил ее:
— Космодемьянская, напомни, пожалуйста, зачем я просил тебя остаться?
Зоя поднялась. Она хорошо понимала состояние Ивана Алексеевича и заговорила таким тоном, словно не присутствовала при той сцене, которая только что произошла в кабинете.
— У нас к вам просьба, Иван Алексеевич, от актива комсомола. Обстановка очень сложная. Наш классный руководитель, Екатерина Михайловна, белеет. Мы просим вас быть на собрании.
— У меня сегодня трудный день, — сказал Язев. Помолчав немного, он спросил: — А в чем сложность обстановки в вашем классе? Ты имеешь в виду эту историю с соской?
— Это еще не все. Нет у нас дружного коллектива. Не можем общими силами ликвидировать двойки.
— Да, пора с этим кончать!
— Вы же знаете, Иван Алексеевич, у нас до сих пор в ходу и подсказки и шпаргалки — детское понимание товарищеской взаимопомощи. А настоящей спайки в коллективе нет. Даже работу в саду мы не сумели закончить. Уткина и Терпачев бросили работу и ушли, для них коллектив ничего не значит.
— Ведь вам помешала гроза, — сказал Язев. — У вас на участке не так уж много осталось доделать.
— Если бы коллектив был настоящий и все работали по-комсомольски, можно было бы все закончить до грозы.
— В чем же дело, Космодемьянская? Прежде чем проводить собрание, ты должна выяснить свою собственную точку зрения. Где же корень всего того, что у вас происходит?
— Я об этом думала.
— Ну?
— Я убеждена, что главная вина лежит на мне самой. Я еще недостаточно опытная как групорг. В чем-то я ошибаюсь. Во всяком случае, работу в саду я не сумела организовать, — для меня это теперь совершенно ясно. Мы, конечно, советовались всем активом, но этого мало. Я вообразила, что раз работа в саду — мероприятие всей школы, а не только нашего класса, если в раздевалке висит плакат, то это и все, значит, каждый из ребят должен понять, какая на нем лежит ответственность. Оказывается, этого мало.
Зоя хотела говорить еще, но Язев остановил ее.
— Ты хочешь, чтобы я был на собрании. Хорошо, я постараюсь. Но должен сказать тебе вот еще что, Космодемьянская…
Он задумался на минуту, потом предложил:
— Давай все-таки сядем. А то получается как-то на ходу, а я очень хотел бы, чтобы ты запомнила то, что я скажу… Видишь ли, самокритика вещь совершенно необходимая. Но у тебя в разговоре получается уж слишком много местоимения «я», «я», «я», «я», «я»! Подумай вот о чем… У людей бывают разные характеры: одни приписывают себе слишком много достижений, другие преувеличивают свои недостатки.
— Почти то же самое сказала мне моя мама.
— Да! Так вот, очень важно решить, очень важно решить, — повторил он, — отчего человек приписывает себе слишком много недостатков и делает себя автором излишнего количества ошибок? Иногда это происходит от робости, иногда это происходит от желания прибедниться, чтобы избавить себя от ответственности; иногда, наоборот, от желания выдвинуться на первый план, хотя бы при помощи ошибки.
Пока Язев говорил, Зоя краснела все больше и больше, словно все его слова относятся именно к ней.
— Но есть и такие девочки и мальчики, которые преувеличивают свои недостатки, потому что в них говорит совесть высокого типа. У таких людей повышенное чувство долга. Вот таким людям, особенно когда они молоды и не имеют достаточного опыта в жизни, таким людям я всегда готов помочь и всегда буду помогать.
Иван Алексеевич посмотрел на ручные часы, как делал перед окончанием урока.
— Теперь иди, — сказал он, дотронувшись до плеча Зои. — Я постараюсь быть на вашем собрании. Но если я не приду, значит, не смог. Тогда действуй. Я уверен, убежден, что ты справишься сама.
Едва Зоя вышла из кабинета, раздался звонок, перемена окончилась.
Второй урок прошел очень быстро и, как всегда после него, — это был любимый предмет Зои — литература, — осталось чувство сожаления, что он окончился слишком скоро.
Сегодня Вера Сергеевна пришла на урок в состоянии какого-то радостного подъема, и то, что она начала говорить о Льве Толстом, к изучению которого приступал класс, захватило Зою с первых же слов.
Все нравилось Зое в Вере Сергеевне: ее лицо, совсем еще молодое (только два года назад она окончила педагогический институт), манера держать себя в классе и то, как одевалась Вера Сергеевна: серая шерстяная кофточка с длинными, узкими рукавами и высоким воротом, наглухо закрывавшим шею, во всем — соединение приветливой простоты с большою требовательностью, которая скорее угадывалась, нежели проявлялась до сих пор в чем-либо во время занятий.
Худощавое лицо Веры Сергеевны со светло-карими глазами, зоркими, ничего не пропускающими мимо себя без свежего, пристального внимания, гладко зачесанные назад темно-русые волосы, стянутые сзади слабым, низко спускающимся узлом, — все это напоминало Зое что-то давным-давно знакомое, но она так и не могла догадаться, кого же именно напоминает ей Вера Сергеевна. Однако Зоя была уверена, что рано или поздно вспомнит.
У нее было странное чувство к этой преподавательнице: Зоя никогда не ощущала большой разницы в их возрасте — Вера Сергеевна казалась ей сверстницей. Это происходило оттого, что Вера Сергеевна обладала редким даром разговаривать с учащимися с такой душевной откровенностью, с такой яркой свежестью, как будто бы она первый раз в жизни говорит об этом и сама только вчера еще, даже сегодня ночью, закончила читать Чернышевского, Тургенева, Толстого — того из этих писателей, о ком сегодня идет разговор на уроке.
Вера Сергеевна так же, как и многие из ее учеников, могла стесняться и внезапно вспыхивала от смущения; так же, как Зоя, могла неожиданно разразиться искренним смехом, и это очень роднило ее со всеми. Она умела вовремя поставить жгучий вопрос и вызвать плодотворный горячий спор в классе о каком-нибудь произведении и сама с неподдельным, живым интересом принимала участие в споре, как равный с разными.
И никто никогда не воспользовался этим в дурную сторону — для панибратской развязности, никто не нарушал дисциплины, на уроках литературы всегда был образцовый порядок.
Конец урока Зоя воспринимала как разлуку: жаль было отпускать Веру Сергеевну, хотелось еще и еще задавать ей вопросы. «Какое счастье, — думала Зоя, — если бы можно было ходить с Верой Сергеевной на прогулки, вот так же, как с Ириной. Ходить по переулкам, по огородам, по Тимирязевскому парку и все спрашивать, спрашивать, спрашивать и самой говорить, и опять спрашивать, чтобы в жизни ничего, ничего не оставалось больше неясным!»
Когда раздался звонок, Вера Сергеевна обрадовала: обещала весной еще раз пойти с классом в Третьяковскую галерею. Тему экскурсии она тут же объявила: «Люди шестидесятых годов — современники Чернышевского в творчестве передвижников».
В коридоре к Зое подошла Лиза Пчельникова и сказала:
— Какие идиоты наши мальчишки! Подумай только — ни Ярослав, ни Витька, ни Шварц не слыхали, что сегодня рассказывала нам Вера Сергеевна. Сегодня я прямо влюбилась в нее. Какая она чудесная! Правда, Зоя?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
На третьем уроке настроение у Зои изменилось. Физику преподавал педантичный, сухой Сергей Сергеевич Бачинский. Он вел урок с таким видом, как будто ему самому все на свете, в том числе и физика, давным-давно надоело.
У него была тяжелая, круглая голова с широким, плоским лицом, как бы вдавленным внутрь при какой-то катастрофе. Для такого лица глаза у физика были маловаты. Никто не считал его злым или придирчивым, наоборот, он ко всем относился вяло-снисходительно. Просто это был скучный человек, и никому не хотелось знать, почему он таким стал, и существует ли все-таки что-либо в природе, что его может по-настоящему взволновать?
Физик вызвал к доске Нату Беликову. Пока она, путаясь в решении задачи, начала оглядываться на товарищей, вымаливая заискивающим взглядом подсказку, Зоя отвернулась и начала смотреть на верхушки берез за широким окном, лишь бы только не видеть жалкого состояния Беликовой.
Почки на ветвях берез уже чуть-чуть проклюнулись, и едва уловимый зеленовато-дымчатый налет, как воздушная пыльца, припорошил их вершины; слабый ветер отводил в сторону гибко свисающие, длинные ветки, но они лениво, нехотя поддавались ему и возвращались на прежнее место, сгибались и опять выпрямлялись.
Как только Зоя отвлеклась от того, что происходило в классе, ею вновь овладела тревога: сумеет ли она провести собрание комсомольской группы? Главное, с самого начала задать собранию нужный тон. Она сама, конечно, должна выступить первой.
У Ленина есть замечательное высказывание о том, что недопустимо скрывать ошибки, надо их своевременно вскрывать и ликвидировать. Во время перемены надо будет попросить библиотекаршу помочь найти эту цитату.
Затем необходимо подвергнуть общей критике положение в классе, вскрыть недостатки, особенно подчеркнуть события последней недели: падение дисциплины, рост неудовлетворительных отметок, небрежное выполнение комсомольских поручений. После этого перейти к позорной истории с бутылкой, нахальству Терпачева по отношению к Ивану Алексеевичу и, наконец, — дезертирство Уткиной и Терпачева, паника перед трудностями работы.
Здесь нужно будет процитировать Сталина: он показал замечательный пример — рыбаков, бесстрашно переплывающих во время бури реку.
Физик, заметив, что Зоя не отрываясь смотрит в окно, куда-то вверх, и занята своими мыслями, сказал:
— Космодемьянская, помогите Беликовой, у нее не получается.
Зоя вспыхнула, посмотрела на доску, но продолжала сидеть. Потом она медленно поднялась и с обычной прямотой сказала:
— Извините, Сергей Сергеевич, я отвлеклась и не следила за ходом решения задачи.
Весь класс смотрел на нее с удивлением. Не было еще такого случая, чтобы вопрос преподавателя мог застать Зою врасплох.
Люся обернулась назад, фальшиво-снисходительно скривив губы. Ей хотелось обменяться понимающим взглядом со Шварцем, раз уж рядом с ней не было Терпачева, она забыла, что и Шварца тоже нет в классе. Увидев вместо него пустое место, Люся подняла руку и попросила:
— Разрешите мне?
Но физик, просматривая по списку фамилии, прижал одну из строчек пальцем и вызвал:
— Коркин!
Пока Коля Коркин обдумывал задачу, Зоя продолжала стоять; она разобралась в том, что поставило в тупик Нату Беликову, и, обнаружив ошибку, быстро прошла к доске, стерла все лишнее и на чистом месте написала правильное решение.
С этой минуты она больше не теряла власти над своим настроением, внутренне подобралась, подтянулась и силой воли заставила себя быть внимательной на всех остальных уроках.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
Грешники, отлученные на сегодня от школы, по-разному провели этот день.
Терпачев, вместе со своей короткой тенью Шварцем, сел в метро на станции «Сокол» и вышел с ним на площади Маяковского. Здесь в кинотеатре «Москва» приятели посмотрели картину «Танкер «Дербент». Потом они прошли пешком к площади Свердлова. По пути заходили во все магазины подряд. Ничего они не покупали, да и не искали, им необходимо было только одно — как бы убить медленно ползущее время. В «Метрополе» приятели посмотрели второй раз ту же самую картину «Танкер «Дербент».
Это были несчастные ребята. Если бы Шварца попросили рассказать содержание картины, он даже не смог бы всего вспомнить, настолько был погружен в свои собственные переживания.
Терпачев храбрился. В начале прогулки Шварц несколько раз пробовал было заговорить с ним то о сцене в кабинете у Язева, то возвращался к событиям вчерашнего дня во время работы в саду, но Терпачев каждый раз отмахивался от Шварца: дескать, на все эти мелочишки ему наплевать!
За весь бесконечно долгий для них день приятели почти не раскрывали рта, и Шварц молча задирал голову, чтобы иногда взглянуть на длинного товарища. Тот тоже со своей высоты порой посматривал на красные уши Шварца. И оба молчали. А между тем только продолжительная беседа с повторным прощупыванием и перебиранием всех мелких подробностей, только это и было сейчас нужно приятелям, только такая беседа и облегчила бы их душу. Но тут-то и сказалась вся степень их неравенства в дружбе: Терпачев считал Шварца удобным для себя, но отнюдь не в таких серьезных делах, — сейчас он был для него слишком мелок. Терпачев страдал оттого, что сейчас рядом с ним нет Люси Уткиной. Вот с кем надо говорить о Космодемьянской и об Иване Алексеевиче Язеве!
Он один, можно сказать в одиночестве, вынашивал план, как ему надо действовать сегодня на комсомольском собрании, план, явившийся полной неожиданностью для Зои.
Обратный путь приятели проделали по тому же самому маршруту, но в магазины больше не заходили. В вестибюле станции «Маяковская», на деньги Шварца, они съели по два бутерброда с красной икрой и выпили по два стакана газированной воды с сиропом; за воду тоже платил Шварц.
К зданию школы друзья подошли за двадцать минут до окончания последнего урока, но подняться на третий этаж все еще не решались. Они ходили по тротуару вдоль ограды, туда-сюда, пока минутная стрелка электрических часов на фасаде школы, делавшая маленький прыжок через каждую минуту, не оставила позади еще пятнадцать минут.
На собрание комсомольской группы класса остались после уроков все комсомольцы: Лиза Пчельникова, Дима Кутырин, Зоя и Шура Космодемьянские, Петя Симонов, Терпачев, Люся Уткина, Шварц, Коля Коркин, Ната Беликова, Косачева, сидевшая на одной парте с Зоей, бесцветная, вечно ноющая девочка, при малейшей обиде начинавшая плакать. Кроме того, осталась новая комсомолка, поступившая в девятый «А» в середине года, Люба Пастухова, переехавшая в Москву вместе с родителями из Свердловска.
Как всегда, протокол вела Пчельникова, — никто, кроме нее, не успевал так добросовестно, подробно записать выступление каждого товарища и потом, не позже следующего дня, аккуратно переписать протокол начисто.
Совсем не так прошло и, главное, совершенно не так началось собрание, как намечала это Зоя. Терпачев спутал все ее планы.
Не только не удалось выступить ей первой и привести слова Ленина, она не успела даже упомянуть о вопросе, стоявшем на повестке дня: «Борьба с неуспеваемостью и плохой дисциплиной».
Терпачев поднялся, как только Зоя объявила собрание открытым, и сказал:
— Товарищи, прошу слова для внеочередного заявления!
— Подожди, — хотела остановить его Зоя, — мы еще не утвердили повестку дня.
Но Терпачев сделал вид, что он не слышит. Глядя куда-то в окно поверх Зои, сидевшей за столиком для преподавателей, он продолжал, повышая голос:
— Товарищи, я сознаю, что совершил отвратительный поступок. Я не хочу оправдываться или сваливать часть вины на других, говорить, что я не один выпил всю бутылку вина. Я совершил поступок, недостойный комсомольца. Я за него должен ответить. Школа нам не для того дана, я, конечно, совершил безобразие. Какое бы решение ни приняла наша комсомольская группа, я считаю, что я заслуживаю любого наказания.
Все были ошеломлены. Гордый, самоуверенный до развязности, Терпачев, всегда находивший оправдание для любого своего поступка, любовавшийся каждым своим жестом, вдруг во всеуслышание, на глазах у всех, признает себя виноватым. Было чему удивиться. Зоя в первую минуту даже растерялась. Но она быстро овладела собой, как только заметила в выпуклых, холодных глазах Терпачева выражение все того же самодовольства и любования своей первой ролью, — ведь он опять решил сыграть первую роль, предупредить какое бы то ни было обвинение.
В это время быстро поднялся со своего места Шварц и, выйдя в проход между партами, чтобы Терпачев не заслонял его от Зои, начал:
— Я тоже признаю…
Но Зоя не дала ему говорить. Она резко застучала ладонью по столу и, поднявшись, сказала:
— Каждый, кто хочет говорить, получит слово, но существует установленный порядок ведения собрания, и вы обязаны ему подчиняться.
— Не мешай человеку говорить! Зачем ты перебиваешь Терпачева? — крикнула Люся Уткина, у которой на лбу, на щеках и на подбородке резко проступили неровные розовые пятна.
Петя Симонов вскочил, с треском откинув крышку парты, и крикнул:
— Ты, Уткина, лучше расскажи, как вчера драпанула с Витькой из сада, бросила работу!
— Мне дадут говорить или, может быть, кой-кому не выгодно, чтобы я выступал? — с угрожающей загадочностью спросил Терпачев, перекрывая своим голосом, привыкшим к выступлениям со сцены, поднявшийся в классе шум.
Когда Зоя восстановила порядок и повестка дня была утверждена, Терпачев, получив слово, заговорил вновь (теперь уж не было смысла лишать его этой возможности и выступать само́й первой, как это намеревалась сделать Зоя раньше).
— Про вино я уже сказал. Продолжаю: я признаю также, что по-хамски вел себя с Иваном Алексеевичем Язевым. Конечно, это невежливо. Я это понимаю. Я это осознал. Я должен извиниться перед товарищами за то, что своим поведением с Язевым мешал классу нормально работать. Я осуждаю свой поступок с Язевым так же, как осуждаю историю с бутылкой Коркина.
Как только он произнес фамилию Коркина, Ната Беликова, вспомнившая соску на бутылке и оранжевую ленточку, не удержалась и прыснула от смеха. А Дима Кутырин спросил:
— Ты как же, Терпачев, через соску тянул вино или как?
Раздался смех, в классе стало шумно. Зоя тоже не могла удержаться от смеха, но быстро овладела собой и водворила порядок. После того как упоминание о соске вызвало такое неудержимое веселье, с Терпачева сразу сошел напускной вид превосходства над другими; почувствовав, что с его выступлением, рассчитанным на то, чтобы предупредить события, что-то получается не совсем так, как он ожидал, Терпачев замялся и голосом, утратившим нотки самолюбования, проговорил:
— Что же смеяться? Я же вам сказал, что признаю свою вину с бутылкой Коркина.
— Не трогай Коркина! — вдруг крикнул Петя, сильно стукнув кулаком по парте.
Зоя хотела его остановить.
— Симонов, я тебе не давала слова!
Но Петя не унимался. Он встал и с возмущением сказал:
— А зачем Терпачев копает под Коркина?! Коркин даже не понюхал, — это девчонки подложили Коркину! Ты лучше, Витька, объясни комсомольцам, как ты из сада дезертировал с Уткиной! Почему бросил работу? Рано вы начали с нею вить свое гнездышко!
Зоя поднялась, чтобы остановить Симонова, но он сам сел на место, и Терпачев, вдруг опять оживившись и высоко подняв голову, сказал, сделав вид, что он ничего не слышал про «гнездышко»:
— Вы хотите, чтобы я сказал про работу в саду? Очень хорошо! Вы хотите знать мое мнение? Пожалуйста! Главным виновником плохой работы в саду и расхлябанной дисциплины в классе я считаю Космодемьянскую! Она потеряла у нас авторитет, она зазналась!
Сразу вскочили и начали просить слова Коркин, Лиза Пчельникова и Симонов, кричавший громче всех. Петя Симонов, угрожающе откинув широким жестом со лба болтающиеся перед его глазами пряди волос, требовал:
— Зоя, дай мне слово — я вправлю ему мозги!
— Где же порядок?! — кричала Люся. — Космодемьянская не умеет вести собрание!
Ее крепко задело «гнездышко» Симонова. Она злилась, но понимала, что эту занозу надо не замечать, раз уж терпит ее даже сам Терпачев.
Зое не удавалось восстановить порядок. Все старались перекричать друг друга:
— Зойка сама виновата!
— Ничего подобного — она ни в чем не виновата!
— Как тебе не стыдно!
— Правильно!
Когда Зоя получила возможность сказать, то заявила:
— Товарищи, мы не умеем вести себя на комсомольском собрании. На нашей комсомольской группе лежит большая ответственность. Неужели мы не оправдаем доверия? Неужели нам придется обращаться за помощью к старшим и просить их разобраться в наших собственных делах? Ведь это же будет позор!
В это время директор, уже давно услыхавший шум, разносившийся по коридору откуда-то со стороны старших классов, распахнул дверь в девятый «А» и, появившись на пороге, здоровый, крепкий и, как всегда, улыбающийся при виде ребят, которых он любил независимо от их возраста, спросил:
— О чем шумите вы, народные витии?
Зоя поднялась и сказала:
— Василий Петрович, мы проводим собрание комсомольской группы.
— Какие же у вас вопросы, какая повестка? — спросил директор, не выпуская дверной скобы из руки и оставаясь на пороге.
— В общем, — ответила Зоя, — борьба с неуспеваемостью и плохой дисциплиной. Это основное.
— Очень хорошо! Отлично! — сказал директор. — В таком случае можно и покричать, раз разговор идет о дисциплине. Не буду вам мешать.
Уходя, он вдруг проговорил, совершенно другим тоном, с какой-то затаенной многозначительностью:
— До свидания, ученые садоводы!
После ухода директора в классе довольно долго стояла тишина. Все молчали, даже как бы вовсе забыли, о чем же, собственно, перед этим шел спор? «Ученые садоводы» произвело сильное впечатление. Шутки шутками, а директор, вероятно, уже беседовал с Язевым об итогах их работы на участке, дал верную оценку событиям и не сомневался, что на собрании об этом будет большой разговор.
Первая заговорила Зоя. Снова заняв место за столом, она сказала:
— Продолжаем наше собрание, — и спросила: — Терпачев, ты кончил?
— Ничего подобного — я только начинаю. Мне не давали говорить.
— В таком случае продолжай!
Терпачев повторил обвинения против Зои и добавил:
— Космодемьянская оторвалась от массы. Мы ее выбрали в групорги, но она не оправдала нашего доверия. Она загордилась. Успехи по литературе вскружили ей голову. Она стала пренебрегать коллективом: все сама да сама! Ни с кем не посоветовалась и согласилась, чтобы классу вместо работы в саду дали разбирать мусорную яму. Для нее коллектив ничего не значит.
— Совершенно верно! — сказала Люся Уткина.
— Я не могу молчать — ведь это ложь! — с возмущением проговорила Лиза. — Зоя советовалась с нами!
Но это не остановило Терпачева. Лизе пришлось снова сесть, а он продолжал:
— Если Космодемьянская советовалась с тобой или же советовалась с Ярославом, а в это время он играл колыбельную песню Шопена и мешал нам проводить репетицию на сцене, — это еще не значит организовать коллектив для предстоящей в саду работы.
Зоя, брезгливо поморщившись от слов Терпачева, сказала:
— По-моему, непорядочно говорить в отсутствие товарища, который не слышит тебя и поэтому не может защищаться.
Терпачев не смутился:
— А я скажу это Ярке прямо в глаза, в твоем же присутствии скажу. А тебе могу повторить еще раз: ты не сумела организовать коллектив для работы.
Молчавший все время Димочка Кутырин спокойно, не возвышая голоса, проговорил:
— Какая тебе еще нужна организация, когда вся школа знала о работе в саду, если сам директор говорил об этом каждому классу, если в раздевалке висел для всех грамотных огромный плакат?!
— Это же общешкольное мероприятие, а не одного только нашего класса, — сказал Коркин.
— Дайте мне слово! — попросила Косачева, подняв руку. — Можно я скажу свое мнение?
Люся Уткина попросила слова одновременно с Косачевой. Просил слова и Петя и новенькая просила, Пастухова. В то же время и самой Зое давно уже хотелось высказаться и сбить то настроение, которое было вызвано лукавой игрой Терпачева. Но Зоя обуздала свое желание. Такт подсказывал ей, что надо сначала дать высказаться другим.
Слово получила Косачева. Петя Симонов встал и обиженно сказал:
— Я уже давно прошу разрешить мне! Что же это сегодня у нас делается?
Но он тотчас же сел, едва Зоя сказала ему:
— Ты хоть, Петя, по крайней мере не мешай мне вести собрание.
Косачева очень сильно волновалась и не сразу могла начать.
— Я хочу сказать, я хочу сказать… — повторила она несколько раз и замолчала. Ее лицо с мелкими, невыразительными чертами, и без того всегда сохраняющее плаксивое выражение несправедливо обиженной девочки, сейчас совсем сморщилось от усилия не заплакать, и всем было ясно, что она, по своему обыкновению, все-таки расплачется. — Я хочу сказать, — снова попробовала она заговорить, — я хочу сказать, что Космодемьянская плохой товарищ!..
Петя сказал:
— Вот кому надо воды, а не Витьке!
Дело в том, что пока Косачева никак не могла разговориться, Терпачев уже успел принести откуда-то графин с водой и, напившись, поставил его теперь вместе со стаканом на парту перед Лизой Пчельниковой, проговорив: «Передаю старосте класса — кого хочет, того пусть и угощает».
Как только Петя упомянул о воде, Косачева горько усмехнулась и, выдавив пальцем из уголков глаз слезы, чтобы они не лились больше, приняла из рук Пчельниковой стакан. Пока Косачева пила, все терпеливо ждали.
Наконец она сказала:
— Может быть, Космодемьянская считает меня недостойной своего общества, не знаю… В прошлый вторник, во время диктанта, у меня было затруднение со словом «в течение» — я не знала, как надо написать: отдельно или вместе и что поставить в конце — «и» или «е». Я, конечно, понимаю, что подсказывать нехорошо, но бывает у каждого в жизни такой серьезный момент, когда надо поддержать товарища. В результате я получила плохую отметку. Зоя не только не помогла мне, а, наоборот, отвернулась от меня и закрыла тетрадь локтем. Я все сказала! — вдруг торопливо оборвала Косачева и, опустившись на свое место, принялась старательно вытирать глаза носовым платком.
Димочка Кутырин сказал с места:
— Неужели нам еще надо читать лекции о вреде табака и списывания?!
После Косачевой Зоя предоставила слово новенькой ученице Любе Пастуховой.
У этой девочки все, кроме глаз, было желтовато-белесого, хрупкого цвета: обильные пышные волосы, заплетенные в толстую короткую косу с кремовой лентой, очень бледное лицо с как бы обесцвеченной, прозрачной кожей, позволяющей видеть голубые жилки, разветвляющиеся, как реки на географической карте, на висках, под глазами и на открытой худенькой шейке. Брови у Любы скорее угадывались, нежели существовали в действительности. Тем удивительнее были среди ее редких, белесых ресниц большие, очень темные глаза с пристальным взглядом, словно все ее существо, такое хрупкое и непрочное, только и держалось на этих глазах.
Мать Любы, работавшая художницей на текстильной фабрике, нарочно подчеркивая отсутствие ярких красок во внешности дочери, одевала ее строго в тон: Люба всегда носила светло-серую блузку, песочного цвета короткую юбочку и бежевые туфельки с чулками тусклого золотистого колера.
— Вопрос о подсказывании и списывании совсем не такой простой, как некоторым из нас кажется… — начала она тоненьким, как ниточка, голосом, и в классе сразу стало очень тихо, и до самого конца выступления Любы Пастуховой ей никто не помешал, словно каждый боялся чем-нибудь повредить столь хрупкому существу.
В ее выступлении была какая-то странная смесь наивности со зрелым благоразумием — «совсем как у взрослых».
Она говорила:
— Человек приходит в школу… Мы пришли в школу не только для того, чтобы усваивать науки, изучить разные предметы, но мы пришли также и для того, чтобы научиться товариществу и дружбе, потому что дружба — это такое удивительное чувство, — здесь голос у Любы Пастуховой задрожал, как слабый огонек на ветру, — такое удивительное чувство, которое облагораживает человека. В нашей школе, из которой я сюда приехала, был замечательно дружный коллектив, мы боролись за успеваемость и добились хороших результатов. Мы помогали товарищам и не боялись помогать им во время диктантов и классных сочинений. Это не мешает дружбе, а совсем даже наоборот, потому что у нас было такое обязательное правило: если ты подсказал, как надо писать слово, то ты потом, после урока, обязан подойти к доске с тем, кому ты подсказал, и заставить его написать это слово на доске несколько раз. Но это еще не все. На другой день ты обязан проверить: запомнил ли он, как пишется слово, и выучил ли он грамматическое правило? Вот это у нас называлось дружба и товарищеская помощь! Я считаю, что Космодемьянская оттолкнет от себя товарищей, если будет ревниво, как скупой рыцарь, беречь свои знания только для себя.
Выступление Любы Пастуховой произвело впечатление. Оно многих задело за живое. Ей усиленно аплодировали Косачева, Шварц, Уткина, Терпачев; Ната Беликова тоже похлопала, но, взглянув на Зою и увидев, что Зоя не аплодирует, убрала руки под парту.
Пастухова отнеслась равнодушно к шумному одобрению, приняла его как должное и скромно опустилась на свое место, аккуратно расправив юбку, и, подложив под себя обе свои ладони, села на них, — так сидеть теплее, а она все время зябла.
Пришла наконец очередь высказаться Люсе Уткиной.
— Терпачев совершенно прав… — начала было она, но ее тотчас же заглушили голоса возмущенных товарищей:
— В чем он прав?
— Что нахамил Язеву?!
— Напился пьяный!
— Дезертировал!
Лицо у Люси покрылось снова пятнами и стало некрасивым от раздражения. Но крики не смутили ее, а только лишь заставили закричать громче:
— Не перебивайте меня! Если бы вы не перебивали, то догадались бы сами, что я хочу сказать. Я хотела сказать, что Терпачев прав, считая Космодемьянскую главной виновницей…
— Витька прав, что знает так много анекдотов? — сказал Петя Симонов.
Раздался смех.
Зоя поднялась и сказала:
— Товарищи, я не боюсь критики. Я не нуждаюсь в такой защите, которая мешает нам организованно проводить собрание.
Повернувшись к Уткиной, Зоя сказала:
— Продолжай!
— Конечно буду продолжать! — сказала Уткина, метнув в нее недобрым взглядом. — Я давно уже хотела сказать, что Космодемьянская зазналась. Какой же это комсомол: с одними советуется и дружит с ними, а других презирает. Скажи, Шварц, — спросила Уткина, повернувшись к сидевшим сзади, — Космодемьянская советовалась когда-нибудь с тобой?
— Нет!
— Ас тобой, Ната, советовалась когда-нибудь Космодемьянская о работе в саду, приглашала тебя на совещание?
Ната Беликова смутилась, не зная, как ей поступить; потупившись, она невнятно пробормотала:
— У меня мама болеет, я бы все равно не могла совещаться.
Сообразив, что у нее ничего не получилось с ответом, она еще ниже опустила голову и ни на кого не смотрела. А Петя Симонов громко сказал, имея в виду ее всегдашнюю позицию между двух стульев:
— И нашим — и вашим!
Уткина продолжала:
— Космодемьянская любит громкие фразы. Конечно, говорить она умеет. Говорит всегда ужасно правильно, а что толку? Когда дело дойдет до настоящих трудностей, тут красивыми словами не поможешь, тут надо уметь организовать. А потом, что такое работа в саду? Это просто несчастный эпизод нашей жизни! А главное в нашей жизни — учеба. Хотела бы я знать, кто посмеет сказать, что Терпачев и Уткина когда-нибудь учились плохо?
Никто на этот вопрос Уткиной не отозвался. Она выжидающе помолчала немного и закончила:
— Ну, в общем и целом, я пока все сказала. Послушаем, как будет Космодемьянская себя защищать. Тогда я, может быть, еще добавлю.
Петя Симонов, едва дождавшийся, когда Уткина окончит, вскочил и потребовал:
— Зоя, ты дашь мне когда-нибудь слово или я должен до конца в молчанку играть?
— Успокойся, — сказала Зоя, — теперь твоя очередь.
— Если моя очередь, тогда — слушайте!
Симонову при его росте тесно было стоять за партой, он вышел в проход между рядами и, проведя руками по непокорным волосам, начал с замахом на что-то очень большое:
— Первое. — Петя загнул палец. — Кто в саду оторвался от масс — Зоя или Терпоуткина? — Раздался смех, вызванный соединением в одно целое двух фамилий. — А по-моему, это не кто, как Уткина, испугалась работы и ушла из сада еще до дождика. Все! Я все сказал.
Димочка Кутырин спросил:
— «Первое» слыхали, а где же твое «второе»?
Петя Симонов опять порывисто встал.
— Пожалуйста, второе, — сказал он. — У нас в комсомоле не должно быть принцесс и нищих! Нам не нужны маменькины дочки. Люська что-то из себя воображает. Витька тоже строит из себя солиста Большого театра. У нас в комсомоле не может быть незаменимых солистов. Мы есть отряд молодежи — опора партии. Я предлагаю передать вопрос в школьный комитет об исключении из комсомола Терпачева и Уткиной. Вот вам «первое» и «второе»!
Садясь, Петя Симонов так хлопнул крышкой парты, что Лиза Пчельникова вздрогнула.
Попросил слово Дима Кутырин. Он не рвался говорить первым, ждал спокойно возможности выступить и сейчас говорил не торопясь, слегка покачиваясь и переступая с ноги на ногу:
— Здесь нам говорила Пастухова о своей школе, откуда она пришла к нам, говорила о крепкой дружбе и о товарищеской помощи. Не знаю, какая там у них дружба, а только философия Пастуховой насчет помощи соседу во время диктанта и сочинения — очень вредная философия, опасная для жизни. Я, конечно, понимаю: если сосед спросит, как пишется слово, а ты ему не скажешь, это, конечно, отталкивает соседа, остается в душе обида. Но мы должны твердо сказать, что это ложное чувство. Настоящая дружба не должна строиться на подсказках и шпаргалках. Надо иметь на плечах голову. Зачем мы пришли в школу? Чтобы стать самостоятельными людьми. А как же я могу стать самостоятельным, если из-за шпаргалок и подсказок привыкну к мысли, что в жизни всегда кто-нибудь мне подскажет и поможет.
Дима переступил с ноги на ногу, помолчал немного и спросил, повернувшись сначала в одну сторону, потом в другую:
— Может быть, я неясно говорю?
— Очень даже ясно! — сказал Симонов.
— Правильно говоришь! — сказала Зоя.
Кутырин продолжал, не изменяя тона:
— Я хочу сказать, что каждый из нас должен готовить себя к таким испытаниям в жизни, когда никто тебе не в состоянии помочь: ни друг, ни товарищ, ни родной отец; когда ты попал в такую обстановку, в такой переплет, что только от твоего самостоятельного решения, без всяких подсказок, от твоих личных знаний будет зависеть, уцелеет ли твоя собственная голова, и зависеть безопасность твой родины. Пастухова неудачно выступила. Когда мы будем инженерами, летчиками или врачами — нам никто не будет подсказывать. А значит, мы уже теперь должны научиться ходить без всяких костылей и без помощи соседа.
Кутырина никто не перебивал, — его спокойствие передалось и остальным. Только когда он надолго замолчал, как бы что-то обдумывая, Зоя спросила его:
— Ты все сказал?
— Нет! Я еще должен сказать о Пастуховой. Это было ее первое выступление за полгода, и лучше было бы, если б Пастухова отложила свое выступление еще на полгода. Здесь ей некоторые аплодировали. Не знаю, за что такая высокая честь? Говорит она, может быть, и поэтично, умеет вставить что-нибудь вроде «скупого рыцаря». Но это — словесная побрякушка. И, главное, несправедливо! Учится она вместе с нами всего несколько месяцев, а уже выступает как знаток человеческой души. Лучше бы она помолчала насчет Зои Космодемьянской. Мы лучше знаем наших товарищей, с которыми учимся уже несколько лет вместе. Благодаря помощи Зои я, например, вступил в комсомол.
— И я! — сказал Петя Симонов.
— Никто лучше Зои не выполняет комсомольских поручений, — продолжал Кутырин. — Я не знаю ни одного случая, когда Космодемьянская отказала бы кому-нибудь в помощи или чтобы кто-нибудь отказался от ее помощи, чего не скажешь об Уткиной, например.
Уткина вскочила и быстро проговорила:
— Пожалуйста, без намеков! Мы на комсомольском собрании, и я требую, чтобы ты сказал, что имеешь в виду.
Дима повернулся к ней и спокойно ответил:
— Хотя бы случай с Коркиным.
— То же самое с Ивановой, — сказал Коркин с места. — Иванова отказалась от ее помощи. Уткина цедит сквозь зубы, как принцесса, точно подачку какую-то подает!
Люся не осталась в долгу, сказала:
— Советую тебе, Коркин, выучить наизусть басню дедушки Крылова «Свинья под дубом»!
Зоя остановила начавшуюся перебранку и дала слово Пчельниковой.
Лиза почти никогда не выступала на собраниях. Обычно ее участие выражалось в добросовестном ведении протокола. Эта нагрузка вполне успокаивала совесть Лизы, и она считала, что выступать ей необязательно. Но сегодняшние нападки на Зою так возмутили Лизу, что она считала себя обязанной выступить. Ведя протокол, она успевала время от времени записать себе для памяти на отдельном листке, о чем должна сказать. Так к моменту ее выступления она уже знала, что будет говорить.
Лиза Пчельникова заботливо, как хозяйка, перечислила по пунктам все недостатки: плохую посещаемость, рост неудовлетворительных и посредственных отметок, случаи нарушения дисциплины, невыполнение комсомольских поручений, отсутствие контроля и проверки исполнения. Зоя очень была довольна этой частью выступления Лизы, — значит, самой Зое меньше надо будет на этом задерживаться. Собрание и без того слишком затянулось. Никто из ребят еще не был дома и не обедал. Кое-кто уже начал позевывать.
Поэтому, когда Лиза, следуя своим тезисам, перешла к защите Зои, та не дала ей много говорить — вмешалась и предложила ввести регламент.
Все поддержали предложение Зои.
Лиза смутилась и скомкала свое заключение. По ее словам получилось, что Терпачев раскаивается в своих проступках и Уткина тоже понимает, что она не права, значит, не надо ссориться, надо дружно готовиться к экзаменам, и больше никаких недоразумений в классе не будет.
Зое больно было это слышать. Ей очень нравилась Лиза, она высоко ценила ее как товарища. Но сейчас Зоя была с нею совершенно не согласна, с этого она и начала свое выступление.
Как только Зоя заговорила, сонливость, овладевшая всеми, исчезла без следа.
— Лиза предлагает скрепить дружбу нашего коллектива при помощи примирения с Терпачевым и Уткиной и со всеми теми, кто находится под их влиянием. Она предлагает укрепить нашу товарищескую дружбу при помощи лозунга «не будем ссориться». По-моему, это будет плохая дружба, гнилая дружба. Мы должны со всей нашей комсомольской непримиримостью отбросить совет Пчельниковой.
Уткина перебила Зою:
— Ни одного своего слова — все из газеты.
Терпачев дернул Люсю за рукав, чтобы остановить ее, но она капризно оттолкнула его руку.
Возмущенный Симонов, загремев крышкой парты, выскочил на середину класса и закричал:
— Давайте я буду вести собрание, чтобы подобные типы нам не мешали!
Поднялся шум. В конце концов большинством голосов поручили Диме Кутырину вести собрание, пока будет говорить Зоя. Он занял ее место за столиком для преподавателей, и она продолжала:
— Мы должны со всей непримиримостью отбросить совет Лизы Пчельниковой. Каждый комсомолец, если он действительно юный ленинец, должен в данном случае поступить только единственным способом: сурово осудить Терпачева. Он уже не один раз нарушал дисциплину, мешал всем нам работать и позволял отвратительно вести себя по отношению к Ивану Алексеевичу, которого мы все уважаем. Сурово мы должны осудить вместе с Терпачевым также и Уткину. Они оба испугались трудностей, бросили работу в саду и увели за собой других.
Зоя ни разу не процитировала ни Ленина, ни Сталина. Но то, что их слова были выписаны ею, придавало ей силы. Она помнила о бумажке, на которую выписала эти слова. Во время своего выступления она иногда брала листок в руки, держала его, потом клала обратно.
Она говорила:
— Дружба нашего коллектива должна быть скреплена нашей нетерпимостью к подобного рода поступкам. Товарищи! Я не хочу себя оправдывать и вас прошу не защищать меня. Может быть, Терпачев прав, что главная виновница — это я. Во всяком случае, как групорг, конечно, я должна нести ответственность за то, что происходит в нашем коллективе. Одна из моих ошибок, может быть даже самая серьезная, это то, что я не понимала до сих пор, только сегодня на собрании мне стало наконец это ясно, что в личных отношениях между Уткиной и Терпачевым появляется что-то не помогающее общей дружбе нашего коллектива, а, наоборот, мешающее нашему коллективу.
Дружба — это великое чувство. Мы знаем на примерах великих людей, как дружба облагораживает и возвышает человека. Но дружба великих людей — Маркса и Энгельса, Герцена и Огарева (Зоя опять взяла листок со стола в свои руки) — эта дружба помогала им бороться за счастье людей, эта дружба не отрывала их от коллектива, от народа, а, наоборот, она помогала им все свои силы отдавать коллективу, народу! А у Терпачева и Уткиной получается совсем наоборот.
Терпачев нервно рассмеялся и, оглядываясь назад, на товарищей, сказал:
— Благодарю Космодемьянскую за столь лестное сравнение с великими людьми!
Лиза Пчельникова, все время терзавшаяся от мысли, что она выступила неудачно, сказала:
— Советую тебе, Терпачев, не предаваться мелкой, ничтожной обиде, не паясничать, а слушать то, что говорит Зоя, потому что она говорит абсолютную правду!
Зоя выждала, нахмурившись и сцепив пальцы рук за спиною.
— Мы бы не стали вмешиваться в личные отношения между Уткиной и Терпачевым, если бы это не касалось нашего коллектива. Я не знаю, как назвать то чувство, которое они испытывают друг к другу. Но раз это чувство мешает спайке нашего коллектива, начинает раскалывать коллектив на группы — значит, это чувство плохое. Мы должны строго, раз навсегда, предупредить этих товарищей: они должны изменить свое отношение к коллективу. Никто не позволит им нарушать комсомольскую дисциплину, никто не позволит разрушать дружбу коллектива. Я считаю, что выступление Терпачева было неискренним, за исключением критики против меня; он неудачно пытался разыграть перед нами новую для него роль кающегося грешника. Не получилось! Я предлагаю вынести Терпачеву выговор.
— За что? — спросил Терпачев.
— За все вместе! — сказала Зоя. — За бестактность по отношению к Ивану Алексеевичу, за пьянку в классе, за то, что анекдотами мешал коллективу работать в саду, и за то, что свои личные чувства к Уткиной поставил выше отношения к коллективу. Когда будем голосовать, мы это сформулируем как следует.
— Мало! — сказал Петя Симонов. — Витьке не место в комсомоле!
Но Зою эта реплика не остановила. Она продолжала:
— Что касается Уткиной, то она тоже заслуживает взыскания. Она выступала здесь и говорила, что работа в саду не является для нас самым главным. Конечно, самое главное для нас — учеба, самое главное — покончить с неуспеваемостью и дружно, помогая друг другу, подготовиться к экзаменам. Но ведь Уткина в этом не помогает коллективу. Вы знаете, что от ее помощи отказываются. Уткина уклоняется от комсомольских поручений. Уткина, очевидно, думает, что, если она отличница, значит общественная работа к ней не имеет никакого отношения. Никто не позволит Уткиной наводить в комсомоле свои домашние порядки. Уткина избалована домашними условиями жизни.
Как только Зоя это сказала, Люся Уткина с треском откинула крышку парты, вскочила и, повернув ко всем искаженное злобой, постепенно покрывающееся пятнами лицо, проговорила:
— Это безобразие! Это возмутительно! Почему вы все молчите?! Какое имеет право Космодемьянская оскорблять меня? Я не обязана слушать эту клевету! Я не буду этого слушать!
Уткина выбежала из класса. Дверь, которую она с силой захлопнула, сама собой приоткрылась снова, так что, оставаясь в коридоре, Уткина могла продолжать слушать все, что говорили в классе.
Выходка Уткиной ни на кого не произвела особого впечатления, все спокойно продолжали слушать Зою, а у нее ничто не изменилось в манере говорить, даже интонация оставалась прежней. Только Терпачев, сидевший до этого прямо, теперь облокотился обоими локтями на парту и подпер голову руками, засунув пальцы глубоко между прядями волос.
Зоя говорила:
— Уткина права, когда говорит, что работа в саду — не главное наше дело. Но Уткина не понимает, что если мы впадаем в панику при очистке мусора со школьного участка, то кем же мы окажемся при встрече с настоящими трудностями, когда станем взрослыми, самостоятельными людьми и нам придется работать в другом коллективе? Все мы знаем, что школа — это наш второй дом. Мы хотим, чтобы этот наш общий дом был прекрасен, мы его украшаем, мы убираем грязь и озеленяем участок, мы создаем сад. Это наша общая мечта! Мы вкладываем в это дело свой личный труд. Иван Алексеевич говорит, что мы начинаем крепче ценить и любить то, во что мы вкладываем свой труд. Мы начинаем еще больше любить школу. Не понимают этого только Уткины, для которых дома все подается готовенькое на золотом блюдечке, прямо в кроватку, едва лишь единственное сокровище откроет свои заспанные глазки.
Никто не возражал против предложения Зои — объявить Терпачеву выговор, а Уткиной поставить на вид. Когда Зоя это предлагала, в дверях показалась Уткина. Ни на кого не глядя, низко опустив голову, она быстро прошла и села.
Постановили: завтра же закончить работу в саду; пойти после уроков домой только пообедать и сейчас же идти работать на свой участок. Зое поручили уговорить директора, чтобы он разрешил это сделать.
Кроме того, комсомольская группа постановила, чтобы каждый комсомолец считал себя мобилизованным с завтрашнего дня, вплоть до начала экзаменов, на борьбу за сознательную дисциплину, за высокую успеваемость.
Поручили групоргу Зое и старосте класса Лизе Пчельниковой составить план прикрепления сильных учеников к неуспевающим.
Перед тем как последний вопрос был поставлен на голосование, Терпачев попросил слово по личному поводу. Уже по одному только внешнему виду Терпачева было ясно, что он принял какое-то решение. Никогда его не видели таким мрачным, избегающим на кого-либо смотреть. Вся его заносчивость, самоуверенность слетели с него. Он говорил, повернувшись к собравшимся боком, и медленно растирал левой рукой лоб, словно у него сильно болела голова.
— Космодемьянская может меня критиковать, может осуждать, но ей никто не давал права оскорблять меня. Зачем она говорит, что я был неискренен, когда в начале собрания сам осудил свои ошибки? Я совершил отвратительный поступок — пил вино здесь, в классе. Мне стыдно. Я буду просить извинения у Язева. А вас я прошу извинить меня за то, что я мешал вам работать в саду. Даю честное комсомольское слово, что ничего подобного больше не повторится!
После него попросила слово Уткина. Она разрыдалась и не могла говорить. Ната Беликова подала ей воды. Все молча ждали.
Она сказала:
— Зоя Космодемьянская оклеветала меня и оскорбила. Может быть, у меня есть недостатки, но у кого из нас нет недостатков? Я докажу вам, что я не такая, как некоторые обо мне думают. Я обещаю работать над своим характером, я буду выполнять все, что мне поручит комсомольская организация.
Проговорив это, Уткина опять заплакала и больше ничего не пыталась добавить к тому, что сказала.
А Язев так и не смог присутствовать на собрании, но Зоя вспомнила об этом, только когда все уже было закончено и она вышла из школы на улицу.
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
Может быть, труднее всех в тот вечер, когда происходило собрание, было Ярославу Хромову. Весь день он оставался один дома, до той минуты, пока не возвратилась с работы мать.
К пианино он не подходил, не мог прикоснуться к клавишам, точно он был теперь недостоин этого. Ему было тяжело. Он знал, что как раз сейчас, в эти минуты, его товарищи собрались в школе. О чем они там говорят, о чем спорят? Что бы там у них сейчас ни происходило, им хорошо — они все вместе. А он — один, он не имеет права присутствовать на собрании, потому что он не комсомолец. А теперь, после того, что он сделал, разве может быть речь о том, чтобы рассматривать его заявление о приеме в комсомол? И потом, кто дал бы теперь ему рекомендацию? Зоя презирает его…
А, в сущности, что он сделал?
В ту минуту, когда он выпил вино, ему и в голову не могло прийти, что он совершает отвратительный поступок, — для него тогда это была просто пустяковая шутка, сделанная на ходу. После уроков Ярослав вместе с Симоновым и Космодемьянским на пятнадцать минут зашел в физкультурный зал и здорово поупражнялся на параллельных брусьях. Это его так разогрело и взбудоражило, что обратно он уже не мог спокойно идти по коридору — бежал. Заскочил на минуту в класс за портфелем, и как раз в это время Шварц подавал Терпачеву стакан, принесенный с площадки из-под бачка с кипяченой водой.
Шварц сказал:
— Придется поделиться с Ярославом.
Очевидно, он боялся, как бы Ярослав их не выдал.
Терпачев в ответ съязвил:
— Что ты! Ведь мама поит Ярку одним парным молоком. А вино грех пить, вино пьют только гадкие дети.
Ярослав рассмеялся, выхватил на ходу из рук Терпачева полный стакан и, слегка расплескав вино, залпом его осушил.
Ему хотелось сбить спесь с этого задавалы Терпачева. О последствиях своего поступка Ярослав в ту минуту не думал. У них с Терпачевым давно уже было соперничество, для Ярослава даже, может быть, и неосознанное: и тот и другой выступали в школьном зрительном зале, и хотя один из них был «артист», а другой «музыкант» и обоим хватало на сцене места, все же в отношении Терпачева к Ярославу всегда чувствовалась ревность. А Ярослава раздражало постоянное стремление Терпачева к первым ролям — в равной мере и на сцене, и за партой, и в школьном коридоре — всюду.
И вот теперь история с вином… Думал осадить Терпачева, сбить с него спесь, а на деле оказался в его же компании. Ярослав вспомнил, как Зоя в саду обошла вокруг него, точно боялась запачкаться. Значит, действительно, он пал в ее глазах. Неужели это бесповоротно и навсегда?
Ярослав любил музыку, он привык слышать ее с детства: под музыку он засыпал, с нею он поднимался по утрам. В семье все играли на рояле: очень хорошо играла мать, отец в юности регулярно занимался музыкой, теперь он многое забыл, но свои любимые вещи до сих пор играл наизусть; старший брат Ярослава тоже играл неплохо. Всеми было признано, что лучше всех играет Ярослав. Но родители никогда не внушали ему мысли отдаться музыке целиком, и ему самому никогда не приходило в голову делать из музыки профессию.
Настоящим призванием Ярослава была геология. Он полюбил ее с давних пор. В шестом классе он твердо решил, что пойдет в университет, на геологический. Дома давно уже разгадали истинную страсть Ярослава и все ее поощряли. В прошлом году живущая на Урале бабушка Ярослава, мать его отца, семидесятилетняя преподавательница географии, подарила ему замечательную коллекцию образцов геологических пород. Чего здесь только не было!
Но его интересовали не породы сами по себе, а их роль в истории Земли. Любимой книгой в этом году была для Ярослава подаренная отцом ко дню рождения — «Настоящее и прошлое Земли», составленная Агафоновым. Здесь все в равной мере интересовало Ярослава и не один раз было им перечитано.
Какой именно раздел геологии будет его специальностью — решить он, конечно, не мог сейчас — все было необыкновенно интересно: начиная от самого общего — формы и величины Земли, ее веса и физического состояния на различных глубинах от поверхности, и кончая микроскопическими исследованиями горных пород. Историческая геология тоже его увлекала: как поэзия, звучал один лишь перечень глав в книге: «Подразделение первобытной эры на архейский и альгонкский периоды»; «Расчленение финских архейских пластов на ярусы»; «Богатство докембрийских отложений металлическими рудами»; «Антрацит и каменный уголь»; «Нефть и ее вероятное происхождение»…
Он взглянул на коллекцию — она с трудом размещалась на трех полках, висевших у него над столом, — и ему стало неприятно, что на чудесных камнях так много пыли. Ярослав принес из кухни смоченную в воде тряпочку и принялся обтирать камень за камнем. И вот из-под пыли с прежней яркостью обнажился чудесный рисунок слоев на полированной пластинке малахита, снова засверкали холодные, как льдинки, кристаллы горного хрусталя; открылись из-под пыли кровавые зернышки марганцева шпата, перепутанные, как в головоломке, и спаянные вместе палочки сурьмяной руды…
Приведя в порядок коллекцию, Ярослав размечтался: он так изучит нашу Землю, ее историю и законы образования горных пород, так тщательно изучит условия возникновения полезных ископаемых, что сумеет создать совершенно новый метод горной разведки. Это даст ему возможность открыть для нашей страны неисчислимые сокровища, совершенно новые горные породы, добыча которых сказочно убыстрит построение коммунизма. Вот когда Зоя поймет, что история с бутылкой была глупой, смешной случайностью и что Ярослав не тряпка какая-нибудь, он — настоящий человек с железной силой воли!
Как думает о нем Иван Алексеевич Язев, изгнавший его сегодня из школы, для Ярослава в настоящий момент было совершенно безразлично. Но как быть с Зоей? Поговорить откровенно? Она не станет его слушать! Теперь он ей противен!
Покончив с уборкой, Ярослав развернул огромную карту Сибири и Дальневосточного края и разостлал ее на полу посередине комнаты. Эту игру он полюбил еще в раннем детстве, когда в ней принимала участие бабушка. Игра называлась «путешествие по карте». Ярослав брал у бабушки стальной пруток для вязания и начинал путешествовать, водя прутком по рекам, их причудливо извивающимся притокам, по берегам озер и морей, по горным хребтам и долинам, взбирался на ледники и перескакивал через страшные пропасти, на дне которых клокочут стремительные потоки.
Любовь к таким «путешествиям» Ярослав сохранил до сих пор; тщательно берег он и стальной пруток бабушки. В семье было замечено — такого рода занятиям по географии Ярослав особенно усердно предается, когда ему нездоровится, или у него произойдет какая-нибудь неприятность в школе, либо разладятся отношения с ребятами во дворе, или же Ярослав и его старший брат что-нибудь не поделят между собой.
Когда мать, вернувшись с работы, увидела его растянувшимся на полу, поверх карты, с бабушкиным прутком в руках, она сразу спросила:
— Ярослав, опять двойка по диктанту?
Ярослав вздрогнул, он не слышал, как мать появилась в квартире. Дело в том, что он только что спас Зою. Они вместе переходили Гиссарский хребет, и Зоя рухнула в узкую трещину на леднике, не заметив, что трещина обманчиво прикрыта недавно выпавшим в горах снегом. Зоя наверняка погибла бы, она бы заклинилась в трещине, скользя по ледяным стенкам, и ей раздавило бы грудную клетку. Но они шли по леднику, связанные с Ярославом одной альпинистской веревкой, и Ярослав спас Зою, вытащил из трещины.
Совершив этот подвиг, Ярослав застонал, стиснув зубы, — он вспомнил идиотский случай, «пьянку» а классе и то, что о приеме в комсомол теперь не может быть и речи. Кто же согласится взять его в экспедицию с такой репутацией?
Вот в эту минуту отчаяния и застала Ярослава мать.
Он сразу признался ей во всем. Мать сказала, что она заметила, как в субботу от него пахло вином, и ждала его исповеди.
Конечно, она сразу уловила — Ярослава мучает не воспоминание о сцене в кабинете Язева. Дело шло о приеме в комсомол. Первый раз Ярослав так подробно рассказывал о групорге их класса, о Зое Космодемьянской. Что-то сжалось в сердце у матери, она медленно начала краснеть, на минуту закрыла глаза и, когда почувствовала, что снова успокоилась, спросила у Ярослава:
— А какого цвета у Зои глаза?
— А при чем тут глаза? — порывисто спросил Ярослав, так же, как мать, медленно наливаясь краснотою, и, постепенно успокоившись, сказал: — Глаза темные. — Он путал, так же как многие, цвет глаз у Зои, благодаря ее необыкновенно густым и длинным черным ресницам. — Вообще она похожа на мальчишку. Стриженая.
Мать подумала: «Ну что ж, когда-нибудь это должно было случиться». Но от этой спокойной мысли ей стало невыносимо грустно. Она взяла обе руки Ярослава и, расправив их у себя на колене, принялась медленно гладить.
— Ярослав, какие же огромные у тебя лапы! Боже мой, когда ты успел стать таким большим?!
Но Ярослав, словно догадавшись о том, что мать думает: «Неужели настанет день, когда кто-то отнимет у меня моего Ярослава?», осторожно убрал руки.
Мать сказала:
— Ярослав, если ты не ошибаешься, если Зоя в самом деле такой правдивый, хороший товарищ, — поговори с ней откровенно. Она поймет и поверит тебе, что отвратительная история со стаканом портвейна никогда больше не повторится. — И мать взъерошила рыжеватые, золотистые волосы сына, потом, причесав их своим гребнем, сказала: — А теперь, Ярослав, исполни мою просьбу. Давай что-нибудь сыграем в четыре руки. Я уже не помню, когда мы садились с тобой за пианино рядом.
«Венгерский танец» Брамса мать Ярослава знала наизусть. Ей почти не надо было следить за пальцами. Она то и дело смотрела, как в черное зеркало, в полированную стенку пианино, в которой отражалось сосредоточенное лицо Ярослава, с двух сторон освещенное электрическими лампочками, ввинченными в бронзовые подсвечники. И ее неотвязно преследовала одна и та же мысль: «Неужели приближается время, когда кто-нибудь заберет у меня Ярослава?»
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
На другой день состоялось заседание педагогического совета. Директор, Василий Петрович, сделал доклад на тему: «Идейно-политическая основа педагогических взглядов А. С. Макаренко». На доклад пригласили и педагогов соседней школы, в которой училась Ирина Лесняк.
Доклад занял час с четвертью, в половине шестого Василий Петрович уже закончил его, но никто после доклада не захотел уходить, и споры затянулись надолго.
Заведующий учебной частью соседней школы высказал такую мысль: идеи Макаренко, мол, очень прекрасные, но практически они полезны только в условиях закрытых учебных заведений с общежитиями, в детских домах и в колониях, а в условиях обычной средней школы возможность применить их очень ограничена, если не вовсе сомнительна.
С этим категорически не согласился ни директор, ни, в особенности, Иван Алексеевич Язев, доказывавший, что целый ряд педагогических приемов и советов Макаренко имеет непосредственное отношение к обычной средней школе: «теория завтрашней радости», «постановка цели», вопросы о наказании, проблема «учитель и ученик» и многие другие.
Спорили долго и, казалось, наговорились вволю, но когда вышли на лестницу, спор возник по новому поводу. Преподаватель черчения, Николай Иванович Погодин, спускавшийся со ступеньки на ступеньку по причине своей хромоты боком, задал Ивану Алексеевичу вопрос: каким образом он считает возможным при воспитании в коллективе добиваться развития в характере ученика того, что Макаренко называет героизмом не показным, на глазах у всех, а героизмом как сущностью характера? Другими словами, чтобы, даже оставшийся наедине с самим собою, человек был способен к героизму, если этого потребуют обстоятельства жизни, без той помощи товарищей, коллектива, к которой он привык в школе ежедневно?
Иван Алексеевич начал перечислять школьные мероприятия, а также индивидуальные комсомольские поручения, которые, по его мнению, развивают самостоятельность. Но закончить он не успел. Как раз в это время спустились на площадку между вторым и первым этажом, откуда очень хорошо была видна через стеклянный проем в стене та часть сада, где сейчас с разрешения директора работал в полном составе девятый «А».
— Сосед, так что же у вас делается? — спросил Василия Петровича, высоко подняв седые брови, директор соседней школы, показывая вниз рукой, с широко, тоже как бы вопросительно, расставленными пальцами. — Когда же они уроки успеют приготовить?! Жадничаете, дорогие товарищи! Захватили огромный участок, даже у нас оттяпали, а теперь вам, конечно, приходится из кожи лезть, чтобы привести его в христианский вид.
Василий Петрович рассмеялся и, дружески обхватив его своей сильной рукой и прижимая к себе, точно стараясь согреть и утешить, сказал:
— Вот уж не думал, что у меня сосед — завистник!
Но преподаватель черчения тоже задал директору вопрос:
— А в самом деле, Василий Петрович, почему они работают так поздно?
— Девятый «А» замаливает свои грехи: в воскресенье не успели очистить участок. Комсомольцы подняли весь класс на работу, усовестили, решили доделать сегодня. Ко мне приходила делегация — пришлось разрешить. Молодцы, смотрите, ведь действительно воспламенили весь класс. У них групорг неплохая дивчина — боевая, колючая!
Преподавателя черчения ответ директора не удовлетворил. Его лицо болезненно передернулось гримасой, и он сказал:
— Несправедливо! Им надо было дать другой участок, а сюда поставить десятый «Б». У десятого «Б» семьдесят процентов мальчиков, а у этих, смотрите, сколько девчонок.
— Ничего! Этот класс с бурными страстями. Ему такая работенка на пользу! На таких делах люди растут.
И, обернувшись к группе преподавателей-соседей, директор сказал:
— Наш Николай Иванович ревнует. Дело в том, что в девятом «А» — его лучшие декораторы Кутырин и Космодемьянский. Талантливые ребята. Он боится, как бы его помощники не надорвались.
Вера Сергеевна, задумчиво смотревшая через стекла вниз и молча любовавшаяся слаженной работой своих учеников, сказала:
— Хоть мы с вами и ругаем наших ребят: и дисциплина плохая и успеваемость хромает, а все-таки, посмотрите, каких молодцов мы воспитали!
Директор-сосед присоединился к ней:
— Мы часто в будничной суете не замечаем своих собственных заслуг.
В это время Николай Иванович с преобразившимся от восхищения лицом воскликнул:
— Смотрите, смотрите, сколько навалил на тачку Космодемьянский. Один везет. Орел!
Вера Сергеевна сказала:
— Николай Иванович влюблен в Космодемьянского, а у меня на уроках Шура сидит, как медведь. Мне больше нравится его сестра. Правдивая, яркая девочка! Она умеет зажечь весь класс: бросит какую-нибудь своеобразную мысль, и у нас два дня после этого идет дискуссия. Так было с Анной Карениной.
— Вы говорите, Космодемьянская правдивая? — перебила Веру Сергеевну преподавательница химии. — А не кокетничает ли она своей правдивостью? Во второй четверти я вызвала ее и поставила пятерку. Что же вы думаете? После урока Космодемьянская догнала меня в коридоре и сказала, что я неправильно поставила ей пять. Как вам это нравится? Она, видите ли, знает только на четыре!
Иван Алексеевич с удивлением посмотрел на химичку.
— Какое же это кокетство? — спросил он. — Ведь Космодемьянская сказала вам наедине, а не на виду у всего класса?
Веру Сергеевну тоже задели слова химички, и она с воодушевлением и даже с некоторой запальчивостью высказала все, что уже давно думала о характере Зои:
— Зоя не такая, какой она вам кажется. Что вы от нее хотите — ведь это же возраст! Вам бросаются в глаза только внешние признаки ее поведения. Важно не то. А вот каков этот человек в самой своей глубине? Внешнее поведение Зои — это еще не вся Зоя. Она гораздо мягче, сердечнее. Но вот такое сложилось у нее представление об идеальном характере, и она часто даже ломает себя, подгоняет под такой характер. Точно такая же была и я, когда прочла «Что делать?» и «Как закалялась сталь». От моей ужасной принципиальности страдала прежде всего моя бедная мама и младшая сестренка, из которой я во что бы то ни стало хотела сделать «настоящего человека». Поэтому Зоя Космодемьянская мне очень близка и глубоко симпатична.
Директор соседней школы поддержал Веру Сергеевну:
— Да, это типично для такого возраста. В любой школе в старших классах найдется своя Зоя Коломянская.
— Космодемьянская, — поправила его Вера Сергеевна.
— Да, неплохих ребят мы воспитываем, — сказал сосед, не обращая внимания на поправку Веры Сергеевны.
И все продолжали спускаться на первый этаж. Но разговор не закончился. Иван Алексеевич Язев сказал:
— Вы говорите: воспитываем хороших ребят. Не надо преувеличивать свои собственные заслуги. Всех нас, в том числе и ребят, воспитывает весь строй нашей советской жизни. Мы с вами — педагоги, но мы тоже вечные ученики, с той только разницей, что у нас с вами больше нет того преимущества, которым обладает молодость.
После рабочего дня и заседания педагогического совета все устали и теперь торопились выйти на свежий воздух. Иван Алексеевич, спускаясь по лестнице, продолжал говорить, глядя на ступеньки и не замечая, что его никто не слушает. Все уже прощались с Василием Петровичем около его кабинета.
Оставшись в кабинете один, директор опустился на колени возле дивана, вытащил из ящика под сиденьем лопату, сапоги, парусиновую рубашку и торопливо начал переодеваться. Ему захотелось поработать в саду с девятым «А». Когда он был уже совершенно готов, в кабинет вошел Язев, одетый в летнее пальто и державший в руке шляпу.
Директор только теперь вспомнил, что ведь они должны вместе с Иваном Алексеевичем отправиться сейчас в Мосгороно на заседание. Он взглянул на стенные часы, шлепнул себя ладонью по лбу и, расхохотавшись, принялся стаскивать сапоги.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
Работали дружно.
Не только убрали весь мусор с участка, но успели выкопать и ямы для деревьев. На этот раз в распоряжении класса было сколько угодно носилок, кроме того, Петя Симонов достал две емкие тачки — одну попросил у завхоза соседней школы, другая была своя, для подвозки угля в подвал.
Виктор работал в этот вечер артистически, точно за каждым его движением и жестом затаив дыхание наблюдали жители всего района. Он как бы желал доказать всем, что, собственно говоря, ничего не случилось: если существует выговор по комсомольской линии, то этот выговор можно снять так же легко, как он его и получил. А уж если действительно принято решение поработать, так пусть в таком случае кто-нибудь попробует с ним потягаться! Он скинул рубашку-ковбойку и работал в одной майке лилового цвета; на спине вдоль позвоночника она стала синей, намокнув от пота. Весь внешний вид Терпачева должен был дать понять каждому: «Я ж говорил, что надо было организовать всю работу с самого начала как следует. Вот и вышло по-моему! Сегодня — совсем другое дело». Как выразился Терпачев, они со Шварцем «специализировались по металлу»: отыскивали по участку обрезки кровельного железа, погнутые прутья, проволоку, куски фасонного железа — все заржавленное, грохочущее и скрежещущее.
Почувствовав столь резкую перемену в настроении Терпачева, ему начал подражать, конечно, и Шварц. Одна только Люся опять работала нехотя, она просто не умела это делать как следует, и у нее был надутый, обиженный вид несправедливо наказанного ребенка. Но все так были заняты, что на Уткину никто не обращал внимания.
Ярослав старался выбрать для себя работу поближе к Зое, но так, чтобы это не бросалось в глаза. Он надеялся найти момент, когда удобно будет начать откровенный разговор. Но Зоя работала без отдыха, и так получалось, что около нее все время кто-нибудь находился. Говорить с Зоей, снижая голос, чтобы не слышали другие, это, значит, напрашиваться на какое-то иное отношение к нему Зои, чем к другим, — Ярослав понимал, что это было бы бестактно после того, что произошло.
Ярослав видел, как жарко Зое, и не понимал, почему она не снимает своего синего в белую полосочку джемпера, так же, как сняла свой джемпер Лиза Пчельникова и жакетку Люся Уткина? Он не мог знать, что Зоя не хотела, чтобы ее видели в старенькой, много раз чиненной домашней кофточке. Потное лицо ее пылало и блестело все сплошь, — в школе никогда еще такой Зою не видели: на этот раз не выделялся ни лоб, обычно светлый у нее, ни кожа на висках, под глазами и около крыльев носа — все сплошь было распаренное, влажное, красное. Она то и дело облизывала губы и, вынимая из карманчика джемпера скомканный платок, вытирала лицо. В растрепавшиеся волосы каким-то образом попал завиток стружки, и все это вместе взятое и счастливое выражение лица, посещающее человека, когда он уже предвкушает победу, придавало Зое вид смышленого, озорноватого парнишки.
Ярослав улучил было минуту, — Кутырин и Коркин потащили во двор очередной груз на носилках, — и хотел подойти к Зое. Но она, словно догадавшись, что он сейчас начнет говорить с ней, отошла в сторону и сама о чем-то заговорила с Лизой, поправляя у нее растрепавшиеся волосы.
Хорошо потрудились. Это чувствовал каждый. Сильно стемнело. Расходились постепенно, по мере того как заканчивали работу. Раньше других ушла Люся Уткина, не подождав даже Терпачева, когда с обнажившейся из-под мусора земли убрали последние оскребушки щепок и стружек. У калитки ее догнала Ната Беликова. Потом отнесла в сарай свою лопату Люба Пастухова. Пока Уткина огибала школу и появилась наконец по ту сторону ограды, Терпачев со Шварцем тоже закончили яму, которую рыли вместе.
— Ну, я пошабашил! — сказал Терпачев и, подтянувшись на руках, перелез через ограду, чтобы догнать Люсю. Шварц хотел было проделать то же самое, но Терпачев крикнул ему: — Что ж ты бросил лопату! Отнеси и мою в сарай. Заодно захвати носилки. Да перекинь, мне, пожалуйста, мою рубашку, я забыл ее надеть.
Но вот наступила минута, когда можно было бы уже разойтись по домам всем. Однако еще несколько ребят стояли около уложенного вдоль дорожки посадочного материала и не хотели расходиться, хотя из-за крыши школьного здания уже поднималась все выше и выше луна. Что-то новое связало всех с сегодняшнего дня еще крепче, и в то же время чего-то им всем не хватало для полного удовлетворения.
Петя Симонов знал — прежде чем сажать деревья, надо, чтобы приготовленные для них ямы некоторое время постояли открытыми. Но сейчас он подумал: если посадку сделать с любовью, обращаясь с деревцем со всей осторожностью, то почему бы не посадить сегодня хотя бы одно? Компостная земля лежит рядом, давно уже заготовлена. Остается насыпать ее холмиком на дно ямы и по этому холмику уложить корневище.
Зоя тоже думала в это время о том, что после такой работы невозможно уйти, не завершив ее тем, ради чего все это главным образом и делалось. Хотя бы одно деревце! Только одно!
Петя Симонов занимался в биологическом кружке у Ивана Алексеевича. Для опытов Пети по селекции Иван Алексеевич еще в прошлом году, в восьмом классе, разрешил выделить на селекционном участке отдельную грядку. Весь класс считал Петю авторитетом по агрономическим вопросам. Если Петя считал возможным посадить сегодня дерево, а всем как раз этого ужасно и хотелось, то кто бы мог возражать?
Решили выбрать вторую яму от главного входа. Первая — слишком близко от дорожки, ребята из младших классов могут задеть во время возни и обломать ветки, а ведь Зое и ее товарищам хотелось, чтобы их дерево выросло большим и сохранилось навеки.
— Держите кто-нибудь, — сказал Петя, — а мы станем закапывать.
Он выбрал стройную липку с хорошо сформированной кроной. Держали за ствол Ярослав и Шура Космодемьянский. Петя, Зоя и Лиза перебирали землю в пальцах, разминали каждый комочек и старательно засыпали корешки, чтобы ни один из них не остался обнаженным, потом взялись за лопаты.
Между тем совсем стемнело и луна светила уже так ярко, что от только что посаженного деревца на землю совершенно отчетливо легла тень. Увидев ее, Зоя радостно воскликнула:
— Смотрите, оно уже живет у нас в саду, оно уже отбрасывает тень!
И Зоя ласково обхватила пальцами гладкий, показавшийся ей прохладным ствол, который все еще продолжали держать Ярослав и Шура, словно они боялись, что деревце упадет, если от него отойти.
— Как же мы назовем наше дерево? — спросила Пчельникова, подходя ближе. Она тоже невольно потянулась к нему и взялась за ствол такой же черной от земли рукой, как рука Зои.
— Народ уже давно его назвал, — сказал Петя. — Как его ни называй — оно все равно останется липой.
Как бы в доказательство правоты своих слов Петя тоже взялся за ствол и слегка потряс его.
Теперь в стороне от деревца стояли только Димочка Кутырин и Коля Коркин. Шура Космодемьянский с тревогой посмотрел на Зою, по ее взгляду он догадался, что сестре хочется что-то сказать, и он начал бояться, как бы она не предложила назвать эту липку «деревом дружбы», что, на его вкус, звучало слишком высокопарно. Но как раз в это время наиболее прозаический из всех Кутырин сказал:
— Давайте назовем этого младенца «деревом дружбы»!
И никому не показалось это высокопарным, а Лиза даже сказала:
— Очень хорошо!
Может быть, только самому Димочке захотелось внести немного больше реализма в свое поэтическое предложение, и он, тоже взявшись за ствол, сказал:
— Вы знаете, столетняя липа в пору цветения дает пчелам возможность собрать до десяти килограммов меда.
Шура Космодемьянский рассмеялся, шлепнул свободной рукой по руке Кутырина, взявшегося за ствол, и сказал:
— Ходячая энциклопедия! Ты бы помолчал в столь торжественную минуту.
Петя Симонов, может быть больше всех любивший свою школу, предложил, увидев, как все товарищи дружно взялись за ствол только что посаженного деревца, как за древко знамени:
— Ребята, давайте дадим друг другу клятву прийти на это самое место, в это самое число через… — он замялся и посмотрел на луну, — через сто лет!
Никто не рассмеялся. Только Зоя сказала:
— Я не такая терпеливая.
— Я тоже, — присоединился к ней Шура. — Предлагаю переставить запятую налево через один ноль. Соберемся здесь через десять лет ноль десятых. И вот в этот самый час, чтобы луна поднялась над крышей на четыре метра и чтобы она была немного недозрелая, чуть побольше половины.
— Очередное невежество, — сказал Димочка Кутырин, отнимая руку от ствола. — Через десять лет луна в этот день и час будет совсем в другом месте. Строго в этом месте она появится только через восемнадцать лет. Надо все-таки кое-что знать о спутнике Земли.
— Я не такая терпеливая, — повторила Зоя, — я буду приходить в школу всю свою жизнь, каждый год, в первое воскресенье февраля. В этот день повсюду встречаются старые школьные друзья!
Она отняла руку от деревца, а вместе с ней отпустили ствол и другие. Зоя сказала, обращаясь к нему:
— Ну, не бойся, расти — теперь не упадешь!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Ярослав ждал четверга: придет ли Зоя вечером в школу? Или она больше не станет ему помогать, а с Симоновым условится отдельно? Правда, Ярослав уже вместе со всеми посадил в саду деревце, и это было похоже на то, как если бы они все вместе, разом, соединили свои руки в крепком рукопожатии. Но, может быть, Зоя опять не посчитала его тогда за одушевленный предмет и просто не заметила в саду?
Диктант состоялся, Зоя пришла в четверг, как обычно, в девять вечера. Ярослав не сделал ни одной ошибки и только лишнюю запятую поставил. Лучше на этот раз написал и Симонов.
Зоя продолжала заниматься с ними каждую неделю. Но ведь это доказывало только то, что она всегда относится добросовестно к комсомольским поручениям… После собрания и после завершения работы в саду теперь вообще все в классе стали по-другому смотреть на свои обязанности. Не было еще случая, чтобы кто-нибудь отказался заниматься с отстающими, и разработанный Зоей вместе с Лизой Пчельниковой план прикрепления сильных учеников к тем, у кого есть двойки или тройки, строго выполнялся.
Даже Люся не уклонилась от поручения и сумела организовать беседу о выборе профессии. Но Зоя не смогла уговорить Ивана Алексеевича побеседовать с классом о режиме дня. «Я давно уже всем надоел! — сказал он. — А вопрос очень серьезный. Нужно найти свежего человека». Он посоветовал Зое обратиться в комсомольский комитет подшефного завода. Получилось удачно: завод прислал комсомольца-слесаря. Очень подвижный и такого же небольшого роста, как Димочка Кутырин, но с крупными, ухватистыми кистями рук, комсомолец рассказал совершенно запросто, как если бы он беседовал со своим лучшим другом, о том, как он распределяет время и у станка, и у себя дома, почему у него такие высокие показатели на заводе и остается время для того, чтобы дома читать художественную литературу и, кроме того, заниматься в кружке по изучению истории партии.
К этой беседе Димочка Кутырин сделал яркий плакат-афишу «Минута час бережет!».
Общий подъем в классе быстро дал результаты. Исправила свою тройку по математике на четверку и Косачева, с ней занимался Ярослав, выполняя поручение Зои.
Однако поговорить с Зоей, как хотел он — с полной откровенностью, до сих пор так и не удалось. Не получалось! После диктанта она быстро уходила. Бесследно исчезли те хорошие минуты, когда, бывало, после занятий можно попросту остаться еще минут на пять, на десять или же по пути пройти вместе с нею до угла. О чем они тогда говорили? Да ни о чем особенном! Иногда с его стороны, — Ярослав сознает теперь это полностью, — с его стороны была довольно-таки пустая болтовня, и Зоя над ним иронизировала.
Теперь и это было уже невозможно. Зоя стала строже даже с Симоновым, словно она опасалась, что если по-прежнему держать себя во время диктанта с Петей, то этим сейчас же воспользуется Ярослав.
Иногда хотелось подойти к ней и сказать: «Зоя, я не мог выполнить твоего совета: искал в Советской энциклопедии слово «любовь» — там нет его. Выходит, что только до революции люди путались в этом вопросе, а теперь им все ясно». И когда Зоя, стараясь не улыбнуться, посмотрит на него с удивлением, он скажет ей, что искал также в старом словаре Брокгауза и Ефрона: эти дореволюционные мудрецы уверяют, будто любовь существует, и даже в трех видах: «восходящая», «нисходящая» и «уравновешенная». Восходящая — это любовь детей к родителям, нисходящая — это любовь родителей к детям, а уравновешенная — это любовь между мужем и женой.
Зоя расхохочется так, что откуда-нибудь выскочит Витька Терпачев и закричит: «Замолчите! Вы мешаете нам репетировать этюд!»
Потом, когда они уже выйдут из школы на улицу, Зоя скажет, что в Советской энциклопедии такими пустяками не занимаются, скажет и то, что однажды она уже сказала на уроке литературы, осуждая ограниченность интересов у тургеневских девушек: «Любовь — это не самое главное в жизни».
Нет, такой непринужденно-шутливый разговор, конечно, больше невозможен с Зоей. Не повторится больше и тот вечер, последний вечер, когда он играл для нее на рояле и после они стояли с ней в коридоре, возле витрины с призами, и Ярослав объяснял ей, почему он до сих пор не состоит в комсомоле…
В письменных работах Ярослав делал успехи, и то, что в этих успехах он целиком зависел от Зои, от помощи Зои, — делало его положение еще более трудным. Однако не только у Пети Симонова и у Ярослава отметки стали улучшаться. Весь класс подтянулся. У Ивана Алексеевича Язева складывалось такое ощущение от девятого «А», словно после всех чрезвычайных происшествий в этом классе, после комсомольского собрания и работы в саду все ребята выросли по крайней мере еще на год. Когда Иван Алексеевич поделился своими мыслями с директором, тот неожиданно нахмурился и помрачнел, хотя, казалось, для этого нет никаких причин.
— Почему же некоторые дамы из гороно, — сказал он, — упрекают меня, будто бы я даю ребятам непосильную нагрузку в саду?!
Но хмурь не вязалась со здоровым, излучающим энергию и бодрость лицом директора.
— А вы знаете, Иван Алексеевич, — спросил он, возвращаясь к обычному жизнещедрому расположению духа, — знаете, какую постановку задумал наш Микола Иванович к Первому мая?
— Он уже успел мне надоесть с этой постановкой, — сказал Иван Алексеевич. — Идти к вам боится — решил сначала обработать меня. Просит, чтобы я на вас воздействовал. Надо купить два прожектора для сцены. Он ставит «Майскую ночь» в драматическом варианте, — по его режиссерской идее требуются какие-то особые световые эффекты. Просит, чтобы вы разрешили купить.
— Правильно делает, что боится меня. Ведь прожекторы обойдутся более пятисот рублей! Пускай не фантазирует! Скажите ему, ведь он же ведет кружок юных техников, почему бы им самим не сделать аппаратуру?
Директор замолчал и задумался о чем-то другом. Потеряв ход мыслей, он спросил Язева:
— Напомните, Иван Алексеевич, что я хотел сказать?
— Вы говорили…
— Да! Я вот что хотел у вас спросить. Какой класс больше, чем другие, принимает участие в наших театральных постановках? Девятый «А»?
Язев подтвердил:
— Николай Иванович говорит: «Я — хромец на обе ноги без Кутырина и Космодемьянского». Они — главные художники-декораторы. Терпачев — первый герой, Шварц — суфлер, ну, конечно, и Уткина участвует, раз здесь замешан Терпачев. Большинство статистов — тоже из девятого «А». Петя Симонов со сцены не в состоянии даже промычать, но зато он работает у Николая Ивановича специалистом по деревянным конструкциям: пилит, строгает, прилаживает, клеит…
— Мне что пришло в голову, — сказал директор, — давайте их по-макаренковски нацелим на такую «завтрашнюю радость»… Давайте обещаем им, если они поднимут эту постановку до уровня настоящего искусства, мы с вами добьемся в районо разрешения показать «Майскую ночь» в рабочих клубах нашего района.
— Очень хорошо! Это повысит у них гордость за свой коллектив!
— Неплохо придумано?
— Очень хорошо!
— Теперь слушайте дальше, Иван Алексеевич, это только для вас.
Директор снизил голос, а Иван Алексеевич невольно оглянулся по сторонам, хотя около них на площадке перед учительской, где они на ходу встретились, никого не было.
— Это только для вас. Ребятам об этом — ни звука. Они не должны к театральному энтузиазму примешивать меркантильные расчеты. А Николаю Ивановичу я сам об этом скажу. Понимаете, если будет дано разрешение показать постановку в клубах, это значит — платные входные билеты. Тогда пускай покупают себе хоть три прожектора для сцены!
Недели за две до Первого мая Зоя начала серьезно беспокоиться, как бы Шура не сорвался в учебе. Дома он только ночевал, а уроки почти не готовил. На все попытки Зои напомнить о его обязанностях Шура каждый раз отвечал:
— Оставь меня в покое — я не маленький!
Зоя за всю весну смогла лишь раза три, не больше, урвать время поиграть в волейбол, а Шура гонял мяч ежедневно. Жалея Зою, он раза два пытался сам выстирать себе ковбойку, но из этого ничего не вышло: размусолил грязь по всей комнате, рассмешил сестру и разозлил ее — Зое пришлось и пол подмывать за ним и заканчивать стирку.
Помимо обычных отметин на рубашках, свидетельствовавших о том, что во время игры Шура не раз «приземлялся», в последние дни он все чаще и чаще начал приносить на себе мазки и брызги от клеевых красок. Подготовка к просмотру «Майской ночи» шла усиленными темпами, Шура все с большим азартом работал над декорациями. Накануне праздника ему все-таки пришлось, несмотря на запрет директора, заночевать на чердаке вместе с Димой Кутыриным. Но это был такой случай, такая горячка, когда даже Симонов всю ночь не уходил с чердака, хотя ему стоило только спуститься вниз и перейти школьный двор, чтобы лечь на свою постель. Петя выпиливал из фанеры и приколачивал к стоякам ветви пирамидальных тополей и верб.
Николай Иванович нервничал, настроение его было полно контрастов, находивших немедленное отражение во всей его внешности: в походке, в жестах, в мимике. Педагогика, методы воспитания в этот период Николая Ивановича совершенно не интересовали. Готовя постановку, он ничем не отличался от ребят, как равный с ними их близкий товарищ. Это приводило к тому, что они полностью заражались его настроением, переживали вместе с ним взлеты надежды и отчаяние от всяких помех, бурно радуясь вместе с ним и по-настоящему огорчаясь, когда что-нибудь не ладилось.
«Успеем» или «нет, не успеем» держало в лихорадке весь класс недели две — до самого Первого мая.
Директор намеренно ни разу не появился на чердаке. Он знал, что Николай Иванович вложит душу в свою затею, но не потерпит посторонних наблюдателей с руками, засунутыми в карманы, или попытку под тем или иным предлогом контролировать его деятельность на чердаке.
Скинув пиджак, Николай Иванович развязывал галстук и прятал его в карман; расстегнув ворот и высоко закатав рукава рубашки, он метался по чердаку, прихрамывая, лавировал между деталями декораций, разложенными на полу. Он появлялся то в одном конце чердака, то в другом то ли с кистью в одной руке и с банкой красок в другой, то ли с зажатыми в губах гвоздями, с деревянной планкой в руках и с молотком, засунутым за пояс брюк.
Иногда, в очередном припадке отчаяния, он вдруг набрасывался на Димочку Кутырина и на Космодемьянского, кричал: «Что вы делаете! Убирайтесь домой, вы только мне мешаете, я сам сделаю! Если мы будем переделывать, мы никогда не успеем!»
На его лице возникала мефистофельская гримаса; даже в его ныряющей походке появлялось что-то ехидное, точно, припадая на больную ногу и тотчас же взлетая, кланяясь и выпрямляясь, он хотел кого-то поддеть на рога.
Через два дня, взглянув на расставленные вдоль кирпичной стены чердака просыхающие декорации, он воскликнул: «Гениально! Черти, ведь вы же настоящие художники!», «Кто сказал, что не успеем?! Терпеть не могу паникеров!»
После такой крутой перемены в самочувствии Петя Симонов обычно должен был отправляться на Коптевскую площадь за колбасой и пирожными «на всю братву», но на деньги Николая Ивановича.
Напрасно Зоя боялась за Шуру. Увлечение работой на чердаке не только не отвлекало его от занятий в школе, а, наоборот, принося ему глубокое удовлетворение, делало его более раскрытым для всего остального: сидя на уроках, он стал внимательнее следить за объяснениями педагогов, и для приготовления домашних заданий теперь ему требовалось гораздо меньше времени. Третью четверть Шура закончил с хорошими отметками.
Мать видела Зою и Шуру реже, но она все понимала и не обижалась на них: оба они — брат и сестра — развернулись в эту весну шире, жадно и глубоко дышали, походка у обоих стала более живая, с нетерпеливыми жестами, все им давалось легче, чем обычно, и они успевали все сделать.
Одно только омрачало Шуру по временам. Он мог немного подзаработать и помочь матери, — ее брат, дядя Сережа, живший в Замоскворечье, не один раз предлагал Шуре чертежную работу, но Шура пока отказывался. Иногда он мечтал: заработает и купит Зое туфли на высоких каблуках. Ведь она уже совсем взрослая девушка, а еще ни разу не носила туфли на высоких каблуках. Но ни от футбола, ни от работы на чердаке Шура пока не был в состоянии отказаться.
Помимо работы над «Майской ночью», в старших классах шла подготовка к концерту. Вера Сергеевна предложила Зое выступить с чтением отрывка из «Мертвых душ»: «Дорога». Ярослав Хромов приготовил «Май», а также «Июнь» из «Времен года» Чайковского. Только эти двое из девятого «А» должны были выступать в концерте.
Однако накануне концерта Зоя предупредила, что не будет читать, хотя выучила отрывок наизусть и несколько раз проработала с Верой Сергеевной. Вера Сергеевна не могла разубедить Зою. Зоей овладело какое-то неприятное чувство: она раньше никогда не участвовала в концертах, и теперь ей казалось, что если она выйдет на сцену, то это будет равносильно тому, что она заявит всем зрителям: «Смотрите, какая я хорошая!» — и от этой мысли ей становилось противно.
Она упорно стояла на своем. Раз уж ее не смогла заставить выступить сама Вера Сергеевна, то не помогли, конечно, уговоры ни Лизы Пчельниковой, ни Ирины Лесняк.
Когда окончился концерт, а Зоя так и не выступила, Шура нашел ее в коридоре и сказал ей с искренней горечью:
— Никогда не думал, что ты такая трусиха! Теперь мне стыдно будет смотреть в глаза ребятам.
А «Майская ночь» имела шумный успех. На просмотре присутствовал заведующий районным отделом народного образования. Он разрешил показать спектакль в трех клубах. Полная победа! В первый выходной день после майских праздников трое ребят из девятого «А» — Димочка Кутырин, Терпачев и Шварц — отправились на улицу Кирова и привезли в школу два прекрасных, сильных прожектора. Их сейчас же опробовали на сцене. Николай Иванович, увидев, какой мощный свет дают прожекторы, тотчас же заявил, что следующей драматической постановкой будет «Садко», по опере Римского-Корсакова, с подводным царством. Пускай Ярослав Хромов разучит на каникулах музыкальное сопровождение — постановка будет показана в Октябрьские праздники.
Шура Космодемьянский отказался ехать за прожекторами, отправился к своему дяде на Большую Полянку и попросил его достать чертежную работу.
Дома, когда Зоя вышла из комнаты и задержалась у Лины, укачивавшей ребенка, он, устраивая себе на полу постель, сказал матери:
— Зойка упрямая и гордая, она ни за что не скажет, но я уверен, она потому не выступила на концерте, что у нее поношенное платье. Все-таки она уже взрослая девушка. Люська Уткина каждый месяц меняет платья, а Зоя носит второй год, да и то перешитое из двух старых. Даю честное комсомольское, к лету у нее будет новое!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Приближалась пора экзаменов. Но Вера Сергеевна сдержала свое слово и еще раз повела девятый «А» в Третьяковскую галерею. Это было последнее в учебном году внешкольное мероприятие, — с понедельника начиналась усиленная подготовка к испытаниям.
День выбрали удачный.
Небо над Москвой было такой безукоризненной чистоты, после прошедших недавно дождей, что, казалось, просто не из чего больше образоваться хотя бы одному облачку, — они так и не смогли появиться до самого позднего вечера. Условия освещения для осмотра картин сложились необыкновенно хорошие.
Никогда еще ни Шура Космодемьянский, который много раз бывал здесь вдвоем с Димочкой Кутыриным, и никто из его товарищей не видели, сколько света в залах второго этажа галереи, проникающего сюда через матовые стекла высоких потолков. Именно о таком освещении мечтает каждый художник, когда он создает свое произведение и когда он в своем воображении уже видит толпящихся перед картиной зрителей с широко раскрытыми глазами и жаждет, чтобы все детали его замысла были глубоко поняты каждым, кто остановится перед картиной. Сегодня все казалось более значительным, даже те картины, которые все в классе давно уже изучили.
Вера Сергеевна провела экскурсию с подъемом. Обильный свет весеннего дня взбудоражил и ее, разбудил в ней какие-то новые творческие силы, хотя она и без того не страдала отсутствием энергии.
Сразу же прошли в залы, где собраны лучшие произведения передвижников. Художники этой школы дают бесценный, незаменимый материал, позволяющий глубже понять эпоху шестидесятников.
Долго стояли перед картиной Репина «Арест пропагандиста» и еще дольше, вспоминая трагическую судьбу Чернышевского, перед картиной — «Не ждали». Репин с поразительной силой изобразил неожиданное возвращение в семью политического «преступника», измученного долгими годами царской ссылки.
Около картины Ярошенко «Студент» завязался было жаркий спор. Вера Сергеевна спросила:
— Кого напоминает вам этот человек с шалью на плечах? В те годы так ходили студенты.
Первым по обыкновению отозвался Виктор Терпачев, он сказал:
— Типичный Рахметов. Человек нового типа: революционер-профессионал.
— Не согласна, — возразила Зоя, поднимаясь со стула, на который она только что было села посреди зала, приготовившись слушать Веру Сергеевну. — Не согласна! Само собой разумеется, что художник изобразил передового человека — я в это верю. Но разве у Рахметова могут быть опущены плечи? Где же в облике этого студента черты той поразительной силы воли, которую развил в себе Рахметов?
Вера Сергеевна была довольна и вместе с тем встревожилась. Она давно уже знала по опыту, какой редкой способностью завязывать беседу и вовлекать товарищей в жаркие дискуссии обладает Зоя. Признак того, что Зоя готова к борьбе, уже появился. В такие минуты словно бы какой-то свежий ветер вдруг пахнет Зое в лицо, Быстрым движением руки она откинет назад пружинящую прядку чуть вьющихся, подстриженных волос, немного сощурит голубовато-серые глаза, они потемнеют, а краски на ее лице станут ярче.
Заметив этот безошибочный признак того, что Зоя сейчас начнет во что бы то ни стало доказывать свою правоту, Вера Сергеевна побоялась, как бы спорщики не увлеклись и не стали мешать другим посетителям.
— Тише! — попросила она. — Давайте этот разговор перенесем в класс, продолжим его на ближайшем уроке. А теперь пройдемте к картине Перова — приезд гувернантки в семью разбогатевшего купца-самодура. Это даст нам возможность поговорить о том положении, которое занимала в обществе женщина шестидесятых годов.
Порыв Зои не пропал даром: он, как толчок, передался самой Вере Сергеевне — она оживлялась все больше и больше.
Один только Шура Космодемьянский казался рассеянным. А между тем именно он больше, чем кто бы то ни было другой из всего класса, любил Третьяковскую галерею. Как только он входил в первый зал нижнего этажа или начинал подниматься по широкой лестнице главного входа, на него уже начинали действовать даже одни запахи галереи, знакомые ему с далекого детства, — запах лака и усыхающих красок.
Сколько раз он бывал в Третьяковской галерее? Он не смог бы на это ответить. Первый раз привела сюда Шуру мать, держа его еще за руку, а рядом шли Зоя и отец, да, отец… он был еще жив. С тех пор прошло немало лет. Много раз Шура приходил сюда только с Кутыриным. Особенно часто начали они бывать в Третьяковской галерее после перехода в восьмой класс, когда оба стали заниматься в студии.
Одной из самых любимых картин Шуры была работа Серова «Девочка с персиками».
Подолгу простаивал Шура и перед «Стогами» Левитана, ощущая, как постепенно сыреет сено от вечернего тумана и медленно движется по своему кругу луна глубокого медового цвета.
В зале Васнецова Зоя всегда подходила прежде всего к картине «Три богатыря». Она даже написала на эту тему домашнее сочинение в шестом классе. А Шуру притягивало к себе совсем другое произведение Васнецова: он подолгу простаивал перед траурно-зловещей и торжественной, как эпическая поэма, картиной «После побоища Игоря Святославовича с половцами». В степи, среди поверженных в прах воинов, помятых шлемов, пробитых кольчуг, поломанных копий, зазубренных мечей и сабель, единственно, что осталось в живых, — синие колокольчики в помятой высокой траве и ромашки да яростно сцепившиеся в воздухе из-за обильной кровавой добычи орлы-стервятники.
С тех пор как Шура начал сознательно заниматься живописью, он стал совсем по-другому изучать картины, давно известные уже ему по своему содержанию: его теперь все больше и больше интересовало, как же они сделаны?
Погруженный в свои переживания, он не отвечал, если кто-нибудь из товарищей обращался к нему с вопросом. Не очень внимательно Шура следил и за тем, что говорила Вера Сергеевна. Иногда он рассматривал даже совсем другую картину, не ту, у которой останавливалась их группа; порою он отставал от своих или же, наоборот, уходил один далеко вперед.
Чаще всего он рассматривал какую-нибудь деталь с близкого расстояния — в упор, сбоку или же снизу, ища такого положения, чтобы холст не отсвечивал. Ему хотелось разгадать рабочий прием художника, тот способ, при помощи которого художник, изображая тот или иной предмет, накладывает большими или мелкими мазками краску на холст.
Люся Уткина, проходя мимо Шуры, тихо сказала ему:
— Ты скоро начнешь нюхать картины!
Шура не обратил на это никакого внимания. Только Дима Кутырин мог вывести его из такого состояния, и тогда они вместе обсуждали техническую сторону или, как они говорили, «фактуру» живописи данного художника.
Крупный, почти на голову выше Зои, широкоплечий, Шура часто мешал смотреть другим, слишком близко подходя к картинам. Дежурный сотрудник галереи два раза сделал ему замечание. То же самое происходило и в предыдущие посещения. В таких случаях Шура как бы внезапно пробуждался и отходил от картины со своей особой, свойственной только ему одному «кривой» улыбкой, беспомощной и в то же время по-домашнему милой.
Совсем по-другому смотрела картины Зоя. Есть в Третьяковской галерее картины, остановившись перед которыми Зоя забывала буквально все на свете. Нет, ее не занимало, как сделана картина, каким способом покрыта поверхность холста. Она целиком отдавалась непосредственному, живому восприятию. Так слушают музыку или песню, совершенно не думая о том, при помощи каких звукосочетаний она так сильно действует на душу человека.
Зоя не слышала приглушенного шороха шагов посетителей, медленно продвигающихся вдоль стен, увешанных картинами. Всякий раз она как бы переселялась, проникала за пределы рамы, входила в мир картины, как можно войти в лес, подняться на вершину скалы или же, переступив порог, оказаться в чьем-нибудь доме и стать участником происходящих там событий.
Когда Зоя смотрела на «Аленушку» Васнецова, горюющую у лесного омута о брате, Зое хотелось самой сесть рядом с Аленушкой, обо всем расспросить ее и помочь ей. «Неравный брак» Пукирева вызывал у Зои состояние, близкое к чувству злобы. Почему так покорно стоит под венцом в церкви девушка рядом с дряхлым, высохшим стариком? Зачем так безвольно протянула она руку священнику? Сейчас он наденет на палец обручальное кольцо и скует ее на всю жизнь золотыми цепями. Почему же не кричит девушка, почему не зовет на помощь? Почему не сорвет она с себя подвенечный наряд и не убежит из церкви? «Умри, но никому не давай поцелуя без любви!»
Такой же взволнованной соучастницей стояла Зоя и перед пейзажами своих любимых художников. Она поднималась высоко на гору и побывала «Над вечным покоем» Левитана, где свежий, порывистый ветер растрепал, перепутал у нее на голове волосы; ранним утром Зоя прошла босыми ногами по росной траве в «Березовой роще» Куинджи; она исходила все лесные тропы в картинах Шишкина, и это к ее ногам склонялась созревшая, тучная рожь, как бы умоляя, чтобы поспешили с жатвой, иначе колосья начнут ронять свои зерна прямо на землю.
Вместе с ощущением бескрайности просторов появилось чувство огромности сроков во времени, глубокая древность истоков, откуда начали свой путь наши предки. От картины к картине, во множестве сцен, эпизодов, событий вставала перед глазами вся история Руси, русского народа: беззаветная храбрость в борьбе с врагами и преданность родине; бедность и нищета и великое изобилие природных богатств; народное горе, отчаяние и удаль, поиски правды и справедливости; народные восстания против угнетателей; красота русских женщин и девушек; игры белобрысых ребятишек под жгучим июльским солнцем; великое раздолье речных просторов, полей и нив, лесных опушек и непроходимых чащоб; обомшелые валуны; широкие небеса — то грозные, то щедрые, тихие и добрые; море, прибой; хаты Украины, завороженные густым лунным светом; великие русские люди: богатыри народных легенд и сказаний и богатыри мысли — Пушкин, Гоголь, Лев Толстой, Тургенев, Некрасов, запечатленные в портретах Кипренского, Крамского, Репина.
Революция! Первые образы нового, советского человека: рабочий-красногвардеец, матрос-большевик, рабфаковец, пионервожатая, комсомольцы-вузовцы; великие стройки пятилеток.
Но никогда Зоя не уходила из Третьяковской галереи успокоившаяся, насытившаяся тем, что она там видела и только что пережила. Нет, этого ей было мало! Хотелось самой, уже не с помощью великих мастеров кисти, а в самом деле своими собственными ногами побродить и попутешествовать. Зоя только в раннем детстве выезжала из Москвы, гостила в Сибири у бабушки, но ведь это было так давно… Иное дело теперь, когда она чувствует себя уже совершенно взрослым человеком, завтра же, нет, после экзаменов, вскинуть рюкзак за спину и отправиться в дальнюю дорогу, и чтобы рядом с тобой шли все твои школьные товарищи!
В зале Сурикова Зою удивило, как много народа стояло около картины «Боярыня Морозова». Она подумала: «Будет ли когда-нибудь время, когда вот так же десятки людей ежедневно будут толпиться около картины Шуры «Гражданская казнь Чернышевского»?» Зоя сейчас с особенной остротой ощутила — такая картина, рано или поздно, должна появиться, должна, во что бы то ни стало! Ведь во всей Третьяковской галерее нет даже обыкновенного портрета Чернышевского. Но хватит ли у Шуры для этого силы воли? Несмотря на свой огромный рост, он все-таки до сих пор ребенок, ему не хватает четкости в поступках, он слишком добродушен, слишком покладистый и вяловатый. А ведь надо столько самоотверженно трудиться, чтобы стать настоящим художником!
— Шура, — спросила Зоя у брата, который вместе с Димочкой Кутыриным тоже отстал от группы и задержался около «Боярыни Морозовой», — как ты думаешь, у кого получилось бы сильнее — у Репина или у Сурикова?
Зоя больше ничего не сказала, не хотела, чтобы слушал Кутырин, стоявший в трех шагах от них. Но Шуре достаточно было и этого: брат и сестра поняли друг друга с полуслова.
Шура задумался. Для кого из этих великих художников тема «Гражданская казнь Чернышевского» могла быть ближе? Он смотрел на «Боярыню Морозову», но в то же время вспоминал все, что видел из работ Репина своими глазами или же знал по репродукциям то, что собрано в Ленинграде, в Русском музее.
— Суриков, — сказал Шура, — слишком эпически спокойный. Он не…
— А казнь стрельцов? — перебила его Зоя.
— Чернышевский — трагедия, а не былина. Репин дал бы образ Чернышевского резче, ярче. Особенно лицо в момент самой казни. А цветы у Репина получились бы как бомбы. Ты вернись в его зал, посмотри, что он делает красной и белой краской, когда показывает митинг у Стены коммунаров в Париже!
— Ну, а ты посмотри, — настаивала Зоя, — как Суриков изобразил толпу. Ведь это же весь русский народ той эпохи!
Несмотря на то что спор Зои и Шуры не давал как будто повода для шуток, Димочка Кутырин не утерпел и сказал:
— О чем спорите, эстеты? Вас волнует детская проблема — кто сильнее: Суриков или Репин? Мой младший братишка два дня не дает прохода бабушке, пристает, чтобы она ему сказала: кто сильнее — лев или тигр?
В это время к ним быстро подошла Ната Беликова и сказала:
— Вера Сергеевна ругается! Почему вы отстаете?
Не обращая никакого внимания на ее слова и считая свой разговор с Зоей законченным, Шура подошел вплотную к картине Сурикова. Ему хотелось понять, как удалось художнику, не прибегая к кропотливым подробностям, при помощи одного лишь непринужденного, свободного движения кистью, одним мазком достигнуть самой высокой, какая только мыслима, правды в изображении человеческого характера?
Зоя хотела скорей подойти к Вере Сергеевне, извиниться перед ней. Но надо было привести с собой и Шуру. Хорошо зная, что теперь, когда он поглощен своими наблюдениями, слова не могут иметь на него никакого действия, Зоя взяла его за руку и осторожно потянула за собой. И вот Шура, с независимым видом ходивший по всей галерее, как ему вздумается, не особенно считавшийся с тем, мешает ли он кому-нибудь или нет, вдруг вспыхнул от прикосновения сестры, как маленький, вырвал руку и резко сказал:
— Отстань!
Он оглянулся на окружающих, боясь, как бы посторонние не заметили, что он младше Зои.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Из Третьяковской галереи вышли уставшие, но довольные и настолько взбудораженные неулегшимися еще впечатлениями, что почти никому не хотелось возвращаться домой.
Обычно в Тимирязевский район возвращались на автобусе. Но сегодня Зое захотелось изменить маршрут: пройти пешком через Каменный мост, и уже где-нибудь в центре спуститься в метро. Вера Сергеевна не протестовала.
Вместе с Зоей отправились пешком Лиза Пчельникова, Димочка Кутырин, Симонов, брат Шура и ввязалась еще Ната Беликова.
На распутье, у ворот Третьяковской галереи, замялись на месте, задержались Коркин и Ярослав Хромов: и тот и другой, — но каждый для себя, конечно, отдельно, — не могли решить: идти ли им с Верой Сергеевной направо или же налево, к Каменному мосту, куда пошли Зоя и Шура с товарищами.
Ярослав боялся быть навязчивым, о том же думал и Коля Коркин. Неожиданно Зоя обернулась и крикнула издали:
— Коркин, ты, само собой разумеется, с нами?
— С вами! — сказал он очень решительно, как будто перед этим у него не было никаких колебаний.
Ярослава больно задело то, что Зоя опять сделала вид, что его не существует. Однако он решил идти тоже в эту сторону. Ярослав сказал самому себе: «Каменный мост построен не для одних только комсомольцев!»
Ната Беликова осталась верна себе. Пройдя вместе с Зоей и Лизой по Лаврушинскому переулку метров двести, она вдруг вскрикнула:
— Ой, девочки! — хотя в эту сторону пошло больше мальчиков, чем девочек. — Ой, девочки, что же я делаю? Ведь мои деньги на обратную дорогу остались у Люси Уткиной.
Все засмеялись. А Петя Симонов сказал ей вдогонку то, что он всегда о ней говорил: «И нашим, и вашим!»
Небо над Москвой оставалось все такое же чистое, удивительно прозрачное после вчерашнего дождя, смывшего пыль и вдоволь напоившего молодую зелень в садах, в парках и на бульварах. За весь день по небу так и не прошло ни единого облака, хотя до вечера оставалось уже совсем недалеко: золоченая стрелка на черном диске часов Спасской башни, сползая по кругу, уже почти подошла к пяти.
По дороге на Каменный мост поднялся спор: Кутырин и Симонов не верили Зое, что на мосту есть такая точка, откуда одновременно видны все пять кремлевских звезд на пяти башнях: на Спасской башне, на Никольской, на Троицкой, на Боровицкой и на Водовзводной.
— Не может быть! — упорно твердил Димочка. — Или дворец заслоняет хоть одну башню, или Оружейная палата.
— Соборы тоже заслоняют, — добавил Петя.
Но когда они поднялись на мост и дошли до его середины, перед ними открылась такая торжественная и величественная картина Московского Кремля, которая заставляет человека забывать все на свете. Забыли и они надолго о своем споре. Молча стояли, облокотившись на чугунные узорные перила моста, и смотрели прямо перед собой. Каждый думал об одном и том же: «Здесь жил, здесь работал Владимир Ильич Ленин».
Сзади них по широкому мосту в обе стороны проносились автомобили, шли троллейбусы с шипящим звуком скользящих по проводам токоснимателей. Но они ничего не слышали и не замечали. Все прохожие тоже смотрели туда, на Кремлевский холм. Многие останавливались рядом со школьниками, но тоже не замечая их.
Первым нарушил молчание Димочка Кутырин. Он сказал одно только слово:
— Здо́рово!
Зоя вспоминала, как первый раз привел ее сюда отец. Он держал ее и Шуру за руки. С тех пор, когда бы они ни проходили по Каменному мосту, она всегда вспоминала две строчки из стихотворения, которое тогда прочитал отец:
Шура взглянул на Зою. Может быть, он тоже вспомнил тот далекий день, когда они стояли здесь с отцом, взявшись все трое за руки?
Первый на мосту заговорил Кутырин.
— Зойка, конечно, опять права! — сказал он, пересчитывая кремлевские звезды.
В самом деле, вершины всех пяти башен были хорошо видны вместе с их звездами. Зоя давно это знала. Дядя Сережа жил на Полянке, и Зоя часто проходила по Каменному мосту. Это был редкий случай, когда обо всем осведомленный Димочка Кутырин дал маху.
— Эти звезды видны не только с моста — они видны со всех точек земного шара! — проговорила Лиза Пчельникова как о чем-то совершенно обыкновенном.
— Ой, как это верно! — сказала Зоя. — Я только что подумала то же самое.
Ярослав оглянулся на Зою. Когда Зоя вот так смотрела прямо на Кремль, ветер отбрасывал волосы назад, и тогда вся ее собранная, литая фигурка порывисто устремлялась вперед, точно Зоя приготовилась к прыжку. Ей приходилось щурить от ветра глаза, и от этого лицо ее становилось суровее и сама она казалась взрослее своих семнадцати лет.
Но стоило Зое хоть немного повернуть голову к своим товарищам, направо или налево, ветер тотчас же по-озорному мял и спутывал ее волосы. Сначала Зоя пыталась укладывать их на место, потом это ей надоело, она бросила их на произвол и теперь совсем стала похожа на своих одноклассников-мальчиков, у которых ветер тоже давно уже все перепутал на голове, не оставил никакого следа от прически.
Ветер поднимал темно-голубую, почти синюю рябь, гладил Москву-реку против течения.
Лиза Пчельникова сказала:
— Зоя, попробуй закрыть глаза и представить себе, что было на Кремлевском холме семьсот лет назад. Я совершенно отчетливо вижу бор с огромными соснами…
— Вместо того чтобы закрывать глаза, — сказал Шура Космодемьянский, — лучше пойди в музей истории Москвы и открой свои глазки пошире. Москву древнюю очень хорошо изобразил художник Аполлинарий Васнецов, брат того Виктора Васнецова, который написал «Трех богатырей». В музее истории Москвы много произведений Аполлинария Васнецова.
— А я знаете какую картину хотела бы посмотреть? — сказала Зоя. — Я бы хотела посмотреть картину, изображающую человека, который будет стоять на этом мосту через сто лет. Каким будет человек, тот человек, который и родился при коммунизме, живет и работает тоже при коммунизме?
— Прежде всего при коммунизме будут отменены все двойки по диктанту. Правда, Петя? — спросил Димочка Кутырин.
Симонов хотел промолчать, но не удержался:
— Через сто лет таких зубоскалов, как ты, будут сбрасывать с моста в воду без суда и следствия.
— Помнишь, Лиза, — сказала Зоя, не обращая никакого внимания на болтовню Димы и Пети, — как прекрасно рассказано о будущем человеке у Чернышевского, в четвертом сне Веры Павловны? Это гимн будущему человеку. Ужасно хочется сделать что-то необыкновенное и приблизить к нам будущее. Хочется, чтобы уже теперь люди стали более правдивыми, чистыми, радостными и счастливыми на всем земном шаре. Чтобы вот мы с тобой, чтобы вот все мы с вами как раз и были бы теми самыми людьми далекого будущего. Ой, я, кажется, запуталась! — сказала она и вдруг схватилась обеими руками за голову, безнадежно пытаясь уложить растрепанные ветром волосы.
— Нет, Зойка, правильно! — сказал Петя Симонов. — Какого черта лететь на планеты, зачем искать другую природу, когда мы еще не научились брать все, что можно, от своей природы? Мы должны свою землю оборудовать, чтобы она была как конфетка! В этом году я ставлю опыты по пшенице… Ну ладно, об этом помолчим. Через сто лет нашу землю узнать нельзя будет. Реки Сибири потекут обратно, в Среднюю Азию. Уже работают над проектом. От пустынь следа не останется. А раз переделаем природу — значит, и человек будет другой. Я так понимаю марксизм. На всем земном шарике от капитализма не останется ни одного родимого пятна, ни одной заусеницы.
Димочка Кутырин посмотрел на ручные часы и сказал:
— Первый раз слышу, что Петя Симонов в состоянии произнести идеологически выдержанную речь, и, главное, почти без заикания, хотя и несколько косноязычно. Предлагаю в честь такого исторического события войти в правительство с ходатайством, с просьбой переименовать башню Петра Митрополита в башню Петра Симонова!
Лиза, Коркин и Шура Космодемьянский рассмеялись. А Зоя сказала:
— Димочка, что с тобой? Ты сегодня совершенно невыносим.
Она хотела сказать еще что-то, но как раз в это время из-под моста вырвалась с резким клекотом ослепительно белая моторная лодка и стремительно понесла вперед, словно эстафету, красный вымпел, узенький и яркий, как язычок пламени. Вспарывая носом поверхность воды и поднимая ее выше своих бортов, лодка развела в обе стороны волны; они радостно, по-озорному, как от щекотки, заметались в берегах, высоко всползая по отлогому граниту набережных. Какой-то юноша, удивительно похожий на Ярослава Хромова, стоял посредине лодки, придерживаясь одной рукой за плечо товарища, сидевшего у штурвала. Он был до того похож на Ярослава, что Зое даже захотелось убедиться — стоит ли Ярослав на мосту? Да, он был здесь!
А тот, в лодке, стремился куда-то вперед. Его рыжевато-золотистые волосы, казалось, едва поспевают за движением лодки и вот-вот оторвутся. Неожиданно юноша обернулся. Увидев на мосту молодежь, он помахал рукой и, как бы дразня, поманил за собой.
Внезапное появление лодки, ее стремительный ход, красный, манящий за собой вымпел и то, что в лодке находились такие же юноши, как те, что стояли на мосту, взбудоражило Зою. Она вспомнила все, что только что видела и пережила в Третьяковской галерее: бескрайние просторы — поля, холмы, реки, леса, горы, моря… И Каменный мост вместе с Кремлевским холмом вдруг представился ей как огромная высота, откуда начинаются все пути и дороги, откуда во все стороны видна наша родина.
Зоя вцепилась в верхнюю перекладину перил моста, сжала ее руками так, что пальцы побелели, и сказала:
— Как бы я хотела сейчас быть на этой лодке и плыть, плыть все дальше и дальше, плыть по Оке, потом по широкой Волге — к морю!
— А я думаешь нет? — сказал Петя, следя вместе со всеми за лодкой, уже вошедшей в тень под Москворецким мостом и через несколько мгновений вовсе скрывшейся из глаз. — Я бы много дал, чтобы попасть в устье Волги. Ведь там же мировой заповедник: рыба, птица, туда выпустили ондатру, там целый институт на плаву!
— Поехали после экзаменов! — сказал Димочка Кутырин и добавил: — Через неделю, самое большее через полторы я заканчиваю сборку подвесного мотора.
— А лодка? — спросил Петя.
— Зачем же я стал бы возиться с мотором? В Коломне у моего дяди все равно что моя лодка.
— Так в чем же дело? — вмешался в разговор Шура Космодемьянский, отстраняя своей рукой с дороги Симонова и подходя к Кутырину. Шура словно проснулся от долгого сна. — Едемте, честное слово, едемте! Сразу же после экзаменов. Завтра же я беру у дяди чертеж и весь свой заработок вкладываю в это путешествие. Пусть это будет мой пай!
— А мой пай, — сказала Зоя, — наш пай, вместе с Лизой, — поправилась она, беря Пчельникову под руку, — обеспечить экипаж бесперебойным питанием. Мы берем на себя всю стряпню.
Взглянув на Димочку, Зоя добавила с улыбкой:
— Бездельников и болтунов, конечно, оставляем на берегу!
— Совершенно верно! — согласился с нею Димочка. — Бездельников — за борт. Что же касается нас с Симоновым — наш вклад в это дело чисто научный, как сказал Петя: «Институт на плаву». Петя будет вести наблюдения за влиянием на пищеварение команды непрерывного движения вниз по течению в условиях повышенной влажности. А я буду контролировать Петю, чтобы он не разболтался на свежем воздухе.
Шура Космодемьянский воодушевлялся все больше и больше.
— Товарищи, в самом деле, что нам мешает? Поехали прямо после экзаменов! Мы привезем в школу мировой журнал: Коркин, конечно, ведет историческую хронику событий; Димку заставим поработать в отделе дружеских шаржей и карикатур, а я беру на себя составление иллюстрированной карты всего путешествия.
Зоя подумала: а что же будет делать в лодке Ярослав, какую возьмет он на себя роль? И тут только она заметила, что Ярослава среди них уже нет. Он исчез совершенно незаметно. Обиделся? Зоя посмотрела вдоль моста. Но Ярослава не было видно ни на мосту, ни у решетки Александровского сада — нигде, докуда только Зоя могла проследить своим взглядом, вплоть до здания Ленинской библиотеки. Словно он в самом деле умчался куда-то вдаль на моторной лодке.
В это время Лиза спросила:
— Как назовем лодку? — Она уже не сомневалась, что путешествие будет осуществлено. — С завтрашнего дня я начинаю копить сухари.
Вдруг Шура сказал:
— Друзья мои, а не подложит ли нам свинью наш «заклятый друг» Гитлер?
В первый момент после изречения Шуры никто ничего не понял, кроме Зои, знавшей мысли брата. Все молчали. Первым заговорил Димочка Кутырин:
— Видали такого паникера?! Интересно знать, в каких инкубаторах выращивают такое золото?
Потом высказал свое мнение Симонов:
— Гитлер обожрался тем, что он уже успел захватить, — больше ему ничего не нужно.
Зоя сказала:
— Войны не может быть! Во всяком случае, этим летом войны не будет.
Петя пожал плечами:
— А если война, — в чем дело? Пойдем добровольцами в Красную Армию, — о чем разговаривать?
Кремль стоял уже совершенно иной, чем в ту минуту, когда они только что взошли на мост. Близился вечер, свет изменился. Шура Космодемьянский, с досадой чувствуя по общему настроению, что сейчас надо будет уходить домой, опять вернулся к своему восприятию Кремля глазами художника. Расцветка стала глубже, богаче и сложнее, хотя внешне казалось, что для художника задача облегчена тем, что все детали сейчас, более чем прежде, были объединены в единое целое оранжево-розовым колоритом, который в одинаковой мере присутствовал сейчас и в самых ярких местах пейзажа, таких, как блеск червонного золота на куполах соборов и на звездах башен, и в то же время в темных проемах колокольни Ивана Великого, где висели почерневшие колокола; эта же оранжево-розовая вечерняя поволока, как прозрачная краска, легла и поверх кремлевских стен, сложенных из кирпича древнего обжига, более темного, чем современный. Но было бы непростительной слепотой за единством колорита не видеть бесконечного разнообразия цвета.
Пора было идти домой.
Зоя немного задержалась, постояла на мосту одна, ей тоже было жаль уходить отсюда. Ах, если бы можно было сейчас громко запеть! Но нет, разве это возможно? Петь здесь было бы слишком нескромно, дико даже.
Нет, это не то. Вот если бы сейчас можно было совершить что-то необыкновенное, крайне необходимое всем людям, совершить какой-то подвиг, даже если бы для этого потребовалось отдать свою жизнь… Вот здесь! Где начинаются все пути-дороги твоей родины. Ах, какое бы это было счастье!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Давно уже отцвели молодые вишенки, посаженные в прошлом году вдоль ограды школьного сада, зацвел шиповник; гибридная пшеница на опытной грядке Пети Симонова поднялась сантиметров на тридцать.
А «дерево дружбы» — молоденькая липка, ее вволю поливал Петя, — так густо оделась листвой, что в солнечный день в ее тени могли укрыться все ее друзья, даровавшие ей жизнь в школьном саду, если бы они теснее сели под нею в кружок.
Сколько было волнений перед экзаменами в девятом «А» и во всей школе, сколько страхов! И вот наступил день, когда экзаменационная лихорадка уже больше никого не трясла, температура стала нормальной, пора испытаний оказалась уже далеко, далеко позади, хотя прошло всего только два дня с той минуты, когда в ведомость каждого ученика была вписана отметка за последний экзамен.
Никто не остался на второй год. Петя Симонов и Ярослав Хромов по русскому письменному получили по четверке; одной только Нате Беликовой осенью предстояла переэкзаменовка по физике; Косачева, с которой занимался Ярослав, решила задачу на пятерку, — привыкнув поливать слезами любую обиду и неудачу, она разревелась на этот раз и от радости.
У Зои все время было такое ощущение, как будто произошло нечто гораздо более важное, чем просто окончание девятого класса и переход в следующий. Весна была полна событий и борьбы. Усилия комсомольцев не пропали даром: класс стал дружнее.
А впереди, казалось, предстояло радостное лето, полное тайн и загадок и, может быть, даже открытий…
Начиналось лето 1941 года.
Решили действовать так: 21 июня обязательно побывать на выпускном вечере десятых классов, обязательно! Зоя сказала по этому поводу: «Не мешает и нам посмотреть, как это делается, ведь через год мы тоже будем прощаться со школой!»
Затем надо отпраздновать всем классом и свой переход из девятого в десятый. Лучше всего это сделать под Звенигородом, куда давно уже обещал съездить с ними на экскурсию Иван Алексеевич Язев.
А потом… дух захватывает, как только подумаешь об этом: путешествие в лодке по Москве-реке, по Оке и Волге!
Мальчики не переставали готовиться к этому путешествию. Димочка собрал наконец мотор с помощью Шуры. Петя почти не отходил от них, присутствуя в роли болельщика. Тут же, в сарайчике, опробовали мотор: он работал два часа без всяких перебоев. Оставалось испытать его на воде. Мотор снова разобрали, с тем чтобы 22-го, после выпускного вечера десятиклассников, отвезти его в Коломну и подвесить там уже прямо на лодку. Шура уговаривал Димочку и Петю «плюнуть на танцульку» и отправиться в Коломну 21-го, чтобы не терять ни одного дня. Однако Димочка был далеко не прочь потанцевать и повеселиться вместе со всеми. А Симонов, хотя и не умел танцевать, тоже хотел провести прощальный, перед каникулами, вечер вместе со всеми одноклассниками.
Готовились к путешествию по Волге также и Ярослав Хромов и Коркин. Они вместе записались в Ленинскую библиотеку и ездили туда каждый день: Коркин собирал материал для составления маршрута, делал выписки из истории поволжских городов, а Ярослав интересовался геологией Волги.
Накануне Зоя вместе с Ириной Лесняк и Лизой Пчельниковой поехали в центр покупать платье. Первый раз в жизни Зоя сама покупала себе платье. Она волновалась и хотела отложить до выходного, тогда бы ей помогла выбрать платье мать. Но против этого запротестовали все — Ирина и Лиза, а главное брат Шура. Он сказал, что это юродство — откладывать покупку, если можно купить теперь же и пойти на вечер десятиклассников уже в новом платье.
Зоя никого не послушала бы и дождалась матери, но не хотелось огорчать Шуру. Дело в том, что ведь это Шура подарил ей деньги на покупку платья, — он сдержал-таки свое слово и заработал, потрудившись над чертежами.
С деньгами была целая история. Шура постеснялся сам отдать их Зое и попросил, чтобы это сделала мать, когда он выйдет из дома. А Зоя сначала ни за что не хотела принять такой большой подарок. Когда мать сказала, что Шура хочет, чтобы на первый его заработок сестра купила себе платье, Зоя быстро отвернулась к окну — она хотела скрыть волнение и, только искусав губы, смогла совладать с собой и не расплакаться. Ее охватила гордость за брата: его называют «ведмедь», отвечая урок, он мямлит от смущения что-то себе под нос и потеет у доски так, что даже рубашка на плечах становится мокрой, а вот кто в классе уже самостоятельно заработал и принес в семью весь первый заработок?!
Зоя отказывалась тратить деньги на себя. Сначала она настаивала, чтобы были куплены ботинки матери, а когда та не согласилась, предлагала отремонтировать комнату — оклеить ее, побелить потолок, выкрасить эмалевой краской окно и дверь и купить ковровую дорожку на пол. Когда возвратился Шура, ей пришлось согласиться.
Но в магазине, раз уж дело дошло до покупки, Зоя проявила обычную самостоятельность. Она отклонила совет Ирины купить шотландку в синюю с зеленым клетку, не послушала Лизу Пчельникову, робко указывавшую рукой на висевшее за прилавком голубенькое, пестрое платьице, и попросила продавщицу дать ей примерить красное платье с черным горошком и с белым отложным воротником. Зое хотелось выбрать такое платье, которое понравилось бы Шуре.
Ирина надулась и сказала:
— Зачем же ты в таком случае тащила сюда нас с Лизой, если не слушаешь, что мы говорим?!
Но, увидев в кабине для примерки платье уже на самой Зое, Ирина решила просить мать, чтобы та купила ей точно такое же. Летом Ирина и Зоя крепко загорали, — обе как цыганки, — Ирина уже и сейчас подрумянилась и засмуглела на солнце, а красное с черным горошком великолепно идет к загару.
Шура одобрил выбор:
— Здорово! Теперь Люська окосеет от зависти!
Зоя брезгливо поморщилась, — она ни разу не вспомнила даже о Люсе Уткиной, когда была в магазине.
Помимо платья, на оставшиеся деньги Зоя купила плотной материи на два рюкзака. Правда, на улице Горького продавались готовые рюкзаки, но цена их была недоступна для Зои и Шуры.
Весь вечер Зоя шила рюкзаки, Лиза ей помогала. Зашла посидеть с ними Ирина. Она никак не могла решить проблему — где провести лето? Виктор, вместе со своей сестрой, ехал в Крым на туристскую базу, — он звал туда Ирину. С этой целью он давно уже познакомил Ирину с сестрой. Ирина ни разу еще не видела моря. Мать Ирины соглашалась отпустить ее. Но Зоя тоже предлагала Ирине поехать, вместе с ее товарищами по Волге. Спать под звездным небом, приставать к берегу, где захочешь, разводить костер, каждый день видеть что-нибудь новое и никогда не расставаться с Зоей, плыть вниз по Волге вместе с ее друзьями! Ирина давно уже знала их по рассказам Зои и почти с каждым была знакома. И вот она не могла решить, что же ей выбрать — Крым или Волгу?
Как хорошо было в школе! Как хорошо!
Только в самом начале вечера, да и то не так уж долго, девятиклассники мялись в коридоре вдоль стен или смущенно сходились к окнам по три, по четыре человека и, негромко переговариваясь, смотрели на улицу, как будто пришли сюда совсем по другому поводу: ведь их, собственно говоря, никто не приглашал и они не очень были уверены — имеют ли они право присутствовать на прощальном вечере десятых классов.
Нет, не темно-зеленые, тяжелые гирлянды из еловых ветвей, украшавшие ярко освещенный зал, и не обилие живых цветов делали этот вечер непохожим на все другие школьные вечера. Казалось, только еще вчера и те и другие — девятые и десятые — вперемежку ходили-сновали по коридору третьего этажа, живя почти одними и теми же интересами, а уже сегодня между ними легла резкая грань, точно одни еще оставались на этом берегу, а другие, вдруг став совершенно иными людьми, уже отчалили и отплывают в какую-то неведомую страну, неудержимо манящую к себе. Понадобилось десять лет упорного труда, чтобы получить право на это дальнее плавание.
И хотя каждый из девятиклассников понимал, что через год и с ним самим произойдет точно такое же волшебное превращение, но сейчас, в первые минуты, они заметно смущались. Один лишь Виктор Терпачев с обычной его развязностью не терялся, уверенный в том, что и здесь для него найдется одна из первых ролей.
Но вот в коридоре появился сияющий, счастливый директор. Мгновенно уловив настроение ребят, он широко расставил руки и, как бреднем, загребая всех, кого могли вместить его объятия — Симонова, Лизу, Любу Пастухову и других Зоиных одноклассников, — стал подталкивать их из коридора в зал. Его громкий голос перекрыл шум всех разговоров и снял сомнение у тех, кто еще колебался:
— Десятые, передавайте эстафету девятому! А вы, друзья, пронесите ее с честью до следующего года и тогда передадите другим!
Как раз в это время раздались звуки вальса. В зале директор подхватил Веру Сергеевну и закружился с нею в танце впереди всех.
В дверях толчея. Воспользовавшись тем, что внимание всех обращено на директора, Коля Коркин решился вдруг пригласить танцевать Зою. Его смелость была неожиданной даже для него самого.
Но Зоя не отказалась, она только предупредила:
— Ты же знаешь, что я почти никогда не танцую. Вот увидишь, или я наступлю тебе на ногу, или ты мне.
Танцует Зоя в самом деле не очень хорошо. Она смущается, и это сковывает ее движения. Сделав несколько туров, Зоя спутала такт, звонко расхохоталась и, бросив сильно смутившегося, пожимающего плечами Коркина, подбежала к Лизе Пчельниковой:
— Давай вместе — с тобой у нас всегда что-то получается!
Валя Свиридова из десятого класса, то есть нет, из бывшего десятого, а теперь закончившая школу, тащит Шуру за рукав из коридора в зал, хочет заставить его танцевать с ней вальс. Но разве можно уговорить Космодемьянского на такой подвиг! Он упирается, он уже потный и без танцев.
Внезапно появляется Терпачев. Терпачев с силой отрывает Валю Свиридову от Шуры, увлекает ее в зал и по пути говорит ей, шумно дыша после стремительного подъема на третий этаж:
— Валюша, что ты хочешь от Космодемьянского, ведь он же ручной «ведмедь»! Не требуй от него невозможного. Он танцует только в одиночку, да и то лишь тогда, когда цыган бьет в бубен!
Шура, довольный уж одним тем, что его не заставляют танцевать, отходит к распахнутому окну и вытирает платком мокрый лоб.
Время от времени в растворе дверей мелькает красное платье Зои. Шура смотрит на сестру. Как удачно получилось, что она успела купить это платье. Конечно, оно идет ей: красный цвет не убивает яркости лица Зои, а, наоборот, подчеркивает его своеобразие.
Жаль только, что у Зои старые туфли, на низком, совсем детском каблуке, и чулки не новые. Когда Зоя поворачивает на третьем счете правую ногу, видно, что пятка у нее заштопана более темными нитками.
Шура смотрит по сторонам — не замечает ли кто-нибудь изъяна? «Чепуха! — говорит сам себе Шура. — Кто может заметить такой пустяк? И вообще все чепуха! Смог же я заработать на платье?! Сумею заработать и на чулки и на туфли, одену во все новое маму и Зою. Получу новую квартиру, мама будет меньше работать — пора ей отдохнуть».
— Космодемьянский, отойди чуть-чуть в сторону, — просит Иван Алексеевич Язев.
Шура так увлекся своими мечтами, что забыл, где он находится, и стал перед Иваном Алексеевичем, который устроился было на стуле около стены так, чтобы никому не мешать.
Сегодня у Ивана Алексеевича необыкновенное лицо. Танцевать он, конечно, не может. Ему даже разговаривать трудно — так он устал, пока длилась хлопотливая пора экзаменов. Но во всей школе нет сейчас более счастливого человека, чем Иван Алексеевич. Он сидит, закинув ногу на ногу, обхватив острое колено руками со сцепленными длинными и худыми пальцами. Нога слегка покачивается в такт музыке, а голову он склоняет то к одному плечу, то к другому.
Собственных детей у него нет. А разве это не его родные дети? И вот они выросли, — Иван Алексеевич, вместе со всеми друзьями, пришел проводить сегодня своих детей в большой мир!
Его болезненно-исхудавшее лицо с запавшими висками и втянутыми щеками исполнено в эти минуты духовной красоты; темные глаза — так что не отыщешь в них даже зрачка — горят прозорливым блеском, точно он ясно видит то, что от всех других еще скрыто.
Но и этот мудрый человек, так хорошо понимающий душу каждого школьника, потому что он всех их любит, сидит сейчас всего-навсего как беспомощный слепец, не ведающий, что над его любимыми детьми уже занесена секира и что до начала войны осталось всего лишь несколько часов.
Шура ушел из школы раньше всех.
— Ну как? — спросила его мать сонным голосом. Она давно уже лежала в постели и дремала, борясь со сном: очень устала, но ей хотелось дождаться детей и расспросить о вечере в школе. — Зоя танцевала? Расскажи, Шура!
— Танцевала. Плохо она танцует, не умеет.
— А ты умеешь?
В комнате свет был выключен. Шура не видел лица матери, но он знал, что она сейчас улыбается, даже если глаза у нее закрыты. Шура вознамерился было обидеться, но потом подумал: «Какая же чепуха все эти танцы! Пускай виртуозно танцуют Уткины и Терпачевы».
Мать тихо сказала:
— Ужин на столе. Потом хорошенько опять укрой для Зои.
— Не в танцах счастье человека, — сказал Шура глубокомысленно и добавил: — И не в теплом ужине.
— А в чем же? — спросила мать, ожидая, что сейчас последует серия афоризмов, на которые Шуру обычно тянуло в темноте перед сном.
Но он ничего ей не ответил, и она уже успела задремать и сильно вздрогнула, когда он ее попросил:
— Мам, разбуди меня завтра пораньше, я хочу поработать маслом на Тимирязевском пруду. Утром там всегда сидит старик с удочкой. Интересный тип: держит в руках хворостинку с ниточкой, а сам похож на Соловья-разбойника.
Расставшись с Лизой Пчельниковой, Зоя обернулась — хотелось еще раз взглянуть на школу. Как хорошо сегодня было в школе! Как хорошо!
В ночной темноте сейчас ярко светились одни лишь окна школьного здания. Но вот на глазах у Зои начали выключать свет и там. Погас сразу весь третий этаж, где только что в последний раз с жадной ненасытностью танцевали вчерашние десятиклассники, точно кто-то невидимой рукой вычеркнул третий этаж жирной черной линией, подводя итоговую черту на ведомости последней четверти учебного года. Как им не хотелось расходиться сегодня из школы! Потом так же мгновенно исчез во тьму лестничный пролет, только что сиявший светом сквозь чистые стекла, прорезывающие всю восточную стену здания от крыши и до земли.
На улицах ни души. Нет, вон стоят двое, тесно прижавшись друг к другу, возле палисадника: юноша взял в свои ладони голову девушки, слегка запрокинул ее и поцеловал в губы. Зоя отворачивается, словно она виновата в том, что подсмотрела чужое счастье. Она идет дальше, торопится. Ей опять вспомнились слова Чернышевского: «Умри, но не давай поцелуя без любви!» Чем ближе к дому, тем скорее хочется одолеть расстояние, отделяющее Зою от дома. Мама и Шура, конечно, уже спят, но все-таки ей очень хочется скорее попасть домой. Там, где тротуар около подворотен каждого дома понижается, она торопливо пробегает под горочку и на горочку.
Постой, Зоя, не торопись! Ведь это последняя мирная ночь. Оглянись еще раз на свою школу, оглянись! Сядешь ли ты когда-нибудь в ней, еще хоть один раз, за парту?
На востоке чуть-чуть посветлело. А может быть, это так кажется? Фонарей еще не начали гасить.
До начала войны остается часа полтора, не больше. На немецких аэродромах заканчивают подвеску боевых бомб и заливают последние литры горючего в бензобаки бомбардировщиков, замаранных черными знаками свастики.
Вот уже и новые дома, остается пройти последний квартал. Зоя с разбегу круто повернула за угол и остолбенела от неожиданности: перед нею, загораживая тротуар, стоял Ярослав Хромов.
— Зоя, — сказал он тихо, как будто на безлюдной улице его мог кто-нибудь услышать, — можно я немного тебя провожу? Мне надо поговорить с тобой.
Зоя продолжала стоять на месте. Что с ней происходит, почему она так смущена? Что это? Почему так обрадовалась неожиданной встрече? Ей даже трудно владеть собой.
В другое время, если бы она встретила Ярослава, — пусть это было бы вчера, — она, вероятно, сказала бы ему: «Я прошу не провожать меня. Вообще, нам не о чем говорить с тобой! Ведь я собиралась дать тебе рекомендацию, а ты, можно сказать, предал меня…»
Да, так бы она могла сказать. Но не теперь. В этот необыкновенный вечер все преобразилось вокруг и что-то изменилось и в самой Зое.
Она спросила себя: «Зоя, что же ты остановилась? Где твое самолюбие? Иди дальше! Иди!» Но не сделала ни одного шага, да и не хотела она уходить.
Ярослав сказал:
— Прежде всего я хочу поблагодарить тебя! В письменной работе я не сделал ни одной ошибки.
В другое время Зоя ответила бы ему: «Мне не нужна твоя благодарность! Когда комсомолец выполняет комсомольское поручение, он не рассчитывает на благодарность».
А сейчас она сказала:
— Я рада за тебя!
Однако это не помогло Зое справиться со своим непонятным ей состоянием. Она заставила себя стронуться с места. Отходя от Ярослава, Зоя проговорила:
— Только не надо меня провожать. Я не люблю, когда меня провожают.
Зоя прошла всего только несколько шагов, а ей уже захотелось оглянуться. Она запретила себе это делать: «Сосчитаю до ста — тогда можно», — сказала она себе.
«Раз, два, три, четыре, пять, — считала она, — шесть, семь, восемь, девять, десять…» Но дальше Зоя не могла заниматься подобного рода арифметикой. Она все-таки оглянулась и остановилась.
Ярослав стоял на том же самом месте, где она его оставила. Зоя подождала еще немного, но он не двигался.
«Сейчас он прав, — подумала Зоя. — Если бы он подошел ко мне первый, после того, что я ему только что сказала, я перестала бы его уважать».
И Зоя сама подошла к Ярославу и спросила:
— Ты хотел поговорить со мной?
Как раз в это время погасли фонари. Но уже начинался рассвет, и Зоя отчетливо видела лицо Ярослава. В сумеречном утреннем свете казалось, что он сильно исхудал.
— Собственно говоря, — произнес Ярослав, — я все уже сказал.
— Знаешь что? — неожиданно встрепенувшись, произнесла Зоя, точно она нашла вдруг решение сложной задачи. — Давай забудем все плохое! Хочешь, сделаем так, как будто бы ничего не случилось? Хорошо?
И на душе у Зои опять стало легко и свободно, так же радостно, как было сегодня вечером в школе.
— Я не люблю, когда меня провожают, — опять сказала Зоя, — лучше давай дойдем до конца новых домов и обратно; потом разойдемся — уже поздно!
Они пошли рядом. Ярослав боялся нечаянно прикоснуться к ней, на ходу задеть плечом или локтем. Зоя тоже чуть-чуть от него отстранилась. И вот они двигались по тротуару с интервалом между собой, как будто между ними незримо шел еще кто-то третий и для него надо было оставлять место.
И постепенно, в лад с их тихими, спокойными шагами, начала звучать знакомая Зое музыка, точно по вершине леса прошло едва уловимое дыхание поющего ветра. Зоя прислушалась. Это в ней самой! Поющие голоса звучат в ней самой, где-то в глубине глубин ее души. Как хорошо!
И вот опять возникла та вопрошающая, во что бы то ни стало требующая ответа музыкальная фраза, та самая, которую Ярослав вырвал, исторг из рояля в памятный вечер. Но почему-то сейчас она не вызывала мучительного чувства, а, наоборот, возбуждала в Зое тревожную радость. Словно ответ уже найден и его не надо больше искать.
Ярослав испытывал двойственное чувство. Ему было легко и радостно оттого, что Зоя провела черту, за которой осталось там, позади, все тягостное в их взаимоотношениях, запятнанное его собственной глупостью, — можно начинать жизнь сначала! И в то же время Ярослава мучила сейчас его собственная немота. Хотелось сказать что-то очень важное, совершенно необходимое для них обоих. Зоя тоже, казалось ему, ждала от него этих слов. Но Ярослав молчал, молчал так упорно, словно у него во рту лежал камень и мешал ему говорить. Ярослав боялся, что если он сейчас заговорит, то у него получится что-нибудь неумное и пошлое, всем уже давно известное, вроде: «Волга впадает в Каспийское море».
Так они и прошли молча весь квартал новых домов, не произнеся до самого угла ни одного слова. Здесь Зоя наконец не выдержала и рассмеялась. Ярослав мучительно покраснел, но он улыбался тоже.
— Это все, что ты хотел мне сказать? — спросила Зоя.
— Я скажу тебе в другой раз. Сегодня у меня ничего не получится.
И вот в первый раз за все время, за все годы, пока они учились в школе вместе, Ярослав и Зоя протянули и пожали друг другу руки: в первое мгновение робко, а потом, как бы устыдившись этой своей нерешительности, соединили ладони теснее и крепче сжали руки.
Оставшись одна, Зоя уже не шла домой, а бежала, и чем ближе к дому, тем быстрей и быстрей ей хотелось бежать.
На улицах совершенно пустынно. Зоя не встретила ни одного прохожего. Пронеслась через проходной двор, вылетела в переулок и здесь, широко расставив в стороны руки, она побежала совершенно как в детстве, когда они с Шурой воображали, что летят на самолете.
Около самого дома навстречу Зое бросается Ирина. Сумасшедшая, она тоже еще не спит! Ирина обхватывает Зою за шею, душит и в первый раз в жизни крепко целует ее в щеку. Зоя хочет спросить, где она была, но Ирина не дает сказать слова:
— Зойка, я еду с вами! — говорит она, задыхаясь от волнения, и целует Зою еще раз. — Окончательно решено, я еду вместе с вами! Папа купил мне сегодня рюкзак — красота: четыре карманчика, чудо! Я тебе завтра покажу. А тетя Муня обещает дать парусины — мы с тобой начнем шить парус!
— А как же Виктор?
После этого вопроса следует долгий горячий спор, в продолжение которого сначала Зоя провожает Ирину, потом Ирина Зою, потом они обе идут по дороге, среди огородов, по направлению к Тимирязевскому парку. С половины пути приходится вернуться — слишком обильная роса на проселке, не спасают и туфли — чулки моментально промокли.
Около дома они еще раз провожают одна другую, не могут расстаться, говорят: «Спокойной ночи!» — и обе смеются: какая же ночь? Совсем светло! Крыши маленьких домиков на огородах блестят от росы. Молодая картофельная ботва тоже взмокла. В низинках, над козьими лужайками, все плотней и плотней сгущается розоватое молочко тумана. Нет, не хочется уходить домой!
Опять ходят, не могут отпустить друг друга.
До начала войны остается одна минута…