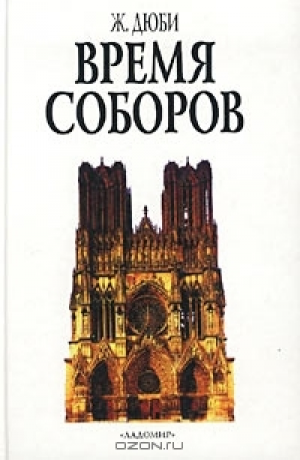
Жорж Дюби — историк средневекового искусства
Строго говоря, знаменитый французский историк-медиевист Жорж Дюби — не историк средневекового искусства, вообще не историк искусства. Он — «просто» историк.
Ж. Дюби — один из видных представителей так называемой «новой исторической науки»[1], направления в исторической науке, возникшего в середине — второй половине XX века и поставившего под вопрос традиционные приемы исторического познания и историописания. «Новая историческая наука» утверждала идею целостности гуманитарных наук как наук о человеке, новый метод подхода к изучению прошлого в его социокультурной целостности («тотальности»). «Новая историческая наука» самоидентифицировалась как аналитическая дисциплина, стремящаяся, по словам одного из основателей этого течения — Марка Блока, проникнуть глубже «лежащих на поверхности фактов». Это направление зародилось еще в середине первой половины XX века во Франции в рамках так называемой Школы «Анналов»[2]. Указанная Школа сформировалась вокруг основанного еще в 1929 году и выходящего доныне журнала «Анналы» (подзаголовок его много раз менялся, но название оставалось неизменным). Суть «коперниканской революции», как назвали возникновение Школы «Анналов» ее сторонники, состояла в замене «истории-повествования» «историей-проблемой», в попытке создать «тотальную» историю, то есть историю, описывающую все существующие в обществе связи — экономические, социальные, культурные. С этим связан решительный разрыв с традиционной позитивистски ориентированной исторической наукой. Школа «Анналов» ставит в центр не описание событий, в первую очередь политических, а исследование всего общества в его целостности, вскрытие глубинных структур, существовавших в течение больших временных отрезков.
Следует отметить, что сам Жорж Дюби, ревностный сторонник «новой исторической науки», при этом стремится дистанцироваться от собственно Школы «Анналов», хотя и всегда подчеркивает, что его учителями были Марк Блок и Люсьен Февр, основатели указанной Школы[3], — в том числе потому, что считал указанную Школу слишком «зациклившейся» на борьбе с другими научными направлениями. Он убежден, «что "новая историческая наука", т. е. "хорошая", "добротная" история, не монополизирована во Франции какой-либо одной группой или каким-то учреждением, что она — повсюду. Время утверждения ее позиций завершилось, и, по мнению Дюби, "нет больше Бастилий, которые нужно было бы штурмовать''»[4].
Жорж Дюби, как и его учитель (заочный, они не были знакомы лично) Марк Блок, начинал свою научную деятельность в качестве аграрного историка[5], прославился своей теорией «феодальной революции»[6], но беспрерывно расширял поле исследований. Еще в конце 50-х — начале 60-х годов XX века он обратился к теории ментальностей[7], ибо именно в ментальностях искал то, что позволяло бы ему, о чем бы он ни писал, рассматривать тот или иной исторический феномен как целое. В одном из своих интервью Ж. Дюби говорил: «В своих исследованиях я исхожу из принципа, согласно которому социальная формация (formation sociale) должна рассматриваться в своей целостности, во взаимодействии своих частей, в неразрывной взаимосвязи между материальным и нематериальным. Общество функционирует через взаимодействие помыслов и жизненной практики, мечтаний и самых повседневных аспектов реальности»[8]. Он обращается к проблемам того, как представляли себе люди Средневековья общество, в котором они жили[9], что думали члены высших сословий о семье, браке, семейных и родовых ценностях[10], чем была для них война[11], кто (и что) есть идеальный рыцарь[12].
Сюда же, в этот же круг размышлений, входят и работы Ж. Дюби о средневековом искусстве[13]. «Между историей художественных памятников, — пишет Дюби, — и другой историей, историей сельскохозяйственного производства, ярмарок, монет, политической историей и т. д., существует определенное соотношение, к уяснению которого должен стремиться тот, кто желает постичь смысл этих памятников»[14]. Признавая сложность выявления «истинных взаимосвязей — сложных и весьма запутанных — между структурами цивилизации и их эволюцией, с одной стороны, и событием, каковым есть зарождение, расцвет и увядание того или иного стиля, — с другой»[15], он все же полагает это возможным. Задачу своей книги «Святой Бернард: цистерцианское искусство» Дюби формулирует так: «<...> обнаружить некое созвучие между идеями святого Бернарда, формами, в которых воплощались эти идеи (имеются в виду особенности художественного стиля цистерцианских монастырей), и, наконец, миром, окружавшим эти идеи и формы»[16].
В еще большей степени все сказанное касается книги «Время соборов. Искусство и общество 980—1420 годов», предлагаемой вниманию читателя. Приступая к знакомству с ней, читатель должен помнить, что перед ним, строго говоря, не монография. Это объединенные под одной обложкой три работы, каждая из которых в первом издании[17] представляет собой великолепно выполненный альбом по средневековому искусству, где текст Дюби есть, в сущности, всего лишь комментарий к иллюстрациям, пусть и весьма обширный. Во французской исторической науке давно уже принято адресовать научные труды не только собратьям по цеху, но и широкой читающей публике, однако три альбома, составившие «Время соборов», отличаются тем, что для научного содружества изначально и не предназначались. Отсюда формальные и стилистические особенности книги: написанная ярким, даже «цветистым» языком, с использованием столь любимых французами риторических приемов, она лишена научного аппарата, в частности ссылок (именной указатель добавлен отечественными издателями). Это вызвало недоумение и даже критику со стороны специалистов в других странах. Так, немецкий ученый К. Шрайнер отметил, что данная книга не содержит того, что обещает: встречи и пересечения искусства и общества даются на ассоциативном уровне и скорее посредством «вчувствования», нежели аргументированно, и прекрасный стиль изложения подчас заменяет исторические доказательства[18].
Сам Ж. Дюби и согласен, и не вполне согласен с этим. Он именует свой труд собранием эссе, но настаивает, что речь идет все же не просто и не только об альбомных иллюстрациях: «В трех эссе я пытался извлечь из пластов памяти и музейной среды образцы искусства и поместить их в жизненный контекст — не наш, но тех, в чьем сознании родились эти произведения, кто первым восхищался ими. Итак, можно сказать, что в этих книгах речь идет о Средневековье. О необычном Средневековье».
Давайте и мы войдем в это «необычное Средневековье», проследим за исследовательской мыслью профессора Дюби (автор настоящего предисловия всячески будет стараться не впадать в пересказ, а если не получится — просит у читателя прощения).
Первый раздел книги — «Монастырь. 980—1130»[19] начинается мощным аккордом: «Кругом царило почти полное безлюдье». И далее: «Попадались лепившиеся друг к другу лачуги из камня, глины, веток, окруженные колючей живой изгородью и кольцом садов. <...> Кое-где встречались и крупные поселения, но они все еще походили на деревни — это был лишь голый скелет римского города — руины, которые стороной обходил крестьянин с плугом, кое-как восстановленная ограда, превращенные в церкви или крепости каменные строения времен Римской империи. <...> Почва бесплодна от неумелого обращения — бросая зерно в землю, крестьянин в удачный год рассчитывал собрать лишь втрое больше. Хлеба хватало ровно до Пасхи, потом приходилось довольствоваться дикими травами, кореньями, случайной пищей, добытой в лесах и на речных берегах. <...> Можно ли считать преувеличением упоминание о грудах мертвых тел, о толпах евших землю и выкапывавших трупы из могил? <...> Мир был полон страха и в первую очередь боялся собственной немощи».
Этот мир катился в пропасть после гибели Римской империи. «Завоевания Каролингов ненадолго восстановили подобие мира и порядка в континентальной Европе, но сразу после смерти Карла Великого отовсюду — из Скандинавии, восточных степей, со средиземноморских островов, которые захватили исламские полчища, — хлынули несокрушимые орды переселенцев и обрушились на латинский христианский мир, чтобы предать его разграблению».
Но вот наступил тысячный год. Замечу, что эта дата давно привлекает внимание историков[20]. Они связывают ее и с напряженным ожиданием конца света, и с прекращением набегов завоевателей, и с хозяйственным подъемом. «После 980 года больше не видно ни разоренных аббатств, ни испуганных монахов, покидающих родные обители, спасая себя и свои святыни. Отныне если за вершинами деревьев виднеется зарево, это уже не отсветы пожара, а костры земледельцев, выжигающих лес на месте будущего поля. <...> Именно в то время волны недорода утратили былую мощь и стали реже накатываться на Европу. В постепенно обустраивавшихся деревнях появилось больше места для жизни, эпидемии теперь наносили меньше вреда». Но! «На самом деле рассвет занялся лишь для небольшой горстки людей. Большинство же еще очень долго пребывало во тьме, тревоге и нищете. <...> Только строгой иерархической системой социальных отношений, властью сеньоров и могуществом аристократии можно объяснить тот факт, что удивительно медленное развитие примитивных материальных структур смогло вызвать феномены роста <..> и наконец дать толчок возрождению высокой культуры. Если бы непререкаемая власть малочисленной группы аристократии и духовенства не оказывала такого сильного влияния на толпы подчиненных работников, никогда на бескрайних пустошах, в среде грубого, дикого и бедного народа не возникли бы художественные формы, эволюция которых рассмотрена в этой книге».
Впрочем, представляют ли эти художественные формы собой искусство в нынешнем смысле слова? «В ту эпоху все, что мы называем искусством, или, по крайней мере, то, что от него осталось спустя тысячу лет, самая его прочная, наименее подверженная разрушению часть, не имело иной цели, как положить к стопам Бога богатства видимого мира, дать человеку возможность умерить гнев Всемогущего этими дарами и снискать Его милость. Все великое искусство было жертвой, приношением. В нем больше магии, чем эстетики». И искусство развивается под эгидой отмеченного меньшинства — носителей власти и религиозного авторитета.
Власть в раннее Средневековье, то есть, строго говоря, во времена, находящиеся за пределами рассмотренных в данной книге, была властью, во-первых, военной, во-вторых, магической. «Короли варваров обладали <...> магической способностью посредничать между народом и богами. От их заступничества зависело счастье всех подданных. Эту власть короли наследовали от самого божества, чья кровь текла в их венах». Но уже в VIII веке происходит резкий поворот, ставший, впрочем, и толчком к развитию прежних идей. Сильнейший из владык Западного мира, правитель Франкского королевства Пипин Короткий, был коронован в середине VIII века по образцу библейских царей, и он становится не потомком давно забытых языческих богов (да и не мог он на это претендовать по праву рождения), но помазанником Божиим. «Священнослужители окропляли короля елеем, который, умащая его тело, наделял государя божественной силой и сверхъестественными способностями. Эта церемония <...> вводила монарха в лоно Церкви, где он занимал место рядом с епископами, которые также проходили обряд посвящения в сан. <...> И наконец, поскольку художественные традиции, унаследованные через произведения, составлявшие славу римского искусства, в VIII веке на Западе сохранились только в лоне Церкви, поскольку любой опыт строительства здания или украшения отдельных предметов, имевший ранее целью возвеличивание могущества городов, отныне славил Бога, поскольку великое искусство стало всецело литургическим — в силу всех этих причин король, которого христианизация его магической власти поместила в центре церковного церемониала, стоял теперь и у истока величайших художественных начинаний».
В 800 году Карла Великого короновали императорской короной. Образы великой империи, христианской монархии и магической власти слились воедино. Империя — Римская, потому именно античные (и позднеантичные, то есть времен после принятия Константином Равноапостольным христианства) образцы стали формой для нового искусства, которое можно назвать «имперским». Это архитектура. «Карл Великий пожелал, чтобы его молельня в Ахене походила на императорские часовни, которые он видел в Равенне, — церковь центрического плана. Это произведение архитектуры должно было выражать особую миссию государя, ходатайствующего перед Богом за свой народ». Это и книжная миниатюра («античная традиция передавалась прежде всего через книжное искусство»), тем более что книга становится на какое-то время необходимым предметом: во времена Карла Великого растет число школ, ибо «в обществе, где культура аристократии была исключительно военной и полностью чуждой образованию, государь должен был поддерживать институты, дававшие необходимое образование священнослужителям. <...> Культурная традиция передавала наследие, которое почтительные поколения ревностно пронесли сквозь тьму и смуты раннего Средневековья, наследие золотого века империи латинян. Эта культура была классической, переживавшей воспоминания о Риме».
Распад империи Карла Великого не полностью и не сразу уничтожил это классическое искусство. Во-первых, именно около 1000 года возникает новая империя, наследница, хотя и уменьшенная, империи Каролингов — Священная Римская империя, фактически Германское королевство, но с рядом иных земель, в частности с Северной Италией, и, главное, со столицей — пусть, как правило, номинальной — в Риме. «Воскрешенная германизированная империя была римской в значительно большей степени, чем империя Каролингов». Во-вторых, императорская власть не уничтожила власти королей, также священной власти. «Государь был тем, кто дает нечто Богу и людям, из его открытых ладоней должны были сыпаться великолепные произведения искусства. Дарящий становился выше того, кто принимал дар, первый подчинял себе второго. Следовательно, монарх царствовал даруя — дарами завоевывал для своего народа благосклонность сверхъестественных сил, дарами получал любовь подданных. Короли при встрече старались подарками доказать друг другу свое превосходство. Вот почему лучшие художники XI века собирались вокруг правителей, пока те сохраняли свое могущество. Искусство того времени было по своей сути придворным, оно было священным. Художественные мастерские переходили под покровительство королевских дворов. Расцвет различных династий с необыкновенной точностью отразился в географии искусства XI века». Но... «пока те сохраняли могущество».
Поворот произошел именно в XI веке, и связан он был с «феодальной революцией». «Движущей силой преобразований была не экономика, развивавшаяся крайне медленно и не способная вызвать никаких серьезных перемен. Причину следует искать в политической жизни — во все возраставшем бессилии королей». Во времена набегов арабов, викингов, венгров «неуклюжая королевская армия, привыкшая к заранее спланированным военным действиям, тратившая много времени на сборы и тяжелая на подъем, оказалась не способной оказывать сопротивление, отражать и предупреждать нападения. В Западной Европе, раз за разом переживавшей поражения, настоящим правителем области становился военачальник, способный обеспечить мирное существование. <...> О безопасности народа теперь заботился не король, а сеньоры. Королевская власть действительно сдала позиции. Она по-прежнему была жива в сознании людей, но уже, скорее, как некий миф. В реальной, повседневной жизни настоящие авторитет и власть перешли к местным правителям, герцогам и графам». Этим дело не ограничивается. Как говорится, «процесс пошел». «Вскоре графы освободились от господства герцогов, как те в свое время — от господства королей. Затем, с приближением тысячного года, распались и графские владения. Любой, кто владел крепостью, окруженной полями и лесами, создавал вокруг нее маленькое независимое государство. На пороге XI века все королевства по-прежнему существовали. Правителей коронуют, и никто не сомневается, что они поставлены Богом. Но военная мощь, власть судить и наказывать отныне рассеяна, рассредоточена среди множества политических образований разного масштаба».
Однако у этих почти совершенно независимых «маленьких королей» не было главного атрибута королевской власти: они не были коронованы, помазаны на царство, в них не соединялись, как в королях, духовное и светское начала, они были лишены магической способности осуществлять посредничество между Богом и людьми. И отсюда не могли они возложить на себя эстетические функции королевской власти. Новый культурный подъем, создавший романское искусство, объясняется иными причинами.
В Священной Римской империи, в королевствах — наследниках империи Карла Великого в руках монархов концентрировались большие (сообразно эпохе, конечно) средства, которыми они могли одаривать церкви, оплачивать создание произведений искусства, которые были подношениями Богу. С «феодальной революцией» богатства, образуемые как в результате эксплуатации подвластного населения, так и от войн и грабежей, находятся в руках феодалов. Они также готовы приносить дары церквам и Церкви в целом, но не могут быть при этом посредниками между Богом и людьми. Освободившиеся места занимают монахи, и именно с этим переходом Ж. Дюби связывает рождение романского искусства.
Центром художественной деятельности и горнилом, в котором создавалось новое романское искусство, стал монастырь. Королевская власть слаба, властвующая аристократия не имеет ни сакрального статуса, ни достаточных для осмысления хоть какой-нибудь эстетической программы познаний, белое духовенство слишком погрязло в мирских делах. Мир живет в ожидании Страшного суда. Ж. Дюби полагает, что особенно напряженно ожидали не 1000-го года. «Можно утверждать, что многие христиане с тревогой ожидали наступления тысячелетия Страстей Господних - 1033 года. В культуре, придававшей такое значение поминовению усопших и посещению могил, дата смерти Бога занимала гораздо более важное место, чем дата Его рождения».
Озабоченные спасением своей души перед неизбежностью Страшного суда люди возлагают надежду на монахов, чьей функцией в обществе была молитва («Первой задачей монахов было молиться за общество»). Именно поэтому означенное общество видит свой моральный идеал, который должно было воплощать искусство, в монахах. Именно монашество завоевывает главенствующее положение в духовной жизни общества, а значит — и в искусстве.
Искусство же, как говорилось, — жертва Богу. «Главенствующее положение, занимаемое монастырями, объясняет также, почему значительная часть их доходов тратилась на украшение обителей. Бога славят не только молитвой, Ему приносят в дар прекрасные произведения, декор и архитектурную гармонию зданий, которая становилась лучшим выражением могущества Предвечного. В результате упадка королевской власти и изменений, происходивших в обществе, на аббатства легла задача предстоятельствовать перед Богом за народ, издревле считавшаяся компетенцией монархов, а также все, что касалось управления художественным творчеством. Служение Богу за весь народ, совершаемое монахами, вызвало в XI веке расцвет церковного искусства».
Однако высокий духовный статус следует поддерживать, в том числе и в первую очередь, доказательством непричастности к этому, погрязшему в грехах миру. Нужны реформы, благодаря которым монастыри станут очагами святости и выйдут из-под контроля светской власти, а равно и из-под власти слишком уж обмирщенных епископов. Дабы противостоять этой власти, монастыри объединяются в конгрегации, главной из которых станет Клюнийская, возникшая вокруг этого аббатства в Бургундии.
С точки зрения истории искусства, победа дисциплинированных, противостоящих епископам и феодалам клюнииских аскетов означает расцвет нового художественного стиля — романского. Его первоначальное распространение совпадает с теми территориями, где клюнийские традиции были наиболее сильны — в Бургундии, Аквитании, Провансе. Но это также те области, которые в процессе «феодальной революции» ранее других освободились от королевской власти. И эти же земли были теми, где римская традиция — а в «большом» искусстве других и не существовало — была наименее связана с «имперским», «королевским» искусством. Образ Рима, вдохновлявший создателей нового стиля, отличался от того образа, который влиял на мастеров Карла Великого и Оттона III, этот образ проявлял свое воздействие в тех регионах, где античные традиции, по существу, не угасали и питали повседневную культуру, где находилось множество памятников античной эпохи.
Античность, впрочем, давала лишь форму новому искусству. Суть его состояла в другом и питалась другим. «Что делать с богатствами, которые ежедневно в изобилии производились в имениях, находившихся в умелых руках? С богатствами, которые со всего христианского мира стекались в аббатство от набожных прихожан? С золотыми монетами и слитками серебра, которые Христовы рыцари, победители ислама, жертвовали монастырям? Все эти сокровища должны были служить приумножению роскоши, с которой было обставлено богослужение. Вскоре клюнийская община превратилась в огромную мастерскую, где монахи-художники трудились над убранством Божьего дома. <...> Но эти новые храмы, их декор, груды драгоценностей, окружавшие алтари, в действительности были лишь оболочкой, идеально соответствовавшей содержанию — гораздо более значимому произведению искусства, которое ежедневно повторялось в строго регламентированной пышности литургического богослужения». То есть суть нового искусства — литургия.
Литургия — значит в первую очередь музыка. «Литургическое действо было музыкальным. Религиозность XI века раскрылась в песнопении, которое полным голосом в унисон исполнял мужской хор. В нем звучало единодушие, угодное Богу, внимавшему хвале, воздаваемой Создателю Его творениями». Но и изобразительное искусство стремится к тому же, хотя не только к этому. «То, что мы называем искусством, имеет только одну цель — сделать видимым гармоничное строение мира, расположить определенное число знаков на предназначенных им местах. Искусство запечатлевает плоды созерцательной жизни и передает их в простых формах, чтобы сделать восприятие доступным для тех, кто находится на первых ступенях приобщения к знанию. Искусство — это рассуждение о Боге, такое же, как литургия и музыка. Оно также стремится прорубить, расчистить дорогу, пробиться к глубинным ценностям, скрытым в чаще природы и Священного Писания. Искусство показывает нам внутреннюю структуру того стройного здания, какое представляет собой тварный мир».
Цель искусства в Средние века — обеспечить спасение. Но к этой цели может вести два пути. Один путь — для мирян. «Дело монастырей - не только постоянно и от имени всего народа возносить Богу подобающую Ему хвалу, но и готовить людей к грядущему Воскресению». В этой подготовке искусство играет определенную роль. «Безусловно, произведение искусства могло иметь определенное значение в воспитании верующих <...> Огромное число монументальных изображений, которое предложила новая скульптура после 1100 года, внезапно предстало перед всем сообществом верующих. Для них изваяния стали учебником».
Главное все же не в этом. «Однако в художественном творчестве той эпохи воспитательные цели отошли на второй план. Эстетика, к которой обратилось монастырское искусство, была замкнутой, обращенной внутрь себя, открытой лишь посвященным, чистым людям, которые, отказавшись от погрязшего в пороке мира и его соблазнов, возглавляли христианский народ в его движении к истине». Ж. Дюби настаивает: «Признаем же, что архитектура и изобразительное искусство XI века, как музыка и литургия, были неким способом инициации. Поэтому в их формах не было ничего народного. Они обращались не к толпам, а к избранным, узкому кругу тех, кто начал взбираться по лестнице, ведущей к совершенству». Эти избранные, идущие другим путем, — монахи, аскеты, погруженные в созерцание, дабы узреть сверхчувственное, лежащее за пределами видимого мира. «Созерцание видимого мира становится отныне не так необходимо: его следует оставить позади. <...> Религиозное искусство XI века пытается сконцентрировать евангельское учение в нескольких знаках, превращает их в огненные столпы, подобные тому, в который превратился Иегова, чтобы вести народ Свой в Землю обетованную. Христос нигде не изображен как брат. Он предстает господином, который властвует и судит, Владыкой. <...> Кто в то время мог представить рыбаками и нищими святых Иакова или Павла, могущественных апостолов, на чьих могилах происходило столько чудес, которые поражали молнией и "огнем святого Антония'' сомневающихся в их власти? Как христианство 1000 года, простертое ниц перед мощами, осмелилось бы привязаться к тому, что было человеческого в Христе? В романский период апостолы жили в невидимом мире, в царстве Воскресшего в праздник Пасхи, который запретил женам-мироносицам прикасаться к Себе, в царстве Христа, оторвавшегося от земли в день Вознесения, в царстве Вседержителя, восседавшего на троне в апсиде» романских соборов. Это — Христос Апокалипсиса.
Другие, впрочем, думали иначе. «Второе движение зародилось в недрах монастырской жизни. Некоторые монахи считали Апокалипсис менее захватывающим, чем Новый Завет. Они восстали против торжественности и роскоши клюнийской литургии и, не стремясь к славе серафимов, стали проповедовать образ жизни, который здесь, на земле, должен был превратить служителей Бога в истинных апостолов, подражавших Христу в Его нищете. <...> В XI веке постепенно зарождается идея о том, что внушающий страх Бог, чей трон на портале <..> возвышается над собранием судей, разгневанный Бог, карающий людей чумой, голодом, набегами неведомых грабителей, вышедших некогда из недр Азии, Бог, Второе пришествие которого ожидалось с таким напряжением, не кто иной, как Сын, то есть человек». Конечно, Господь не есть просто человек, но и человек тоже. На портале церкви в Отёне (ок. 1120 г.)«Иисус восседает посреди апостолов, которые больше похожи на людей, чем на небожителей». На рубеже XI и ХП веков великий богослов Ансельм Кентерберийский задается вопросом: почему Бог стал человеком? «В поисках ответа он составил схоластическую методу и предложил толкование воплощения Бога в человеческом образе, иллюстрацией чему стала готическая скульптура». Впрочем, скульптура эта появляется после 1130 года — в другую эпоху.
Вторая часть книги именуется «Собор. 1130—1280». Главное в этой части — готическое искусство. Это искусство городов и королевских дворов. «По определению, собор — это церковь епископа, следовательно, городская церковь. Возникновение церковного искусства в Европе в первую очередь означало возрождение городов, которые в XII—XIII веках непрерывно росли, становились оживленней, предместья тянулись все дальше вдоль дорог. Города притягивали богатство. Долгое время города находились в тени. Теперь же к северу от Альп они снова стали очагами высочайшей культуры. <...> Новое искусство воспринималось людьми того времени исключительно как "французское искусство". Оно расцвело в провинции, называвшейся тогда Францией, — между Шартром и Суассоном <...> Париж стал его средоточием. Париж, королевский город, первым в средневековой Европе ставший настоящей столицей — тем, чем давно перестал быть Рим. Столицей не империи, не христианского мира, но королевства, Царства. Городское искусство, наивысшим проявлением которого в Париже стали формы, называемые нами готикой, предстает как королевское искусство. Основной его темой становится прославление единовластия — безраздельного владычества Христа и Богоматери. В Европе соборов утверждается могущество королей, освобождающееся от душившего его феодализма». Данная эпоха была эпохой экономического подъема. Однако «достаток, ставший следствием развития сельского хозяйства, оставался уделом избранных, а пирамидальную структуру государственного устройства венчала теперь фигура короля, причислявшего себя к церковнослужителям и восседавшего в окружении епископов. Вот почему следствием подъема деревень стало строительство соборов, знаменовавшее расцвет королевской власти». Это отражается и на искусстве. «Благополучие монархии и Церкви коснулось также и искусства Франции, становившегося все более безмятежным. Оно привыкало к улыбке, училось выражать радость. Эта радость была не только земной, так как священное неразрывно соединялось с мирским (сам король был тому примером), происходило чудесное слияние преходящего и вечного. Искусство соборов нашло завершение в почитании вочеловечившегося Бога и стремилось изобразить примирение Создателя и Его творения. Таким образом, оно переносило в область сверхъестественного и освящало радость жизни, которую испытывал рыцарь, галопом мчавшийся по майским цветам, беззаботно топтавший луга и нивы».
Но, конечно, и здесь экономика — не главное. Готическое искусство, как и предшествующие стили, есть искусство религиозное. «Основные формы этого искусства возникли в тесном кругу приближенного к трону духовенства, в немногочисленном обществе с высоким уровнем достатка, в среде тех, кто находился в авангарде интеллектуальных изысканий». Эта узкая группа придворных интеллектуалов-теологов не очень-то была связана с окружающим обществом. «Между 1130 и 1280 годами глубинные течения, незаметно изменявшие его [общества. — Д.Х\ строение, получали едва заметный отклик в узком кругу духовенства, руководившего художниками и следившего за строительством соборов. Эти течения также не нашли отражения в художественном творчестве, развитие которого зависело в значительной степени от движения религиозной мысли. Итак, чтобы понять искусство того времени, в первую очередь следует обратиться не к экономике или социологии, а к богословию».
Готическое искусство появилось, по мнению Ж. Дюби, по воле одного человека, ибо зарождение готического стиля связано с перестройкой аббатом Сугерием церкви монастыря Сен-Дени в 1135—1144 годах. «Монастырь возник по воле одного человека — аббата Сугерия. <...> Сугерий стремился к тому, чтобы его монастырь стал произведением богословия. Безусловно, богословие это основывалось на сочинениях покровителя аббатства, святого Дионисия, или, как было принято считать, Дионисия Ареопагита», которого — совершенно безосновательно — идентифицировали с первым епископом Парижским, небесным патроном Галлии и аббатства Сен-Дени. В приписываемых Дионисию Ареопагиту произведениях описывается иерархическая структура небесного и земного миров, порожденных эманацией света из его первоначального источника, каковой есть Бог. Таким образом, свет объединяет всю структуру видимого и невидимого мира. Раз абсолютный свет — Бог — скрыт в каждом из творений, то это придает миру единство, целостность и стройность; между творениями Божиими существуют определенные соответствия, познание которых дает возможность постичь Бога.
Указанная концепция — ключ к пониманию нового искусства, ей соответствует архитектура готического храма, в котором свет придает единство внутреннему пространству. Сама готическая конструктивная система и была направлена на создание слитного, пронизанного светом пространства. Сугерий предпринял перестройку фасада монастырской церкви Сен-Дени. «Свет заходящего солнца проникал внутрь через окна трех порталов. Над ними сияла роза — первая, появившаяся в западной части церкви и освещавшая три верхние часовни в честь небесных иерархов — Девы Марии, архангела Михаила и ангельского воинства. Основной элемент фасада всех будущих соборов возник благодаря богословским рассуждениям Сугерия. <...> На противоположном конце церкви, там, где, повторяя движение восходящего солнца, завершалось литургическое шествие, Сугерий устроил источник света, место, где становилось возможным в ослепительном сиянии приблизиться к Господу. Было решено убрать стены, и строителям пришлось для этого использовать все архитектонические возможности того приема, который до сих пор применялся в зодчестве лишь для украшения, — речь идет о пересечении стрельчатых арок. <...> Романские образцы предлагали план галереи церковных хоров, от которой во все стороны отходили ответвления-ниши. Сугерий приложил все силы, чтобы сделать эти ниши как можно более открытыми дневному свету. Изменив строение сводов, он добился появления дополнительных окон, заменил стены-перегородки колоннами и воплотил свою мечту — придал стройность богослужению, подчинив освещение храма особой логике. Все участвующие в службе будут теперь собраны вместе, организованы в единое целое самой формой полукружия и еще более того — объединяющим всех светом». И т. д., и т. п. — пусть лучше читатель обратится к тексту самого профессора Дюби.
Другой важной чертой теологии Сугерия, проявившейся в декоре построенной им церкви Сен-Дени, была идея воплощения Бога в человеке. «Новое искусство, создателем которого был Сугерий, стало прославлением Сына Человеческого».
Богословие шло рука об руку с экономикой и политикой. Прославление Сына Человеческого переплеталось с прославлением могущества епископов и городов. Богатство Церкви во многом определялось богатством горожан. «Богатство текло в епископскую казну <...> через пожертвования. Совесть у купцов была неспокойна. Они все время слышали: "ни один торгующий не может быть угоден Господу", потому что наживается за счет своих братьев.<..> С приближением старости деловой человек, беспокоясь о душе, желал искупить грехи, щедро одарив какой-нибудь монастырь. <...> Во времена Людовика VII и Филиппа Августа река благочестивых подношений потекла от разбогатевших горожан. <...> Строительные планы епископов, требовавшие огромного количества денег, в первую очередь были направлены на то, чтобы утвердить их собственное могущество, способствовать их личной славе. Епископ был сеньором, князем и желал, чтобы о нем говорили. Новый собор казался ему подвигом, победой; он мечтал о нем, как полководец о выигранной битве. Чувствуется, что Сугерий, описывая предпринятые по его указанию строительные работы, трепещет от гордости. <...> Епископская церковь символизировала также союз <...> церковной и королевской власти. <...> Она была памятником королевскому могуществу: те же возвышающиеся над фасадом башни, те же статуи-колонны, изображения на которых допускали двоякое толкование. Народ узнавал в них скорее французского короля Филиппа и королеву Агнессу, чем царя Соломона и царицу Савскую. Наконец, новый собор возвещал о благосостоянии финансировавшего его строительство города, пестрого сборища лавочек и мастерских, над которыми он возвышался и которые прославлял. Собор был предметом гордости горожан».
И все же богословие, как уже говорилось, превалировало. «На строительство соборов расходовались огромные средства. Не нанося ущерба процветанию города, соборы посвящали это процветание Господу, оправдывали и возвеличивали богатство города. Однако на стройках каменщики, витражисты и скульпторы выполняли указания не торговцев вином или сукном. Их работой руководили ученые». Возникают епископские школы, предвестники будущих университетов, в них поощряются диспуты и споры, и «в этих сомнениях, поисках и спорах крепнет молодое богословие, становясь суше, но в то же время тверже, сильнее, строже. <..> В глазах магистров, преподававших в городских школах, заботившихся о строгости рассуждений и стремившихся понять суть того, о чем они говорили, Бог предстает уже не сияющим источником света, предвечная красота которого ослепляла монахов, предававшихся созерцанию. Они видели Его скорее таким же человеком, как они сами, представляли Христа Учителем, несущим свет разума, свет книжных знаний, видели Его своим братом». Помимо этого новое «сухое» богословие выдвигает на первое место разум, стремится стать рациональным. «Мир перестает быть нагромождением символов, подавляющих воображение, он приобретает логичную форму, которую повторяет собор, отводя подобающее место каждому видимому творению. Геометру надлежало, обратившись к дедуктивным математическим знаниям, облечь в осязаемые формы, передать в камне невероятные бестелесные образы Небесного Иерусалима, которые в Сен-Дени смогли воплотиться лишь в ослепительном сиянии, льющемся через витражные стекла». Мощную поддержку разуму, рациональности давала заново открытая математика. «Впервые в Сен-Дени структура здания была вычислена "с помощью математических инструментов'', и скорее всего план крипты, в который следовало включить часть старого здания IX века, был построен с помощью компаса. Такой подход избавлял архитектуру от эмпиризма романских построек. Логический стержень помогал обрести большую независимость от материала, позволял строить не такие тесные и приземистые, более открытые свету здания. Наконец, появилась возможность с помощью математических расчетов воплотить в жизнь все эти рациональные построения. Аркбутаны, изобретенные в Париже, чтобы еще выше надстроить неф Нотр-Дам, были порождением науки чисел. Искусство Франции, выросшее в соборных школах, охотно украшало стены церквей изображениями семи свободных искусств. С конца ХП века искусство принадлежало логикам. Вскоре оно должно было стать искусством инженеров».
Но не логикой единой и даже не логикой вкупе с инженерией жив человек. Снова и снова звучит вопрос: почему Бог вочеловечился? Но сочетается этот вопрос и с другим: а мог ли Он это сделать? Пышные богатства Церкви вызывают осуждение тех, кто молится нищему Христу. Возникают и множатся различные секты, требующие всеобщей обязательной бедности, например вальденсы. Еще дальше по пути отказа от материальных богатств идут другие еретики — катары, отвергающие вообще весь материальный мир. По их учению, есть добрый Бог света, сотворивший все духовное, и есть злой Бог тьмы, создавший все материальное. «Катарский дуализм перенял терминологию и некоторые символы, которыми пользовалось католическое духовенство, так что переход от резкой критики, которой странствующие проповедники подвергали епископов, к чистой ереси казался незаметным. Доктрина катаров отрицала существование иерархии небесных чинов, предложенной Дионисием Ареопагитом <...> и само понятие Творения: материя — это зло; она не могла быть создана добрым Богом. Учение катаров отвергало также принцип вочеловечения Бога и, по-видимому, считало Христа лишь ангелом, посланцем Бога света. <...> Действительно, как вообразить божественное сияние погруженным во тьму человеческого тела, обретающим плоть в лоне женщины, как почитать Деву Марию? Катары также отвергали понятие искупления. Возможно ли представить себе, что Бог света претерпел страдания в человеческом облике, и какова цена мучений, принятых бренным телом? Для совершенных, [духовенство катаров. —Д.Х.] крест был бессмысленным символом, мистификацией. Они решительно отмежевались от <...> богословских спекуляций на тему Троицы, от всей иконографии соборов». Значит, Церкви надо было в борьбе с такими мнениями донести до людей средствами искусства, хотя, конечно, не только ими, церковное учение о человеческой природе Христа. Распятия, мозаики, порталы соборов служат этому. «Созерцая Христа, умершего на Голгофе, воинов, жен-мироносиц, Марию, целующую Его правую руку, невозможно было усомниться, что Бог — Дух и Свет — принял человеческий образ, страдал и умер, чтобы искупить грехи человечества».
Ответом на ересь тех, кто отрицал земные богатства и земной мир, стало появление в XIII веке нищенствующих орденов. Новые монахи, «братья», как их называли, отрешившись от всего, что принадлежало миру, — не только от богатств, но и от жилья, от любой одежды, кроме одной рясы, от обуви, от денег, не уходили из мира, а шли в него, они воспевали этот мир, мир прекрасный, но несовершенный, ибо его отягощают грехи людей. Значит, надо призвать всех к покаянию. «XIII век был временем радостных открытий. Все было проникнуто эйфорией, вызванной победами. Проповедь покаяния шаг за шагом следует за этой радостью, чтобы никто не впал в заблуждение и чтобы народ Божий не свернул с пути, ведущего в Землю обетованную. Как и в грамотах, призывающих к крестовым походам, в скульптурном декоре соборов часто встречается крест. Он — центральный элемент сцен, изображающих Страсти Господни. Не следует забывать, что теперь крест стал символом победы, утверждал, что Бог, приняв человеческий образ, претерпел смерть. В триумфе Воскресения Христос увлекает за Собой все человечество к истинному блаженству, которое не от мира сего».
Искусство следует за мыслью новых богословов из нищенствующих орденов. Оно изображает Христа, апостолов, святых как реальных людей, но людей просветленных, перешедших в иной мир, мир света. «В то время мысль учителей воинствующей Церкви не останавливалась на Страстной пятнице, а сразу обращалась к торжеству Пасхи. В Реймсе, на внутренней стороне портала, украшенного витражами, пропускавшими лучи божественного света, дикие заросли и виноградники окружают фигуры сцены Воскресения, переставшие быть символами и ставшие персонажами. Но это еще и не действующие лица драмы. Эти скульптуры должны были олицетворять духовные добродетели, символом которых стала Голгофа. Изваяния символизировали евхаристические аналогии. Христианство XIII века более, чем когда-либо, было искусством церковным и обращало силу священства против еретиков. Готическое искусство было создано духовенством. Реймсские статуи изображают причастие, высшее таинство, поднимавшее священников, совершавших обряды католического богослужения, над совершенными катаров и проповедниками вальденсов. Скульптурные изображения переносят события смерти Христа в вечную реальность церковных обрядов, в покой. Над их чистым ансамблем, на уровне розы — высшего иконографического достижения 1260 года — галерея царей, предусмотренная первоначально, в последний момент была заменена другой. Это были статуи свидетелей, видевших воскресшего Христа. С высоты, находясь на пике движения вверх, которое возносит к небу все здание собора, они провозглашали, что смерть повержена и что каждый должен радостно славить это чудо. Они говорили о надежде, обретенной искупленным человечеством».
Готическая эпоха достигает своей полноты, своего совершенства в 1250—1280 годах. Но это также означает и начало конца. Нападки на богатства Церкви продолжаются, причем с двух сторон. «Причины, побуждавшие общество сопротивляться церковным требованиям, коренились в развитии, увлекавшем Запад ко все возраставшему материальному благополучию. <...> Бедняки все глубже погружались в безысходность, состоятельные члены общества восставали против морали духовенства, стремившегося ограничить светские развлечения». Кроме нищих толп, для которых и Папа и епископы есть воплощение Антихриста, кроме представителей рыцарской, куртуазной культуры, для которых «Папа, епископы и нищенствующие монахи были лишь досадной помехой веселью». Церкви угрожает учение Аристотеля, точнее, его арабского комментатора Аверроэса. «Быть может, самая большая опасность нового времени — восхищение, которое вызывали эти теории у представителей тесного мира профессиональных мыслителей, людей, создававших интеллектуальные модели для художественного творчества, этой целостной системой мышления, которую следовало принять в ее единстве. Она давала ключ к пониманию мира во всем его многообразии, к его полному и ясному объяснению. Вначале труды Аристотеля были необходимым инструментом, самым действенным из всего имеющегося арсенала развивающейся мысли. Они были путеводной нитью при исследовании тайн природы, помогли классифицировать роды и виды, упорядочить их, иными словами, приблизиться к Богу. Но вслед за более полным пониманием его философии приходило осознание ее истинной, антихристианской сущности. Аверроэс как бы вынес на яркий свет основополагающую антиномию догмы и Аристотелевой системы одновременно со всеми ее соблазнами».
Экономическое развитие Западной Европы начинает замедляться. «Остановилась расчистка земель. Под поля распаханы все плодородные земли. Кое-где они даже зашли чересчур далеко, распространившись на скудные земли, которые быстро истощаются. Разочарованные земледельцы покидают участки, которые вновь зарастают кустарником. Начинается обратное движение. Технический прогресс остановился. На слишком долго используемых землях снижаются урожаи. <...> Деревня беднеет, но за счет нее продолжает богатеть город, активность которого продолжает возрастать, жители которого едят досыта и пьют вино и куда постоянно течет денежный поток. В конце XIII века фортуна обратила свой лик к городам. Она улыбалась ростовщикам, патрициям, скупавшим владения слишком расточительных аристократов, берущим за горло должников, привлекающим в городские мастерские крестьянских сьгаовей, которым можно меньше платить. <...> Самые удачливые старались вырваться из мрака невежества. Некоторые взяли в жены бесприданниц из хороших семей, старались подражать манерам рыцарей. Кроме того, они начали оказывать покровительство поэтам <...> Однако если во Франции в конце XIII века горожане по-прежнему сохраняли некоторую неотесанность, то в Италии, истинной стране городов, все было иначе». Лишенные давления королевской власти — номинальные владыки Италии, императоры Священной Римской империи находились далеко за Альпами, — богатевшие на торговле города-коммуны формируют новое общество, непохожее на классическое средневековое. «Уже давно горожане свели полномочия городского духовенства к отправлению богослужения и освободились от власти баронов. Но во французских городах коммуна состояла только из горожан, а в Италии в нее входили и аристократы. Знать покорила коммуну с первых дней ее существования. Однако в XIII веке в самых процветающих городах активная часть населения оспаривала власть у аристократии и начала теснить ее. Во всяком случае, стена, разделявшая рыцарство и горожан, там была значительно менее высока, чем в других областях. Вскоре она стала еще ниже. <...> Из этого сплава родилась культура, своеобразие которой с особой силой проявилось в 1250 году».
В это время, во второй половине XIII века, «французские мастера, участвовавшие в строительстве соборов, понемногу утратили способность создавать что-либо новое. Они использовали формы, доведенные до совершенства, все более подчиненные логике, расположенные так, чтобы как можно больше света проникало внутрь здания, но которые постепенно покинуло их духовное содержание. Причин такого опустошения было много. С одной стороны, это произошло из-за нового направления, которому теперь следовали центры школьной культуры. Университет отдавал все силы совершенствованию диалектических приемов, подлинная культура иссушалась. В школах теперь готовили только технических работников размышления. Холод силлогизмов захватил богословие и повлиял на подчиненное ему искусство. Кроме того, высокое искусство целиком посвятило себя воспеванию славы Божией. Священнослужители не принимали теперь в творчестве такого непосредственного участия, как прежде. <...> Многие из этих священников, достигшие с помощью епископов вершин сеньориальной власти, не могли сопротивляться соблазну роскоши. Они были ослеплены ею — в соборе их больше поражало совершенство изображения, эффекты, хитрые строительные приемы. Лучшие из них, те, чья жизнь действительно основывалась на принципах нестяжания, старались больше проповедовать, чем строить, и если размышления приводили их на новый путь, то это был путь смирения и набожности. Медитация приводила к равнодушному отношению к формам монументальных сооружений. <...> Постепенно творческие обязанности перешли к специалистам — пришло время подрядчиков. <...> Эти люди прекрасно знали свое дело. Они были близко знакомы с докторами богословия, которые считали их равными себе и приобщали к науке чисел и диалектических построений. Но они не были священниками, не совершали Евхаристию, не проводили часы в размышлениях над Словом Божиим, не искали в Писании темных мест. Они выполняли работу, но <...> не черпали вдохновения непосредственно в созерцании небесных иерархий. Их больше занимали проблемы динамики и статики. Занимаясь изобретательством, они оставались виртуозами, а не мистиками».
Культура конца XIII века питалась в равной степени аверроизмом, отрицавшим загробную жизнь, но признававшим вечность мира, и светским рыцарским духом, радостным приятием мира. «<...> Этой радостью был движим улыбающийся антиклерикализм знати при французском дворе, и вся свободная и здоровая молодежь, для которой лжепророки и провозвестникии конца времён были не преподавателями-диалектиками или трубадурами, а лишь ханжами и святошами, чьи призывы к покаянию препятствовали возвращению к свободе золотого века. Изящество новой скульптуры было эхом этих настроений. Оно давало живительный сок, питавший распускавшуюся на солнце флору последних капителей. <...> Радость ведет к осуществлению стремления к телесной красоте, в которой в Париже растворилось религиозное искусство соборов». В лучах этой радости великое искусство соборов, «французское искусство» умирало.
Возникает новое искусство. Ему посвящен последний раздел книги Ж. Дюби — «Дворец. 1280—1420», — который начинается с мрачной картины эдакого «заката Европы».
«В XIV веке начали проявляться признаки истощения, сказавшегося на западном христианстве. <...> Европа больше не распространяет своего влияния, напротив, она сокращает его, и происходит это потому, что население, которое непрерывно росло в течение трех веков, с приближением 1300 года начало уменьшаться. Великая чума 1348—1350 годов и последовавшие за ней волны эпидемий превратили снижение прироста населения в катастрофический упадок. В первые годы XV века население большинства европейских стран сократилось вдвое по сравнению с предшествовавшим столетием. Бесчисленные поля оставались невозделанными, тысячи деревень обезлюдели, почти повсеместно ставшие слишком просторными городские стены окружали обветшавшие кварталы. Следует также упомянуть военные потрясения. Агрессивная мощь, некогда вырывавшаяся наружу, неся на своей волне завоевательные экспедиции, теперь вернулась обратно. Она вызывала бесконечные столкновения между крупными и мелкими государствами, которые начали укреплять свои границы, дробить христианский мир, соперничать и противостоять друг другу».
И все-таки не все так уж плохо. «<...> В том, что касается культурных ценностей, XIV век был не паузой, но периодом плодотворного развития. Сам упадок и потрясения, которые пережила материальная культура, стимулировали движение вперед, причем по трем направлениям. Во-первых, значительно изменилась география процветающих областей, зерна интеллектуальной и художественной активности прорастали в новых краях». Это прирейнская Германия, частично Чехия, Испания и, главное, Италия. Во-вторых, «бедствия XIV века, и в частности демографический спад, не во всех областях стали причиной остановки развития. Эти факторы способствовали увеличению личных состояний и общему повышению уровня жизни и, таким образом, создали материальные условия для более активного меценатства и популяризации высокой культуры. <...> Некоторые привычки и вкусы, свойственные прежде лишь благородным и знатным особам, постепенно распространялись во все более широких слоях общества, независимо от того, шла ли речь об обычае пить вино, носить белье или читать книги, украшать жилище и гробницу, понимать смысл рисунка или проповеди, заказывать произведения в художественных мастерских». И наконец, в-третьих, «ослабление материальных структур вызвало разрушение, подрыв целого ряда ценностей, на которые до недавнего времени ориентировалась культура Запада. Возник беспорядок, но в то же время это вернуло культуре молодость и в чем-то способствовало ее освобождению. Люди того времени были охвачены тревогой в значительно большей степени, чем их предки. Причиной тому была напряженность, возникшая в ходе борьбы за освобождение, несущее новизну. Те, кто был способен думать, временами с головокружительной ясностью ощущали новизну своей эпохи. Они осознавали, что открывают иные дороги, пролагают иные пути. Они чувствовали себя новыми людьми».
Культура делается все более и более светской. «Художник более не вторил священнику в литургическом действе. Он перестал быть помощником духовенства и принялся служить человеку, томимому жаждой видеть, желавшему видеть не повседневную реальность (искусство в то время более, чем когда-либо, способствовало бегству в мир фантазии), но свои мечты. В XIV веке художественное творчество превращается в погоню за воображаемым миром. Как следствие, главная цель теперь — не создание пространства для молитвы, религиозной процессии, распевания псалмов; ныне первоочередная задача — показывать, являть зрительный образ. Живопись, обладавшая большими возможностями в этой области, выдвигается в Европе на передний план».
Причины произошедших перемен в искусстве коренятся в сочетании трех процессов. Первый — появление новых людей. Второй — перемены в верованиях и представлениях о мире. «Наконец, третий процесс повлиял на изобразительные формы. Художник, подобно философу или писателю, пользуется языком, который приходит из прошлого неизменным и ограниченным шаблонами. Художнику приходится преодолевать их сопротивление, и конечная цель его усилий не всегда остается достигнутой».
Ж. Дюби внимательно рассматривает каждый из этих трех процессов. Первый из них заключается в том, что меняется социальное лицо заказчика художественных произведений. Возникает меценатство. Прежде «художники объединялись в профессиональные, узкоспециализированные организации. Заменив семейный клан, эти корпорации обеспечивали своим членам защиту, облегчали перемещение из одного города в другой, со стройки на стройку и таким образом содействовали встречам мастеров друг с другом, обучению подмастерьев, распространению технических знаний. Цеховые корпорации представали также как замкнутые организации, жизнь которых строго подчинялась традициям; их возглавляли пожилые люди, с подозрением относившиеся к любому проявлению инициативы». Теперь же при дворах, у банкиров, купцов и т. п. скапливаются значительные средства, которые тратятся на искусство. «Любое значительное произведение выполнялось в то время по заказу, любой художник зависел от своего заказчика. <...> Мастер на определенное время входил в число слуг мецената — поступал в его распоряжение, жил в его доме на полном обеспечении, выполнял в нем особую службу и получал за нее вознаграждение. Подобное подчиненное положение было пределом мечтаний лучших мастеров. Оно отменяло зависимость от корпорации, от цеха, от команды. Сулило большую выгоду. Вводило в самый блестящий, открытый круг общения. Благодаря такому положению мастер оказывался на перекрестке новейших тенденций, поисков, открытий. Появлялась возможность действительного роста в обществе. На пороге XV века именно в больших княжеских домах зародилось уважительное отношение к положению художника и свободе его творчества».
Отношения между художником и заказчиком были не лишены противоречий. «Заказчик диктовал только свои пожелания, сюжет и, в значительно меньшей степени, способ выражения. Выбор художественных средств оставался за исполнителем. У этих средств была своя жизнь, развивавшаяся независимо от ограничений, навязанных заказчиком. <...> Нужно ли здесь упомянуть также о том, какое огромное поле деятельности открывалось личному творчеству?» Но одновременно с этим, «то, что в художественном произведении было связано с историей общества или сменой вкусов <...> в то время в значительной степени зависело от заказчика».
Результатом экономических потрясений после 1280 года стало то, что основным богатством сделались не земли, а деньги, сосредоточивавшиеся, как было сказано, при дворах и в городах. «Эти экономические изменения в значительной степени объясняют, почему вмешательство церковных институтов в художественную деятельность в XIV веке постепенно ослабевало. Разоренные, порабощенные Папой и королями, раздавленные налогами, потревоженные новыми принципами приема в общину и правилами распределения церковных доходов, монастырские общины и общины каноников практически повсеместно перестали быть вдохновителями крупных художественных предприятий». Культура становится все более светской, даже если она концентрируется при дворе Папы. «Происходило своего рода всеобщее обмирщение. <...> Персона короля утратила во Франции около 1400 года былое значение, и многие правители, среди которых были очень состоятельные сеньоры, ставшие вдохновителями возрождения парижской эстетики, — герцог Анжуйский, герцог Бургундский и герцог Беррийский, как и "тираны", захватившие синьории в крупных коммунах Северной Италии, не получили миропомазания и не чувствовали в себе ничего от священнослужителя. При всех дворах, где концентрировались люди и денежные средства, при дворах, все еще легких на подъем и становящихся все более открытыми миру, в этих центрах общественного развития, единственных местах, где люди незнатного происхождения могли оружием, умелой организационной деятельностью или церковным служением подняться до самых высоких ступеней, в этих домах, в лоне огромных семей церковные цели постепенно уступили место целям политическим, священные ценности — ценностям мирским».
Городская элита, элита банкиров была никак не буржуазной. «Банкир или крупный негоциант становится меценатом, поднявшись над буржуазией, примкнув к княжескому обществу, которому он служит, или же, но это случалось крайне редко и лишь в некоторых крупных городах Италии, наделяя коммуну, сообщество, в управлении которым он участвует, величием, придав ему imperium государей, а также атрибуты куртуазной аристократии».
Рыцарские и даже религиозные ценности в этом обществе становятся иными. «<...> Для священников так же, как и для правителей и крупных банкиров, существовали одни и те же культурные модели. Они были организованы вокруг двух принципов, двух образцов поведения и мудрости: рыцарства и священства. <...> В XIV веке увеличивается число тех, кто входит одновременно в обе группы. Представители духовенства, погруженные в мирские заботы, постепенно приобретают светские привычки, некогда подобавшие лишь тем, кто занимался военным ремеслом, с другой же стороны, появились milites litterati, рыцари образованные, то есть способные постигать книжные знания и проявляющие интерес к научной культуре. Княжеские дворы, где на духовенство и рыцарей возлагались одни и те же задачи, от которых, следовательно, ожидали равных умений, стали центром сближения двух культур».
Рыцарские ценности, уходившие из реального мира («реальная жизнь треченто — это дикая война, пожары, насилие, вооруженные грабежи, мир, живущий по разные стороны крепостных стен, ощетинившихся копьями, среди разграбленных и разрушенных деревень»), остаются общеобязательными: «<...> цвет аристократии, лучшие люди того времени были обязаны, к их глубокому сожалению, сражаться, соблюдая правила куртуазного кодекса. <...> Самые кровавые командиры наемных солдат соблюдали при дворе правила куртуазной любовной игры. В тот самый момент, когда экономическое развитие начало приводить к разорению семей старой аристократии, когда прежняя знать опустилась ниже уровня, который занимали некоторые выскочки, разбогатевшие во время войны — в результате финансовых махинаций или на службе у высокопоставленных особ, в тот самый момент, когда рушились прежние иерархии, начали складываться символические и бессмысленные образы прежнего порядка, которые, однако, весьма успешно способствовали соблюдению правил игры. <...> Для новых людей единственным способом проникнуть в светское общество было проявить в любовных и военных делах совершенное знание правил и безукоризненное их соблюдение. Вокруг отваги и куртуазности в то время сформировался настоящий религиозный культ, единственный, который еще имел власть над сердцами, нашедший развитие в праздниках и зрелищах, в которые превратились сражения, на турнирах и ночных балах. Именно поэтому в XIV веке высокое искусство перестало ориентироваться на церковную литургию, начало отвечать потребностям светского кодекса поведения и, тем самым, закрепило его, немало способствуя его успеху. Быть может, главным новшеством в искусстве того времени стало открытие пышной рыцарской культуры».
Но это не единственный путь распространения светских основ культуры. «В среду богословов-профессионалов, в мир университетских преподавателей светский дух проникал иными путями». Этих путей было два. «Христианство XIV века все сильнее склонялось в мистицизм <...> Эта религия, став гораздо более личной, в значительной степени утратив общественный характер, начала отделяться от духовенства. Основным религиозным актом стал теперь поиск Бога в любви, на первый план вышла надежда на соединение, на "брачный союз" самой сокровенной части души каждого человека <...> и божественной субстанции, ибо союз этот заключается в таинственной беседе. И, следовательно, какой же здесь может быть роль священнослужителя? Теперь его задача — не богослужение, так как верующий уже не может переложить на другого совершение молитвы, а должен постепенно достичь внутреннего озарения путем приобретения собственного опыта, личного постижения Слова Божия, ежедневного подражания Христу. Миссия Церкви — больше не проповедь, не объяснение. Она ограничивается медитацией и тем, что подает верующим собственный пример. Через священника на верующих нисходит благодать Божия, он свидетель Христов. Требования к священнику выросли, его отношение к власти и богатству не должно противоречить его новым функциям». Таков взгляд на религию и Церковь мистиков.
Другой путь — путь оккамизма. Растет популярность учения Уильяма Оккама, который «прежде всего выступал за строгое разделение духовного и светского. Область первого, сердце, остается под духовным контролем очистившейся Церкви. Что же касается области разума, здесь, напротив, следует избегать любого церковного вмешательства. Это учение предполагало освобождение науки из-под гнета Церкви и в то же время освобождало ее от влияния различных метафизик, в частности Аристотелевой системы. <...> Новый путь, побуждавший к непосредственному, критическому, свободному от влияния любой заранее принятой системы взглядов исследованию каждого отдельного явления, оказался необыкновенно плодотворным. Этот путь подразумевал, что факты следует представлять такими, какие они есть, во всем их многообразии, символ абстрактной идеи уступал место истинному образу того или иного явления тварного мира. Учение Оккама напрямую способствовало тому, что в искусстве принято называть реализмом».
Впрочем, перемены в религиозности заключались не только в этом. «<...> Христианская религия в конце концов перестала ограничиваться ритуалами и быть делом лишь священнослужителей. В XIV веке она стала привлекать к себе народные массы. <...> Начался период избавления от влияния Церкви. Однако это не было отходом от христианства. Наоборот, к христианству проявлялся все более сильный интерес, отношение к нему становилось более личным, более глубоким благодаря распространению и укоренению в сознании евангельского учения. До тех пор в Европе существовала только видимость христианства. Лишь очень немногие действительно жили в соответствии с учением Христа. С кардинальным изменением отношения к миру христианство становится народной религией. <...> В новом христианстве миряне уже не молчаливые и бессознательные зрители богослужения. Все члены светского общества, знать <...>, рыцари-грабители <...>, итальянские банкиры <...>, ганзейские купцы, владельцы крупных ферм и даже городские ремесленники в соответствии со своими возможностями участвовали в религиозной жизни. Художественное творчество было одной из составных частей этой жизни. Служа прославлению, горячему поклонению, выразившемуся в жертвенности, в неприятии богатства, в надежде заслужить милость Господа или спасительное заступничество, художественное творчество более чем когда-либо выполняло религиозную функцию». Поскольку «главное место занимали личные духовные достижения — молитва, благоговение сердца и постепенное восхождение души к Богу <...>, обретают смысл новые формы религиозного искусства».
Одна из таких форм — новые городские храмы. «Новая архитектура в своем стремлении привлечь как можно большее число верующих к участию в богослужении развивалась, отрицая само понятие амвона. Она разрушала любую ограду, убирала перегородки. Необходимо, чтобы каждый мог отовсюду видеть тело Христово <...> Вдоль боковых стен вытянулся ряд внутренних часовен». Эти часовни, которые строили и короли, и принцы, и религиозные братства, и цехи и гильдии, и богатые семьи, были местом как поминальных служб, так и молитвенного, духовного созерцания. Целью нового благочестия — имеются ли в виду конкретное религиозное движение devotio moderna или обновленные формы религиозности в широком смысле — «было подготовить душу к брачному союзу со Святым Духом, вести ее к Нему навстречу, оградить в решающий момент, на пороге смерти, от подстерегающих опасностей. Верующего призывали приблизиться и услышать Слово Божие, черпать в нем пишу для постоянного размышления». Это Слово Божие распространяется через переводы Библии на народные языки (с чем активно борется католическая Церковь), через проповедь, которая, в целях убедительности, становится все более и более театрализованной, через духовную драму, религиозные «спектакли». Это отражается и в изобразительном искусстве.
«Слава пришла к Джотто благодаря тому, что он лучше своих предшественников сумел воспроизвести на стенах церквей сцены таинственной драмы. Оказавшись гениальным постановщиком, он запечатлевал сценическое движение, предлагал примеры образов тем, кто желал изобразить святого Франциска Ассизского, Иоакима, Деву Марию или Иисуса, понять глубинные черты этих образов, чтобы добраться до их духовной сути». Зримые изображения священного воздействовали на простой народ, но одновременно выражали веру этого простого народа. «Монументальное искусство, как и произведения малых форм, появившиеся благодаря развитию индивидуальной религиозности, в XIV веке предстают как иллюстрация веры простого народа».
Радость жизни, описанная выше, никак не исключала страха смерти. «Христианство XIV века было не столько наукой жить, сколько искусством умирать, а часовня — не столько местом молитвы и созерцания, сколько местом отправления погребального культа. Опрощение религии и влияние на нее светского общества привели к тому, что мысль о смерти заняла главенствующее положение. В религиозных обрядах и иконографии на первый взгляд выступил вопрос: что происходит с умершим, куда он попадает? Учение официальной Церкви предлагало успокаивающий ответ. Смерть — это переход, окончание земного путешествия, прибытие в гавань. Однажды, быть может уже скоро, наступит конец времен, Христос во славе придет на землю, произойдет всеобщее воскресение из мертвых. Тогда праведники будут отделены от грешников, огромная толпа воскресших разделится на две части: одни пойдут навстречу вечной радости, другие — к вечным мукам. Ожидая наступления последних дней, умершие находятся в месте отдохновения и покоя, спят вечным сном».
Но мощное влияние народных верований проникает и в официальную религию, и в изобразительное искусство, «На стенах церквей появились новые символы. Проповедники, деятельно участвовавшие в религиозной жизни, не смогли уничтожить любовь ко всему земному, сдержать всплеск оптимизма, охватившего светское общество. Они пытались выразить в своем обращении к народу хотя бы ту тревогу, которая находилась на другом полюсе оптимизма, — страх перед смертью, разрушающей все земные радости. <...> Новое изображение сильнее действовало на зрителя, так как его трагическая глубина задевала струны нового отношения к миру. В конце XIV века центральное место в религиозной иконографии вновь заняли изображения мрачного и зловещего». Сюда относится, в частности, сверхпопулярный сюжет Пляски Смерти — изображения танца, в котором участвуют люди, полуразложившиеся трупы, скелеты; среди персонажей представлены обычно все сословия и состояния: мужчины и женщины, старики и дети, священники и миряне, крестьяне и рыцари, короли и Папы и т. д. Этот сюжет символизировал тщету всего земного. «В глубинах народных верований образ торжествующей смерти часто сливался с образом Гаммельнского Крысолова. Смерть-музыкантша завораживала своей дурманящей мелодией мужчин и женщин, молодых и стариков, богатых и бедных, Папу, короля, рыцаря — любого человека, независимо от того, на какой социальной ступени он находился. Она была неумолима».
Такое отношение определяет сюжеты не только живописи. Скульптурные изображения на надгробиях появляются еще в XII веке, а «пора их расцвета пришлась на XIII век <...> Духовенство приняло изображение умерших в виде лежащих фигур, но требовало, чтобы скульптуры были иератическими и безмятежными. <...> Их глаза открыты, из них стерлось воспоминание обо всех событиях земной жизни, лица преображены, исполнены красоты, находящейся вне времени, красоты, присущей телу, ожидающему воскресения из мертвых. Они спят спокойным сном, который может продолжаться вечно. Они перешагнули порог смерти, чтобы мирно достичь берегов вечности».
Теперь все не так. Появляются изображения разложившихся трупов, скелетов, и это «символизировало пустоту материального мира, обреченного на тлен и возвращение в прах. Те, кто заказывал подобные изображения, желали, находясь на пороге смерти, продемонстрировать свое презрение к своему бренному телу, оторваться от земного существования и превратить строительство гробницы в акт назидания и смирения, проповедь, зовущую к покаянию».
Но бывало и иное. «Заказчики не желали, чтобы художник изображал их погруженными в священный сон и безвестность избранных. Они требовали, чтобы их изваянию были приданы яркие, узнаваемые черты, чтобы оно было наполнено жизнью <...> Знатные особы желали, чтобы на их могиле находилось изображение, обладавшее чертами сходства с покойным. <...> Лица умерших стали излюбленной темой мастеров XIV века, стремившихся запечатлеть то или иное выражение».
При этом «стремление отметить каким-либо личным знаком главное из заказанных при жизни произведений искусства, которым оставалась гробница, было сродни другому желанию, быть может менее осознанному, но столь же противоречившему духу отречения от мирской суеты. Запечатлеть свои черты в камне означало продлить их жизнь, избавить их от разрушений, поносимых смертью, символизировало победу над деструктивными силами. <...> На усыпальнице, состоявшей из нескольких уровней, фигура умершего, преклонившего колени или же восседающего на тропе в полной славе <...>, символизировала победу над тем образом умершего, который они отрицали».
Это желание утвердить себя в вечности находит соответствие в рыцарском тяготении к славе, к подвигу, но и к пышной, театрализованной жизни. «По убеждению рыцаря и крупного буржуа, изо всех сил стремившегося подражать ему, богатство мира должно сгорать и растворяться в празднике. Феодальное общество просто не мыслило отправление власти и практику применения оружия без сопутствовавшего им расточительства. Самым лучшим сеньором считался тот, кто беспрестанно черпал из своих сундуков, осчастливливая тем самым всех окружающих. Для того чтобы сеньора любили и служили ему, он должен жить в постоянном окружении огромной свиты, устраивать праздники, созывать друзей на веселые пирушки, которые постепенно становились все более рафинированными и утонченными».
Рыцарская куртуазная любовь становится все более плотской, при всей своей утонченности. Возникает стремление увидеть — и изобразить — обнаженное женское тело. Это происходит не сразу. «Если скульпторы и художники отваживались показать обнаженное тело женщины, то непременно с оттенком осуждения, считая его греховным. Их охватывало какое-то странное беспокойство. Оно навязывало им нервный, пронзительный стиль Пляски Смерти и заставляло отмечать тела знаком порочности. В готическом мире из всех форм вновь освященной природы тело женщины освободилось от греха последним. Чтобы затем расцвести для земной радости».
Не менее, чем любовь, высшую элиту XIV века волнует власть. «Культура XIV века пришла к государям, людям, которые правили, заключали мир и вершили справедливость. Светское искусство Европы, большинство шедевров которого было создано по заказу государей, прославляло главным образом могущество». Символом этого могущества был замок, цитадель, и «правители XIV века действительно хотели, чтобы в цитадели, демонстрировавшей их могущество, поселилась радость. <...> Если их жилище должно было по-прежнему сохранять функции крепости, то оно хотя бы становилось по крайней мере уютнее. <...> Государь, цвет рыцарства и, следовательно, образец галантной учтивости, должен был в первую очередь обустроить в своей резиденции места, способствовавшие интимным утехам и любовным праздникам. Во всех новых или отремонтированных замках около старого зала, где собирались воины и где хозяин вершил правосудие, располагались небольшие комнаты с камином. Гобелены, развешанные на стенах, придавали им теплоту и уют. Итак, в XIV веке рыцарский замок начал постепенно превращаться в особняк».
В немалой степени к утверждению своего могущества стремились и города, в первую очередь самые богатые и самые независимые — свободные коммуны Италии. Знаком этого становились не только палаццо, где пребывала местная власть, но и фрески, «воспевавшие величие городов». В своих фресках в Зале заседаний Совета Сиены Амброджо Лоренцетти «не ограничивает жизнь символическими рамками архитектуры соборов. Он переносит ее на театральные подмостки, поскольку политика свободна от литургии. Народ мирно трудится, стремясь разбогатеть и при этом не нарушить закон. Скрупулезно выписанный тяжелый труд действительно позволяет достичь благосостояния, необходимого для обеспечения безопасности и дальнейшего продвижения народа по пути справедливости. Тем не менее тривиальные усилия крестьян и торговцев влекут за собой исключительно радости дворянства, немотивированные действия, позволяют беззаботным девушкам устраивать танцы, а кавалькадам всадников отправляться на соколиную охоту. Однако самое главное заключается в том, что эта публичная аллегория могущества представляет собой одно из самых восхитительных изображений чувственной природы. Это первый настоящий пейзаж, написанный на Западе».
Природа в Средние века долгое время «была концептуальной формой проявления сущности Бога, непреходящим и искусственным явлением, которое нельзя постичь с помощью зрения, слуха, обоняния. Не беспорядочной и недостоверной видимостью мира, а тем, чем был Райский сад для Адама до грехопадения: спокойной, размеренной и добродетельной вселенной, упорядоченной Божественным разумом и не подвластной смятению или разложению». Это никак не реальная природа. Романское искусство и искусство ранней готики изображают «не дерево, а идею дерева».
Перемены, по мнению Дюби, связаны с философией, с упоминавшимся оккамизмом. «Все развитие мысли, которое привело к оккамизму и вместе с ним устремилось в треченто, вырвало природу из области абстрактного, переводя ее в сферу конкретного, и восстановило видение в правах. Став союзником францисканской и придворной радости, оно побуждало художников видеть».
Это не осталось убеждением только придворных или францисканцев. «Рыцарское общество, которое переняло эстафету от лучших представителей Церкви, намереваясь управлять творческим процессом, неожиданно проявило любопытство и стало находить удовольствие в созерцании вещей. <...> Рыцарская культура вызвала к жизни четкое изображение действительности — правда, действительности фрагментарной».
Однако такое изображение действительно фрагментарное, оно не есть полное и точное отображение природы. Пейзаж как жанр возникает в Италии. Здесь, как и везде, в XV веке, как и всегда, это означает, что таково было желание заказчиков. «У итальянских меценатов также пробудилось любопытство к природе вещей. Теперь они захотели, чтобы искусство давало им правдивую картину реальной действительности».
Это новое искусство — не только в области пейзажа — обошло прежнюю куртуазную столицу, Париж. Из Италии новое искусство перешло во Фландрию, и в этих странах со временем появится великое искусство Возрождения. «То, что фламандское искусство, до сих пор провинциальное, внезапно вышло на передовые рубежи в живописи, было связано с политическими событиями: герцоги Бургундские, принцы цветов лилии, унаследовавшие славу и состояние королей Франции, перенесли свое могущество и двор во Фландрию и призвали к себе лучших художников, которым в Париже более нечего было делать. А великий флорентийский век начался тогда, когда утихла смута, посеянная в рядах городской аристократии смертоносными эпидемиями, когда патрицианская элита вновь стала безупречным обществом, воспитанным в уважении к культуре, причем к культуре рыцарского вдохновения. Флоренция превратилась в блистательный очаг нового искусства в тот момент, когда республика незаметно трансформировалась в княжество, когда сеньория переходила под власть тирана, которого позднее сыновья постарались представить как самого щедрого из меценатов» .
Ян ван Эйк и Мазаччо — новые, уже совсем новые художники. «Ян ван Эйк работал на заказ. Он писал портреты каноников, прелатов, финансовых магнатов, возглавлявших в Брюгге филиалы больших флорентийских компаний. Но однажды он решил написать портрет своей жены. Не в облике королевы, Евы или Богоматери, а в жизненной простоте. Эта женщина не была принцессой. Ее изображение имело ценность только для автора. В тот день придворный художник обрел независимость. Он завоевал право созидать ради собственного удовольствия, творить свободно. <...> Мазаччо поместил изображение своего лица среди лиц апостолов... Лицо человека. А теперь еще и лицо свободного художника».
На этой фразе Жорж Дюби завершает свою книгу. Насколько можно судить, для него на этом событии — появлении Яна ван Эйка и Мазаччо — завершается история средневекового искусства и начинается искусство Возрождения, ибо появляется фигура, которой никогда не было в Средние века, — свободный художник, появляется персонаж, которого никогда не было в Средние века, — просто человек.
Поскольку последняя фраза до некоторой степени есть плод мысли не Дюби, а автора настоящей статьи, проницательный читатель наверняка догадался, что здесь завершается затянувшееся цитирование книги профессора Дюби (мне хотелось дать слово самому ученому, сведя свою роль к минимуму), и оный автор переходит к обсуждению «Времени соборов».
Итак, как явствует из этой книги, средневековое искусство формировалось внутри треугольника: экономика — власть — идеология. Экономика в данном случае есть наличие средств, которые можно вкладывать в строительство храмов, в создание иллюминированных рукописей, в изготовление драгоценной церковной утвари, в возведение надгробных памятников и т. д., и т. п. При этом количество средств, вкладывавшихся в искусство, не находится ни в какой зависимости от благосостояния общества. Важно, чтобы эти средства были у тех, кто желает облагодетельствовать Церковь, принести искупительные жертвы Богу, прославить свой род или свой сан, увековечить память о себе самом. То есть у элиты общества.
Вторая сторона треугольника — власть — принадлежит элите, так сказать, по определению. Это могут быть императоры и короли, крупные феодалы и принцы крови, правительства и правители-тираны свободных городов. Любые из тех, кто, как говорят сегодня, «управляет денежными потоками», хотя эти «потоки» могли быть и не собственно денежными, а, скажем, земельными дарениями.
И наконец, третья сторона (или вершина?) треугольника — идеология. Поскольку, как говорилось (и цитировалось) выше, по мнению Ж. Дюби, искусство в первую очередь — жертва Богу, то идеи для этого искусства дают те, кто служит посредником между Богом и людьми, — люди Церкви в широком смысле (переход художественной инициативы в руки мирян есть знак завершения Средневековья, его последней фазы). Это могут быть и государи, и монахи, и епископы, и университетские профессора. В большинстве своем они — духовная, интеллектуальная элита. Поскольку перед нами люди Церкви, то их усилия направлены на спасение в ином мире, спасение их самих и всего христианского народа. Впрочем, университетские науки нацелены на познание этого мира, притом не мира символов, а мира феноменов, явлений. И в этом профессора смыкаются с нецерковной, чисто мирской элитой — рыцарской и придворной, которая также пристально вглядывается в этот земной мир, мир яркий, красивый, мир любви, празднеств, охоты и ратных подвигов.
Следовательно, искусство творит элита. Нет, воплощают те или иные произведения, так сказать «в материале», мастера, но идеи, но художественные программы дают люди образованные и социально возвышенные. Искусство творится сверху, и появление фигуры свободного художника, изображающего то, что он сам желает изобразить, знаменует завершение Средневековья.
Для профессора Дюби культура созидается на верхнем этаже общества и оттуда спускается в народную толщу. Именно это его мнение вызвало несогласие многих современных исследователей.
Впрочем, спорить с Ж. Дюби можно о многом. Некоторые историки подвергают сомнению его теорию «феодальной революции», вообще его взгляды на средневековый социум, на роль идеологии — в том числе, и в первую очередь, осознанных идеологических воззрений — на формирование этого социума[21]. Можно, — касаясь уже непосредственно «Времени соборов» — усомниться в отнесении искусства Яна ван Эйка и вообще нидерландской живописи XV века к Возрождению, ссылаясь при этом на авторитет И. Хёйзинги[22]. Я мог бы попытаться оспорить и заявление Ж. Дюби о массовых страхах, связанных с ожиданием конца света в 1000 и 1033 годах — целый ряд специалистов считает сведения об этом позднейшим вымыслом, возникшим на рубеже XV и XVI веков и окончательно утвердившимся лишь в XVIII веке[23].
И все же главный узел конфликта между профессором Дюби и рядом его коллег по цеху историков был обозначен выше. Я приводил уже немалое число цитат с утверждением о том, что искусство, и в первую очередь идеи, которые легли в его основу, творит интеллектуальное и социальное меньшинство. Сведу их воедино и добавлю новые. «Процессом творчества всегда управляют господствующие в обществе силы». «Если бы непререкаемая власть малочисленной группы аристократии и духовенства не оказывала такого сильного влияния на толпы подчиненных работников, никогда на бескрайних пустошах, в среде грубого, дикого и бедного народа не возникли бы художественные формы, эволюция которых рассмотрена в этой книге». «Признаем же, что архитектура и изобразительное искусство XI века, как музыка и литургия, были неким способом инициации. Поэтому в их формах не было ничего народного. Они обращались не к толпам, а к избранным, узкому кругу тех, кто начал взбираться по лестнице, ведущей к совершенству». «Эстетика, к которой обратилось монастырское искусство, была замкнутой, обращенной внутрь себя, открытой лишь посвященным, чистым людям, которые, отказавшись от погрязшего в пороке мира и его соблазнов, возглавляли христианский народ в его движении к истине». «Основные формы этого искусства возникли в тесном кругу духовенства, приближенного к трону, в немногочисленном обществе, отличавшемся высоким уровнем достатка, в среде тех, кто находился в авангарде интеллектуальных изысканий». «Новое искусство, создателем которого был Сугерий <...>». «Их [каменщиков, витражистов и скульпторов. — Д. X.] работой руководили ученые». «Искусство Франции, выросшее в соборных школах, охотно украшало стены церквей изображениями семи свободных искусств. С конца XII века искусство принадлежало логикам. Вскоре оно должно было стать искусством инженеров». «Что касается искусства, до сих пор оно было в первую очередь молитвой, поклонением, воспеванием славы Божией. Теперь же благодаря возникшей потребности найти новые средства убеждения искусство целенаправленно, а отнюдь не случайно, стало орудием наставления, поучения». «Таким образом, постепенно творческие обязанности перешли к специалистам — пришло время подрядчиков. <...> Эти люди прекрасно знали свое дело. Они были близко знакомы с докторами богословия, которые считали их равными себе и приобщали к науке чисел и диалектических построений. Но они не были священниками, не посвящали себя Христу, не проводили часы в размышлениях над Словом Божиим, не искали в Писании темных мест. Они выполняли работу, но не черпали вдохновение <...> непосредственно в созерцании небесных иерархий. Их больше занимали проблемы динамики и статики. Занимаясь изобретательством, они оставались виртуозами, а не мистиками. Их достижения заключались в том, что им удавалось преодолеть сопротивление материала, а не проникнуть в какую-либо тайну. Те, чей разум склонялся к логике, ставили свой успех в зависимость от точности геометрических построений». «Это были те самые ценности университетской и рыцарской культуры, которыми вооружились некоторые крупные негоцианты, повсюду, и особенно в Италии, составлявшие элиту. В то время лишь эта элита, за исключением Церкви и княжеских дворов, была способна порождать меценатов, действительно поддерживающих творчество». «Новый художественный язык был слишком высокопарным и новым. Он не был понятен тем, кому успехи тосканской экономики лишь недавно открыли дорогу к высокой культуре. Людям, жившим к северу от Альп, этот язык казался абсолютно чуждым». «Рыцарское общество, которое переняло эстафету от лучших представителей Церкви, намереваясь управлять творческим процессом, неожиданно проявило любопытство и стало находить удовольствие в созерцании вещей». «У итальянских меценатов также пробудилось любопытство к природе вещей. Теперь они захотели, чтобы искусство давало им правдивую картину реальной действительности».
Социальная и культурная история искусства есть история представителей социальной и культурной элиты. Изменения в их экономическом положении, в объеме власти и — главное — в достаточно осознанных представлениях о Боге и мире порождают изменения в художественных стилях. Нет, социальные перемены, даже социально-культурные, разумеется, имеют место и помимо круга элиты, но на искусство практически не влияют. «Между 1130 и 1280 годами глубинные течения, незаметно менявшие его [общества. — Д. Х\ строение, получали едва заметный отклик в узком кругу духовенства, руководившего художниками и следившего за строительством соборов. Эти течения также не нашли отражения в художественном творчестве, развитие которого зависело в значительной степени от движения религиозной мысли».
Разумеется, церковное искусство, ставящее целью приведение народных масс к спасению, должно учитывать смутные чаяния этих масс, приноравливаться к их интеллектуальному и образовательному уровню, дабы проповедь средствами искусства была успешной. «Бедняки хотят слушать рассказ о славе, а не о нищете. Они питаются чудесами. Религиозное искусство XI века пытается сконцентрировать евангельское учение в нескольких знаках». «Бесспорно, многие произведения искусства XIV века были задуманы как видимое, доступное пониманию воплощение религиозной доктрины». «Монахи, наставники пришедшего к вере народа, стремившиеся распространить свет Нового Завета среди самых низов христианского общества, рассматривали печатное изображение как самое надежное средство передачи информации, обладающее, быть может, большей убедительностью, чем чтение Библии. Для того чтобы быть доступной большинству мирян, Библия в XIV веке стала "исторической", то есть ее повествование развертывалось теперь в виде череды историй, столь же удивительных и захватывающих, как рыцарские романы или легенды. Для тех, кто не умел читать, появилась своя "историческая" Библия — "Библия бедняков", в которой рассказ о событиях Священной истории был представлен в виде ряда выразительных иллюстраций с простым сюжетом, пересказывавших суть событий». Но все равно искусство творится только и исключительно «наверху» и если иногда все-таки спускается «вниз», — что, строго говоря, не всегда и не так уж обязательно, — то, как правило, по воле «верхов».
Ж. Дюби вообще полагает, что культурные модели всегда вырабатываются в кругу интеллектуалов эпохи, а затем распространяются в более широкой социальной среде — и это касается не только искусства[24]. Дюби вообще с большой осторожностью, чтобы не сказать отрицательно, относится к проблеме народной культуры, серьезно сомневаясь в том, что социальные слои, «именуемые народом» (понятие, по мнению Ж. Дюби, весьма расплывчатое), располагали средствами для создания культуры[25]. Он вообще отказывается рассматривать весьма живо обсуждаемую в исторической науке проблему народной культуры, и не только потому, что полагает (совершенно основательно), что у нас нет источников, в которых неграмотное большинство, «безмолвствующий народ», высказывались бы непосредственно (существует немалое число историков — например Ж. Ле Гофф во Франции или А. Я. Гуревич у нас, — которые ищут, и весьма успешно, обходные пути исследования). Нет, профессор Дюби отверг проблему «ученая культура/народная культура» как надуманную. Среди прочего, для него проблема противостояния «ученой» и «народной» культуры продиктована упрощенными марксистскими схемами, в ней сказывается актуальное доныне во французской исторической науке наследие романтической школы, наконец, он видит здесь характерные для современного общества ностальгические поиски «корней» в фольклоре, в народных традициях и искусстве[26].
Наиболее аргументированно, пожалуй, возражает Ж. Дюби А. Я. Гуревич, и интересующихся я адресую к его книге, неоднократно здесь упоминавшейся. Сам же хочу сказать нечто иное. При чтении «Времени соборов» возникает ощущение, что иногда Ж. Дюби под словами «люди», «человек» понимает не только представителей «высшего общества», но всех членов средневекового социума: «Искусство XI века выражало чаяния людей <...> оно стремится дать человеку верное средство воскреснуть озаренным» (курсив мой. — Д. X.).
Более того, время от времени Ж. Дюби признает и некое влияние на религию и, тем самым, на искусство этого крайне неопределенного «народа», этих «низов». «Внимание, которое христианский мир XI века уделял смерти, означало победу глубинных народных верований, укрепившихся с победами феодализма, навязанных духовенству и поднявшихся на верхние этажи культуры, где они вновь нашли мощное выражение». «Становясь все более народной, европейская культура в XIV веке вместе с тем переставала быть церковной». «Священнослужители были, однако, вынуждены считаться с мощными народными верованиями».
«Нисхождение» культуры на низшие этажи общества Дюби не обязательно и не всегда оценивает сугубо отрицательно. «Некоторые привычки и вкусы, свойственные прежде лишь благородным и знатным особам, постепенно распространялись во все более широких слоях общества, независимо от того, шла ли речь об обычае пить вино, носить белье и читать книги, украшать жилище или гробницу, понимать смысл рисунка или проповеди, заказывать произведения в художественных мастерских». Широкое распространение христианства в массах в XIV веке отрицательно сказывается не только на искусстве, на культуре. «Эти люди [странствующие проповедники, продавцы индульгенций. — Д. X.], волновавшие народные толпы, часто прибегали к банальностям. Они желали, чтобы слушатели плакали, внимая им, стремились затронуть потаенные глубины души, вызвать эмоции, способные привести к массовому обращению». Среди них были и обычные шарлатаны, «но благодаря их несмолкаемому красноречию в сердцах народа запечатлевался трогательный и близкий образ Христа. Этот образ был тем более убедителен, что фоном служило представление, народное гуляние. Проповедь проходила в окружении наглядных символов, живописных или скульптурных, религиозных процессий, смешивалась с театральным действом».
И все же распространение искусства — не к добру. «Если, например, внимательно изучить фактуру фресок и живописных панно Центральной Италии, с приближением 1350 года можно обнаружить значительный пробел в традиции. Достоинство и изящество <...> внезапно исчезают. На смену им приходит более грубая интонация <...>, [что] стало следствием внезапного обновления состава городских властей. Чума 1348 года, а затем периодически вспыхивающие снова эпидемии оставили зияющие пустоты в высших слоях городского общества, на которое уже успели оказать влияние идеи гуманизма. Свободные места оказались заняты стремительно выдвинувшимися выскочками. Нуворишам не хватало культуры, точнее, их культура, заключенная в рамки общедоступной проповеди нищенствующих братьев, находилась на несколько ступеней ниже. Приспосабливаясь ко вкусам нуворишей, формы художественного выражения утратили возвышенность. Ускорившееся движение социального роста по прошествии середины XIV века вызвало в Тоскане периода треченто, как и во всей Европе, ярко выраженное снижение уровня эстетических запросов». «Буржуазия в целом играла крайне незначительную роль в художественном процессе. Ее участие ограничивалось самыми низкими уровня творчества, областью создания вульгаризированных произведений искусства»
Жорж Дюби, как указывалось выше, довольно скептически, чтобы не сказать презрительно, отзывается об адептах «народной» культуры, о ностальгии по «народу», в общем, об идеологизированных воззрениях. Но, боюсь, у него самого схема развития искусств оказывается не без идеологии. Есть некая аристократия — аристократия духа, близкая к аристократической власти, — вместе они и творят искусство; есть народ, который, в общем-то, как правило, не творит, но иногда все же влияет на оное искусство — через духовные чаяния чутких интеллектуалов; и есть буржуазия, которая пришла и все опошлила.
Однако не слишком ли автор вступительной статьи размахался кулаками? Не собирается ли он объявить все научное творчество профессора Дюби насквозь идеологичным, его работы по средневековому искусству ненадежными и недостоверными? Нет, ни в коем случае. Ж. Дюби как-то заявил: «То, что я пишу, — это моя история, и я не намерен скрывать субъективности собственных высказываний»[27]. И эта его история оказывается убеждающей (хотя и не всегда убедительной), яркой, сочной, взывающей к размышлению. В том числе и к размышлению о том, что может быть и другая история. И третья. И четвертая. Так сказать, «больше историй, хороших и разных». А в том, что история средневекового искусства, созданная профессором Дюби, хорошая, у меня сомнений нет.
Д. Э. Харитонович
Предисловие
Тринадцать лет назад Альбер Скира обратился ко мне с просьбой написать три книги для серии «Искусство, Идеи. История», - вероятно, лучшего детища его издательского дома. Они задумывались как богато иллюстрированные альбомы, и моя задача, таким образом, облегчалась. Говорить о произведениях искусства сложно и, как правило, бессмысленно - они созданы для того, чтобы их созерцали. Лучших иллюстраций, чем те, что выбраны для альбомов, нельзя было пожелать, и мне оставалось лишь воссоздать культурную атмосферу, которая бы наиболее полно раскрыла их значение. В трех эссе я пытался извлечь из пластов памяти и музейной среды образцы искусства и поместить их в жизненный контекст - не наш, но тех, в чьем сознании родились эти произведения, кто первым восхищался ими. Итак, можно сказать, что в этих книгах речь идет о Средневековье. О необычном Средневековье.
Альбер Скира отобрал для книг, выходивших в его издательстве, самое лучшее - подлинные шедевры. В силу этого особое внимание коллментатор уделил формам искусства, возникшим в непосредственной близости от кормила власти, в узком мире высочайшей культуры. Такой выбор не случаен - ведь до нас дошли именно эти формы. Кроме того, процессом творчества всегда управляют господствующие в обществе силы, и воображение обращается к тому, что было создано для прославления Бога, утверждения могущества князей и развлечения богачей. Путешествуя по Средним векам, мы неизбежно будем двигаться по пути, отмеченному шедеврами, а это не такой уж плохой маршрут. Тем не менее необходимо соблюдать одно условие: не терять из виду все, что окружает эти произведения, равно как и то загадочное, плодотворное разнообразие, венцом которого они были.
Эти великолепные альбомы стали малодоступны, и теперь мне представилась возможность вернуться к их тексту. Я бы даже сказал, к текстам, так как первое издание представляло собой ряд комментариев к иллюстрациям. В новое издание я внес незначительные изменения, желая обновить и наилучшим образом скомпоновать его отдельные части.
Борекей, ноябрь 1975 г.
Монастырь
980-1130
Кругом царило почти полное безлюдье. К западу, северу, востоку тянулись невозделанные земли, болота и петляющие реки, песчаные равнины, перелески, пастбища. Там и тут на месте лесов и бесконечных пустошей виднелись прогалины — пространства, уже отвоеванные у природы, обработанные после пожаров или костров, которые разводили крестьяне, расчищая место под пашню. Деревянный плуг, который волокли тощие быки, робко процарапывал на бедной почве неглубокие борозды. Посреди возделанных земель темнели пятна — поля, стоявшие под паром год, два, три, а то и десять лет, чтобы почва могла отдохнуть и восстановить силы. Попадались лепившиеся друг к другу лачуги из камня, глины, веток, окруженные колючей живой изгородью и кольцом садов. Жилище хозяина, дровяной сарай, амбары, кухни и помещения для рабов были обнесены частоколом. Кое-где встречались и крупные поселения, но они всё еще походили на деревни — это был лишь голый скелет римского города — руины, которые стороной обходил крестьянин с плугом, кое-как восстановленная ограда, превращенные в церкви или крепости каменные строения времен Римской империи. Поблизости — несколько десятков лачуг, где жили виноделы, ткачи, кузнецы, домашние ремесленники, изготавливавшие украшения и оружие для всего поселения и епископа, и, наконец, две-три еврейские семьи, ссужавшие под залог небольшие суммы денег. Дороги, длинные волоки, флотилии лодок на всех водных потоках — такова Западная Европа в 1000 году. По сравнению с Византией и Кордовским халифатом она бедна и провинциальна. Это дикий мир, в котором хорошо известно, что такое голод.
Хотя плотность населения невелика, тем не менее оно слишком многочисленно. Человеку приходилось подчиняться законам непокорной природы, с которой он был вынужден сражаться почти голыми руками. Почва бесплодна от неумелого обращения — бросая зерно в землю, крестьянин в удачный год рассчитывал собрать лишь втрое больше. Хлеба хватало ровно до Пасхи, потом приходилось довольствоваться дикими травами, кореньями, случайной пищей, добытой в лесах и на речных берегах. Живя впроголодь, не покладая рук в летнюю страду, крестьяне с нетерпением ожидали времени жатвы. Погода чаще всего неблагоприятствовала обильности урожая, и запасы хлеба быстро заканчивались. Тогда епископам приходилось отменять запреты, нарушать церковные установления и разрешать есть мясо в Великий пост. Иногда осенние дожди заливали поля и мешали работам, бури и грозы губили посевы, и на смену обычному недоеданию приходил настоящий голод. Хронисты подробно описали все неурожайные годы: «Люди набрасывались друг на друга, многие убивали себе подобных и, словно волки, утоляли голод человеческим мясом».
Можно ли считать преувеличением упоминание о грудах мертвых тел, о толпах евших землю и выкапывавших трупы из могил? Хронисты так детально описывали стихийные бедствия и эпидемии, мало-помалу истреблявшие слабое население, а также другие несчастья, уносившие жизни многих людей, потому что воспринимали все эти события как свидетельства ничтожества человека и могущества Бога. Иметь круглый год вдоволь еды казалось в те времена неслыханной роскошью, доступной немногим аристократам, духовенству и монахам. Остальные были рабами голода и относились к нему как к одному из качеств человеческого естества. Человеку, полагали они, свойственно страдать. Он грешен и потому наг, лишен всего, подвластен смерти, боли и страху. Со времени грехопадения Адама голод крепко держит человека. От него, как и от первородного греха, никто не может избавиться. Мир был полон страха и в первую очередь боялся собственной немощи.
Однако жизнь незаметно менялась и жалкое человечество начало выходить из беспросветной нужды. Одиннадцатый век — это время, когда народы Западной Европы медленно поднимались из пучины варварства. Освобождаясь от власти голода, один за другим они входили в историю и ступали на бесконечный путь развития. Это время пробуждения, младенчества. Действительно, с тех пор и навсегда важнейшим отличием Западной Европы от остального мира стало то, что здесь прекратились набеги захватчиков. В течение многих веков волны переселявшихся народов постоянно обрушивались на Запад, нарушая естественный ход событий, потрясая, уничтожая и сокрушая все вокруг. Завоевания Каролингов ненадолго восстановили подобие мира и порядка в континентальной Европе, но сразу после смерти Карла Великого отовсюду — из Скандинавии, восточных степей, со средиземноморских островов, которые захватили исламские полчища, — хлынули несокрушимые орды переселенцев и обрушились на латинский христианский мир, чтобы предать его разграблению. Первые всходы того, что мы называем романским искусством, появляются именно тогда, когда прекращаются набеги, когда норманны начинают вести оседлую жизнь и постепенно утрачивают завоевательский пыл, когда венгерский король обращается в христианство, когда граф Арльский[28] изгоняет разбойников-сарацин, захвативших альпийские перевалы и обложивших данью аббатство Клюни. После 980 года больше не видно ни разоренных аббатств, ни испуганных монахов, покидающих родные обители, спасая себя и свои святыни. Отныне если за вершинами деревьев виднеется зарево, это уже не отсветы пожара, а костры земледельцев, выжигающих лес на месте будущего поля.
Во тьме X века из обширных монастырских владений распространяется свет начальных знаний о ведении сельского хозяйства. Просвещению ничто не препятствует, и крестьяне мало-помалу получают более совершенные орудия труда, телеги, упряжь, железные плуги, которыми можно переворачивать пласты земли. В деревнях учатся удобрять землю, обрабатывать каменистую почву, которую до той поры приходилось оставлять невозделанной, выкорчевывать лес и расширять площади, занятые постоянно засеваемыми полями, расчищать поляны, вырубать деревья, повышать плодородие почвы, а значит, и урожаи — с каждым годом жнецы связывают все более тяжелые снопы. В исторических документах нет прямых указаний на этот подъем, но косвенные свидетельства позволяют восстановить его ход. Именно этот процесс дал толчок развитию всей культуры XI века. Голод 1033 года, рассказ о котором приведен в «Историях» Рауля Глабера, монаха аббатства Клюни, был одним из последних.
Именно в то время волны недорода утратили былую мощь и стали реже накатываться на Европу. В постепенно обустраивавшихся деревнях появилось больше места для жизни, эпидемии теперь наносили меньше вреда. Среди множества бедствий 1000 года возник юношеский порыв, который в течение трех долгих столетий способствовал подъему Европы. Как пишет в своих хрониках епископ Титмар Мерзебургский, «наступил 1000 год от рождения непорочной Девой Марией Христа Спасителя, и над миром воссияло солнечное утро».
На самом деле рассвет занялся лишь для небольшой горстки людей. Большинство же еще очень долго пребывало во тьме, тревоге и нищете. Свободные или закабаленные пережитками рабства, крестьяне по-прежнему были лишены самого необходимого. Они уже не испытывали такого страшного голода, как прежде, но были всё так же изнурены работой. Даже если за десять или двадцать лет всяческих лишений, откладывая монету за монетой, крестьянину удавалось накопить немного денег и купить клочок земли, он по-прежнему не мог надеяться избавиться от ежедневной каторги и изменить свое социальное положение. В то время всех подавляла власть сеньоров, лежавшая в основе социального устройства. Задача правителей — защищать и эксплуатировать, и общество было организовано в виде здания со множеством этажей, отделенных друг от друга непроницаемыми перегородками; на вершине находилась малочисленная группа самых могущественных людей — несколько семей родственников или приближенных короля, владевших всем: землей (островками обработанных полей и бескрайними пустошами), толпами рабов, правом собирать оброки и подати с земледельцев, бравших в аренду наделы, принадлежавшие сеньору. Кроме того, эти люди обладали правом воевать, властью судить и наказывать, они занимали основные должности как в церковной, так и в светской иерархии. Увешанные драгоценностями, в одеждах из разноцветных тканей, аристократы в сопровождении свиты проносились по дикому краю и завладевали любой ценностью, которую можно было разыскать среди окрестной нищеты. Лишь они пользовались богатствами, которые постепенно накапливались благодаря развитию сельского хозяйства. Только строгой иерархической системой социальных отношений, властью сеньоров и могуществом аристократии можно объяснить тот факт, что удивительно медленное развитие примитивных материальных структур смогло вызвать феномены роста, умножившиеся в последней четверти XI века, а также волны завоеваний, уносившие воинов Запада во все уголки света, способствовать возникновению торговли предметами роскоши и, наконец, дать толчок возрождению высокой культуры.
Если бы непререкаемая власть малочисленной группы аристократии и духовенства не оказывала такого сильного влияния на толпы подчиненных работников, никогда на бескрайних пустошах, в среде грубого, дикого и бедного народа не возникли бы художественные формы, эволюция которых рассмотрена в этой книге.
В произведениях искусства, о которых идет речь, поражает разнообразие, буйство фантазии и вместе с тем глубокое, сущностное единство. В многообразии форм нет ничего удивительного: латинский христианский мир занимал огромное пространство, чтобы проехать его из конца в конец, требовались многие месяцы, так как непокоренная и дикая природа повсюду создавала тысячи препятствий. В ткани народов, покрывавшей этот мир, еще виднелись прорехи и дыры. Каждая провинция, существуя достаточно изолированно, развивалась по-своему. В эпоху переселения народов, в течение веков, когда возникали и рушились империи, в Европе повсюду соседствовали контрастные культурные слои. Некоторые из недавно возникших слоев охватывали несколько областей, смешиваясь и проникая друг в друга на границах. Кроме того, в X веке различные районы Западной Европы не в равной мере подвергались набегам захватчиков. В силу этих причин отдельные регионы в 1000 году существенно отличались друг от друга.
Ярче всего эти различия проявлялись на границах латинского мира. На севере, западе и востоке христианские страны были окружены широкой полосой диких и варварских областей, где до сих пор царило язычество. Еще недавно там происходила скандинавская экспансия — наступление датских и норвежских мореходов, готландских торговцев, способствовавшее возникновению постоянных речных путей сообщения: проникая в устья рек, суда поднимались вверх по течению. Вспышки разбоя по-прежнему довольно часто потрясали эти края, но соперничество племен угасало и уступало место мирной торговле. Из саксонских крепостей Англии, с берегов Эльбы, из лесов Тюрингии и Чехии, из Нижней Австрии шли миссионеры, чтобы сокрушить последних идолов и утвердить власть креста. Многих ждала мученическая смерть, но правители тех областей, где племена начинали оседать на земле и строить поселения и хутора, всё чаще поощряли своих подданных креститься, принимая с Евангелием начатки цивилизации. Еще не сформировавшимся северным окраинам мощно противостояли южные пограничные области — Италия и Иберийский полуостров.
Здесь происходила встреча с исламом и византийским христианством, то есть с гораздо более развитыми культурами. В графство Барселона, в маленькие королевства, теснящиеся на горах Арагона, Наварры, Леона, Галисии, через аванпосты в дельте По, через Феррару, Комаккьо, Венецию и особенно Рим — город встречи эллинизма и латинской культуры, город, обращенный к Константинополю, завидующий ему и ослепленный его блеском, — проникали семена прогресса, идеи, знания, предметы роскоши и удивительная монета золотой чеканки, которой утверждалось материальное превосходство культур, соприкасавшихся на Юге с латинским христианством.
Огромный континентальный организм, собранный под властью Карла Великого, был весьма разнородным. Острейшие противоречия, отражавшиеся в самых заурядных проявлениях повседневной жизни, вызывались все еще ощутимым римским влиянием. Где-то, как в Северной Германии, это влияние полностью отсутствовало. Где-то, как в Баварии или Фландрии, — начисто стерлось нашествием варварских племен. В иных областях, как в Оверни, окрестностях Пуатье или на юге Альп, в тех краях, где города сохранились лучше и в речи слышался латинский акцент, оно, напротив, было живо. Прочие противоречия объяснялись влиянием различных народов, которые в эпоху раннего Средневековья обосновались на Западе. Об этом напоминают названия Ломбардии, Бургундии, Гаскони, Саксонии. Память о древних завоевателях поддерживала в аристократии провинций национальное сознание и ксенофобию, заставлявшую бургундца Рауля Глабера презирать аквитанцев, отряд которых он видел однажды — вызывающе одетые и вызывающе веселые, они везли невесту какому-то северному правителю.
Глядя на эту пеструю карту, прежде всего следует обратить внимание на места пересечения, стыка культур. Это особые области, где происходят столкновения, заимствования, обмен опытом, поэтому их культура особенно богата. Таковы Каталония, Нормандия, область Пуату, Бургундия, Саксония и огромная равнина, простирающаяся от Равенны до Павии.
Еще более удивительно глубокое чувство единства, которое на всех культурных уровнях, и особенно в области художественного творчества, характеризует цивилизацию, охватившую столь обширное, с трудом покоренное пространство. Можно указать несколько причин такого тесного родства — прежде всего это необыкновенная легкость на подъем, свойственная людям той эпохи. Население Запада по большей части сохранило привычки кочевого образа жизни. Особенно много времени в дороге проводили правители. Короли, принцы, сеньоры, епископы и постоянно сопровождавшая их многочисленная свита все время перемещались, потребляя на месте производимые в их владениях продукты, переезжали из одного имения в другое, отправлялись в паломничество к святым местам или начинали военную кампанию. Они всегда были в дороге, всегда в седле и прерывали странствия лишь в дождливое время года. Возможно, самым тяжелым лишением для монахов становилась необходимость затвориться на всю жизнь в монастыре. Многие не выдерживали этого — они тоже хотели путешествовать, менять кров, переезжать из одного аббатства в другое. Непрерывное движение, в котором находилась небольшая группа людей, занимавших особое положение и влиявших на создание произведений искусства, благоприятствовало контактам, встречам.
Нужно добавить, что страна, разделенная на множество частей, не знала настоящих границ. Любой человек за пределами родной деревни, где жили его предки, чувствовал себя чужим, а следовательно, был подозрительным и рисковал всем, что имел с собой. За порогом начиналось приключение, и опасность подстерегала путешественника независимо от того, остановился ли он в двух шагах от дома или отправился в дальние края. Можно ли говорить о границе между латинским христианством и остальным миром? В Испании земли, попавшие в сферу влияния ислама, ничем не были отделены от той части страны, которая подчинялась христианским королям. В зависимости от успеха военных экспедиций размеры этой области значительно менялись: в 996 году Мансур опустошил Сантьяго-де-Компостела, а пятнадцатью годами позже граф Барселонский захватил Кордову[29]. Множество мелких мусульманских правителей были подданными государей Арагона или Кастилии и подписали договоры, которые обеспечивали им защиту и обязывали платить дань. Но и под властью халифов существовали и процветали мощные христианские сообщества, непрерывная цепь которых, протянувшись от Толедо до Карфагена, Александрии, Антиохии и далее по находившимся под арабским влиянием берегам Средиземного моря, соединяла на юге Западную империю с Византией. Не уделив достаточно внимания многочисленным связующим звеньям, невозможно понять, почему коптские[30] мотивы занимают такое важное место в романской иконографии, или объяснить стиль миниатюр «Апокалипсиса из Сен-Севера»[31]. Европа XI века была открыта любым влияниям, готова к взаимодействию с другими культурами, с иной эстетикой.
Среди факторов, обусловивших мощное единство верхних этажей культуры, нужно упомянуть по-прежнему скреплявший их цемент отношений, сложившихся в эпоху Каролингов. В течение нескольких десятилетий почти вся Западная Европа существовала под единой политической властью, находившейся в руках сплоченной группы епископов и судей — выходцев из одной семьи, получивших одно воспитание при королевском дворе, регулярно собиравшихся вокруг своего суверена, общего хозяина. Все они были связаны между собой узами родства, общими воспоминаниями и общим делом. Невзирая на расстояния и природные препятствия, аристократия XI века была объединена общими для всех ритуалами, верой, языком, культурным наследием, памятью о Карле Великом — иными словами, престижем Рима и обаянием империи.
Глубокое сходство и тесная связь между различными художественными произведениями возникли благодаря тому, что искусство оставалось верно своему предназначению. В ту эпоху все, что мы называем искусством, или, по крайней мере, то, что от него осталось спустя тысячу лет, самая его прочная, наименее подверженная разрушению часть, не имело иной цели, как положить к стопам Бога богатства видимого мира, дать человеку возможность умерить гнев Всемогущего этими дарами и снискать Его милость. Все великое искусство было жертвой, приношением. В нем больше магии, чем эстетики. Это приводит к пониманию более глубоких характеристик творческого акта на Западе в период между 980 и 1130 годами. Все эти сто пятьдесят лет порыв жизненной энергии увлекал латинское христианство по пути прогресса и давал возможность создавать более утонченные произведения: границы творчества раздвинулись. Тем не менее прогресс зашел еще не так далеко, чтобы разрушить стереотипы мышления и примитивное отношение к жизни. Христиане XI века испытывали гнет непостижимого, чувствовали себя подавленными неведомым миром, который нельзя увидеть воочию, но чье могущество великолепно и волнует воображение. Мысль тех, кто находился на высших ступенях культуры, обращалась к иррациональному. Она была подчинена вымыслу. Вот почему в тот момент истории, в краткий период, когда человек, не избавившись еще от своих страхов, уже располагал средствами для создания весьма эффективного оружия, родилось величайшее и, быть может, единственное религиозное искусство Европы.
Поскольку искусство выполняло функции жертвоприношения, оно целиком зависело от тех, кто в соответствии с занимаемым в социальной иерархии местом должен общаться с силами, управлявшими жизнью и смертью. По традиции, сложившейся в незапамятные времена, эта власть принадлежала королям. Однако Европа в то время становилась феодальной, могущество монархов начинало дробиться и распыляться. В новом мире управление художественным творчеством постепенно ускользало из рук правителей. Оно перешло к монахам, так как процессы, происходившие в культуре, именно их сделали главными посредниками между человеком и областью священного. В результате этого перехода появились многие черты, присущие западному искусству того времени.
1 Имперское искусство
«Лишь один царствует в Царствии Небесном — Тот, кто мечет молнии. Справедливо, чтобы в подражание Ему лишь один царствовал на земле...»[32] В XI веке человеческое общество осознавало себя как образ, отражение Града Божьего, то есть ощущало себя царством, монархией. Феодальная Европа действительно не могла обойтись без монарха. Когда орды крестоносцев, бывших примером крайней непокорности, основали в Святой земле государство, оно стихийно сформировалось как королевство. Фигура короля как образец земного совершенства венчает все теории, которые в ту эпоху описывали устройство видимого мира. Король Артур, Карл Великий, Александр Македонский, Давид, да и все герои рыцарской культуры были королями или царями; в то время каждый, будь то священник, воин или даже крестьянин, стремился походить на монарха. Долговечность мифа о короле — одна из основных характеристик средневековой цивилизации. Рождение произведений искусства — главных, самых выдающихся произведений, впоследствии ставших образцами, — особенно тесно зависело от института королевской власти, от его функций, внутренних возможностей. Тот, кто хочет проследить связь между социальными структурами и художественным творчеством, должен внимательно проанализировать, на чем основывалась и как реализовывалась в ту эпоху монархическая мощь.
Истоки королевской власти лежат в германском прошлом. Она стала наследием народов, которые Римская империя, не посягая на власть их правителей, волей-неволей приняла в свой состав. Главной задачей этих правителей было ведение войны. Они стояли во главе вооруженных подданных и руководили наступлением. Каждую весну молодые воины собирались под их начало, чтобы отправиться в поход. На протяжении всего Средневековья обнаженный меч символизировал королевскую власть. Короли варваров обладали еще одной служившей общему благу удивительной привилегией — магической способностью посредничать между народом и богами. От их заступничества зависело счастье всех подданных. Эту власть короли наследовали от самого божества, чья кровь текла в их венах. Так, «в обычае у франков всегда было по смерти короля выбирать другого, из королевского рода». В качестве посредников между богами и смертными короли были главными действующими лицами при совершении религиозных обрядов, от их имени приносились самые щедрые жертвы.
В истории эстетической миссии королевской власти в Западной Европе решительный поворот произошел в середине VIII века. С этих пор государь франков, самый могущественный из владык Западной Европы, тот, кому подчинялся весь христианский латинский мир, стал короноваться вслед за мелкими правителями Северной Испании. Это означало, что он не был больше обязан своей властью мифическому родству с божествами языческого пантеона. Он получал ее во время коронации непосредственно от Бога, о котором говорится в Библии. Священнослужители окропляли короля елеем, который, умащая его тело, наделял государя божественной силой и сверхъестественными способностями. Эта церемония позволяла осуществлять смену династий. Кроме того, она вводила монарха в лоно Церкви, где он занимал место рядом с епископами, которые также проходили обряд посвящения в сан. Rex et sacerdos[33] получал кольцо и скипетр, знаки пастырского служения. В хвалебных песнопениях, звучавших во время коронационных торжеств, Церковь отводила ему место в небесной иерархии. Она уточняла его задачу, которая отныне не ограничивалась битвой со злом, но заключалась также в установлении мира и справедливости. И наконец, поскольку художественные традиции, унаследованные через произведения, составлявшие славу римского искусства, в VIII веке на Западе сохранились только в лоне Церкви, поскольку любой опыт строительства здания или украшения отдельных предметов, имевший ранее целью возвеличивание могущества городов, отныне славил Бога, поскольку великое искусство стало всецело литургическим — в силу всех этих причин король, которого христианизация его магической власти поместила в центре церковного церемониала, стоял теперь и у истока величайших художественных начинаний. Коронация превратила искусство в дело, касающееся прежде всего, и исключительно, самого короля.
Художественные формы, возникавшие по инициативе монарха, приобрели особую определенность, когда после реставрации империи в 800 году в Западной Европе расширились пределы королевской власти. Очередным божественным установлением стала власть императора, которая заняла еще более высокое место в иерархии власти — между земными правителями и небесными владыками. Папа Римский преклонил колени перед Карлом Великим. На могиле святого Петра он приветствовал его как Августа. Император Запада, словно новый Константин или Давид, отныне один должен был вести к спасению весь латинский христианский мир. Новые императоры в большей степени, чем склонявшиеся перед ними короли, должны были держаться как герои воинства Божия. Они чувствовали себя наследниками Цезаря. В жестах обряда посвящения, в действиях, вызывавших к жизни произведения искусства, они следовали примеру своих предшественников, некогда щедро украшавших этичные города. Они желали, чтобы предметы, которые по их повелению подносились Господу, несли на себе отпечаток некой эстетики, эстетики Империи, иными словами, Рима. Художники, подчинявшиеся их требованиям, а также выполнявшие пожелания других правителей Запада, в поисках вдохновения всё решительнее обращались к произведениям античности. Возрождение империи объясняет сходство европейского искусства 1000 года с классическим искусством Рима.
Два века спустя после коронации императора Карла Великого художественное творчество в значительной мере продолжало зависеть от соединения всех земных полномочий в личности правителя, которого почитали как помазанника Божия — природа его власти считалась сверхъестественной, и, как пелось в laudes regiae[34], его царство воплощало, во-первых, примирение двух миров, видимого и невидимого, а во-вторых — космическую гармонию неба и земли. В Европе медленно развивался феодализм, но в 1000 году именно на императора и королей, стоявших во главе народа, — тех, кто свидетельствовал перед Богом о почитании, которое оказывал Ему весь народ, и кто распределял милости неба, — возлагались труды по украшению главных даров, каковыми были церкви, а также алтари, раки с мощами святых и украшенные миниатюрами книги, заключавшие в себе Слово Божие. Эта миссия представлялась народу самой важной среди королевских функций. В Европе достоинство королевского сана определялось милостью, щедростью, величием властителя. Государь был тем, кто дает нечто Богу и людям, из его открытых ладоней должны были сыпаться великолепные произведения искусства. Дарящий становился выше того, кто принимал дар, первый подчинял себе второго. Следовательно, монарх царствовал даруя — дарами завоевывал для своего народа благосклонность сверхъестественных сил, дарами получал любовь подданных. Короли при встрече старались подарками доказать друг другу свое превосходство. Вот почему лучшие художники XI века собирались вокруг правителей, пока те сохраняли свое могущество. Искусство того времени было по своей сути придворным, оно было священным. Художественные мастерские переходили под покровительство королевских дворов. Расцвет различных династий с необыкновенной точностью отразился в географии искусства XI века.
В 1000 году самые активные творческие очаги на Западе, как и в Византии и в странах ислама, группируются вокруг единственного пастыря верующих — императора. Империя остается мифом, где римское христианство, переживавшее раздробленность в период феодализма, вновь обретает единство земель, о котором мечтает, веря, что оно соответствует Божию плану устройства мира. Христианство упорно держалось этой идеи, чувствуя, что имперской властью собрано в единое братство, дружно шествующее за Христом к идеалам Небесного Града. Этот символ тесно связан с эсхатологическим ожиданием, которым проникнута вся христианская мысль: конец света и «конец Римской империи и христиан» наступят одновременно, когда император — последний монарх мира сего — взойдет на Голгофу, чтобы принести в дар Господу знаки своей власти, открывая таким образом царство Антихриста[35]. Что такое imperium?[36] Три понятия соединены в этом слове. Его суть в богоизбранности — Всемогущий выбирает правителя, дарует ему победу и одновременно свою милость, наделяет магическими свойствами — felicitas[37], Konigsheil[38], возвышающими его над другими правителями как пастыря единственного богоизбранного народа. Этим объясняется тот факт, что в Саксонии в X веке снова набрала силу императорская власть, которую стремительный упадок потомков Карла Великого лишил стержня, свел на уровень теории, идеи. Эта идея оставалась более четкой в Германии, стране, которую Каролинги создали собственными руками, которую они целиком цивилизовали. Из всех немецких провинций Саксония была самой дикой, но молодое христианство оказалось здесь достаточно сильным. Грабители, разбойничавшие в Европе, обходили Саксонию стороной — она была слишком бедна, а ее население умело хорошо защищаться. Казалось, сам Господь благословил это убежище, куда стекались спасавшиеся бегством монахи, приносившие с собой святыни и знания. Саксонские князья построили у подножия Гарца мощные крепости. Им удалось победить в открытом бою венгерские орды, истинный «бич Божий». В том же сражении воины Генриха I и его сына Оттона провозгласили их императорами.
Но вскоре они ощутили себя наследниками Карла Великого. Память о победах Каролингов, аура, окружавшая Ахен, стали вторым основанием имперской идеи и вскоре способствовали возникновению третьего — на Западе получила новую жизнь imperium romanorum[39]. Имперский миф был неразрывно связан с Римом. Почитаемый как спаситель христианства, король Германии Отгон I чувствовал, что должен защитить, очистить Римскую Церковь. Он отправился в Город[40] — только там, на могиле святого Петра, из рук Папы можно было получить императорский сан.
Воскрешенная, германизированная империя была римской в значительно большей степени, чем империя Каролингов. В 998 году Отгон III, внук Оттона I, решил перенести свою резиденцию на Авентин, и хотя печать, которой он скреплял свои приказы, еще носила изображение Карла Великого, на другой стороне ее был изображен Город, Roma Aurea[41]. Даже если император всходил на престол собственной волей, в длинном списке своих титулов он в первую очередь провозглашал себя «римским». Renovatio imperii romani:[42] «Мы провозгласили Рим столицей мира». Возрождаясь, империя утверждала свой всемирный характер, и ее государи гораздо более осознанно, чем их каролингские предшественники, объявляли себя владыками мира. Они больше не видели в Византии соперницу. Их супруги и матери были греческими царевнами. Сами они жили, восхищаясь Константинополем 1000 года, который в то время переживал полный расцвет. Они стали руководствоваться пришедшей оттуда идеей, что басилевс становится таковым благодаря собственным заслугам, и позаимствовали у него эмблемы власти: золотую мантию и державу — шар в правой руке, знак господства над всем миром. На высочайших церемониях император Генрих II, завернувшись в мантию, вышитую в Италии около 1020 года и ныне хранящуюся в Бамберге, представал облаченным в созвездия и знаки Зодиака, словно в небесную твердь. Что касается хранящейся в Венской сокровищнице короны, которая, возможно, принадлежала Отгону I, восемь ее граней, подобно восьми стенам палатинских часовен, символизировали вечность. Они напоминали о Небесном Иерусалиме, царстве совершенства, которое откроется в день Страшного суда. Не есть ли царство Цезаря прообраз Царства Христа, который придет в конце времен, чтобы править во славе? «Слуга святого Петра», император-апостол трудится ради озарения всего мира светом Евангелия и, оказывая покровительство миссионерам, умножает число последователей Христа. На процессиях перед ним несут святое копье, заключающее в себе гвоздь Креста Господня. Император увлекает богоизбранный народ к окончательной победе добра над злом, воскресения над смертью. Императоры династии Оттонов стремились к безграничной власти, подобной власти Бога, и, заказывая придворным художникам литургические книги, желали видеть на иллюстрациях большие фигуры склоняющихся женщин — народы Западной Европы, собранные в покорную свиту у подножия их трона. Один исключительно имперский знак соединяет в себе все другие, символизируя победу, в нем император идентифицирует себя с Христом Спасителем. Это крест, все кресты, которые императоры XI века заказывали придворным ювелирам и жертвовали храмам в своих владениях как знак несокрушимой власти. На странице Евангелиария[43], украшенного в Регенсбурге между 1002 и 1014 годами, художник изобразил императора того времени. Он поместил его в центре крестообразной композиции, то есть на пересечении путей мироздания. Ангелы сходят к императору с небес, чтобы даровать ему эмблемы власти. Святые Ульрих и Эммерам поддерживают его руки, подобно тому, как Аарон и Ор поддерживали руки Моисея во время битвы с амаликитянами[44]. Сам Христос, восседающий во славе апокалиптических видений, возлагает венец на его главу.
В действительности императору не удавалось удержаться в Риме — закон там диктовали большие семьи местной аристократии, царившие среди античных руин. Бесспорно, император был королем Италии, а вскоре стал королем Бургундии и Прованса, но фактически он царствовал только над германцами и Лотарингией — родиной Карла Великого. В 1000 году Оттон III отправился в Ахен.
Так как он не знал, где именно покоятся останки императора Карла, то, наугад указав место, велел тайно взломать плиты церковного пола и затем рыть до тех пор, пока в самом деле не была найдена царская гробница. Тогда император взял золотой крест, висевший на шее покойного, а также некоторые предметы его одежды, которые еще не подверглись тлению. Затем всё с большим почтением водворили на место.
Другая хроника добавляет: останки первого реформатора Западной империи были подняты на поверхность и выставлены для народного поклонения как мощи святых, а после того как их перенесли обратно в крипту[45], «начали происходить знамения и удивительные чудеса». Восстановленная несовершенная императорская власть пыталась привиться к стволу династии Каролингов, окруженному легендами и чудесами. Империя стремилась быть римской, всемирной. В действительности она все больше становилась германской. Итак, благодаря этому свойству новой империи в XI веке самые живые ростки художественного творчества появились в Саксонии, в долине реки Маас и на берегах Боденского озера. Германские княжества стали землей обетованной франкских традиций монархического искусства, архитектуры, живописных и пластических форм, где обильные плоды приносило наследие мастерских 800 года, оживленное, однако, византийским примером и возвращением к римским истокам. Но поскольку реальная власть императора распространялась лишь на несколько провинций, поскольку он не был единственным правителем, имперское искусство не концентрировалось более вокруг одного очага, как это было в эпоху Каролингов. Вдали от центра империи оно служило славе и других монархий.
Империя не отменила института королевской власти, существовавшего до ее возникновения и столь же священного. Короли также отождествляли себя с Христом. Как епископы, пастыри народа и преемники апостолов, они избирались по знаку свыше, приветствуемые в соборе толпой духовенства и воинов.
В тот же день и в той же церкви вновь избранный епископ Мюнстерский был рукоположен теми же прелатами, которые помазали короля на царство, с тем чтобы присутствие на этом торжестве короля и верховного священнослужителя было расценено как счастливое предзнаменование, ибо одна и та же церковь в один день видела помазание двух лиц, которые, согласно установлениям Ветхого и Нового Заветов, одни лишь могут принимать таинство миропомазания и именуются, как тот, так и другой, помазанник Божий.
Король, правитель военного времени, теряет всю власть, как только возраст или увечье не позволят ему подняться в седло, но до самой смерти остается служителем невидимого мира. Хельгальд из Сен-Бенуа-сюр-Луар, составивший около 1040 года житие французского короля Роберта II Благочестивого, говорит о нем как о монахе, чьим делом было молиться за свой народ: «Он так любил Священное Писание, что не мог провести ни дня без чтения псалмов и громко обращался к Богу с молитвами святого Давида». Обет, произносимый в день коронации, обязывал короля противостоять царству тьмы, защищая в первую очередь духовенство и бедняков. Когда у ног правителя садились придворные, он уподоблялся Иисусу, которого в то время чаще всего представляли как увенчанного короной Судию. Король подобно Иисусу имел таинственную власть над пороками мира. «Властью Божией, — говорит Хельгальд, — этот совершенный муж получил такую силу исцелять больных, что, если касался рукой тела недужных и благочестиво совершал крестное знамение над местом, причинявшим страдание, боль тут же оставляла несчастных». Когда германский король Генрих IV, который, однако, был отлучен от Церкви, проезжал через Тоскану, крестьяне бросались навстречу, чтобы коснуться его одежды, веря, что это принесет хороший урожай. Итак, «король отстоит от мирян, ибо, приняв помазание святым елеем, он входит в лоно Церкви» и предстоит перед Богом как первосвященник. Его роль в художественном творчестве ничем не отличается от роли императора.
Некоторые западные короли, в первую очередь тех областей, которые никогда не подчинялись Карлу Великому, оспаривали у римских и германских правителей императорский титул. Английские короли называли себя «августейшими императорами всего Альбиона». На рубеже XI века Кнуд добился владычества над всем побережьем Северного моря: «Покорив пять королевств — Данию, Англию, Британию, Шотландию и Норвегию, он стал императором». Коронованные правители Леона, покровители Сантьяго-де-Компостела, одержав множество побед над ослабевшими кордовскими государями, также заговорили о своем императорстве, которое должно было помочь им подчинить остальных иберийских правителей. Наконец, на территории, некогда принадлежавшей каролингской империи, правил один король, которого биографы всегда облекали императорским достоинством. Они считали императором франков, imperator francorum, не германского государя, а короля Франции — правителя западной части франкского государства, Francie. В 1000 году все видели во французском короле соперника тевтонского императора. Епископы напоминали ему, что «самой империи пришлось покориться его предшественникам». Король Германии действительно относился к французскому владыке как к равному: когда в 1023 году император Генрих II и король Франции Роберт встретились на границе своих государств, чтобы обсудить «положение империи», они приветствовали друг друга как братья. Большинство здравомыслящих людей отмечали, что Запад в то время разделился на два огромных царства, одно из которых принадлежало цезарю, а в другом правил истинный потомок Хлодвига, коронованный в Реймсе около крестильной купели, где некогда был скреплен союз Бога и франкского народа. «Мы видим, что большая часть Римской империи разрушена, но пока существуют короли франков, призванные ее поддерживать, ее величие не исчезнет полностью, так как будет опираться на них». Действительно, не к выгоде ли франков совершился переход imperium и разве не Иль-де-Франс составлял основу Франкии? Капетинг 1000 года, подобно Карлу Великому, царствовал в окружении епископов и графов. Он умножал богатства церквей своими дарами, приказывал украшать драгоценностями и миниатюрами священные книги во французских аббатствах Сен-Жермен-де-Пре и Сен-Дени, находившихся под его покровительством. Он чувствовал себя наследником Империи, и художники, работавшие по его заказу, так же как и немецкие мастера, вдохновлялись имперскими произведениями IX века.
Итак, в 1000 году в Западной Европе необходимость оберегать мир и вершить правосудие, ходатайствовать за свой народ перед Богом и связанная с этим обязанность поддерживать очаги культуры перестали быть прерогативой одного лица. Вскоре это послужило причиной возникновения двух Европ. Южная Европа была Европой без короля, ибо власть французского короля не простиралась на область, расположенную по другую сторону Луары вплоть до самой Каталонии. В Лионе и Провансе даже император пользовался лишь видимостью власти, и во всей Италии его могущество было скорее мифическим. В южных провинциях искусство развивалось свободно, не чувствуя давления монарха. Область, подчиненная королевской власти, располагалась на севере, за исключением нескольких горных обителей в окрестностях Леона и Хаки, вокруг которых укреплялась власть христианских правителей Испании. В приграничных областях королевской Европы, на бескрайних скандинавских пустошах, на островках земли, окруженных болотами, где в то время рядом с королевскими дворцами возводились первые соборы Польши, Чехии и Моравии, захваченные в плен художники, выполнявшие заказы вождей племен, едва знакомых с именем Христа, продолжали пользоваться античным художественным языком. Но и здесь, по мере того как распространялось христианство, престиж королевской власти, освященной Церковью, заставлял художников в поисках вдохновения обращаться к каролингской эстетике. Эта эстетика была полностью принята в Винчестере в окружении англосаксонских правителей, в среде духовенства и монахов, черпавших знания в библиотеках Лана, Сен-Рикье, Корби. Благодаря этому величие Капетингов еще ярче засияло на территории старого франкского государства, между Реймсом, Орлеаном и Шартром. Однако те формы королевского искусства, которые наиболее точно отражали дух античности, расцвели прежде всего в Германии. Они привились в лесах Саксонии, но крепче всего укоренились в окрестностях Ахена, Льежа, на берегах Рейна — в землях, видевших могущество Каролингов. Волей Генриха Π Бамберг во Франконии на некоторое время превратился в центр этого возрождения. Эти формы распространялись по имперским монастырям и епископствам, во множестве возникшим в германских землях, и отголоски их, случалось, достигали Рима, занесенные туда тевтонским императором во время его путешествий.
Таковы были очаги культуры, расцветшие под сенью королевских тронов. К северу от Тура, Безансона и альпийских перевалов продолжали жить обращенные на службу Богу традиции императоров-меценатов и последние искры классического искусства.
Человек XI века представлял себе короля в образе всадника с мечом, дарующего своему народу мир и правосудие. Кроме того, он видел в нем мудреца и не сомневался в том, что король грамотен. С тех пор как на Западе монархию стали воспринимать как renovatio, возрождение императорской власти, правители больше не могли оставаться необразованными, как их предки-варвары. Короли должны были соответствовать воскрешенному римскому образу идеального государя — хорошего правителя, источника знаний и кладезя мудрости. «Он хранит во дворце множество книг, и если военные заботы оставляют ему свободное время, он посвящает его чтению, проводя долгие ночи в размышлениях над прочитанным, пока сон не одолеет его». Лиможский хронист начала XI века приписывает этот необыкновенный распорядок дня герцогу Аквитанскому, желая доказать его равенство королям. Эйнхард, биограф Карла Великого, сообщает, что император посвящал свой досуг изучению грамоты. Для своих придворных король Альфред приказал перевести с латыни на англосаксонский язык труды из монастырских библиотек. Отгон III, император 1000 года, присутствовавший на диспутах ученых, спорил с самым известным из них — Гербертом.
Тем не менее именно коронация по-настоящему связала достоинство королевского сана и письменную культуру. Государь вошел в лоно Церкви. Христианские священнослужители должны были непременно пользоваться книгами, так как Слово Божие было запечатлено в текстах. Следовательно, было важно, чтобы коронованный правитель был грамотным и чтобы его наследник получил такое же образование, как епископ. Гуго Капет, не будучи еще королем, но надеясь стать им, отдал старшего сына Роберта в ученики к вышеупомянутому Герберту, лучшему учителю того времени, «с тем чтобы тот передал ему достаточно знаний о свободных искусствах и совершенствовал во всех святых добродетелях, дабы сделать его угодным Господу». Кроме того, государь нес ответственность за спасение своего народа и должен был следить за тем, чтобы церковный организм, частью которого он стал, был качественным, иными словами, образованным. Итак, в обществе, где культура аристократии была исключительно военной и полностью чуждой образованию, государь должен был поддерживать институты, дававшие необходимое образование священнослужителям. Если вплоть до наших дней французские дети представляют Карла Великого покровителем школ, укоряющим нерадивых и отеческим жестом кладущим руку на голову лучших учеников, то происходит это потому, что он, стремясь как можно лучше выполнять обязательства, налагаемые королевским саном, приказал организовать школу при каждом епископстве и аббатстве. Все правители 1000 года последовали его примеру. Они стремились к тому, чтобы во всех монастырях и кафедральных соборах было достаточно книг и учителей, и хотели создать при своих дворцах лучшие центры образования. Не все сыновья аристократов, молодость которых проходила при дворе, хотели служить государю на поле битвы — некоторые из них намеревались занять высокие посты в церковной иерархии. При дворе они должны были найти необходимую интеллектуальную пищу для ума. Власть, дарованная Богом государю, ставила эту задачу на первое место. Итак, в XI веке королевская власть была тесно связана с образованием. Однако культура, которую распространяли королевские школы, не была ни современной, ни национальной. Это происходило потому, что монарх считал себя наследником цезарей, и особенно потому, что Бог в Писании, переведенном святым Иеронимом, изъяснялся языком Августа. Культурная традиция передавала наследие, которое почтительные поколения ревностно пронесли сквозь тьму и смуты раннего Средневековья, наследие золотого века империи латинян. Эта культура была классической, переживавшей воспоминания о Риме.
Кто же мог воспользоваться плодами просвещения? В каждом поколении — несколько сотен человек, может быть, несколько тысяч. А к высшей ступени знаний получали доступ не более нескольких десятков привилегированных лиц, рассеянных по всей Европе, разделенных огромными расстояниями, но тем не менее знакомых друг с другом, обменивавшихся письмами и рукописями. Школой были они сами и несколько книг, переписанных ими от руки или полученных от друзей. Вокруг них собиралась публика разного возраста, люди, проделавшие долгий путь, преодолевшие множество препятствий, чтобы провести некоторое время рядом с учителем и послушать чтение. Все принадлежали к Церкви. Все учились, чтобы лучше служить Господу и понимать Его Слово. Отныне для всех них, даже в Италии и Испании, родным стал язык, сильно отличавшийся от языка Библии и литургии. Образование строилось на изучении латинских слов, их смысла и связей, иными словами, на лексике и грамматике. Из семи путей познания, основываясь на которых педагоги поздней античности разработали этапы школьного обучения, из семи «свободных искусств» учителя XI века развивали в полном смысле этого слова только первое, самое простое — введение в изучение языка Вульгаты[46]. Ученики, как писал в 1000 году святой Аббон Флерийский, должны прежде всего уметь ориентироваться в глубоком, бурном и коварном океане грамматики Присциана. Затем, чтобы помочь ученикам проникнуть в значение библейских книг Бытия и Пророков, им будут читать вслух и преподавать образцы красноречия: Вергилия, Стация, Ювенала, Горация, Лукиана, Теренция, авторов, которые были язычниками, но писали безупречным языком, что и спасло их произведения от уничтожения, которого не избежала остальная римская культура. Уцелели лишь обрывки этих текстов. Они имели ценность для преподавания, поэтому была предпринята попытка собрать их воедино. В их поисках перерывали менее деградировавшие книгохранилища — итальянские библиотеки. Тексты переписывали в скрипториях, существовавших тогда при каждой школе. Молодые священники и монахи копировали целые главы. Слова запечатлевались в их памяти, и до самой смерти обрывки классической поэзии слетали с их губ вперемешку со строчками псалмов. Благодаря такому принципу обучения самые высокие иерархи Церкви стали гуманистами и переняли ту же модель преподавания. Немецкая аббатиса Хросвита решила адаптировать Теренция, чтобы монахиням не приходилось сталкиваться со слишком вольными текстами. Отгон III, которому от рождения был уготован трон, получил церковное образование. Он посылал переписчиков в Реймс и аббатство Боббио с приказом привезти оттуда труды Цезаря, Светония, Цицерона, Тита Ливия, повествования о днях имперской и республиканской славы Великого города, владыкой которого он считал самого себя, и размышлял в Павии над «Утешением философией» Боэция — все это он делал потому, что был государем. Методы церковного преподавания, явный поворот школьной культуры к латинской литературе укрепили связи между институтом монархии и возрожденными формами римской античности. Благодаря влиянию школы искусство, зависевшее в то время от короля, решительно обратилось к классицизму.
Античная традиция передавалась прежде всего через книжное искусство. Книга была предметом, необходимым во время литургии, а также инструментом для получения знаний. Книгой пользовались при богослужении, и поэтому её следовало украшать так же, как алтарь, священные сосуды или стены храма. В этом предмете искусства теснее, чем где бы то ни было, устанавливалась связь между письменностью и культурой изображения. В XI веке множество иллюстрированных Сакраментариев, Аекционариев[47] и Библий времен Людовика Благочестивого или Карла Лысого были основой любой монастырской или епископской библиотеки и вызывали восхищение качеством исполнения. При этом большинство украшавших их миниатюр восходило к раннехристианским художественным образцам. Пластическая мощь фигур евангелистов, стилизованные изображения строений, которыми они были окружены, орнаменты, обрамлявшие тексты канонов и календари, декор инициалов отвечали урокам гуманизма, содержавшимся в произведениях латинских поэтов и историков, которые несли послание Рима эпохи Августа, воскрешали, как и труды грамматиков, чистую, целостную, свободную от искажений латинскую культуру. Миниатюры каролингских книг внушали такое же почтение, как имена их античных авторов. Художники копировали их так же, как переписчики — произведения Вергилия, Светония или Теренция. Мастера в Рейхенау или Эхтернахе, по заказу императора покрывавшие миниатюрами страницы Евангелиариев и выполнявшие в Сен-Дени заказы французских королей, подражали иллюстраторам IX века, желая, чтобы украшение книги соответствовало королевскому величию. Безусловно, они что-то добавляли от себя, и фигуры, выходившие из-под их кисти, незаметно отступали от каролингских образцов. Изображения на золотом фоне, символизировавшем вечность, о которой напоминало богослужение, были тесно связаны с позднеимперской эстетикой. Связанные с конкретным образом, с видимым миром, абсолютно предметные, они определяли в пространстве человеческую фигуру, практически не искажая ее пропорций.
Еще более смелым было возрождение скульптуры. Каролингские мастера не могли открыто обращаться к образцам римской пластики. В IX веке язычество еще не было побеждено. Не существовала ли опасность разбудить дремлющих идолов, выставляя на всеобщее обозрение фигуры Христа и особенно святых? Скульптурные изображения из слоновой кости или драгоценных металлов не переступали порога алтарей. Приближаться к ним могли лишь посвященные, служители церкви, совершавшие богослужение, высокообразованные люди, те, чья вера была крепка. В 1000 году все изменилось. Школа рассеивала заблуждения. Она присваивала сокровища языческого мира и посвящала их Богу. В областях, подчинявшихся королевской власти, уже давно были повержены деревянные языческие идолы, которым поклонялись полудикие племена. Крест восторжествовал, и главы Церкви стали меньше опасаться древних божеств. Они наконец решились установить у дверей храмов скульптурные изображения, самими своими внушительными размерами утверждавшие величие христианства.
Это начинание, безусловно, пришло из Саксонии, центра имперского возрождения. Бернвард, епископ Хильдесхеймский, был образованным человеком. Император поручил ему воспитание своего сына. Биографы Бернварда сообщают, что он был также архитектором, миниатюристом и ювелиром. В те времена такая разносторонность не была удивительной. В 1015 году епископ приказал отлить для своего храма двустворчатые врата, состоявшие из множества деталей. Он следовал примеру Карла Великого и высших иерархов каролингской Церкви. Однако до сих пор на бронзовых вратах никогда не было изображений. Врата же хильдесхеймской церкви были сплошь ими покрыты. Шестнадцать сцен, симметрично расположенных на двух створках, объясняли простому народу мистическую связь, существующую между небом и землей. Слева персонажи Ветхого Завета сверху вниз вели мир от сотворения к убийству Авеля — они символизировали падение. Справа евангельские персонажи, восходя от Благовещения к Воскресению Христа, символизировали искупление, увлекавшее спасенное человечество к вечной славе. Этот культурный памятник на самых отдаленных границах империи возрождал традиции больших пластических форм. Его воспроизводили по всей Рейнской области, вплоть до берегов Мааса. Так было проложено начало пути, который от рельефов золотого базельского алтаря привел к истинно классическим формам крестильной купели, созданной в Льеже между 1107 и 1118 годами литейщиком Ренье де Юи. Быть может, именно это возрождение послужило толчком к созданию большой клюнийской скульптуры. Безусловно, оно подготовило возвращение к монументальной пластике, центрами которой в XII веке стали сначала аббатство Сен-Дени, а затем Шартр.
Что, если не любовь к прекрасным латинским стихам и почтение, которое эта любовь пробуждала к античности, привело епископа Бернварда к созданию копии колонны Траяна? Главы школ, находившихся под покровительством государей, стремились спасти не только древние тексты, но и все, что сохранилось от Рима. Его памятники лежали в руинах, но камеи, изделия из слоновой кости, обломки статуй тщательно собирали и хранили. Клюнийский аббат Гуго получил однажды поэму, воспевавшую находку в Мо римского бюста. Причина того, что в придворной эстетике так сильно проявилась тяга к античности, заключалась в том, что королевские художественные мастерские всегда возникали вокруг коллекций античных предметов искусства — вблизи древних сокровищ.
Король был щедр. Он не скупясь одаривал богатыми тканями и предметами роскоши храмы, находившиеся под его покровительством. Кроме того, он сам должен был показываться народу в полном великолепии — правитель был олицетворением Бога на земле. Важно, чтобы золото и драгоценные камни окружали короля славой и являли взглядам подданных сияние чудесной силы, которая исходит от него. В предметах роскоши заключалась сила государя. Они — символ его могущества, они ослепляют его противников. Демонстрация богатства, которым владыка может одаривать друзей, поддерживает любовь подданных. Не может быть короля без сокровищ: как только их блеск начинает меркнуть, могущество правителя приходит в упадок. Королевские сокровищницы собирали долгие годы и передавали по наследству; каждое поколение вносило свой вклад. Многие прекрасные произведения переходили от отца к сыну на протяжении царствования целой династии. Некоторые драгоценности были привезены с Востока как дар какого-нибудь монарха. Почти на всех сокровищах остался отпечаток Рима — Древнего Рима, чьи богатства разграбили короли варваров, чтобы приумножить великолепие собственного двора, или нового, помолодевшего — Византии, где в то время возродились античные традиции. Эти собрания драгоценностей не лежали мертвым грузом — было бы ошибкой воспринимать их как некие музеи. Они служили делу. В культуре, где обряды и церемонии играли такую важную роль, где все выражалось через ритуалы и символы и где, следовательно, украшения и декор имели большое значение, каждая вещь находила определенное применение. Кроме того, к старым сокровищам все время прибавлялись новые — государи постоянно обменивались дарами. Одна из главных задач мастеров, которых государь держал при своем дворе, заключалась в том, чтобы следить за состоянием королевской сокровищницы, переделывать древние предметы, чтобы их можно было использовать в богослужении или повседневной жизни, — камеи украшали переплеты Евангелий, старинный кубок превращался в потир. Художники также изменяли облик новых приобретений, дабы они не слишком выделялись на фоне остальных сокровищ. В этом нагромождении драгоценностей преобладали предметы, созданные в классическую эпоху, и естественно, что придворные художники, заботясь о соблюдении гармонии и относясь с почтением к эстетической традиции, сохранявшейся преимущественно в королевских дворцах, при обновлении и переделывании предметов, хранившихся в сокровищницах, стремились подняться до уровня античных мастеров, усвоив их стилистические принципы.
Наконец, в королевской Европе церковная архитектура — искусство больших форм — так же, как ювелирное искусство, и в силу тех же причин заняла свое место в имперской культуре. Церкви напоминали скорее дворцы. Бог прежде всего являлся людям как Владыка мира, увенчанный короной и восседающий на троне, чтобы судить живых и мертвых. Каждый храм находился под высочайшим покровительством королей, наместников Бога на земле, которые щедро жертвовали на строительство. Они стремились продолжать каролингскую традицию, то есть традицию Рима. По образцам римской архитектуры строили здания двух типов.
Карл Великий пожелал, чтобы его молельня в Ахене походила на императорские часовни, которые он видел в Равенне, — церковь центрического плана. Это произведение архитектуры должно было выражать особую миссию государя, ходатайствующего перед Богом за свой народ. В архитектурном плане устанавливалась связь между квадратом — символом земли, кругом — символом неба и восьмиугольником, который означал переход от земли к небу и в соответствии с символикой чисел был выражением вечности. В раннехристианском Риме по такому плану строили баптистерии, так как в их стенах совершались обряды, во время которых благодать Божия вырывала человека из круга земных забот и возносила его душу туда, где ангелы поют о славе Господа. Центрический план постройки с двумя расположенными друг над другом уровнями идеально подходил для часовни, где государь, возвышаясь над коленопреклоненными членами своей семьи и слугами, мог взывать непосредственно к Богу. Кроме того, этот архитектурный тип был связан еще с одной традицией — погребальной, традицией martyrium'a[48], могилы-реликвария, сохраняемой строителями крипт. Достигнув Иерусалима, конечной цели своего путешествия в Святую землю, паломники входили в храм Гроба Господня и оказывались в круглом святилище, напоминавшем императорскую часовню. Здесь кроется причина популярности этой архитектурной формы, распространившейся в XI веке во всей империи вплоть до границ со славянскими странами, где в то время при мощной поддержке императора насаждалось христианство.
После победы христианской Церкви Евангелие, выйдя из подполья, покорило античный Город и захватило все его официальные здания и памятники. Практически все храмы Рима, особенно самые почитаемые, те, которые возвели на гробницах святых Петра и Павла, были базиликами, то есть дворцовыми залами, — огромные прямоугольные пространства, предназначенные для проведения судебных разбирательств; ряды арок, напоминавшие портики, поддерживавшие легкие деревянные перекрытия и разделявшие три параллельных нефа; апсида, где находилось место судьи, оглашавшего приговор; яркий свет, падавший сквозь высокие окна центрального нефа. Иными словами, это было открытое внутреннее пространство, напоминавшее форум — дом народа Божия.
Развитие богослужения при Каролингах привело к перестройке входа в базилику, возведению кровли над внутренним двором, превращению его в нижний этаж, а самой базилики — в двухэтажную церковь. Внизу — крытый вход, наверху — помещение для молитвы. Были ли эти нововведения вызваны желанием задержать при входе толпы паломников, чтобы они не нарушали чинный ход богослужения? Или же перестройка потребовалась, чтобы создать отдельное помещение для почитания Христа Спасителя, который вместе с местным святым покровительствовал храму? Или, возможно, это было следствием недавнего распространения культа погребальных обрядов? Во всяком случае, эти изменения вызвали расширение западной части храма, что в странах империи привело к появлению у базилики второй апсиды и надвратных звонниц, возводившихся в Иль-де-Франс над входом в церковь.
В XI веке эти два типа построек главенствуют на всей территории, где власть монарха противостоит феодальной раздробленности. В Саксонии базилика в городе Гернроде, строительство которой началось спустя три года после восшествия Отгона I на императорский трон, и церковь Святого Михаила в Хильдесхейме[49], которую основал епископ Бернвард, умерший там в монашеской рясе в часовне Святого Креста, во всем следуют образцам каролингской архитектуры, которые укоренились в Шампани, Виньори, Монтье-ан-Дер. Таким образом, в области, окружавшей Реймс, возникла тесная связь между искусством Отгонов и Капетингов.
Иль-де-Франс в эту эпоху почти не знал возведения культовых зданий. Исключение сразу после наступления 1000 года составили особо почитаемые королем Робертом церкви, построенные в Орлеане, монастыре Сен-Бенуа-сюр-Луар и аббатстве Святого Мартина в Туре.
Библиотеки, вокруг которых по воле короля возникают центры образования, регалии, в день коронации служащие утверждению величия монарха, часовни, находящиеся под покровительством государя, — всё проникнуто единым духом. Везде античные мотивы, признанные эталоном прекрасного, бережно хранят и тщательно копируют, они служат моделью для украшения христианского богослужения. Безусловно, мастера, работавшие по заказу короля, в XI веке не так рабски подражают античным образцам, как их предшественники, современники Карла Великого и первого возрождения имперского искусства. Античность отдалилась еще на два века. Теперь художники нередко знакомятся с ее искусством лишь по копиям, сделанным во времена Каролингов. Воспоминания о ней утрачивают четкость, раздвигаются границы, в пределах которых художник может дать волю воображению. Однако, и это важно, привитые школами почтение к античности и преклонение перед ней пронизывают все высокое искусство того времени. Острое ощущение варварства современного мира, чувство, что всё прекрасное осталось в прошлом, заглушало любые творческие порывы. Подобно будущим прелатам, подобно самим королям, по ночам учившимся грамоте, придворные ювелиры, художники, плавильщики бронзы и строители соборов считали себя учениками. Они мечтали приблизиться к классическим образцам и скрупулезно следовали традициям. Их смирение принесло плоды — в крестьянском мире, среди пустошей, где паслись стада свиней, среди бескрайних, безлюдных лесов, как и вблизи королевских тронов, еще витали воспоминания о Риме. Была жива эстетика, запечатленная в строках «Энеиды» и «Фарсалии», живо искусство, противившееся вторжению фантазии, отвергавшее спираль, геометрические абстракции германских ювелиров и любые искажения, которые художники-варвары вносили в изображения человека и животного; было живо искусство слова, беседы, диалога, а не игры воображения; искусство монументальных сооружений, а не рисунка или чеканки, иными словами — эстетика архитекторов и скульпторов; искусство перикопов[50], которые художники из Рейхенау украшали для императоров, искусство скриптория Сен-Дени, искусство льежской купели.
Рейхенау, Сен-Дени, Льеж не были столицами — тогда у королей вообще не было столиц. Правители постоянно переезжали с места на место. Ратные дела заставляли их кочевать по всей стране. Но время от времени им все-таки приходилось останавливаться и заседать в святилищах вместе с епископами. Роль, которую короли играли в церковной жизни, заставляла их по большим праздникам посещать места паломничества и определяла таким образом их маршрут. Так же возникали и расцветавшие по воле монарха центры художественного творчества. Школы и мастерские создавались при королевских церквах, в больших аббатствах, которым покровительствовал монарх, и в епископствах, на которые опиралась его власть. География школьного образования и всегда шедшего бок о бок с ним искусства, следовавшего античным традициям, не всегда совпадала с границами королевских владений. Однако она помогает довольно точно обозначить пределы, в которых на протяжении XI века царил дух классики.
Эта область сложилась вокруг основного направления, которое от Луары до Майна повторило путь распространения каролингского возрождения. Во франкских провинциях, близ древних королевских дворцов трудились Алкуин и другие терпеливые учителя, стремившиеся восстановить в лоне Церкви традицию использования классической латыни. Далее на восток простиралась Германия — слишком молодая земля. Действительно, среди областей, находившихся под влиянием германских королей, Саксония напоминает случайно выживший росток. По-настоящему активные центры образования находились, как и во времена Карла Великого, в монастырях Франконии, в обителях на берегах Рейна, в Эхтернахе, Кёльне, Санкт-Галлене, наконец, в церквах на берегах Мааса — на границах как тех областей, которые во времена раннего Средневековья подверглись мощным варварским нашествиям, так и тех, где лучше сохранилось римское наследие; там блистали льежские мастера и художники. Также и во Франкском королевстве — в тех областях, которые Каролинги всегда считали покоренными и подлежащими эксплуатации, иными словами, на юге, школы не прижились. Очаги королевской культуры сосредоточились на территории древнего франкского государства. В 1000 году лучших учителей можно было найти в Реймсе, где королей помазывали на царство миром, которое считалось чудотворным, в монастыре Флери-сюр-Луар близ Орлеана, где хранились мощи святого Бенедикта, где был написан панегирик Роберту Благочестивому и где пришлось затвориться Филиппу I, а также в Шартре. Спустя сто лет они продолжали учить в Шартре, Лане, Турне, Анжере, Орлеане, Туре.
Помимо областей вокруг Рейна, Мааса и Сены, следует назвать еще два крупных очага культуры. Это территория древней Нейстрии[51], где семена образования не засохли и мало-помалу дали всходы в землях, захваченных норманнами. Так появились аббатства Фекан и Бек, а вскоре, когда в 1066 году сильная королевская власть установилась по другую сторону Ла-Манша и собрала воедино ростки культуры, некогда занесенные викингами в эту часть Европы, возникли Кентербери, Йорк и Винчестер. Другой, гораздо более значительный центр возник в Каталонии. На этой отдаленной границе христианского мира, постоянно находившейся под угрозой наступления мира ислама, но сохранявшей могущество, подкрепленное золотом, награбленным в мусульманских странах, епископы и аббаты в 1000 году накапливали экзотические знания, которые приходили из стран, оказавшихся под исламским господством. Они были открыты всему новому, удивительным диковинкам — науке чисел, алгебре, астрономии. Именно здесь юный Герберт научился изготавливать астролябии. Однако следует отметить, что эта провинция, как и Германия, была создана Каролингами. Постоянная угроза нашествия неверных здесь более, чем где-либо, поддерживала память о Карле Великом. Его почитали как героя, сражавшегося за истинную веру, провозвестника крестовых походов, а также как покровителя классической словесности. В соборе города Вик, в аббатствах Риполь и Кукса учителя продолжали традиции Алкуина и Теодульфа, читая зачарованным ученикам произведения античных поэтов.
Бедной была наука, бедной была школа и бедными были учителя. Но они хранили верность своему делу и благодаря этому смогли посреди нищей цивилизации поднять искусство над всеобщим варварством. Может показаться смешным, что в соборах, где королей помазывали на царство, где летописцы запечатлевали истории их подвигов, представляя слугами Божиими и наследниками Августа увешанных стеклянными побрякушками предводителей полчищ, военачальников, изматывавших себя бессмысленными конными эскападами, — в этих соборах звучали лучшие жемчужины Цицероновой риторики. Тем не менее эти центры образования, библиотеки, сокровищницы, где самыми прекрасными произведениями были камеи с профилями Траяна или Тиберия, в непрерывной цепи наивно и горячо вспыхивавших возрождений сохранили неизменной некую идею о сущности человека. Эстетика Сугерия, наука святого Фомы Аквинского, самый расцвет готики и заключавшееся в нем стремление к свободе своими корнями уходят к этим островкам образования, затерянным в грубом деревенском мире, в неотесанном 1000 году.
Со временем очаги классической культуры утратили свой блеск, что в определенной мере повлияло на пути развития западноевропейского искусства в XI веке. Тогда же пошатнулось и могущество королей. В 980 году они обладали реальной властью лишь на ограниченной территории своих владений. В течение следующих десятилетий их могущество пришло в еще больший упадок — такова была общая тенденция, сильнее всего проявившаяся во Французском королевстве. Здесь государи сохранили духовную власть. Однако высокие церковные чины и правители провинций перестали появляться при дворе. В 1100 году короля окружали лишь мелкие дворяне из окрестностей Парижа да слуги. Вокруг трона, служившего ему необходимой опорой, расцветал феодализм, вскоре задушивший монархию своими мощными побегами. Корона превратилась в знак, элемент языка символов. Настоящую власть, regalia, атрибуты единоличного правления, в том числе покровительство церквам, заботу об их украшении — иными словами, управление художественным творчеством — расхватало множество рук. С середины XI века в Северной Франции король больше не был великим строителем соборов. Им стал его вассал, герцог Нормандии.
Авторитет германского короля разрушился не так быстро — нельзя сказать, чтобы до наступления 1130 года Германия подверглась феодальному дроблению. Однако император видел, как из его рук постепенно уплывают итальянские владения. Кроме того, его величию угрожала другая могущественная сила, переживавшая период расцвета. Этой силой были епископы. Уже в 1000 году аббат Гийом де Вольпиано писал:
Власть римского императора, некогда подчинявшая себе монархов во всем мире, ныне во многих областях поделена между несколькими правителями, в то время как власть связывать и разрешать на земле и на небе неизменно принадлежит слугам святого Петра.
Спустя сто лет Папа Римский собрал под своей властью большую часть западных церквей. Он стремился подчинить себе королей и отчаянно бился за то, чтобы даже в Германии лишить власти монарха. Между 980 и 1130 годами две мощные тенденции — та, которая в западных областях влекла за собой упадок королевской власти, и другая, затрагивавшая весь латинский христианский мир, способствовавшая реформе Церкви и направленная на то, чтобы передать auctoritas[52] духовенству и объединить его вокруг Папского Престола, — обе эти тенденции слились, чтобы вырвать власть из рук королей. Это положило начало возникновению пропасти, которая в истории западноевропейского искусства в период между царствованием Генриха I и восшествием на престол французского короля Людовика Святого прервала традицию великих художественных начинаний, инициатором которых был монарх. Упадок монархий повернул вспять королевскую эстетику прежде всего в той части Европы, где в 980 году королевская власть прекратила свое реальное существование, — в южных провинциях, где образовательные центры были не так крупны или же предлагали образование, следовавшее другим культурным ориентирам. В результате в южных провинциях свободно распространялись образцы культуры, которые нес живой и по-прежнему плодотворный родник римского наследия.
В Провансе, Аквитании, Тоскане исчезавшая королевская власть уступала место еще одному, иному лику Рима. Это был не тот Рим, который поразил Карла Великого и покорил Отгона III и Аббона Флерийского, Рим с прекрасными, но застывшими чертами, лишенный жизни художниками, пытавшимися возродить его, изящный и мертвый, как стихи Вергилия, классический Рим. Нет, то был живой Рим, сохранивший в этой части Западной Европы все, что могло еще сосуществовать с современностью. Посреди уцелевших храмов и амфитеатров, в поселениях, где сохранились привычки городской жизни, римская традиция никогда не умирала. Она была жива, она изменилась и обогатилась всем, что принесло в нее христианство Византии, коптов и мосарабов[53]. Отступление королевской власти, увядание культурных моделей, насильственно воскрешенных некогда волей императоров, уничтожило преграды на пути новых художественных форм, отпочковавшихся в XI веке от старого латинского корня. Те же живительные соки, которые питали победное шествие феодализма, помогли им вырваться на свободу и позволили плодоносить. Классическим традициям монархической школы противостояло все наследие Рима, которое не было засушено в библиотеках и сокровищницах, а продолжало каждый день питать живую культуру. Так же и королевскому искусству противостояло то, что было римским искусством в истинном смысле слова, искусством, которое по прошествии 1000 года расцвело вместе с новой весной мира.
2 Феодалы
Перед лицом Бога и в глазах Его слуг — духовенства IX века — все люди образуют единый народ. Безусловно, они отличаются друг от друга национальностью, социальным положением, полом, происхождением и родом занятий. Однако, как писал во времена Людовика Благочестивого лионский архиепископ Агобард, «все они желают быть под властью монарха». Следуя за королем, одновременно выполняющим функции священника и полководца, держащим в своих руках власть над преходящим миром и несущим за всех ответственность перед сверхъестественными силами, люди, объединившись, шествуют к свету. В действительности же общество было разделено. Преграды существовали между клириками и монахами, мирянами и духовенством и, что было одной из главных черт этого рабовладельческого общества, свободными и теми, кого воспринимали как рабочий скот. В период раннего Средневековья элитарный круг руководителей Церкви, единственно способных оперировать отвлеченными понятиями, представлял себе народ Божий как некое целое, и это господствующее надо всем представление о всеобщем единстве, опиравшееся на институт королевской власти, было тесно связано с другим основополагающим понятием — об устойчивости общественного устройства. Латинское слово ordo выражало незыблемость социальных групп, каждая из которых своим собственным путем идет к спасению и воскресению из мертвых. Бог указал каждому человеку его место, положение, которое наделяет его некоторыми правами и предписывает играть определенную роль в непрекращающемся строительстве Царства Божия. Никто не должен пытаться занять другое положение. Любая попытка изменения была бы святотатством. Король в день коронации формально обещал каждой социальной группе сохранение ее исконных привилегий. Действительно, крайне примитивно организованный мир IX века мог показаться неподвижным, ограниченным круговоротом деревенской жизни, постоянно повторяющимся циклом сельских работ, где время описывает круг, подобный тому, который светила проходят на небе. Никто в этом мире не мог питать надежду настолько разбогатеть, чтобы подняться над своим положением и попасть в высшие слои земной иерархии. Все сильные мира сего были наследниками своих родов, их богатство и власть пришли к ним из глубины веков, передавались из поколения в поколение от прародителей. Также и бедняки трудились на том же клочке земли, которую поливали потом их предки. Изменение этого порядка казалось чем-то невероятным, потрясением основ. Бог, как короли и император, находился в центре вселенной, будучи Владыкой всего незыблемого.
На самом деле мир менялся — неуловимо, в едва заметно увеличивающемся темпе. С приближением 1000 года в наиболее развитых областях Западной Европы, в первую очередь во Французском королевстве, начали яснее очерчиваться новые социальные структуры. Новым в XI веке были глубокие изменения, затронувшие все стороны цивилизации, в особенности способ распределения власти и богатств, восприятие отношений человека с Богом и, следовательно, механизмы художественного творчества. Нельзя понять причины зарождения романского искусства, его особые черты, не упоминая об этих изменениях или, говоря иначе, о возникновении того, что мы называем феодализмом.
Движущей силой преобразований была не экономика, развивавшаяся крайне медленно и не способная вызвать никаких серьезных перемен. Причину следует искать в политической жизни — во все возраставшем бессилии королей. Единство власти в руках великих представителей династии Каролингов может показаться поистине фантастическим. Как эти предводители вооруженных толп сумели удержать под своим владычеством огромное по площади государство, мощное и неприступное, каким была империя 800 года? Как им удавалось царствовать одновременно над Фрисландией и Фриулем, на берегах Эльбы и в Барселоне, действительно подчинить себе все эти провинции, где не было ни дорог, ни городов, где редко можно было увидеть даже лошадь, а королевские гонцы ходили пешком? Их могущество опиралось на непрерывные войны, на постоянное стремление к завоеванию. Предки Карла Великого пришли из Австразии[54] во главе небольшого отряда, состоявшего из родственников, друзей и верных слуг, которые следовали за ними и подчинялись, потому что предводители побеждали в сражениях, а после каждой битвы делили добычу и с радостью отдавали захваченные области на разграбление своим воинам. Каролингам удалось сохранить своих первых преданных слуг, их сыновей и племянников, привязать их к себе узами брака, родства и вассальной верности. Каждую весну с появлением первой травы, как только можно было выступить в конный поход, правители собирали вокруг себя друзей — графов, епископов, настоятелей крупных монастырей. Это было началом большого ежегодного празднества разрушения, убийства, насилия и грабежа. Король во главе веселых спутников снова отправлялся навстречу военным утехам.
Однако уже в IX веке, как только заканчивались летние забавы и наступала осень, друзья короля возвращались в свои земли, к собственным вассалам, любовницам, рабам и протеже, и тут же ускользали из-под королевской власти. Никакого контроля больше не существовало — все пути сообщения были отрезаны. Теперь каждый властвовал как единоличный господин над полями, окружавшими его жилище, и подчинял себе не поднимавшихся с колен крестьян, которые, конечно, знали о существовании короля, но представляли его себе смутно, как некоего недосягаемого владыку, незримого, как сам Господь Бог. Для всех сельских жителей мир и процветание зависели от местного сеньора. В голодные времена бедняки получали из его амбаров несколько горстей зерна. К кому было обращаться с жалобами на господина, если он злоупотреблял властью? Вскоре после возрождения империи настало время, когда короли перестали быть завоевателями, прекратились военные кампании; больше ни добычи, ни наград. Зачем теперь сеньорам было переносить опасности и тяготы бесконечных переездов и служить государю, от которого не дождаться награды? Они стали реже появляться при дворе. Королевские дворцы мало-помалу обезлюдели, государство постепенно разрушалось.
Его распад ускорили начавшиеся нашествия норманнов, сарацин и венгров. На континент и острова неожиданно обрушились вражеские набеги. Теперь бои велись не где-то далеко, за пределами христианского мира, а в самом его центре. Исход этих сражений был печальным. Толпы язычников налетали внезапно, грабили и жгли. Они были неуловимы и после битвы скрывались на ладьях или лошадях. Неуклюжая королевская армия, привыкшая к заранее спланированным военным действиям, тратившая много времени на сборы и тяжелая на подъем, оказалась неспособной оказывать сопротивление, отражать и предупреждать нападения. В Западной Европе, раз за разом переживавшей поражения, настоящим правителем каждой области становился военачальник, способный обеспечить мирное существование. Только он выдерживал внезапные атаки и быстро, при первой тревоге, собирал людей, способных сражаться. Только такой правитель мог в своем краю содержать и обеспечивать постоянными гарнизонами оборонные пункты — замки, обнесенные громадными земляными валами, внутри которых находили убежище крестьяне и скот. О безопасности народа теперь заботился не король, а сеньоры. Королевская власть действительно сдала позиции. Она по-прежнему была жива в сознании людей, но уже скорее как некий миф. В реальной, повседневной жизни настоящие авторитет и власть перешли к местным правителям, герцогам и графам. Они стали истинными героями христианского сопротивления. Вооруженные волшебными мечами, поддерживаемые ангелами, они заставляли захватчиков отступать ни с чем. В собраниях воинов исполнялись монотонные, протяжные кантилены, в которых высмеивалось бессилие государей и воспевались подвиги сеньоров.
С западных и южных пределов христианского мира, из областей, практически не подчинявшихся Каролингам и сильнее других пострадавших от набегов, хлынули две волны перемен, затронувшие сразу обе важнейшие составляющие общества — мирян и Церковь. Те, кто некогда во имя короля — родственника или господина — собирал в каждой области под свои знамена вооруженные отряды, теперь полностью отделились от государя. Конечно, они по-прежнему заявляли ему о своей преданности и иногда при случае вкладывали свои руки в его в знак вассальной клятвы. Но власть, которой их наделял король, они считали теперь своей собственностью и частью родового достояния. Они свободно пользовались этой властью и передавали ее по наследству старшим сыновьям. Самые крупные вассалы — герцоги, которым было поручено защищать огромную часть королевства, — первыми обособились в начале X века. Политическое дробление, вызванное их непокорностью, не получило дальнейшего развития на севере и востоке бывшей каролингской империи, где власть монархов была крепче и лучше сохранились племенные структуры. Но в остальной части Европы оно продолжилось. Вскоре графы освободились от господства герцогов, как те в свое время — от господства королей. Затем, с приближением 1000 года, распались и графские владения. Любой, кто владел крепостью, окруженной полями и лесами, создавал вокруг нее маленькое независимое государство. На пороге XI века все королевства по-прежнему существовали. Правителей коронуют, и никто не сомневается, что они поставлены Богом. Но военная мощь, власть судить и наказывать отныне рассеяна, рассредоточена среди множества политических образований разного масштаба.
Во главе каждой ячейки стоит правитель. Его называют «сеньор», «сир», по-латыни dominus — тот, кто действительно господствует. Титул, который сеньор присваивает себе, заимствован из христианского богослужения, где так называют Бога. В самом деле, ничто не может противостоять сеньору, он никому не подвластен. Он обладает исключительными правами, которыми прежде пользовался только король. Подобно государю, он осознает себя членом династии. Предки сеньора положили ей начало в краю, который он теперь держит в своей власти, в крепости, где собирает своих вассалов, и ветви его рода будут цвести в этих землях из века в век. Это древо с единым стволом — власть отдельного сеньора, подобно королевской короне, неделимо переходит от отца к сыну. Как и король, каждый местный правитель чувствует, что на него возложена обязанность во имя Господа защищать мир и справедливость, и все законы, позволяющие выполнять эту задачу, рождаются в его замке. Башня, бывшая некогда символом независимого города, а потом королевского величия и военной мощи, теперь предстает как ядро личного могущества. Она оплот престижа и авторитета родовой власти. Хронист начала XII века пишет:
Богатые и знатные люди проводят лучшую часть своей жизни в жестоких битвах, защищаясь от врагов, стремясь победить равных и подчинить слабых; обычно возводя [вокруг замка] как можно более высокую насыпь, окружают [его] широким и глубоким рвом; крепостные стены [строят] из заостренных отесанных стволов, крепко подогнанных друг к другу.
Таков замок того времени, грубая постройка, которая могла служить убежищем лишь во времена крайне примитивного оружия и неразвитых военных приемов. Защищенный подобными укреплениями, каждый правитель насмехался над своими соперниками. Он бросал вызов самому королю. Замок стал центром распределения политической власти, вокруг него выстраивались структуры нового общества.
Эти структуры отвечали недавним переменам, которые произошли в военном искусстве. В IX и X веках старая королевская армия, толпа как попало вооруженных пеших воинов, оказалась неспособной отражать набеги захватчиков. Только хорошо вооруженные, облаченные в доспехи всадники могли противостоять врагу, быстро появляться на рубежах, подвергавшихся угрозе нападения, и гнать неприятеля. Наконец перестали вербовать отряды из свободных крестьян, вооруженных лишь палками и камнями и не располагавших свободным временем, чтобы обучаться правилам ведения боя. Военная служба стала привилегией небольшого числа профессионалов. Население, жившее вокруг крепости, искавшее там убежища в случае опасности и поэтому вынужденное повиноваться своему господину, оказалось, в связи с новыми особенностями ведения войны, четко разделенным на две категории, к которым владелец замка и относился по-разному. Все они были его людьми. Но «бедняки», «мужланы», не принимавшие непосредственного участия в обороне земель, представляли в глазах сеньора однородную массу, которую он, конечно, защищал, но и использовал по своему усмотрению. Все эти люди принадлежали ему. Больше не было разницы между свободой и рабством. Над каждым тяготел груз поборов и отработок — цена за мир, гарантом которого выступал сеньор.
Кроме того, в каждом владении было несколько человек, считавшихся действительно свободными, обладавших привилегией носить оружие и умевших им пользоваться. Они были избавлены от эксплуатации и господских притеснений, так как по очереди несли гарнизонную службу в замке. Действия их небольшого воинственно настроенного отряда обеспечивали общественный порядок, и, защищая замок, эти люди тратили силы и проливали кровь. Их долг по отношению к хозяину башни заключался в нескольких почетных обязанностях, оговоренных в вассальной клятве (оммаже), которую они приносили владельцу замка. Эти люди были воинами, всадниками — «рыцарями»[55]. Их отряд собирался под знаменем местного правителя, как некогда большое войско, которое в VIII веке короли вели за собой на грабеж. Они окружали каждого сеньора, как уменьшенная, но точная копия королевского двора. Новая организация политических и социальных отношений в действительности отражала необходимость адаптировать государственные формы к конкретным требованиям, к реальности, которую победная мощь каролингских государей на некоторое время подчинила себе, смела с пути, но которая продолжала незаметно управлять институтом монархии, ежедневным сплетением человеческих отношений. Такой реальностью была растущая сила аристократии, преобладание больших сельских владений и невозможность управлять на расстоянии. Феодальная раздробленность соответствует природе крестьянского мира, замкнутого на самом себе и окруженного бесчисленными и непроницаемыми стенами. Безраздельный господин, опирающийся на верных рыцарей, хозяин каждой крепости предстает как король в миниатюре. Ему, однако, недостает одного, главного, атрибута государя — коронации. Именно это послужило причиной другого движения — реакции Церкви на происходящее.
Власть королей раннего Средневековья принципиально не распространялась на то, что в этом мире принадлежало Богу, — на Его святилища и людей, служивших Ему. Государи поддерживали Церковь, остерегались явно подчинять ее себе. Все епископства и крупные монастыри получили от королей хартии о привилегиях, запрещавшие представителям светской власти взимать поборы во владениях религиозных учреждений и принуждать к этому своих слуг. Ослабление власти королей, рост независимости местных правителей коснулись этих льгот.Герцоги, графы и сеньоры защищали всё свое владение целиком. Они претендовали на то, чтобы судить, наказывать и эксплуатировать всех своих подданных, за исключением рыцарей, не важно, зависели ли они от Церкви или нет. Это было первым посягательством. Кроме того, вдали от короля самые сильные правители присвоили еще одно право государей — они стали выступать защитниками, покровителями соборов и монастырей и желали сами назначать епископов и аббатов. Но если Церковь терпела, чтобы ее иерархов выбирали короли, которые были помазаны на царство святым миром, наделившим их сверхъестественным могуществом, она все-таки не могла допустить подобного вмешательства со стороны герцога или графа, на стороне которых была только сила. Церковь стала бороться.
Ей, однако, не хватало поддержки короля. Ослабление королевской власти вынудило церковную верхушку притязать на главную функцию монарха — заботу о поддержании мира. Через обряд коронации Бог наделял короля властью, которой тот уже не мог реально пользоваться. Следовательно, Бог был вправе лишить его этой власти и осуществлять ее непосредственно, то есть через своих служителей. Подобные притязания проявились сначала в области, которая более чем какая-либо другая страдала от отсутствия внимания короля, — на юге Галлии, в Аквитании и Нарбоннской провинции. Эти требования торжественно провозглашались в течение последних лет X века на больших сельских собраниях, возглавляемых епископами. Затем эта идея стала распространяться, продвигаться на север через долину Роны и Соны; после 1020 года она достигла северных границ Французского королевства. Она не пересекла их — дальше начиналась власть императора, государя, который был еще способен обеспечить мир и порядок. Но во всей Франции
<...> епископы, аббаты и прочие приверженцы святой веры начали собирать людей на Соборы; приносили множество мощей праведников и бесчисленные раки со святынями. Прелаты и правители со всего края собирались, чтобы участвовать в реформе мира и утверждении святой веры. В хартии, разделенной на главы, был составлен список запрещенных деяний и подтверждаемых клятвой обязательств по отношению ко всемогущему Богу. Главным из них было поддерживать нерушимый мир.
Подобно тому как раньше это делали короли, Божий мир[56] обеспечивал особую защиту наиболее хрупким, уязвимым элементам христианского мира. Сам Господь охранял теперь неприкосновенность храмов и окружавших их территорий, служителей церкви и, наконец, бедняков. Отныне любого осквернившего обитель Божию или напавшего на слабого будут предавать анафеме и извергать из сообщества верных, пока тот не принесет покаяния. Он примет на себя Божий гнев, гнев невидимого Владыки, повелителя ужаса, способного разбудить и в этом, и в том мире все силы страха.
Я никогда не посягну на церковь, помня о том, что она находится под защитой; я не разорю винные погреба, находящиеся в церковной ограде. Я не нападу ни на священника или монаха, если у них не будет оружия, ни на сопровождающего их человека, если у него не будет копья и щита. Я не украду ни быка, ни коров, ни свиней, ни барана, ни ягненка, ни козу, ни осла, ни вязанку хвороста, которую он несет, ни кобылу, ни ее необученного жеребенка. Я не схвачу ни крестьянина, ни крестьянку, ни купцов. Я не отберу у них деньги, не буду принуждать платить выкуп. Не разорю их, вымогая их сбережения под предлогом, что деньги понадобились сеньору для ведения войны.
Вот некоторые из клятв, которые в 1024 году был обязан принести рыцарь на одном из таких собраний; нарушить их означало очертя голову ринуться в лапы демонов.
Первым результатом этих законодательных изменений оказалось отмежевание от остального общества некой группы, представавшей в глазах Церкви как сборище всегда воинственно настроенных людей, из-за которых в мире царил беспорядок. Людей, от которых необходимо было защищаться, чью разрушительную силу следовало ограничить при помощи духовного воздействия, внушая им страх гнева Божия. Этой категорией людей, к которым относились как к врагам, которые, в соответствии с принципами примитивного дуализма, насаждаемого христианскими верованиями, олицетворяли армию зла, было рыцарство. В своей епархии епископ Иордан Лиможский отлучал рыцарей, проклиная их оружие и лошадей — орудия, при помощи которых они сеяли смуту, и знаки их положения в обществе. В каком-то смысле положения Божия мира способствовали более четкому определению группы воинов, класса, который разложение королевского могущества, перераспределение власти и сеньориальные доходы отделили от других мирян, наделяя особыми обязанностями и признавая за ними особые привилегии. Эти обязанности были той функцией, которую выполняли короли как военные вожди. Привилегии же не отличались от тех, которыми обладал любой правитель.
Что касалось остальных, закабаленной массы, безликой толпы, согнувшейся под тяготами забот о пропитании, Церковь заявляла, что эти люди находятся под ее особым покровительством. То есть в особой от нее зависимости. Собрания, на которых провозглашался Божий мир, были на самом деле спектаклем, разыгрывавшимся на глазах отупевшего народа, борьбой за власть и приносимые ею выгоды. Епископы и аббаты, как, например, Адальберон Ланский и Герард Камбрейский, принимавшие в штыки насаждение Божия мира, или те, что, наоборот, поддерживали его, представали как заместители потерявших могущество королей. Так был положен конец осуществленному каролингскими государями смешению вечного и преходящего, на которое ссылались монархи 1000 года, распределяя церковные должности, собственноручно перенося раки с мощами и основывая новые базилики. Прорыв феодальных сил разделил в реальной жизни власть над мирскими и церковными делами. В господствующем классе произошел раскол между теми, кто был занят войной, и теми, кто посвятил себя молитве. Первые больше не были облечены духовной властью и не обладали магической силой. Духовенство взяло на себя харизматическую миссию, принадлежавшую королям.
Этот процесс имеет большое значение — вызвав, в частности, изменения общественного устройства, он повлиял на условия создания произведений искусства. В XI веке сеньоры присвоили большую часть королевских прав, позволявших эксплуатировать народ. Таким образом они отобрали у монархов привилегии, которые давала духовная власть над народом, и в некоторой степени лишили их средств для поддержания своего величия. Тем самым сеньоры ограничили участие королей в процессе создания произведений искусства. Надо сказать, что появление новых господ не явно, но все-таки способствовало расцвету художественного творчества — власть феодальных сеньоров была ближе и ощущалась сильнее, она взвалила на крестьянство более тяжелый груз налогов, что ускорило рост сельского производства. Возросли излишки доходов. Сеньоры присваивали их, проматывая часть на военные нужды, на то, чтобы подчеркивать собственное богатство и устраивать многолюдные празднества, где цвет рыцарства демонстрировал свое могущество, уничтожая ценные предметы. Но даже в тех областях, где распад общества шел с особой силой, там, где королевская власть была оттеснена решительней всего — иными словами, на юге Европы, — источники, питавшие высокое искусство, не оскудевали. Более того, они забили сильней, так как большая часть сеньориальных доходов избегала обычной участи и не растрачивалась на мирские дела. Эти средства имели особое предназначение — они питали художественное творчество. Как бы то ни было, феодалы боялись Бога и стремились заслужить Его благосклонность. Так же, как и короли, они делали пожертвования духовенству и монахам. Щедрость аристократии пришла на смену королевским милостям, и поток благочестивых даров отныне давал гораздо больше возможностей строить, ваять, писать. Однако в отличие от государей рыцари непосредственно не управляли творческим актом. Они были неграмотны. На них не лежала обязанность ходатайствовать за свой народ перед Богом и личная ответственность, налагаемая таинством помазания на царство. В результате эстетическая миссия королевской власти перешла к Церкви, как и другая обязанность монарха — защита бедных. Но — и это было еще одним следствием общественных и политических изменений — церковное искусство формировалось в мире, на который всей тяжестью давила грубость людей, занятых войной. На нем сильно сказалось влияние культуры, основанной на насилии, нерациональности, неграмотности, культуры, восприимчивой к жестам, ритуалам, символам, — культуры рыцарства.
В течение XI века постепенно распространилось слово, которое во Франции раньше, чем где бы то ни было, начали применять ко всей аристократии. В латинском варианте оно обозначало просто воина. Уточняя значение этого термина, простонародный язык называл рыцарем любого, кто, сидя на боевом коне, возвышался над массой бедняков и преследовал монахов. Оружие и умение воевать — вот что объединяло оба слова. Некоторые рыцари были потомками древних родов, напрямую связанных узами родства или вассальной верности с королями раннего Средневековья. Другие были крупными сельскими собственниками, достаточно богатыми, чтобы не трудиться своими руками, и способными достать снаряжение, подобающее воину. К ним примкнули толпы менее состоятельных оруженосцев, которые жили в замке своего господина, ели с его стола, спали рядом с ним в громадных, обшитых деревом залах, существовали его подачками, — неизвестно откуда взявшиеся авантюристы, собравшиеся под знамена молодого сеньора, чтобы следовать за ним в любых боях и походах за славой и добычей. Рыцарство, этот разнородный организм, становится все сплоченней. Причин тому много — общие привилегии, тот факт, что рыцарство действительно становилось общественной и политической силой, а также поступки, добродетели и устремления, свойственные профессионалам военного дела.
Все рыцари были холостыми. Высокая культура XI века игнорировала женщину. В искусстве для нее почти не оставалось места. Не существовало фигур женщин-святых, или же это были золотые истуканы с осиными глазами, стоявшие под сумрачными сводами, и никто не решался выдержать их отрешенный взгляд. В декоре церквей можно найти редкие женские изображения, отмеченные некоторым изяществом, — увенчанные коронами аллегории месяцев или времен года. Это обломки кораблекрушений, как и пережившие гибель классической эстетики строки латинских стихов, которым подчинен ритм изображений. Они нереальны и несовременны, как и цветы былого красноречия. Застывшая в иератической позе, далекая Богоматерь иногда предстает в окружении действующих лиц евангельских сюжетов. Здесь Она всего лишь второстепенный персонаж, изображенный на заднем плане. Также и супруга сеньора держится в тени во время рыцарских застолий. Женщину, как правило, считают неким вьющимся растением, плевелом, который примешивается к хорошему зерну и портит его. Каждая женщина сладострастна, и разве не она источник порчи, который обличают моралисты Церкви, искусительница Ева, виновная в падении человека и во всех грехах мира?
Состоя исключительно из мужчин, рыцарство представляет собой сообщество наследников. Его поддерживают узы родства. Власть нынешних сеньоров опирается на славу мертвых, на состояние и имя, которые предки завещали потомкам как наследство, которое каждое поколение передает следующему. Герцоги, графы, владельцы замков смогли занять место королей и завладеть их правами потому, что их род, как они считали, связан с родом государей тесно переплетенными узами родства. «Что дано рождением, не отнимется ничьей волей, — писал епископ Адальберон. — Потомки благородных сеньоров происходят от королевской крови». Вот почему память о предках играет такую большую роль в этой социальной группе. Самый последний искатель приключений объявлял себя наследником доблестного предка, каждый рыцарь чувствовал, что целая когорта умерших, некогда прославивших имя, которое он носит, толкает его на подвиги, а после потребует отчета. Толпа мертвецов теряется во мраке и забвении, но каждый сеньор знает имена основателей своего рода. Кантилены менестрелей увековечили память о славных родоначальниках. Из песен они попали в легенду и продолжают жить в бессмертных преданиях. Их тела покоятся рядом в некрополях, построенных некогда теми, кто первым отделился от королевского дома и упрочил свою независимость. Отвечавшее мироощущению военной аристократии христианство 1000 года предстает прежде всего как религия мертвых. Мощное чувство солидарности, связывающее живых членов рода, заставляет сообща приходить на выручку тем из них, кто подвергся нападению, а если он погибнет — мстить родственникам убийцы. Церковные власти были вынуждены признать, что здравствующие сородичи могут способствовать спасению умершего и покупать для него индульгенции. Подаяния, которые раздают рыцари в то время это было одной из главных тем художественного творчества, — почти всегда вызваны единственной заботой: помочь находящимся по ту сторону могилы покойным членам рода.
В этой социальной группе тон задают так называемые «молодые». Это уже зрелые мужчины. Время их ученичества закончилось. Они доказали свою силу и ловкость перед множеством свидетелей во время коллективной церемонии посвящения, которая торжественно ввела их в сообщество воинов. Однако еще долго, пока не умрет их отец и они не займут его место во главе наследственного владения, молодые рыцари с трудом переносят зависимое положение, в котором они находятся в отчем доме, обреченные на это состоянием сельского хозяйства того времени. Они бегут из дому и пускаются в путешествия со своими сверстниками, бродят по дорогам в погоне за добычей и удовольствиями. Поэтому основные рыцарские добродетели дышат воинственностью и агрессивностью — это сила и храбрость. Героем, прославляемым молодой литературой на народном языке в произведениях, которые звучат в кругу воинов, героем, на которого все хотят походить, становится атлет, чье сложение идеально подходит для конного боя. Он широк в плечах, отличается крепостью и мощью — прежде всего воспеваются его физические качества. Значение имеют тело и сердце, а не ум. Будущий рыцарь не учится читать: учение может повредить его душе. Рыцарство выбирает неграмотность. Оно считает, что именно война, реальная или воображаемая, — главное дело, придающее вкус жизни, игра, в которой рискуют всем — честью и жизнью, но из которой лучшие выходят богатыми победителями, покрытыми славой, достойной предков, отзвуки которой сохранятся спустя многие годы. Культура XI века, в которой воины оставили такой глубокий след, почти целиком основана на страсти к захвату в плен, на похищении и нападении.
Жизнь рыцаря состоит не только из сражений, и его этика зиждется не только на военных добродетелях. Включенный в сложную иерархию почетных обязанностей и клятв верности, которые с ослаблением королевского авторитета способствовали сохранению некоего подобия дисциплины среди аристократии Запада, рыцарь одновременно представлял собой сеньора и вассала. Он учится быть столь же щедрым, как лучший из сеньоров, и столь же преданным, как лучший из вассалов. Подобно королю, сеньору сеньоров и образцу для подражания, хороший рыцарь должен одаривать тех, кого любит, всем, что у него есть. У одного нормандского герцога не оставалось земель, чтобы дать своим людям. Тем не менее он говорил:
Я уступлю вам все, что есть у меня из движимого имущества — наручи и перевязи, латы, шлемы и поножи, лошадей, секиры и эти прекрасные, искусно украшенные мечи. В моем доме вы всегда будете пользоваться моими милостями и славой, которую приносит рыцарское звание, если добровольно поступите ко мне на службу.
Во главе всего — щедрость, основная добродетель. И бок о бок с ней — верность. Если рыцарь хотел являться на рыцарские собрания с высоко поднятой головой, он не мог нарушить клятву верности. На этой ступени общества взаимное согласие основывалось на тесном переплетении личных и коллективных клятв и на возникавшем, как следствие, чувстве сплоченности. Отвага, сила, щедрость, верность — все это грани чести, основной ценности, главной ставки в постоянном состязании, каким была военная и придворная жизнь. Тому, кто ищет объяснения специфических нюансов, которыми отличались тогда произведения искусства, следует обратиться к анализу поведения и особенностей мышления людей того времени. Воины не контролировали процесс создания художественных произведений и не пользовались ими. Рыцари носили драгоценности. Мастера украшали для них эфесы мечей. Супруги и дочери сеньоров покрывали вышивками парадные платья и ткани, которыми драпировали большие залы замков и стены молелен. Но эти предметы, в большинстве своем небольшие и хрупкие, находились как бы на заднем плане в империи, где безраздельно царствовали архитектура, скульптура и живопись. В ту эпоху произведением искусства оставалась церковь. Великим было только церковное искусство. Распоряжались им, как прежде, только короли и духовенство. Однако рыцарский дух захватывает и эту область, просачивается в нее, проникает до самых глубин. По мере того как власть ослабевает и ускользает из их рук под натиском подступающего феодализма, короли Франции, английские монархи, а вскоре и император чувствуют, что сами мало-помалу становятся рыцарями. Кто сможет теперь провести границу между их ролью и ролью феодального сеньора? Этика воинов навязывает монархам другие модели поведения. Что касается Церкви, в эту эпоху она подчинилась господству мирян. Уточним — господству рыцарей.
Действительно, любая церковь строилась в центре феодального владения, обеспечивавшего ее служителям средства существования. Каждый епископ, так же как и каждый аббат или каноник, собирает вокруг себя крестьян, чтобы вершить над ними суд. Он занимает почетное место и окружен вассалами. Возводит башни. Позволяет проникнуть даже в стены обители гулу толпы воинов, защищающих владение. Рыцари, обнажив голову, опускаются перед ним на колени и вкладывают свои руки в его ладони, чтобы стать его вассалами, поклясться в верности на святынях и получить, наконец, право на владение фьефом[57]. Конечно, служителям Бога запрещено воевать — Церковь не проливает крови. Многие, однако, не могут отказать себе в удовольствии лично участвовать в битве. Разве не должны они защищать от посягательств имущество, принадлежащее святым покровителям их храмов? Рисковать своей жизнью, чтобы раздвинуть границы Царства Христова? К Сиду Кампеадору подходит епископ:
Когда священники мчатся верхом, в шлемах, с копьем в руке, во главе отряда юных служителей Церкви, такие доблести, как честь, верность, мужество, представляются им столь же ценными, как и рыцарям, бок о бок с которыми они сражаются. Божий мир, который священнослужители чувствуют себя обязанными защищать, не означает отказа от сражения. Чтобы добиться мира, нужно приложить усилия, действовать. Божий мир называется победой. Что же касается духа бедности, он оставил Церковь 1000 года. Занявшее свое место в феодальных структурах, поднявшееся благодаря своему богатству до уровня королевской власти и стремящееся превзойти ее по мере того, как угасает величие монархии, высшее духовенство убеждено, что Бог желает видеть его во славе и что сокровища, которыми владеет Церковь, составляют необходимую основу ее главенства в мире. Когда клирики поносят рыцарей, обличают их как орудия зла, это означает, что они видят в них соперников и оспаривают у них власть и доход, который приносит эксплуатация. Церковь вошла во вкус военного дела, жажда власти овладела ею.
С другой стороны, высшие иерархи Церкви и монахи — выходцы из благородных семей. Пока право назначать епископов и аббатов принадлежало королю, он, как и его предшественники из династии Каролингов, всегда выбирал их среди людей достойного происхождения. В обществе, управляемом структурами, построенными на родственных связях, все добродетели, и в первую очередь способность управлять другими, имеют лишь один источник — преемственность поколений. Наделять кого-то, помимо тех, в чьих жилах течет кровь славных предков, полномочиями, необходимыми для управления церковными делами, означало бы действовать вопреки замыслу Божию, который лишь избранным приуготовляет могущество и власть. Что касается феодальных правителей, сумевших вырвать у своего суверена право покровительствовать той или иной церкви, они считают это право своим достоянием и пользуются им как частью имущества. Иногда они сами принимают сан аббата, передают его одному из сыновей или награждают им вассала за хорошую службу. Назначая кого-либо служителем церкви, императоры, короли, бароны прибегают к тому же обычаю, который регулирует отношения сеньора и вассала, — передаче символического предмета из рук господина в руки одариваемого. В то время ритуальные жесты имеют большое значение и все мало-помалу привыкают смотреть на сан священника как на фьеф, обязывающий его держателя служить и превращающий его в вассала. Таким образом, Церковь еще глубже погружается в феодализм, становится его частью, и господство временного над вечным делается всё определенней. Служба сеньору отныне важнее службы Богу, а священники все меньше отличаются от мирян. В самом деле, как их не путать? Ничто не разделяет рыцарей, их родню, братьев и кузенов, и каноников. Последние больше не живут общиной, как это предписывали древние установления. Они, как и прочие сеньоры, управляют земельным владением, дающим доход. Они охотятся, знают толк в хороших лошадях и красивых доспехах. Многие живут с женщинами. Единственное существенное различие заключается в совершенно ином воспитании, в блеске школьной культуры, которой отличается практически все высшее духовенство и которую отвергают рыцари. Но и само образование начинает меркнуть. При священниках-феодалах школа в самом деле влачит жалкое существование, и общий упадок учебных заведений, созданных по воле Каролингов при соборах и монастырях, как и отход от ценностей классической культуры, упадок которых можно наблюдать на протяжении всего XI века на примере любого произведения искусства, вызван прежде всего неуклонным вторжением рыцарского духа в среду духовенства.
Это вторжение отразилось на всех духовных ценностях и, как следствие, на ориентирах церковного искусства, которое стало неотъемлемой частью жизни феодальных дворов, где знать грубо утверждала свое социальное превосходство роскошью, расточительством и кичливым богатством. Клирики и монахи также придавали большое значение убранству, броским украшениям, всему, что блестит и сочетает в себе самые дорогие материалы. Чтобы подобно феодальным сеньорам заявить о своем главенствующем положении в иерархии власти, установленной волей Божией, Церковь в XI веке облачается в золото и драгоценности. Она убеждает сеньоров пожертвовать часть сокровищ, которые те алчно собирали всю жизнь, сверхъестественным силам, совершить перед смертью благодеяние у алтаря и сложить в святой ковчежец драгоценности, бывшие предметом их вожделения. Короли подают пример. Германский император Генрих Π жаловал аббатству Клюни «свой золотой скипетр, золотое императорское облачение, золотую корону и золотое распятие, вместе весившие сто ливров[59]». Повествуя о жизни короля Роберта, монах из Сен-Бенуа-сюр-Луар подробно описывает ценные предметы, полученные орлеанскими храмами от государя; он оценивает их — одно стоило шестьдесят ливров[60] серебром, другое — сто золотых су, ваза из оникса оценивалась в шестьдесят ливров.
А престол в алтаре святого Петра, которому посвящен храм, он велел сплошь покрыть чистым золотом; его супруга, королева Констанция, по смерти своего благочестивого мужа велела продать семь ливров такого же золота и пожертвовала вырученные деньги Господу и святому Эньяну на украшение кровель монастыря, который она построила.
Любой сеньор, даже обладавший незначительной властью, желал щедростью быть равным королю. Аквитанский герцог дарит ангулемской церкви Сен-Сибар «золотой крест, украшенный драгоценными камнями, весом семь ливров, и серебряные канделябры, изготовленные сарацинами, весом пятнадцать ливров». Вот рыцари, победившие на окраинах христианского мира отряд мусульман:
<...> собрав добычу, они увидели перед собой огромную груду металла. Таков обычай сарацин - идя в бой, украшать себя множеством золотых и серебряных пластин. Рыцари не забыли обет, который дали Богу, и тотчас послали добычу в монастырь Клюни; святой Одилон, аббат монастыря, велел сделать из этого металла великолепную дароносицу для алтаря святого Петра.
Сверкающие украшения, которые языческие правители раньше уносили с собой в могилу, теперь стекаются в дом Господа, блистающий ярче, чем дворцы самых могущественных государей. Окруженное голодными толпами рыцарство беспечно разбрасывает богатства, Церковь же собирает груды волшебных драгоценностей для своих богослужений, желая, чтобы они своим великолепием затмили феодальные празднества. Разве Бог не должен являться в ослепительной славе, окруженный ореолом света, который создатели романских Апокалипсисов изображали вокруг Него в виде миндалевидной ауры? Разве не подобает Ему владеть сокровищами, превосходящими богатства всех земных владык?
Бог — это Сеньор. В те времена каждый представлял Его могущество подобием феодальной власти. Когда святой Ансельм попытался описать всесильного Владыку невидимого мира, он поместил Его на вершине небесной вассальной иерархии: ангелы получают от Бога фьефы; по отношению к Нему они вассалы — его thegns, как говорит англосаксонский поэт Киневульф. Монахи осознают, что должны сражаться за Него, подобно воинам, которые защищают замок хозяина и ожидают награды. Они мужественно надеются однажды обрести утраченное наследство, фьеф, отобранный в наказание за вероломство отцов. Что касается мирян и распространения на них благодати Божией, церковные мыслители низводят их до положения крепостных крестьян. Епископ Эберхарт дошел до того, что считал Христа вассалом Бога Отца. Покорность людей Богу вписывалась в рамки отношений, которые на земле в повседневной жизни подчиняли подданных феодальному сеньору. Христианин считал себя верным слугой своего Господа — именно поэтому поза вассала, на коленях, с непокрытой головой и сложенными руками приносящего клятву верности, стала в то время позой молитвы. Вассал клянется преданно служить господину. Но так как вассальные отношения обязывают людей, связанных ими, к оказанию взаимной помощи, так как феодальный сеньор должен помогать своему «человеку», если тот служит верой и правдой, так как хозяева больших сельских владений во времена голода раздают пищу крестьянам-арендаторам, наконец, так как щедрость — первая добродетель великих мира сего, христианин, вассал Бога, ждет от Него защиты от всех опасностей, подстерегающих в этом мире. И прежде всего надеется получить вечный фьеф — свое место в раю.
Однако в этом мире дары сеньоров попадают в руки самых храбрых воинов. Это плата за отвагу. Следовательно, добиться небесных милостей человек может только подвигами. Распространение ценностей рыцарского кодекса придает христианству XI века героическую направленность. Самыми великими святыми становятся воины. Подобно святому Алексею, чьи аскетические подвиги воспевает поэма из 1040 стихов, написанная на народном языке для нормандского двора, эти святые предстают как образцовые рыцари, мускулистые воины, стойко принявшие мучения ради своего господина. Обществу, взбаламученному отрядами вооруженных всадников, было трудно услышать призыв к доброте и смирению, звучавший в Евангелии. Чтобы достичь сердец молодых воинов, чтобы привести их к Богу, священники, выросшие вместе с рыцарями в стенах замка и служившие в доме своего господина, представляли слушателям Церковь как некое воинство, которое Христос ведет в бой, вздымая крест, точно стяг. Они рассказывали о жизни святых воинов Маврикия и Димитрия, призывали рыцарей проявить такую же отвагу в борьбе, которую каждый должен вести с опасным и постоянно рыскающим поблизости врагом, с когортой лукавых бесов — вассалов дьявола. Под влиянием рыцарской культуры аналогии с военными действиями проникли во все представления людей того времени. Весь мир охвачен боем. Даже небесные тела противостоят друг другу. Монах Адемар Шабаннский увидел однажды ночью, как «боролись две звезды в созвездии Льва; меньшая, разъяренная и в то же время испуганная, бросалась на большую; другая звезда с гривой, состоявшей из лучей, оттесняла ее к западу». В те времена христиане, столкнувшись с чем-то таинственным, ведут себя так же, как во время сражения. Набожность считается вечным бдением в дозоре, цепью атак, приключений, схваток с силами зла. Каждый представляет свою земную жизнь краем, подвергшимся нападению и взывающим о защите, землей, которую честь обязывает возвратить Сеньору в целости и сохранности. В Судный день подвиги и проступки будут взвешены. На некоторых романских фресках изображен суровый Христос, держащий в стиснутых зубах меч справедливости и победы.
Что же нужно делать, чтобы не разочаровать Бога-Владыку, Бога, держащего меч, Бога, внушающего ужас, и добиться Его милостей? Быть может, следовало соблюдать Его законы? Но разве люди знали их? Никто не может сказать, что именно видели в свете Евангелия крестьяне, которые влачили жизнь в лачугах и, стоя у церковных дверей, издалека следили за жестами священника и прислушивались к отголоскам песнопений, не понимая ни одного латинского слова. Чего могли ожидать бедняки от сельского духовенства, избранного из той же деревенской среды, от кюре, толкавших перед собой в поле плуг, чтобы прокормить жену и детей, и быстро забывавших то немногое, чему они когда-то научились? Какой лик являл Христос самим священникам и что понимали они из Его учения? Вот, пожалуй, и все, что известно о религии, которую исповедовали рыцари. Вся она состояла из ритуалов, жестов, формул. Рыцарская культура, изгнавшая письменность, опиралась на слово и изображение, то есть на формализм. Если воин приносил клятву, для него важнее всего было не движение души, а поза, контакт, в который его рука, лежавшая на распятии или Библии, вступала с чем-то священным. Когда воин изъявлял желание поступить на службу к сеньору, это также оформлялось особым ритуалом — положением рук, набором слов, неизменно следовавших одно за другим, сам факт произнесения которых уже скреплял контракт. Вступая во владение фьефом, рыцарь таким же ритуальным жестом принимал от сеньора ком земли, флаг, какой-нибудь символический предмет. Подавленный неведомыми силами природы, дрожавший при мысли о смерти и о том, что следует за ней, рыцарь еще сильней цеплялся за ритуалы. Следуя им, он заслужит снисхождение Господа. Роланд умирает — он просит отпущения грехов, вспоминает рассказ о воскрешении Лазаря и о пророке Данииле во рву со львами. Но его спасает один-единственный жест — в знак высшего почтения он протягивает Богу правую перчатку, и архангел Гавриил спускается с небес, чтобы передать Господу этот символ верности[61]. Лучшей похвалы Роберт Благочестивый добился от своего биографа за то, что очень заботился о соблюдении различных церемоний, и особенно о том, чтобы литургию служили по всем правилам: «Он так тщательно следил за порядком богослужения, что казалось, не Бога приветствуют с пышностъю, подобающей любому другому сеньору, а сам Он появляется во славе Своего собственного могущества». Во время долгой агонии король, уподобившись монаху, не умолкая пел псалмы, а когда настал его час, «беспрестанно осенял крестным знамением лоб, глаза, веки, шею и уши».
Все эти ритуалы способствовали укреплению особого образа мышления и возникновению определенных представлений о Боге. Они были двойственными, как представления о короле и сеньорах, присвоивших некоторые атрибуты монарха. Война и справедливость — меч и скипетр. Бог XI века мало чем отличался от предводителей отрядов, устраивавших засады в болотах, чтобы внезапно напасть на последних норманнских завоевателей 1000 года. Каждому надлежит примкнуть к войску, которое Бог ведет за Собой, и вместе с Ним преследовать тени, могущественные силы, о существовании которых лишь иногда дается знать в видениях, предвещающих смерть, в шорохах, наполняющих ночь, но которые, как всем известно, управляют таинственным миром. Человеческим чувствам дано коснуться лишь оболочки этого мира. Эти таинственные силы наводят ужас, перед ними нельзя устоять. Если нужно узнать, кто виновен, а кто нет, испытуемым дают в руки кусок раскаленного железа, и по состоянию ран определяют того, кто согрешил. Подозреваемых бросают в воду, ожидая, что она извергнет нечистое существо. Люди доверяются магическим силам земных стихий, к которым обращаются в подобных испытаниях как к посредникам в тяжбе добра и зла, Бога и Сатаны. Для борьбы с грехом, казавшейся простертым ниц верующим неясной и, во всяком случае, трудной, Богу нужны были люди.
Христианам XI века могущество Предвечного представлялось прежде всего актом справедливости, так же, как и крестьянам — власть хозяина их надела, как рыцарям — власть хозяина их фьефа. Бог карает. Самое распространенное Его изображение — то, которое скульпторы в конце XI века стали устанавливать у монастырских дверей: Всемогущий на троне, восседающий в окружении вассалов. Этими баронами-присяжными не всегда были апостолы. Вначале на их месте изображали старцев из апокалиптических видений или, чаще всего, архангелов, герцогов небесного воинства. Один из них, архангел Михаил, стоял близ трона подобно сенешалу: он руководил судилищем. Божий суд выносил приговоры, как и суд земных владык.
Перед лицом многолюдного собрания, на которое в этом мире возложена обязанность мирить рыцарей и гасить месть враждующих кланов, обвиняемый никогда не представал в одиночку. На суде присутствовали его друзья. Они приносили клятву и свидетельствовали о его невиновности. Ответчик всегда видел среди членов суда людей, с которыми он был связан кровными узами или клятвой верности. Он рассчитывал на их помощь. Они вступятся за него. Быть может, изменят решение суда. Вот почему люди в то время, боясь Страшного суда, так заботились о том, чтобы завоевать расположение святых. Эти герои веры составляют двор Бога. Он прислушается к их мнению. Они смогут смягчить Его гнев. Каждый может привлечь святого на свою сторону, обеспечить себе его заступничество теми же средствами, к которым прибегают на земле, чтобы заслужить чью-либо благосклонность, — дарами. «Приобретайте себе друзей на небе богатством неправедным» — эти слова без конца повторяются в преамбулах хартий, запертых в монастырских архивах и хранящих память о пожертвованиях знатных сеньоров. Святые были повсюду. Они населяли невидимое пространство, но и кое-где на земле можно было пообщаться с ними: в некоторых храмах, построенных в их честь, хранились останки их земной оболочки. Из рук церковнослужителей, наполнявших эти святилища, святые принимали милостыни, приношения, которые должны были связать их с жертвователями, на самом деле стремившимися захватить их в плен. Рыцари XI века, равно неспособные унять природную тягу к насилию и понять, чего ждет от них Господь, чувствовавшие вину, что бы они ни делали, и страшившиеся возмездия, старались дарами, сыпавшимися из их рук на бесчисленные религиозные учреждения, заслужить самое выгодное положение, когда настанет час предстать перед небесным судом.
В практике земного судопроизводства также можно было задобрить сеньоров дарами. Рыцарские суды редко приговаривали виновных к телесному наказанию. В конце разбирательства речь всегда заходила о деньгах. Подарить несколько монет означало восстановить согласие, нарушенное проступком, погасить жажду мести, которую любая агрессия вызывала не только у подвергшегося ей человека, но и у его близких и сеньора, от которого зависели мир и спокойствие. Ведь сеньор чувствовал себя оскорбленным тем, кто, совершив насилие, нарушил мир, защитником которого он выступал. Итак, решение суда обязывало виновного платить. Помимо денежной компенсации, которой ожидала противная сторона, следовало заплатить штраф, возмещавший ущерб, нанесенный нарушителем королю, графу или же владельцу замка — одним словом, всем, кто отвечал за общественную безопасность. Таким же образом приобреталось и прощение Бога. «Милостыня смывает грех, как вода гасит огонь»: благочестивые пожертвования были тогда основным делом набожного человека, христианина, раздавленного чувством постоянной вины.
Давать Богу не значило давать бедным. Кто, кроме сеньоров, не казался ничтожным в этих бедных деревнях? Нищета была общей участью. Противостоять ей можно было, обеспечив нормальное функционирование институтов феодального общества и прибегнув к щедрости, свойственной великим мира сего. Роберт Благочестивый всю жизнь был окружен бедняками. В Святой четверг, «преклонив колени, он своими святыми руками давал каждому из них овощи, рыбу, хлеб и одно денье». Двенадцать нищих сопровождали его повсюду, и, «если кто-нибудь умирал, не было недостатка в желающих занять его место, так что число их никогда не уменьшалось». Можно ошибиться в понимании такого поведения, если отделить его от символа. В действительности король-Христос разыгрывал евангельскую сцену: он раздавал освященную пищу в память о Тайной вечере, и двенадцать человек, следовавшие за ним, также были актерами — они изображали апостолов. Дары, которыми можно было умалить гнев Божий, стекались тогда в церкви. Мужчины и женщины, не вступившие в ряды воинства служителей Божиих и порабощенные злыми силами, отдавали самое ценное, что у них было. Некоторые жертвовали свои тела и свое потомство. Таким образом, особенно на территории империи, росло стадо «подданных алтаря». Ежегодно в день, на который приходился праздник святого покровителя храма, чьими слугами стали эти люди, они тянулись друг за другом к церкви, ставили на жертвенный камень корзину воска и клали символическую монету — знаки своего добровольного рабства. Каждый приносил часть своего имущества, жемчужины своих сокровищниц, и чаще всего — землю, единственную настоящую драгоценность. Пожертвования совершали по любому поводу, чтобы загладить каждый проступок, едва он был совершен. Однако лишь на пороге смерти милостыня приобретала свое истинное значение.
Представления об аде, который возрожденная монументальная скульптура в первые годы XII века живо изображала у входа в базилики, стали результатом пропаганды, различные элементы которой были задействованы к 1040 году и которая, держа мирян в постоянном ужасе, способствовала увеличению даров in articulo mortis[62]. Надо сказать, что эти дары шли на пользу не только дарителю. Умирающий думал не только о собственном спасении, но и о всем своем роде. Черпая дары из богатств, оставленных предками, он заботился также и о том, чтобы помочь душам умерших родственников. Он надеялся соединиться с ними в день Страшного суда, раствориться в восстановленном единстве бессмертной личности, которой был род и которая сообща отвечала за каждого своего члена. Неослабевавшая волна благочестивых пожертвований вызвала самое мощное экономическое движение, с трудом пробившее себе дорогу в атмосфере полной безжизненности. Не считая раздела наследства, эти пожертвования были единственным значительным перераспределением ценностей, известным в то время. Милостыни вели к обнищанию светской знати и способствовали обогащению церковной аристократии. Дары с лихвой возмещали урон, нанесенный рыцарями, грабившими церкви, и мало-помалу укрепляли фундамент духовной власти. Не учитывая огромный приток материальных ценностей, который постоянно увеличивал имущество святых и приносил их служителям растущие доходы, невозможно объяснить мощь порыва, который между 980 и 1130 годами подтолкнул Европу к новым художественным завоеваниям. Развитие сельского хозяйства стало причиной всплеска романского искусства, но оно не смогло бы придать ему такой размах, если бы рыцарство, господствующее сословие, не жертвовало бы столь самоотреченно значительную часть своего состояния во славу Божию.
Существовало и другое средство завоевать расположение Бога и небесных сил, составлявших Его двор, иной способ подвергнуть себя лишениям, но этот способ требовал физических и душевных усилий — речь идет о паломничестве. Покинуть круг семьи, дом, убежище. Едва перешагнув порог, встретиться лицом к лицу с опасностями, отправиться в путь на многие месяцы, идти через негостеприимные деревни и города — можно ли придумать более ценный дар Господу и Его святым, к могилам которых лежал путь пилигрима? Паломничество было самой совершенной и лучше всего принимаемой формой аскетизма, которую героическое христианство XI века предлагало рыцарям, заботившимся о своем спасении. Паломничество было видом покаяния: на тех, кто публично сознавался в особых грехах, епископ налагал его как епитимью, как средство очищения. Оно было также символом: паломник уподоблялся народу Божию, идущему в Землю обетованную, он шел в Царствие Небесное. Наконец, паломничество было удовольствием. В то время не знали более притягательного развлечения, чем путешествие, особенно если его совершали, что было совершенно естественно для паломников, в компании друзей. Толпы богомольцев, спускавшиеся в лодках по рекам или шедшие по дорогам, мало отличались от молодых бродяг и еще менее — от отрядов вассалов, которые, выполняя долг, отправлялись по зову сеньора на несколько дней в его замок, чтобы присутствовать на совете. Паломники также выполняли вассальный долг, собиравший их в назначенный день у ларцов, покрытых золотыми пластинами и кабошонами и заключавших в себе мощи святых. От этих рак исходила невидимая сила, исцеляющая тела, врачующая души. Никто не сомневался, что таинственные личности, чьи рассеянные повсеместно останки свидетельствовали об их присутствии в этом мире, не поскупятся на дружбу ради тех, кто издалека пришел поклониться им. «Чудеса святой Фуа», «Чудеса святого Бенедикта» — монахи составляли сборники умножавшихся чудес, доказывавших пользу паломничества.
Эти походы состояли из нескольких этапов, отмеченных остановками у церквей, в которых хранились святыни. Желая приготовиться к смерти, король Роберт во время Великого поста отправился вместе со всем двором исполнить долг перед святыми, «едиными с ним в служении Господу»; долгий путь вел его в Бурж, Сувиньи, Бриуд, Сен-Жиль-дю-Гар, Кастр, Тулузу, Сент-Фуа в Конке, Сен-Жеро в Орийаке. Какой ценитель романского искусства откажется в наши дни от такого маршрута? Действительно, в XI веке, особенно в южных провинциях, где ослабевало могущество королей, именно вблизи могил чудотворцев возникли самые рискованные, дерзкие архитектурные сооружения, развился дух изобретательства, давший рождение новым формам и смелым поискам в монументальной скульптуре. Творческие силы питались богатствами, которыми толпы паломников осыпали раки с мощами. Вот описание одного из таких источников, дававших средства для украшения алтарей и обновления культовых сооружений:
<...> его процветанию способствовала могила святого Тронда, которая каждый день сияла новыми чудесами. Все дороги, ведущие к ней из города, ежедневно на полмили в округе были запружены толпами паломников — знатных путешественников, свободных людей и крестьян. В праздники их прибывало еще больше. Некоторые шли прямо через поля и луга. Те, кому не находилось места в домах, укрывались в палатках или шалашах, наскоро выстроенных из веток и полотнищ. Казалось, они окружили город, чтобы осадить его. К паломникам следует прибавить торговцев, привезших провизию на лошадях, телегах, повозках и вьючных животных. Что сказать о дарах, принесенных к алтарю? Не будем упоминать о скотине — лошадях, быках, коровах, свиньях, баранах и овцах, которых доставляли без счета; невозможно было подсчитать количество и стоимость льна и воска, хлеба и сыра; множество ризничих до самого вечера были заняты только тем, что собирали мотки серебряной нити и монеты, которые сыпались к алтарю.
В XI веке все ревностные христиане, стремившиеся паломничеством заслужить снисхождение Божие, мечтали помолиться у трех могил — святого Петра, святого Иакова и Христа. Гийом, герцог Аквитанский, живший в 1000 году, «с молодости взял обычай каждый год отправляться в Рим, где находился апостольский престол; в годы, когда герцог не бывал в Риме, он совершал паломничество в монастырь Святого Иакова в Галисии». Незадолго до смерти, в октябре 1026 года, граф Ангулемский вместе с отрядом, состоявшим из нескольких сотен рыцарей, отправился в Иерусалим, намереваясь прибыть туда к следующему Великому посту. Многие феодальные владыки совершали подобное паломничество. Рауль Глабер в своих «Историях» отмечает, что с приближением 1033 года
<...> бесчисленные толпы начали стекаться со всего мира ко Гробу Господню в Иерусалим; сначала бедняки, потом люди среднего достатка, за ними вся знать, короли, графы, епископы, прелаты, наконец, чего раньше никогда не видели, женщины знатного происхождения, совершавшие паломничество наравне с самыми ничтожными оборванцами. Многие желали умереть до возвращения на родину.
И многие действительно умирали. Это происходило потому, что они решали отправиться в путешествие в период, когда наступала пора самых крупных пожертвований, — накануне перехода в мир иной, и совершенное паломничество должно было принести немедленную пользу. А также потому, что, прежде чем достичь Гроба Господня, необходимо было пересечь обширные области, где дикие христиане Запада не всегда были желанными гостями. Возможно, именно множество опасностей заставило рыцарей-паломников в середине века объединиться в вооруженные отряды, которые не колеблясь вступали в бой. Не была ли эта агрессивность прежде всего проявлением молодых сил страны, которая начала осознавать свою мощь? Во всяком случае, речь здесь идет о решающем моменте в религиозной истории рыцарства.
До сих пор Церковь стремилась защитить себя от военных волнений. Она возвела стену между собой и насилием, оградила некоторые святые места, некоторые социальные группы, находившиеся под ее покровительством, — духовенство, монахов и бедняков. Теперь она желала обратить на путь истинный самих рыцарей, вырвать их из лап зла, направить их энергию и рвение на службу Господу. Понемногу прививался обычай назначать на Троицу или день Святого Духа посвящение новичков в рыцари — родовой, языческий ритуал, вводивший сыновей воинов в новую семью. Благословляя мечи, священники произносили магические заклинания, призывавшие освященное оружие служить делу, испокон веков считавшемуся обязанностью королей, — защите бедных и битве с неверными. Первые церковные соборы, созывавшиеся после установления Божия мира, никогда не оспаривали права воинов сражаться — Бог поставил их на вершине социальной лестницы для того, чтобы они служили обществу оружием. Однако к 1020 году некоторые клирики начали проповедовать, что военные утехи греховны и запрещающий их угоден Всемогущему. К предписаниям Божия мира прибавились обязательства соблюдать перемирие на время религиозных праздников. «С начала Великого поста до окончания Пасхи я не нападу на безоружного всадника». Во время покаяния следовало воздерживаться от участия в сражении, так же как и от других плотских удовольствий. К середине столетия, когда паломничества в Сантьяго-де-Компостела и Иерусалим постепенно начали принимать характер военного захвата исламских стран, собрания, возглавляемые епископами, осудили любое насилие, совершаемое христианами друг над другом. «Да не убьет христианин другого христианина, так как убивающий христианина непременно проливает кровь самого Христа». Против кого же теперь рыцари, которым Божий Промысл определил военную долю, должны были обратить мощь своего оружия? Против тех, кто не принадлежал к народу Божию, против врагов веры. Законной была только священная война. В 1063 году Папа собрал рыцарей Шампани и Бургундии, намеревавшихся отправиться с паломничеством в Святую землю. Он призвал их обрушиться на неверных. Тому, кто погибнет в бою, преемник святого Петра, владеющего ключами от рая, обещал отпущение грехов. Во имя Христа этот отряд захватил Барбастро, сарацинский город, полный золота и женщин. Тридцать два года спустя другой Папа указал рыцарям, одержимым жаждой насилия, более привлекательную цель — Гроб Господень. Все вооруженные паломники, откликнувшиеся на призыв, получали крест — эмблему, символ победы, хоругвь Христа. Итак, крестовый поход был не чем иным, как итогом длительного давления феодального духа на христианство, а первые крестоносцы — верными вассалами ревнивого Бога, который разжег войну в стане врага и покорил противников огнем и мечом. Церковная скульптура приняла среди прочих атрибутов могущества Божия броню, кольчуги, шлемы, щиты и целый арсенал копий, обращенных против темных сил.
3 Монахи
Ощетинившийся оружием, закованный в броню Запад XI века жил в страхе. Как было ему не дрожать перед незнакомыми, внушающими недоверие силами природы? Волна ужаса, неожиданно поднявшаяся в 1000 году, не оставила никаких определенных следов в литературе. Однако можно утверждать, что многие христиане с тревогой ожидали наступления тысячелетия Страстей Господних — 1033 года. В культуре, придававшей такое значение поминовению усопших и посещению могил, дата смерти Бога занимала гораздо более важное место, чем дата Его рождения. Именно эту дату имеет в виду Рауль Глабер, когда описывает в своих «Историях» предшествовавшие ей знамения: «Казалось, что порядок смены времен года и взаимоотношения стихий, царивший с начала времен, навсегда уступил место хаосу и человечеству настал конец». Известно, что приступы страха, охватывавшие легко поддававшийся ему народ, вспыхивали повсеместно и вызывали беспорядочные миграции, увлекая иногда целые деревни в бесцельные странствия.
Глубинной причиной этих потрясений и тревоги было ожидание конца света. «Мир стареет» — таково обычное начало дарственных грамот. Однако каждый хотел предугадать, когда разразится буря, в которой погибнет вселенная. Чтобы узнать это, ученые изучали Священное Писание. В двадцатой главе Апокалипсиса они читали, что Сатана освободится от цепей и всадники, сеющие смуту, появятся со всех концов земли, когда «окончится тысяча лет»[63]. На это пророчество ссылались священники, которые в середине X века проповедовали «народу в одной из парижских церквей, что Антихрист придет в конце 1000 года и вскоре последует Страшный суд». Однако многие из числа духовенства опровергали это, утверждая, напротив, что желание проникнуть в тайну Господа достойно порицания и что человеку не дано знать день и час [конца света]. В Евангелии указана не точная дата, а предшествующие ей знамения: «<...> восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам; всё же это начало болезней»[64]. Тогда-то и потребуется быть готовым предстать перед ослепительным ликом Христа, сходящего с небес на землю судить живых и мертвых. Запад 1000 года с тревогой наблюдал появление первых симптомов.
Что ему было известно об устройстве тварного мира? Он видел, как на небе, следуя заведенному порядку, вращались светила, повторялись рассветы и вёсны, а все живые существа рождались и умирали. Он сознавал, что миром управляет установленный Богом порядок, сущностный порядок, в соответствии с которым были возведены стены романских церквей и который пытались воплотить их строители. Случалось, однако, что мир сбивался с ритма. Люди наблюдали метеоры и кометы, которые не следовали обычному круговому движению звезд. Из глубин моря поднимались чудовища, подобные киту, «напоминавшему остров. Он появился однажды в ноябре на рассвете и был виден до третьего часа дня». Что было думать о бедствиях, внезапных ураганах, извержениях вулкана или драконе, «летевшем на юг и испускавшем снопы искр», которого множество перепуганных людей заметили в небе над Галлией в субботу накануне Рождества? Возмущение огня, воды, неба и недр земли — описание необычных явлений стало основным содержанием хроник, составленных в то время монахами. Летописцы старались скрупулезно запечатлевать эти события, так как считали происходившее цепью знамений, которые когда-нибудь позволят узнать дальнейшую судьбу человечества. Монахи различали в них предвестия будущего. Во время солнечного затмения 1033 года люди увидели, что бледны как мертвецы; «безмерный ужас охватил тогда их души: они понимали, что это зрелище знаменовало печальный конец человечества». В связи с появлением кометы монах Рауль задается вопросом:
Что касается того, новая ли это звезда, которую Бог послал на небо, или же другое небесное тело, свет которого Он усилил в знамение человечеству, это ведомо лишь Тому, чья мудрость устраивает всё наилучшим образом. Однако точно известно, что всякий раз, как люди замечают, что в мире совершилось подобное чудо, на них вскоре обрушивается нечто удивительное и ужасное.
В дикарском образе мыслей, господствовавшем тогда в сознании даже самых образованных людей, вселенная представала как некий таинственный лес, который никому не дано пройти до конца. Чтобы войти в него и оградить себя от таящихся в нем опасностей, нужно действовать как охотник — следовать извилистымитропами, полагаться на приметы, доверять случайным, лишенным логики совпадениям. Порядок в мире основан на сплетении связей, проникнутых магическими силами. Всё, что замечает человек, представляет собой знак — слово, шум, движение, вспышка молнии. Лишь терпеливо распутывая клубок символов, человек мог шаг за шагом пробираться сквозь дебри окружающего мира, пленником которого он был.
Рождение чудес окутано тайной. Главное — различить, чья воля, скрывающаяся за видимыми проявлениями, породила их. Не результат ли они действия сатанинских сил, которые, как всем известно, кишат под землей и в непроходимых чащах, готовые в любой момент наброситься на жертву, тех сил, которые в декоре произведений романского искусства изображаются в виде чудовищ, женщин-рептилий? Христианизация облекла подспудные верования XI века в определенные образы и формы, но не «смогла окончательно восторжествовать над представлениями, в которых инстинктивная народная вера всегда искала объяснения тому, что невозможно познать. Мифы, построенные на противопоставлении тьмы и света, смерти и жизни, тела и души, изображали вселенную как поле боя, поединок добра и зла, Бога и восставших воинств, отрицавших и потрясавших установленный Им порядок. Они помогали распознавать в бедствиях, в нарушении обычного ритма жизни поражение сил добра и победу Сатаны, врага рода человеческого, находившегося в плену у ангелов, «доколе не окончится тысяча лет», который теперь вырвался на свободу и шел в наступление, сея повсюду смуту, как рыцари, мчавшиеся по полям и губившие будущий урожай.
Но почему не считать, что эти знамения, напротив, посланы самим Богом? Богом вспыльчивым, скорым на гнев, подобно земным королям, когда они узнают о предательстве или оскорблении, Богом, который, однако, по-прежнему любит своих сыновей и хочет предупредить их и предостеречь, не желает нападать внезапно и дает передышку, чтобы они успели достойно принять самый страшный из Его ударов. Человек подавлен могуществом Бога, но должен доверять Ему. Творец даровал человеку глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать. Как Христос с учениками, Он говорит с ним притчами, пользуется неясными метафорами, и каждый христианин должен сам проникнуть в их скрытый смысл. Нарушая космический порядок, Бог проявляет милость к человечеству, призывая его бодрствовать. Эти глухие раскаты подобны первому предупреждению. Огромное число бедствий, поразивших деревни 1000 года — наводнения, войны, чума или голод, — обрушилось на цивилизацию, совершенно безоружную перед неожиданным бунтом стихий и другими явлениями, угрожавшими жизни человечества, неспособную подавлять вспышки собственных страстей. Эти несчастья были необъяснимы, и люди считали их предвестниками Судного дня, предупреждениями, о которых говорилось в Евангелии от Матфея[65]. А следовательно, напоминанием о необходимости покаяния.
Всё, что позволяет узнать об образе мыслей в XI веке, заключено в текстах, написанных в монастырях. На этих свидетельствах, безусловно, лежит отпечаток особой этики: они составлены людьми, самим своим призванием склоняемыми к пессимизму, к тому, чтобы искать образец для подражания в полном отречении [от мира]. Монахи призывали мирян к лишениям, которым подвергали себя сами, а чудеса, свидетелями которых они становились, придавали вес их словам. Бог показывает свое недовольство. Умножаются предвестия скорого пришествия Христа, который покарает виновных. Чтобы войти вслед за Царем в пиршественный зал, человечество должно спешно облачиться в брачные одежды; горе тому, у кого их не будет[66]. Каждый должен отмыться от грехов и добровольным отречением от мирских удовольствий обезоружить занесенную руку Всемогущего. Очевидно, большие народные собрания, созывавшиеся в Южной Галлии для установления Божия мира, были покаянными собраниями, предлагавшими верующим способы коллективного очищения. В Аквитании свирепствовало массовое отравление вследствие употребления в пищу злаков, пораженных спорыньей, «огонь святого Антония»[67], — это свидетельствовало о гневе Господа; в Лимож
<...> отовсюду с большой торжественностью доставили мощи святых; из могилы извлекли тело святого Марциала, покровителя Галлии; мир охватила великая радость, болезнь, уносившая многие жизни, повсеместно отступила, а герцог и его приближенные заключили договор о мире и справедливости.
Установление всеобщего согласия играло свою роль в стремлении к аскетическому образу жизни, вызванном знаками, предвещавшими приближение Страшного суда, — проповедь Божия мира призывала отказаться от ратных утех. Предлагая рыцарям в качестве покаяния, наиболее подходящего их положению, регулярное воздержание от кровопролития, каким было перемирие, Церковь в то же время с особой настойчивостью требовала соблюдать посты. Отныне она считала, что священники, образцы христианской жизни, должны подавать пример бедности и чистоты, отказаться от роскоши, принятой в кругу рыцарей, и оставить своих сожительниц — иными словами, вести монашеский образ жизни. Чтобы унять гнев Господа и подготовиться ко Второму пришествию Христа, которое было уже не за горами, следовало уничтожить грех в самом зародыше и, следовательно, строже соблюдать основные заповеди. Сатана завлекает людей в свои сети при помощи четырех соблазнов. Он прельщает их мясом, войной, золотом и женщиной. Человечество, ожидающее скорого суда, должно научиться отвергать эти искушения. Монахи в течение долгих веков отказывались от богатства, не прикасались к оружию, вели целомудренную жизнь и постились. Теперь Церковь предписывала и всем христианам подражать им, принять те же обеты — бедности, целомудрия, мира и воздержания — и повернуться спиной ко всему, что есть плотского в мирской жизни. Отныне род человеческий, обратившись на истинный путь, мог уверенно следовать в Новый Иерусалим.
Одиннадцатый век, убежденный духовенством в том, что приближается конец времен, избрал своим идеалом, выражать который должны были произведения искусства, принципы монашеской жизни. Посреди огромных, едва возделанных пространств, заселенных народом, сгибавшимся под тяжестью нищеты и волнуемым вспышками никогда не угасавшей тревоги, рядом с замками, где кипела жизнь воинов XI века, возникали новые крепости, убежища, дававшие кров и надежду; и бесовские армии, пытавшиеся взять их приступом, разбивались об укрепления. Это были монастыри. В то время полагали, что земной город покоится на двух столпах. Его сообща охраняют две армии: те, кто носит оружие, и те, кто молится Предвечному. Где же лучше всего молиться? Конечно, в пристанище чистоты, защищенном стенами обители. Во всех аббатствах Западной Европы множество Авелей приносило Господу единственную угодную Ему жертву. Монахи более, чем павшие короли, епископы и прелаты Европы, способны были унимать гнев Бога. Они были хозяевами священного. Рыцарство разбило лагерь посреди латинского христианского мира и крепко держало его под своим владычеством. Однако в области духа, в огромной области, охваченной тревогой и религиозным ужасом, а следовательно, и в области художественного творчества полной властью обладали монахи.
Общество, придававшее такое значение формулам и жестам и дрожавшее перед невидимым, нуждалось в ритуалах, чтобы отогнать страх и установить связь со сверхъестественными силами: ему нужны были таинства, а значит, и священники. Несомненно, еще более необходимыми были молитвы — непрерывное пение вместе с дымом ладана поднималось к престолу Бога как вечная жертва, хвала и моление о милости. Обществу были нужны монахи.
Первой задачей монахов было молиться за общество. В то время один человек не представлял никакой ценности, терялся в толпе; индивидуальная деятельность также растворялась в совместных действиях и общей ответственности. Подобно тому как кровная месть распространялась на весь род и настигала не только преступника, но и всех его родственников, так же и христианский народ чувствовал солидарность как перед лицом зла, так и перед Богом, запятнанный преступлением одних и очищенный воздержанием других своих членов. Большинство считали себя слишком слабыми или невежественными, чтобы спастись своими силами. Они ожидали прощения своих грехов взамен жертвы, принесенной другими, жертвы, которая должна была послужить благу всего сообщества и распространялась на всех. Посредниками в деле коллективного спасения были монахи. Монастырь выступал как орган духовного уравновешивания общества. Он вымаливал у Бога прощение и распределял его между остальными. Монахи, конечно, первыми пожинали плоды своих трудов. Прежде всего они зарабатывали невидимый фьеф, который должны были получить на небе за свою службу. Другим также удавалось получить часть от этих милостей, и немалую, поскольку монастырская община считала их своими ближними. Прежде всего, монахи трудились ради спасения своих кровных родственников — вот почему в знатных семействах был так распространен обычай жертвовать младшими детьми, которых отдавали в какое-нибудь аббатство, где они всю жизнь молились за старших, оставшихся в миру. Кроме того, монахи спасали братьев по духу — многие миряне ради этого соединяли свою жизнь с каким-либо монастырем, принося в дар свое тело, клянясь в вассальной верности или вступая в одно из молитвенных братств, сеть которых была развита при каждом святилище. Наконец, монахи радели о своих благодетелях — и в их руки текли пожертвования. Вот причины, благодаря которым повсеместно умножалось число монастырей (обители были преимущественно мужскими: немного было женских монастырей в мире мужской культуры, которая все еще решала вопрос, есть ли у женщины душа), вот источник их процветания. Главенствующее положение, занимаемое монастырями, объясняет также, почему значительная часть их доходов тратилась на украшение обителей. Бога славят не только молитвой, Ему приносят в дар прекрасные произведения, декор и архитектурную гармонию зданий, которая становилась лучшим выражением могущества Предвечного. В результате упадка королевской власти и изменений, происходивших в обществе, на аббатства легла задача предстоятельствовать перед Богом за народ, издревле считавшаяся компетенцией монархов, а также всё, что касалось управления художественным творчеством. Служение Богу за весь народ, совершаемое монахами, вызвало в XI веке расцвет церковного искусства.
Помимо этого, монастыри стали хранилищами святынь. Ни один мирянин не осмелился бы объявить своей собственностью мощи святых — обладающие чудотворными свойствами останки, через которые таинственные силы действовали в этом мире. Лишь король или люди, отличавшиеся чистотой жизни, могли владеть ими. На смену братствам священников, которые из поколения в поколение были хранителями святынь, но поддались искушениям века, постепенно пришли монашеские общины. Каждый монастырь оставался собственностью какого-либо святого, который пресекал любые посягательства на нее и обращал огонь гнева Божия на голову того, кто покушался на его права. Монастырь был резиденцией святого, который телесно присутствовал там в предметах, окружавших его в земной жизни. Оказывать почитание святому, испрашивать его помощи в испытаниях, борьбе с болезнью, которую он был властен прекратить, или в ожидании приближающейся кончины следовало там, где хранились его мощи. Большинство аббатств строилось на гробнице мученика или проповедника христианства, героя битвы с силами зла и тьмы. На могиле. На могилах. В городе Осер «в маленькой церкви [аббатства Сен-Жермен] насчитывалось двадцать два алтаря», а Рауль Глабер, систематизировавший эпитафии на могилах святых, «украсил подобными надписями гробницы некоторых набожных мирян». Монахи, жрецы культа святынь, процветавшего вокруг рак с мощами, были незаменимыми посредниками между подземным миром мертвых и земной жизнью. Такова была еще одна их функция, главная задача, которая нашла глубокое отражение в художественных формах. Действительно, было необходимо, чтобы окружение святынь соответствовало их значению. Монастырская церковь сама превратилась теперь в некое подобие раки и потому сияла великолепием. Декор тех мест, где хранились останки святых, незаметно приблизился к образцам погребального искусства.
Внимание, которое христианский мир XI века уделял смерти, означало победу глубинных народных верований, укрепившихся с победами феодализма, навязанных духовенству и поднявшихся на верхние этажи культуры, где они вновь нашли мощное выражение. Легенды, легшие в основу жест — песен о героических деяниях, зародились близ некрополей, на кладбище Алискан в Арле, в Везеле на могиле Жерара Руссильонского[68], в тот момент, когда менялся христианский погребальный обряд. Прежде бренные останки грешника просто вверяли милосердию Господа. Теперь же рыцари требовали вмешательства священников, которые должны были освятить труп. Именно тогда в погребальной церемонии появились ритуалы каждения, формулы отпущения, в которых духовенство заявляло о своем праве отпускать грехи. Считалось, что для спасения души умершего лучше всего, если его могила находилась вблизи святилища, рядом с хорами церкви, откуда молитвы денно и нощно возносились к Богу-Судии. Сильные мира сего удостаивались чести быть похороненными внутри монастырской церкви. Вокруг простирались огромные кладбища, самые лучшие и дорогие места находились у стен храма. На эти могилы монастырская община распространяла милость заупокойной службы, занимавшей все больше места в дневном круге богослужений. День за днем в поминальных молитвах повторяли всё удлинявшийся список имен тех, по ком совершалась панихида. Наконец, монастырь принимал умиравших. В XI веке среди рыцарей Западной Европы распространился обычай «обращаться», менять на смертном одре образ жизни, облачаться в одежды святого Бенедикта. В смертный час рыцари становились членами большой монастырской семьи, духовного рода, который никогда не должен был прерваться и который, как и любой род, заботился о спасении своих мертвецов и молился за них во веки веков. В день Страшного суда воскресшему из мертвых, стоящему в ряду братьев монахов, быть может, удастся скрыть от взгляда Предвечного, что его хитон не так бел, как одежды других. Аббатства создавались как братские могилы, их воспринимали как промежуточный этап между мраком земной жизни и великолепием небес, поэтому их украшали всеми сокровищами этого мира.
Реликварии, некрополи, источники отпущений — монастыри — были столь необходимы, что они возникали без счета. Однако для того, чтобы их деятельность приносила пользу, они должны были отличаться исключительной чистотой. Институт монашества был сильно подорван волнениями IX и X веков. Монастыри первыми пострадали от опустошительных нашествий: банды норманнов, сарацин и венгров разграбили и сожгли плохо защищенные, полные сокровищ аббатства и обратили монахов в беспорядочное бегство. Выйдя против своей воли за ограду обители, они оказались ввергнутыми в пучину зла, остались один на один с искушениями века. Большинство воссоединялось в краях, где удавалось найти убежище от наступавших язычников. После долгих странствий монашеская община города Нуармутье, отступая все дальше под натиском викингов, в конце концов перенесла мощи своего покровителя, святого Филиберта, в Турню, на берега Соны. В этом тихом месте община наконец смогла построить одно из самых прекрасных зданий нового искусства.
В то же время монастыри сгибались под другим игом — под гнетом феодализма. Короли, встарь покровительствовавшие аббатствам, теперь выпустили их из своих рук. В 1000 году в епархии города Нуайон, расположенной вблизи резиденции Капетингов, под юрисдикцией короля Франции из семи монастырей остался лишь один; все остальные перешли во владение феодальных сеньоров, которые и выполняли в частном порядке функции правосудия. С другой стороны, в то время множество представителей благородных родов — от государей до владельцев небольших замков — основывали обители, чтобы получать взамен молитвы, определять туда своих сыновей и хоронить своих мертвецов. Каждый феодал считал дом Божий своим личным имуществом, и судьба монахов, приравненных к крестьянам, арендующим землю, или домашним рабам, вскоре определилась — они стали частью семейного достояния господина. Монахи находились в подчинении у хозяина, который временами притеснял их и нещадно эксплуатировал. Ему же принадлежали поклонение верующих и дары, сыпавшиеся на алтари святилищ. Нередко случалось, что феодал расхищал церковное имущество, тратя его на женщин и содержание своих шаек, обрекая тем самым монастырскую братию на нищенское существование. В лучшем случае монахи были обязаны уступить в качестве фьефа рыцарям своего патрона значительную часть собственных владений. Каким бы независимым ни был аббат или приор монастыря, ему приходилось вести тяжбы с окрестной знатью, оспаривавшей права святых. Ему приходилось воевать. Такое положение вещей, усугубленное феодальными смутами, порождало беспорядки и неопределенность. Как следовать уставу и заставить уважать неприкосновенность монастырских стен, как удержать монахов от пролития крови в сражениях, оградить их от золота и плотских искушений? Как сохранить их знания?
Как только Запад избавился от грабежей и раздоров, его учителя стали отдавать все силы делу первостепенной важности — восстановлению мест, где совершалась общая молитва. Инициаторами становились крупные феодалы. Старея и задумываясь о приобретении союзников на небесах, они старались вернуть прежний порядок в монастыри, которые их предки основали или вырвали из-под королевского покровительства. Это реформаторское движение началось очень рано — в первые годы X века. К 980 году оно развернулось во всю мощь, а к 1130 году, достигнув цели, завершилось. Тот факт, что важнейшую роль в этот период христианской истории играли именно монашеские общины, объясняет, почему реформаторский дух проник прежде всего в аббатства. Церковь, действовавшая в миру, вплоть до начала XII века оставалась погруженной в земные заботы, поэтому аббаты затмевали епископов и монахи повсюду одерживали победу. Это происходило потому, что они отличались большей святостью, потому, что их служение было значительно более угодно Богу. До 1130 года самыми крупными культурными центрами Западной Европы, колыбелью нового искусства были не соборы, а монастыри. Обители, возникшие в сельской местности, на земле, дававшей силы непрекращавшемуся развитию земледелия, наиболее соответствовали требованиям и структурам общества, которое было преимущественно деревенским. Своим главенствующим положением монастыри были обязаны тому, что институты монашества значительно раньше были обновлены и очищены от разлагавшей их скверны. На западе Европы в Средневековье аббаты достигли святости прежде епископов, прежде них провели реорганизацию школы и прекратили проматывать всё более щедрые пожертвования, непрерывным потоком стекавшиеся в обители. Отныне эти средства тратились на то, чтобы, к вящей славе Господней, перестроить и украсить монастырский храм.
Как правило, реформой монастырских учреждений занимался человек, обладавший необходимыми для этого способностями, известный строгостью нравов и энергичностью, которого государи-феодалы, желавшие быть уверенными, что имеют дело с истинным монахом, приглашали для того, чтобы укрепить в каком-нибудь монастыре расшатавшуюся дисциплину. Занимаясь исправлением пороков, этот человек постоянно был в пути. Однако, желая, чтобы его деятельность приносила реальные плоды, он, как правило, старался удержать в своих руках управление множеством обновленных обителей. Таким образом монастыри объединялись в некое целое, во главе которого стоял такой человек. Самим фактом своего объединения монастыри были лучше защищены от нового натиска разрушительных сил, в частности от вмешательства светской власти. Реформа стихийно породила конгрегацию, структуру, в определенной степени повлиявшую на церковное искусство. Некогда искусствоведы делали попытки определить границы областей, где развивалось романское искусство; говорили о пуатевинской или провансальской школах. Надо сказать, что сходство, характерное для памятников XI века, объясняется не столько географической близостью обеих провинций, сколько духовными связями, которые во всем христианском мире объединяли монастыри, очищенные одним и тем же реформатором и поэтому находившиеся в тесном родстве. Настоятели этих обителей, желая продемонстрировать духовное единство, строили церкви одного типа, в декоре которых было мало различий.
Конгрегаций было множество. Упомянем ту, что возникла в Лотарингии в результате деятельности Ришара Сен-Ваннского, или же средиземноморское объединение, в котором под эгидой монастыря Святого Виктора Марсельского собралось множество каталонских, сардинских и тосканских монастырей. В 1001 году герцог Нормандский призвал Гийома де Вольпиано, настоятеля церкви Сен-Бенин в Дижоне, чтобы наставить на путь истинный монахов из Фекана; в 1033 году Гийом основал Фруттуарию в Ломбардии. Своим успехом этот учитель был обязан исключительной строгости; его считали требовательным super regula, сверх устава. Он заставлял братьев монахов соблюдать строжайший аскетизм — «умерщвлять плоть, помнить о скверне человеческого тела, носить убогие одежды, питаться скудной пищей» — это поможет им сохранить совершенную чистоту. Вдоль линии, обозначившейся между Северной Италией и берегами Ла-Манша, зацвели первые всходы: от стен Фекана реформа докатилась до Сент-Уана в Руане, Бернэ, Жюмьежа, монастыря Святого Михаила над морской пучиной[69], (Роланд вспоминает о нем в свой смертный час — этот монастырь посвящен архангелу, который взвешивает души на Божием суде)[70]. Реформа проникла в аббатства, где Вильгельм Завоеватель и Ланфранк после 1066 года искали для Англии хороших епископов и где учились самые крупные ученые 1100 года, одним из которых был святой Ансельм. Свет, сиявший из Дижона, озарил Бэз, Сетфонтэн, Сен-Мишель-де-Тоннер, Сен-Жермен-дез-Осер, монахом которого был Рауль Глабер; Фруттуария влияла на монастыри Сант-Амброджо в Милане и Сант-Аполлинаре в Равенне. К моменту своей смерти в 1033 году Гийом де Вольпиано был настоятелем сорока монастырей, где молились более тысячи двухсот монахов.
Над всеми конгрегациями XI века безраздельно властвовал Клюни. Аббатство, созданное в 910 году, было абсолютно независимым. Его основатель не допустил никакого вмешательства — ни мирских властей, ни даже епископов — и напрямую подчинил монастырь Римскому Престолу. Обитель опекали покровители Рима, святые Петр и Павел. Полная самостоятельность, привилегия, которую сохраняли монахи этого аббатства, заключавшаяся в праве самим, независимо от любого давления со стороны, назначать настоятеля, принесла успех клюниискому монастырю. В 980 году он был очень почитаем, но сиял еще вполсилы — его аббат Майель отказался проводить реформу в монастыре Фекан и Сен-Мор-де-Фоссе и предоставил своему последователю, Гийому де Вольпиано, выполнить вместо него эту задачу. Империя Клюни была возведена святым Одилоном уже после 1000 года. Объединив многочисленные, но небольшие общины, он сплотил их вокруг одного настоятеля, вокруг единой концепции монашеской жизни — ordo cluniaciensis — и особых свобод, которые при непосредственной поддержке Святого Престола гарантировали всем клюнийским монастырям защиту от посягательств феодалов и освобождение от власти епископов. Конгрегация перешагнула границу, отделявшую Французское королевство от империи, продвинулась в Бургундию, Прованс и Аквитанию. Она обосновалась в тех областях Западной Европы, которые полностью вышли из-под опеки монархов, в землях, где процветали феодальная раздробленность и Божий мир, в провинциях, где латинская культура не подвергалась насильственному воскрешению стараниями придворных археологов, но, напротив, глубоко пустила корни в плодородную историческую почву, — одним словом, пришла к истинной колыбели романской эстетики. Постепенно клюнийское влияние распространилось на Испанию, двинулось к Сантьяго-де-Компостела и укрепилось в большом королевском монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья, насадившем обряды римского христианства на Иберийском полуострове. В 1077 году король Англии доверил Клюни монастырь Льюис; спустя два года французский король поручил ему парижский монастырь Сен-Мартен-де-Шан. Таким образом, конгрегация укоренялась в землях, где процветало придворное искусство. Она обеспечила себе милости крупнейших монархов Запада. От короля Кастилии она получила в дар золотые мусульманские монеты, а от английского монарха — серебряные. Эти деньги пошли на перестройку главной монастырской церкви, на ее внешнее и внутреннее убранство, которое должно было соответствовать месту, занимаемому аббатством во главе огромного сообщества. Однако клюнийская церковь не была ни императорской, ни королевской. Она была автономной. Клюнийские монахи почитали Альфонса Кастильского или Генриха Английского как истинных основателей своих церквей, однако перестройка ее была организована аббатом Гуго, другом императора и советником Папы Римского; в свое время он, бесспорно, был пастырем христианского мира.
В Лотарингии после проведения реформы монахи приняли опеку епископов — прелатов, которые стараниями императора были в то время лучшими в Европе. В провинциях же, где обосновались клюнийцы, влияние феодализма настолько повредило главные детали церковного механизма, ведавшего мирскими делами, что клюнийское движение приняло совершенно антиепископскую направленность. Оно дробило епархии в то время, когда стремление феодалов к независимости дробило графства. Для религиозных учреждений победа Клюни означала ослабление епископского авторитета, разрушение каролингской системы, при которой государство держалось на объединенной власти епископа и графа, чьи действия контролировал монарх. Для культуры и ее проявлений эта победа означала упадок школ при религиозных центрах, ослабление просветительской деятельности, черпавшей силу в произведениях латинских авторов, иными словами, регресс имперской эстетики. В том, что касалось духовной жизни, религиозного мировоззрения и художественного творчества, завоевания Клюни соответствовали победам феодализма. Обе стороны объединились, чтобы поколебать древние основания. На покоренной клюнийским движением территории, которая постоянно расширялась и точно совпадала с той особой областью, где возникли так называемые романские художественные формы, каролингские традиции растворялись и стирались, чтобы дать выход изначальным силам, прорывавшимся сквозь романский субстрат.
Триумф Клюни, шедший в ногу с развитием сельского хозяйства и установлением феодального строя, стал одним из важнейших фактов в европейской истории XI века. Успех его был полным. Епископ Адальберон написал целую поэму, стремясь наглядно показать королю Франции, что победы, которые одерживало вездесущее и повсюду проникавшее воинство в черных одеждах, в действительности подрывали его власть. Причины такого успеха крылись в исключительных личных качествах четырех аббатов, которые, сменяя друг друга, на протяжении двух веков руководили большим монастырем, в строгости устава и умелом распространении своих идей, а также в том, что религиозное учреждение занималось именно тем, чего ожидало от него светское общество, и безупречно выполняло свои функции. Рауль Глабер писал:
Знай, этот монастырь не имеет равных в романском мире, особенно в том, что касается освобождения душ, попавших во власть дьявола. Там столь часто совершается животворящее жертвоприношение, что, как правило, не проходит и дня, чтобы непрестанное общение [с Богом] не помогло вырвать какую-нибудь заблудшую душу из лап лукавых демонов. В этом монастыре, я сам был тому свидетелем, множество монахов соблюдают следующий обычай: богослужение не прекращается ни на минуту с первого часа ночи до самого отхода ко сну; мессы служат с такой торжественностью, благочестием и почитанием святынь, что кажется, будто видишь перед алтарем ангелов, а не смертных.
В Клюни монахи завладели привилегией священников — правом служить мессу. Совершение Евхаристии, бывшее обязанностью священнослужителей, сочеталось с умеренностью во всем и воздержалием — неотъемлемой частью монашеской жизни. Недостойность прелатов, живших в миру, чувствовалась всё сильнее, и всё заметнее становилось их взаимное подчинение. Благодаря успеху клюнийской реформы монашество распространялось всё шире, о чем епископы Аквитании могли только мечтать в разгар эпидемий и вспышек страха, охватывавших народ с приближением тысячелетия со дня крестных мук Господа. Клюнийское движение также сумело — и, быть может, именно это принесло ему победу — ответить чаяниям дикого христианского мира, вся религиозная практика которого сводилась к культу мертвых. Нигде и никогда заупокойные мессы, отпевания, погребальные церемонии и поминальные трапезы, на которые монашеская община собиралась, чтобы разделить с усопшим, которого монотонное чтение псалмов вызывало из царства мертвых, трапезу, состоявшую из хлеба, вина и изысканных блюд, подававшихся только к княжескому столу, нигде эти обряды не совершались лучше, чем в огромном бургундском аббатстве. Именно клюнийцы предложили объединить поминовение всех умерших в одной литургии, совершаемой 2 ноября. Утверждалось, что душа, не нашедшая успокоения, могла избавиться от мучений загробного мира, если по ней заказывались установленные молитвы. Под духовной властью Клюни находились сотни молелен, и монахи изо всех сил стремились христианизировать, и на этот раз окончательно, народную религию, примирив Евангельскую Весть, обещавшую всеобщее воскрешение в конце времен, и языческие верования в загробную жизнь. Самые могущественные владыки Европы желали покоиться на монастырских кладбищах. Клюнийская базилика, ставшая наивысшим выражением искусства XI века, своей композицией и убранством символизировавшая восставание мертвецов при трубном гласе и сиянии Второго пришествия Христа, выросла на земле, которую делало плодородной множество могил.
В XI веке монахи Западной Европы приходили к Богу двумя различными путями. Первый был некогда проложен византийским христианством, поэтому самыми крупными его победами отмечена область, которая, пролегая через Центральную Италию, отделяет латинскую культуру от эллинской. Эта пограничная область расширяется к югу, охватывая Сицилию и оконечность Апеннинского полуострова, куда потомки нормандских сеньоров стремились в то время в поисках приключений. Мало-помалу они начинают одерживать победы над Византией и исламским миром, присоединяя его к Западу, и вскоре возводят в Бари романский собор. В этих краях монах действительно бежал от мира, удалялся в пустыню. Он искал уединения в какой-нибудь пещере, словно на Синае или в Каппадокии. Нагой, покрытый гнусом, презирающий свое тело, он довольствовался тем, что Бог по своему милосердию давал полевым лилиям и небесных птицам[71].
Горы Лацио, Тосканы, Калабрии были тогда населены отшельниками, усеяны разбросанными там и сям скитами, в которых ученики, объединившись вокруг наставника, подвергали себя спасительному самоистязанию. Постепенно колонии затворников объединялись — так возник орден камальдулов, основанный святым Ромуальдом. Многие иностранцы восхищались столь суровой формой покаяния. Император Оттон III отправился к святому Нилу, также бывшему поборником умерщвления плоти. Вместе с Франконом, епископом Вормса, император, «босой и облаченный во власяницу, сохраняя строжайший секрет, укрылся в пещере, находившейся рядом с церковью, посвященной Христу, и они провели две недели в уединении, посвятив себя молитве, посту и бдению». Такой образ монашеской жизни, выбор полного отречения от мира, совершенной нищеты, затворничества и молчания, естественно, исключал любое художественное творчество — во всяком случае, до тех пор, пока оно не получило, как в Помпозе, признания в миру. Затворничество пользовалось постоянно возраставшим успехом на протяжении всего XI века — оно привлекало рыцарство, потому что требовало физических подвигов, владения собой и удовлетворяло стремление к испытаниям. Со временем эта монашеская практика получила большое распространение и проникла в Европу, когда Бруно основал картезианский орден, а Стефан из Мюре — орден гранмонов[72]. В это же время стремление к строгости начало восставать против романской эстетики, подготавливая ее к наступлению цистерцианского искусства. Но настоящий успех пришел к этой традиции уже после 1130 года. До этого времени западное монашество следовало другой дорогой, той, которую в VI веке проторил Бенедикт Нурсийский. Бенедиктинский устав распространялся из Монте-Кассино, из аббатства Флери-сюр-Луар, в котором, по преданию, хранились останки основателя ордена, и особенно из Англии, которую просветили евангельским светом ученики святого Бенедикта. Каролингские реформаторы внедрили их устав в большинство европейских монастырей.
Для бенедиктинского пути к Богу характерны равнодушие к проповеднической деятельности и стремление к уединению и отречению от мира. Однако бенедиктинцев отличали два принципа: общинный дух и умеренность. В каждой их обители жила некая монашеская семья, бразды правления которой крепко держал отец настоятель, облеченный всей полнотой власти и несший всю ответственность pater familias[73] античного Рима. Монахи были братьями; дисциплинарные правила, уничтожавшие любое проявление самостоятельности, казались еще более строгими, чем те, которые объединяли родственников по крови. В основу своего устава святой Бенедикт положил добродетель послушания. «Послушание, не знающее промедления, — первая ступень смирения. Откажись от своей воли и вооружись мощными и достойными орудиями послушания, чтобы сражаться под знаменем Христа, нашего истинного государя». Оружие, сражение, знамя — монашеская семья предстает как scola, то есть отряд, подчинявшийся власти военачальника. Монахи, словно вольнонаемные, подписывали некие обязательства, наподобие контракта, который заключали солдаты поздней Империи. Товарищеский дух, чувство локтя — ни у кого не было места, где он мог уединиться, даже аббат ел, спал и молился в окружении своих сыновей, настоящих воинов. Друг с другом их связывало нечто гораздо более прочное, чем вассальная верность, и они никогда не забывали об этом.
Другими важнейшими добродетелями бенедиктинской этики были стабильность, осуждение бродяжничества и любого поползновения к независимости. Монастырская община, как и любая феодальная семья, оседала в своем имении и пускала корни на принадлежавшем ей земельном наделе. Ни один из ее членов не владел имуществом, которое принадлежало бы лично ему. Любой бенедиктинец мог не задумываясь сказать, что он беден. В действительности его бедность была такого же рода, что и нищета рыцарских сыновей: отец богат, а у наследников — ни гроша. Еще более она напоминала бедность воинов-слуг, которых крупный феодал содержал в своем укрепленном замке, — им принадлежало только оружие. Как рядовой всемирного воинства, монах владел долей в общем имуществе, обеспечивавшей ему существование в постоянном достатке, в котором жила тогда сельская знать. Имея много общего с родовым гнездом знатной семьи, бенедиктинский монастырь без труда вписывался в социальные рамки раннего Средневековья и давал приют множеству юных аристократов и состарившихся феодалов, которые желали окончить свои дни рядом с Господом. Этому состоянию светского общества отвечал дух умеренности, которым проникнуты наставления святого Бенедикта, стремление к гармонии, сдержанности, чувство меры, разумность, которые принесли успех «самому простому уставу для начинающих». «Надеемся, мы не требуем ничего трудного или невыполнимого», — сказал основатель ордена, решительно свернувший с пути, избранного приверженцами аскетизма. Святой Бенедикт ограничил время поста и предложил простую мораль в противоположность крайностям мистицизма. Он действительно считал, что воинам Христовым для того, чтобы они успешно сражались, необходимы нормальная пища, одежда и отдых. Пусть лучше монах забудет о своем теле, чем будет упорствовать в борьбе с ним. Пусть он как следует возделывает земли вокруг своей обители, собирает более обильный урожай и приносит Богу более щедрые жертвы.
Клюни жил по бенедиктинскому уставу, но толковал его по-своему. Изменениями, привнесенными клюнийскими обычаями в учение основателя ордена, объясняются глубинные свойства нового искусства. Служители Бога с первых веков латинского христианства стояли на самой высокой ступени социальной лестницы, и монастырь сразу занял место в этой иерархии. Клюни безоговорочно принял богатство, изобилие, питаемое потоком пожертвований, стекавшихся к каждой молельне конгрегации, которая считала, что никто не распорядится этими сокровищами лучше, чем она. Ведь эти дары целиком идут на службу Господу! Зачем же отказываться от них? Клюни был передовым отрядом в Божьем воинстве, отчего бы его сыновьям не вести такой же образ жизни, как рыцари, отчего не существовать за счет крестьян, на которых Бог возложил заботу о содержании воинов и людей, посвятивших себя молитве? Святой Бенедикт предписывал монахам трудиться, возделывать поля и собирать урожай, чтобы подвергнуть себя наказанию и бороться с праздностью, которая открывает дорогу искушениям. В Клюни же восторжествовали аристократические предрассудки — считалось, что действительно свободному человеку предосудительно трудиться словно крестьянину; работу воспринимали как наказание, едва ли не бесчестье, во всяком случае как оскорбление; утверждалось, что именно поэтому Бог создал рабов. Труд клюнийских монахов можно было считать совершенно символическим. На них, как на господ, работали арендаторы, возделывавшие монастырские земли, и слуги, обязанные выполнять всю черную работу. Располагая досугом, монахи, однако, не предавались ученым занятиям. Святой Бенедикт пренебрегал деятельностью сугубо интеллектуальной. Он заботился о пище для души, а не о завоеваниях разума — в его уставе говорилось, что монастырь может принимать в свою общину и неграмотных. Англосаксонские бенедиктинцы, в VIII веке вдохновившие реформу франкской Церкви, заполнили этот пробел и превратили школу в один из столпов монастырской жизни: латынь была для них иностранным языком, но Вергилия они читали. Монастыри Галлии и Германии в каролингскую эпоху также стали яркими очагами имперской культуры. Многие продолжали светить и в 1000 году — в странах, дольше всех сохранявших верность монархии: в Баварии, Швабии, Каталонии. В XI веке лучшие библиотеки и самых ревностных учителей можно было найти в Санкт-Галлене, Рейхенау, Монте-Кассино, в аббатствах Бек и Риполь. Но не в Клюни.
В клюнийской общине происходило отторжение интеллектуального труда, которое на пороге IX века началось в некоторых аббатствах империи, заботившихся о строгости и простоте монашеской жизни. Дело не доходило до того, чтобы преграждать книгам дорогу в школы или библиотеки, но занятия, как правило, сводились к чтению творений святых отцов, главным образом Григория Великого. После 1000 года аббаты Клюни не переставали отвлекать своих подопечных от общения с языческими классиками, остерегать их от духовной заразы, которую рисковал подхватить монах, услаждавший себя чтением римских поэтов. Такое недоверчивое отношение к античным авторам, господствовавшее в среде, где зарождалась романская эстетика, быть может, облегчит понимание ее отличия от эстетики имперской, от всех «возрождений» с их стремлением к просвещению. Из трех искусств тривиума[74] монаху не казались нужными ни риторика — зачем красноречие тому, кто проводит свою жизнь в молчании и объясняется преимущественно жестами, ни диалектика — наука о рассуждении, совершенно бесполезная в затворничестве, когда не с кем спорить и некого переубеждать. Монаху требовалась только грамматика. Но зачем подвергать себя искушениям, впитывать яд, заключенный в светской литературе? Чтобы узнать смысл латинских слов, не достаточно ли пользоваться различными сочинениями энциклопедического содержания, например «Этимологиями» Исидора Севильского? Пусть же последователь святого Бенедикта ищет на полках монастырской библиотеки сборники, где литературные произведения представлены в отрывках и лишены соблазнов, пусть в уединении он снова и снова перечитывает несколько священных текстов и постепенно запечатлевает их в своей памяти. Следя за ухищрениями разума и прельщаясь красотами языка, нельзя приблизиться к истинному знанию. Монах дает обет молчания, его путь лежит к небесам и божественному свету. Он увидит этот свет, как только какое-нибудь слово или образ возникнет в его сознании, словно нахлынувшее воспоминание. Прозрение осенит его, вспыхнув при внезапном сочетании слов или неожиданно прояснившемся смысле символов. Таковы были обстоятельства интеллектуальной жизни, сопровождавшие в XI веке зарождение монастырской живописи, скульптуры и зодчества. Не знали как, не знали почему, почти не было ссылок на классические тексты. Но было Писание, которое хранили в памяти от первой строчки до последней, каждое слово которого считали знамением Божиим и потому берегли словно сокровище — взвешивая, ощупывая и испытывая до тех пор, пока от случайного соприкосновения с другим словом не вспыхивал свет. Мысль изменяется, скользя по множеству мутных граней воспоминания, но вновь упорядочивается в единстве литургической символики.
Главной особенностью образа жизни клюнийского монашества была следующая — всё соединялось в служении Богу, в opus Dei, богослужениях; все изменения, которым ordo cluniaciensis подверг текст бенедиктинского устава, способствовали возвеличиванию дела, которое сам святой Бенедикт считал важнейшим. Он указал монаху особую задачу — воспевать славу Господу — и посвятил двенадцать глав своего устава строю литургического богослужения. Для него целью монашеского служения была совместная молитва, совершаемая ко всеобщему благу. Если при монастыре существовала школа, она готовила монахов для служения, в котором должно было полностью реализоваться их призвание к послушанию и смирению. В этом служении накапливался опыт совместной общинной жизни — ничто не сплачивало братию крепче, чем богослужение, а литургия связывала в один сноп богатую жатву, собранную монахами во время уединенного чтения и размышлений. Клюни оказался очень требовательным к этой стороне монашеской жизни. Во-первых, увеличилась продолжительность службы. Монахи, следуя уставу, должны были посвящать еженедельному чтению Псалтири, размеренному чтению нескольких отрывков из Библии меньше времени, чем прочим земным занятиям. Однако по обычаям клюнийского монастыря богослужение в обычные дни занимало семь часов, а в праздники и того больше. Пение в течение столь долгого времени становилось непосильной работой, что оправдывало отказ от ручного труда и те удобства, которыми община окружала своих монахов. С другой стороны, Клюни старался направить любовь к драгоценностям и склонность к роскоши, занесенную в монастырь рыцарским духом, в другое русло — стремился привлечь внимание к богослужению, к тому, чтобы слава Господня засияла еще ярче. Что делать с богатствами, которые ежедневно в изобилии производились в имениях, находившихся в умелых руках? С богатствами, которые со всего христианского мира стекались в аббатство от набожных прихожан? С золотыми монетами и слитками серебра, которые Христовы рыцари, победители ислама, жертвовали монастырю? Все эти сокровища должны были служить приумножению роскоши, с которой было обставлено богослужение. Вскоре клюнийская община превратилась в огромную мастерскую, где монахи-художники трудились над убранством дома Божия. Именно это вызвало расцвет, восхитивший Рауля Глабера, «настоящее соперничество, толкавшее каждую христианскую общину к тому, чтобы обзавестись церковью более роскошной, чем у соседей», заставившее весь мир встряхнуться, сбросить лохмотья и одеться белым платьем церквей[75]. Но эти новые храмы, их декор, груды драгоценностей, окружавшие алтари, в действительности были лишь оболочкой, идеально соответствовавшей содержанию — гораздо более значимому произведению искусства, которое ежедневно повторялось в строго регламентированной пышности литургического богослужения.
На протяжении целого года богослужения разворачивались словно некий медленный танец, изображавший судьбу человека и ход истории от сотворения мира до Судного дня. Телесное участие монашеской общины выражалось, во-первых, в крестном ходе, напоминавшем об исходе народа Божия, который Моисей вывел в Землю обетованную, а Христос увлекал за Собой в Небесный Иерусалим. Движение религиозной процессии, выполняющей один из основных церковных обрядов, в каролингскую эпоху определяло план строившихся монастырей: так, строители Сен-Рикье возвели три церкви, находившиеся на некотором расстоянии друг от друга. Во время крестного хода монахи обходили их одну за другой, аналогично тому, как мысль, направляемая Промыслом Божиим, обращалась к трем ипостасям Господа. Подобным же образом потребность в пространстве для процессий, совершавшихся во время литургии, заставила прибавить к плану базилики боковые нефы, расширить галерею, окружавшую хоры, увеличить где только можно внутреннее пространство и привела к удлинению центрального нефа. В Клюни при строительстве третьей церкви святой Гуго, желая лучше представить долгий путь, отделявший человека от спасения, пожелав, чтобы как можно дальше отстояли друг от друга паперть, где происходило приобщение к свету, и алтарь, где служили мессу и откуда общая молитва возносилась к Богу, запланировал хоры — пространство, развернутое ввысь напряженными колоннами и сводами.
Литургическое действо было музыкальным. Религиозность XI века раскрылась в песнопении, которое полным голосом в унисон исполнял мужской хор. В нем звучало единодушие, угодное Богу, внимавшему хвале, воздаваемой Создателю Его творениями. Семикратно в течение дня хор клюнийских монахов шествовал в церковь, чтобы распевать псалмы; в пении можно было различить черты, свойственные бенедиктинскому направлению западноевропейского монашества, — сдержанность и смирение. Подобное исполнение не допускало работы воображения. Смирение и послушание возвеличили в Клюни должность кантора, которому настоятель передавал часть своих полномочий с тем, чтобы тот руководил хором и поддерживал в нем дисциплину. Несомненно, в западных монастырях сочинительство было частью музыкального творчества. Крупные монастыри XI века, такие как Санкт-Галлен или Сен-Марциал в Лиможе, были удивительно живучими очагами высочайшего искусства того времени — литургического искусства, которое в своих высших проявлениях соединило стихи и музыку. На профессиональном языке этих монастырей «найти» означало очень точно положить новый текст на модуляции григорианской мелодии. Посвящавшие себя этому делу ясно сознавали, что таким образом происходит сакрализация грамматики. Благодаря их ухищрениям слова молитвы начинали соответствовать простой григорианской мелодии, которая, в свою очередь, идеально соответствовала ритмам мироздания и, следовательно, замыслу Божию. Они присоединяли обычные человеческие слова к словам хвалебных песнопений, которые ангелы во веки веков поют Богу. В школах XI века квадривиум, второй цикл свободных искусств, сводился практически к одной музыке. Второстепенные науки — арифметика, геометрия и астрономия — были лишь служанками музыки, которая представала как вершина учения о грамматике, ставшей концентрированным содержанием тривиума. В то время никто не читал про себя, всякое настоящее чтение сопровождалось пением. Чтобы достичь совершенства в исполнении псалмов, каждый поющий должен был знать наизусть священный текст, поэтому размышление над смыслом латинских слов и медитация над тонами музыки шли в то время бок о бок. Единственная логика, которую приняла эта культурная среда, была логика музыкальной гармонии. Когда Герберт пытался «сделать совершенно отчетливым звучание нот, отведя для них конкретные места на монохорде, разделив консонансы и симфонии на тоны, полутоны и диезы и методично распределив их», он, несомненно, признавал начала того, что двумя веками позже стало схоластическим анализом. Но главные его усилия были направлены на то, чтобы понять скрытый порядок мироздания.
Музыка, а через нее и литургия были самыми эффективными инструментами познания, которыми располагала культура XI века. Слова, их символическое значение и ассоциации, которые их сочетание вызывало в сознании, помогали на ощупь исследовать тайны бытия. Они вели к Богу. Дорога, которой вела к Нему мелодия, была еще короче, так как благодаря ей человеческое сердце могло различить стройные аккорды творения и проникнуть в совершенство замыслов Божиих. В XIX главе устава святой Бенедикт цитировал псалом: «Я буду петь Тебе в присутствии ангелов». Для него хор монахов символизирует хор небесных сил. Он стирает преграды, разделяющие небо и землю, вступает в область несказанного, в предвечный свет. «Во время пения псалмов, — говорил святой Бенедикт, — мы предстоим перед лицом Господа и Его ангелов». Когда человек участвует в хоровом пении, его тело, разум и душа стремятся к озарению. Он впадает в stupor[76], admiratio[77], неподвижное созерцание вечного сияния, о котором в XII веке говорил цистерцианец Бодуэн из Форда. Монашество не стремилось объяснять свою веру, оно старалось поддерживать ее тем коллективным восхищением, которое переполняло совершавших богослужение. Интерес представляли не причины, результаты или доказательства, а общение с невидимым миром, и самым прямым путем к этому казался опыт литургического хорового пения. Когда одни и те же мелодии и положенные на них строки молитв звучат в один и тот же час изо дня в день, не становится ли монах, участвующий в повторении музыкального действа, всецело причастным к тем несказанным добродетелям, которых человеческий разум не может достичь иным способом?
Богослужения, совершаемые в соответствии с годовым циклом, символизируют более возвышенную реальность; они включают в себя важнейшие таинства и всё величие небесных таинств; они были установлены во славу главы Церкви, Господа Иисуса Христа, людьми, которые поняли всё величие таинств и сумели выразить его словом, буквой и обрядом. Изо всех духовных сокровищ, которыми Святой Дух одарил Церковь, мы должны испытывать особую любовь к умению черпать мудрость в словах молитв и псалмов.
Руперт Дейцский добавляет: «...это не что иное, как один из видов пророчества».
В XI веке монахи совершают службу вечной хвалы Господу, в которую вливается вся мощь творческого потенциала, заключенная в некоем произведении искусства. Это произведение, имеющее отношение к литургии, теснее всего связано с музыкой. Гуго Клюнийский решил поместить на капителях хора новой базилики изображение музыкальных тонов. Он считал их элементами космогонии, так как семь нот, по словам Боэция, непостижимо связаны с семью планетами, и в этом следует искать ключ к пониманию гармонии Вселенной. Но прежде всего аббат желал, чтобы эти образы, как некая схема Божественной тайны, служили братьям монахам темой для размышления. «Tertius impigit Cristumque resurgens fingit» — в этой надписи, сопровождающей изображение, заключено определение роли третьего тона. Чувства, пробуждаемые этим тоном, подготавливают душу к пониманию того, что есть Воскресение Господа, лучше, чем проповедь, чтение или созерцание картин.
4 Рубеж
Бога нельзя созерцать лицом к лицу. Созерцательная жизнь, начавшаяся в этом мире, станет совершенной лишь тогда, когда мы воочию узрим Бога. Простая и добрая душа, когда она погружается в размышление и, разрывая узы тела, созерцает небеса, не может долгое время парить над самой собой, так как груз плоти тянет ее к земле. Душа бывает поражена величием небесного света, но быстро возвращается обратно; однако и та малость, которую она вкусила от божественной сладости, приносит ей большую пользу; вскоре, воспылав любовью, она спешит снова воспарить.
Такова направленность монашеской религиозности. Добровольным раскаянием, послушанием, смирением и опытом безукоризненной братской жизни, через литургию, музыку, наконец, через произведения архитектуры и изобразительного искусства монашество пытается преодолеть границы, в которых человека XI века удерживают его эмоции и ничтожные возможности, но все-таки стремится выйти за пределы чувственного восприятия и понимания, проникнуть в то, что откроется всему человечеству в Судный день, желает заглянуть в другую часть Вселенной, о свойствах и могуществе которой можно лишь догадываться. Он охвачен влечением к Богу, то есть к тайне.
Как бы ни были образованны священнослужители, они не могли применять свои знания к вере. Багаж их знаний оказался таким же убогим, как деревянные примитивные плуги, которыми их современники-крестьяне распахивали пустоши. Они не читали по-гречески, знание античных философов было ими полностью утрачено. Умирающий Рим, надо сказать, совершенно равнодушный к любой настоящей науке, оставил в наследство несколько научных трактатов, которые не могли освободить мышление клириков от принципов, лежавших в основе народной мудрости. Словно охотники или их собратья рыцари, со страхом пробиравшиеся среди зарослей и ловушек, устроенных врагом, Божий люди всегда были настороже, выжидали. Герберт, чья ученость в 1000 году вызывала всеобщее восхищение, считался не философом, а колдуном. Он так же расставлял ловушки невидимому миру. Хитростью и колдовством он старался подчинить себе силы судьбы. Человек того времени чувствовал себя окруженным непроходимой чащей. В этих зарослях скрывается Бог. По некоторым признакам можно догадаться о Его присутствии. Можно увидеть Его руку, идти за Ним, преследовать и ценой большого терпения и любви если не приблизиться к Нему, то хотя бы вспугнуть и заметить свет на Его пути.
Совместно совершаемые богослужения, непосредственное участие в таинствах позволяют человеку выйти за границы своего естества и, по выражению Руперта Дейцского, самим стать пророками, то есть провозвестниками Бога. Среди средств, при помощи которых можно поймать невидимое, на первом месте стоят музыка и литургия. До сих пор никто не ставил разум на ту же ступень. Экзегеза — инструмент, которым пользуются все. В ней сходятся все искания духа. Скрывающийся Бог подает знаки, столь же таинственные, как Он сам. Необходимо расшифровать эти послания. С того времени как в каролингских монастырях возродились занятия науками, все методы преподавания ориентировались именно на эту цель. Во второй четверти IX века одним из инициаторов такого подхода был бенедиктинский монах Рабан Мавр, «наставник Германии», аббат монастыря в Фульде. «Мне пришло в голову, — писал он, — составить небольшой трактат, в котором говорилось бы не только о природе вещей и свойстве слов, но и об их мистическом значении». Слова и природа — вот две области, доступные человеческому разуму, в которых Бог являет Свое присутствие. Итак, монах внимательно исследует Евангелие, а изучение грамматики подготавливает его к тому, чтобы постепенно, продвигаясь от чтения вслух к размышлению, проникать в смысл каждого слова. Монах также исследует тварный мир в поисках аналогий, цепь которых может привести к истине. Рауль Глабер писал:
Наделив свои создания многообразием форм и обличий, Бог, Творец всего, желал дать возможность душе ученого подняться к простому постижению божества через видимое глазами и охватываемое разумом... Бесспорно существующие связи между вещами свидетельствуют о Боге наглядно, прекрасно и молчаливо; в то время как каждая вещь неизменно представляет собой другую, олицетворяя принцип, в соответствии с которым она действует, она стремится вновь вернуться в исходное состояние.
Таков методический путь исследования. Бог создал вселенную, постижимую чувствами, следовательно, существует субстанциальное единство Всемогущего и Его творения или, по меньшей мере, очень тесная связь, universitas, о которой говорил Иоанн Скотт Эриугена. Бога также можно различить, продвигаясь мало-помалу, через видимое к невидимому, по слову апостола Павла. Творчество, неподвижная и немая проповедь, содержит богатейшее учение наставлений Божиих. Человек познает мудрость священных текстов, открывая соответствия между словами, стихами и различными отрывками из Ветхого и Нового Заветов; так же среди разнообразия форм и обличий, которое представляет видимый мир, важно обнаружить связь, гармонию, порядок. Мир, как впоследствии сказали Гийом Коншский и Геро Рейхерсбергский, — это «упорядоченное собрание творений». Он quasi magnam cifaram, «подобен большой кифаре». То, что мы называем искусством, имеет только одну цель — сделать видимым гармоничное строение мира, расположить определенное число знаков на предназначенных им местах. Искусство запечатлевает плоды созерцательной жизни и передает их в простых формах, чтобы сделать восприятие доступным для тех, кто находится на первых ступенях приобщения к знанию. Искусство — это рассуждение о Боге, такое же, как литургия и музыка. Оно так же стремится прорубить, расчистить дорогу, пробиться к глубинным ценностям, скрытым в чаще природы и Священного Писания. Искусство показывает нам внутреннюю структуру того стройного здания, какое представляет собой тварный мир. Для этого оно опирается на несколько текстов, содержащих слово Божие, на вызванные ими образы, на числа, организующие ритмы вселенной. Как музыка и литургия, искусство оперирует символами, необычным образом сочетает несочетаемые понятия, которые, сталкиваясь, высекают искру истинного знания, — и ритмами, в которых мир соединяется с дыханием Бога. Сама структура, взаимное расположение различных элементов и их численное соотношение, так же, как изображения, которые памятник, ювелирное изделие или скульптурный декор являют взгляду, представляют некое толкование мира, его объяснение. В своем поступательном движении, с 980 по 1130 год сопровождавшем первые шаги полифонического пения и схоластических размышлений, искусство предлагает ключ к тайне. Оно дает возможность немедленно запечатлеть в сознании субстанциальную реальность мира, но более совершенно, чем это позволяет чтение или простое созерцание вещей, более глубоко, чем позволяет размышление.
Признаем же, что архитектура и изобразительное искусство XI века, как музыка и литургия, были неким способом инициации. Поэтому в их формах не было ничего народного. Они обращались не к толпам, а к избранным, узкому кругу тех, кто начал взбираться по лестнице, ведущей к совершенству. Безусловно, произведение искусства могло иметь определенное значение в воспитании верующих — такое же, как возникшие рядом с литургией первые формы театра, опробованные бенедиктинцами из Флери-сюр-Луар и аббатства Святого Марциала в Лиможе. В 1025 году аррасский Синод, обличая еретиков, отвергавших церковную иерархию, таинства, литургию и, конечно, любое изобразительное искусство, утверждал, что «посредством некоторых живописных изображений неграмотные созерцают то, что не смогли бы узнать из написанного»; огромное количество монументальных изображений, которые предложила новая скульптура, после 1100 года внезапно предстало перед всем сообществом верующих. Для них изваяния стали учебником. Некоторые из крупнейших ансамблей романской пластики, построенные при входе в аббатства или на перекрестках дорог, ведущих к центрам паломничества, использовали доступный всем язык и, по всей видимости, были задуманы для просвещения масс. Таков тимпан церкви в Конке. Однако в художественном творчестве той эпохи воспитательные цели отошли на второй план. Эстетика, к которой обратилось монастырское искусство, была замкнутой, обращенной внутрь себя, открытой лишь посвященным, чистым людям, которые, отказавшись от погрязшего в пороке мира и его соблазнов, возглавляли христианский народ в его движении к истине.
Мир действительно не был статичен. Он повторял движения Бога. Любой духовный опыт представлялся неким шагом вперед, развитием, которое литургия и музыка подхватывали и в то же время направляли и которое, в свою очередь, выражали архитектура, скульптура и живопись, по своей природе лишенные движения. В действительности это движение представляется двойственным.
С одной стороны, оно круговое. Космические ритмы, круговорот небесных тел, смена времен дня и года, все биологические процессы подчиняются закону цикличности; периодические повторы должны восприниматься как один из символов вечности. Именно поэтому богослужение в бенедиктинских монастырях, которому, как гласит устав, «должно быть отдано предпочтение перед всем», разворачивалось по двум концентрическим кругам. Первый круг описывался ежедневным пением псалмов. В темноте колокол будил монахов на ночную службу. Затем друг друга сменяли хвалебные песнопения — хвала Господу, возносимая при первом проблеске зари, и ранние заутрени, совершаемые с восходом солнца. Днем, когда монахи занимались будничными делами, наступало время службы третьего часа; службы шестого и девятого часов были короче. Но с приближением ночи молитва снова удлинялась. На вечерней службе собравшаяся вместе братия пела Господу, вооружаясь против наступавшего мрака. Другой, годичный, цикл совершался вокруг праздника Пасхи. Одна из главных задач ризничего и регента, отвечавших за стройность литургической службы, заключалась в составлении календаря на каждый год, распределении текстов для чтения на каждый период церковного года и украшении церкви по случаю торжеств. Молитвенная жизнь, таким образом, предполагала бесконечную общность с мирозданием. Подчиняясь круговому движению, избегая любых событий, способных нарушить его, монашеская община уже начинала жить в вечности. Смерть для нее была действительно побеждена. Ежедневный и ежегодный круговорот молитв отменял личную судьбу, уничтожал всякое понятие роста или упадка. Среди изображений, направлявших медитацию, которые можно было встретить в стенах монастыря или в книгах, первостепенное значение имел символ небесных ритмов. С другой стороны, создав мир, Бог отделился от вечности, чтобы поместить Свое творение и Самому занять место во времени и в прямолинейной судьбе. Отныне всё — движение человека или ход истории — получило точку отсчета. Также и памятник, если его цель заключается в том, чтобы верно передавать намерения Божий, должен быть обращен к определенному ориентиру в пространстве.
Потрясения, коснувшиеся западной цивилизации в тот век, очевидно, способствовали тому, что вновь ожило чувство движения вперед. В центре рыцарского мироощущения находилось жгучее желание приключений. Во все концы света уносило оно молодых людей, охваченных радостным порывом. Первое, что привлекает внимание при исследовании свидетельств о Европе 1000 года, — кажется, что все население было охвачено жаждой странствий — в дорогу отправлялись паломники, купцы, везшие на ярмарку вино или цветные ткани, крестьяне-первопроходцы, осваивавшие пустоши. Приближался отъезд крестоносцев, начинались миграции проституток, которых Роберт Арбриссельский и другие одержимые видениями проповедники в 1100 году призывали к покаянию. Монахи же давали обет оставаться на одном месте. В то время как крепла реформа нравов духовенства, их все реже можно было встретить на дорогах. Отныне, затворившись в обители, они будут пытаться по-своему описывать ход истории.
Писать — вот что было одной из их специфических задач. Монахи вели хроники. Они вспоминали минувшие события — поначалу из уважения к традиции, которой следовали античные авторы. В монастырях преподавание классической латыни основывалось в большей мере на комментировании произведений историков языческого мира, чем на изучении произведений поэтов: считалось, что Саллюстий менее опасен для веры, чем Вергилий; в 1049 году монахам Клюни на период Великого поста были предложены для чтения труды Тита Ливия. Кроме того, приверженность к историческим повествованиям отвечала конечным целям монастырской культуры. Что есть история, если не описание тварного мира? Она изображает человека, а следовательно, Бога. Ордерик Виталий, бенедиктинский монах и один из лучших историков своего времени, говорил об этом: «Историю следует петь, как гимн во славу Творца и справедливого Владыки всего мира». Если история — хвалебная песнь, следовательно, она также участвует в литургии. Наконец, история позволяет яснее разглядеть в толще времен пути человечества, идущего к спасению, различить этапы этого движения, уточнить направление. История обращена в будущее. Она помогает выбрать верную дорогу, плыть прямо по течению и прибыть в нужный порт. Непрерывная вереница людей тянется от Сотворения мира до конца времен. Священное Писание, само будучи историей, описывает жизнь человечества как непрестанное восхождение и разделяет ее на три периода. Новый Завет исправил всё, что во времена, предшествовавшие рождению Богочеловека, было коряво и неровно в человеческом роде. Однако человек по отношению к тому, чем он станет после Второго пришествия Христа, находится в том же положении, что и ветхозаветные праведники по отношению к апостолам. Мир стареет, конец времен не заставит себя ждать. Человечество XI века живет в ожидании. Понимание истории должно подготовить его к последнему переходу. Тем, кто молится, и в первую очередь монахам, подобает указать остальным дорогу и сделать ее более ровной. Монастырские процессии символически представляют историю. Они преодолевают последний этап, изображают вход в Царство Небесное. Молитвам, которым предаются монахи в стенах обители, всему монастырскому искусству удалось сорвать покров и увидеть разверзшееся небо.
Созерцание видимого мира становится отныне не так необходимо: его следует оставить позади. Человек открывает в Писании предвестия последующих откровений. Ведомое монахами христианство XI века прикладывает все усилия, чтобы представить то, что вскоре должно открыться его глазам; человеческая история кажется цепью случайностей, разворачивающихся на заднем плане, Евангелия повторяют друг друга; Деяния Апостолов в то время изучаются менее внимательно, чем Ветхий Завет или Апокалипсис. Сцены из жизни Христа мало представлены в изобразительном искусстве. Капители монастырских колонн и нефы церквей украшают изображения младенца Иисуса или Страстей Господних. Жизнь Христа — действительно история. Каждое событие отмечает этап пути, ведущего к спасению. В то же время Евангелие повествует о земных делах. Оно рассказывает о пещере и рыбах, волхвах, идущих на свет звезды, о разбойниках и постоялых дворах, ослах и смоковницах, копьях и терновнике, об озере, растревоженном бурей, — о повседневном. Иногда рассказ освещается посланием из невидимого мира, но это лишь редкие вспышки. Почти все повествование разворачивается на Земле, среди людей. Не покажется ли текст синоптических Евангелий слишком простым и серым тому, кто задыхается в окружающем мире, кто нащупывает в нем трещины, чтобы убежать, избавиться от голода, опасностей, страха, кто обманывает свое убожество, мечтая о просвещении? Бедняки хотят слушать рассказ о славе, а не о нищете. Они питаются чудесами. Религиозное искусство XI века пытается сконцентрировать евангельское учение в нескольких знаках, превращает их в огненные столпы, подобные тому, в который превратился Иегова, чтобы вести народ Свой в Землю обетованную. Христос нигде не изображен как брат. Он предстает господином, который властвует и судит, Владыкой. На золотом фоне перикопов художники поместили фигуры апостолов вне времени и явлений природы. Отдалили их от людей. Кто в то время мог представить рыбаками и нищими святых Иакова или Павла, могущественных апостолов, на чьих могилах происходило столько чудес, которые поражали молнией и «огнем святого Антония» сомневающихся в их власти? Как христианство 1000 года, простертое ниц перед мощами, осмелилось бы привязаться к тому, что было человеческого в Христе? В романский период апостолы жили в невидимом мире, в царстве Воскресшего в праздник Пасхи, который запретил женам-мироносицам прикасаться к Себе, в царстве Христа, оторвавшегося от земли в день Вознесения, в царстве Вседержителя, восседавшего на троне в апсиде Клюни или Тауля[78].
Христос Клюни, так же как Христос Тауля, вышел не из Евангелия. Он вышел из Апокалипсиса. То есть из ослепительного света. Ни в одной другой книге Писания не содержится столько картин устройства будущего мира, такого захватывающего описания:
<...> великий город, святый Иерусалим <...> светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному <...> И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава Божия просветила его и светильник Его — Агнец[79].
Над этими удивительными словами без конца размышляли в монастырях, их комментировали, иллюстрировали, к ним постоянно возвращались. Однако великолепная, преображенная вселенная, явившаяся святому Иоанну, не так уж отличается от видимого мира. В божественной гармонии небесный порядок полностью соответствует земному. Как сказал епископ Адальберон:
Этот могущественный Иерусалим, кажется мне, не что иное, как видение мира. Царь царей правит городом, Господь царит над ним. Даже разделенный на части, он един. Ни одни из его ворот не покрыты металлом. Стены там построены без камней, камни без стен; это живые камни, живое золото. Оно пылает ярче, чем золото в тигле. Город населен ангелами и толпой людей. Одни царствуют, другие надеются царствовать.
Итак, когда небеса разверзнутся, человек будет ослеплен, но не почувствует себя чужеземцем. У него есть возможность еще в этой жизни, основываясь на том, что доступно глазу, представить себе место будущего пребывания. Так поступали художники, которые для императоров оттоновской династии в христианской Испании или монастырях Аквитании, затронутых клюнийским движением, иллюстрировали текст Апокалипсиса или комментарии к нему Беата Лиебанского. Ни один мастер не мог пожелать лучшего стимула для своей творческой энергии, ни один монах Запада, горевший любовью к Богу, — более крепкой поддержки в своем порыве к невидимому.
Искусство XI века выражало чаяния людей. Видимый мир был тесным, непокорным, преходящим и стареющим. Христианство в той форме, в какой оно существовало на высших ступенях Церкви, пыталось поднять народ над этим миром. Искусство не стремилось изображать вселенную, доступную ощущениям. Но оно не было и абстрактным, так как реальность, совпадая в главном со сверхреальностью, есть ее верное отражение. Художник черпает вдохновение в естественных формах, но очищает их, словно отцеживая то, что сохранится для славы будущего века. Он пытается найти нечто подобное свету, который смутно различал в мистических видениях. Художник стремится изобразить абсолют. Такая цель отвечала задачам монашеской среды, где в то время и зарождались произведения искусства. Дело монастырей — не только постоянно и от имени всего народа возносить Богу подобающую Ему хвалу, но и готовить людей к грядущему Воскресению. Монахи стоят в авангарде. Они уже отбросили всё земное. Монастырские стены отгораживают их от мира. Очистившись воздержанием, они уже прошли половину пути и взбираются на гору, со склонов которой сквозь туман можно различить чудеса Ханаана. Всё монашеское искусство как бы вдохновлено желанием обрести Бога.
Кто даст нам крылья, подобные голубиным, чтобы полететь через все царства мира и проникнуть в глубь звездного неба? Кто поведет нас в город великого Царя, и по милости Божьей то, что мы читаем в книгах, что кажется тайной, будто отражение в зеркале, откроется благодатью Божией нам вблизи сущего Бога, и мы возрадуемся?
Быть может, образование, но совершенно точно — литургия и музыка, а вместе с ними и искусство.
Вознесем к ним наши сердца и руки, отречемся от всего преходящего. Пусть наши глаза льют потоки слез, вызванных обещанными блаженствами. Будем счастливы тем, что уже свершилось среди праведников, которые вчера сражались за имя Христа, а сегодня царствуют с Ним. Будем счастливы тем, что было истинно сказано нам: пойдем в землю живых.
В поэтическом порыве неизвестного ученика Иоанна Феканского намечены пути религиозного искусства, которое стремится разорвать оковы. Врата монастырской церкви ведут к тайнам Господа.
Небо в самом деле приоткрывалось у входа туда, где совершалась молитва. С изменением литургической службы совершение некоторых погребальных церемоний и обрядов, связанных с особым почитанием Спасителя, было перенесено на паперть; именно здесь, встречая входящих, разворачивались картины из Апокалипсиса. В Сен-Бенуа-сюр-Луар они покрывали капители колокольни. В монастыре Сен-Савен в церковном притворе художники изобразили окруженного сферой Христа, простирающего руки; рядом два ангела держат орудия Страстей. Спасителя окружают странные фигуры, явившиеся апостолу Иоанну.
Но прежде чем засияет свет Агнца, четыре ангела, держащие четыре земных ветра, поднесут ко рту трубы, и все будет разрушено. Это означает, что живому или мертвому человеку, переступающему порог храма, в первую очередь подобает уничтожить в себе зерна порчи, отречься от всего — от оружия, богатства, ближних, даже от собственной воли, как отрекается монах, принося обет послушания. Тогда человек сможет примкнуть к великому шествию.
Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет. И принесут в него славу и честь народов; и не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни[80].
Романское искусство появилось благодаря нескольким людям, совершавшим духовное восхождение к этому видению. Пытаясь создать его подобие, они собирали все сокровища, которые удавалось найти, — золото, лазурь, несколько горстей удивительных пряностей, привезенных с Востока торговыми караванами. Однажды они отважились запечатлеть это видение в камне.
Среди всех исканий, нововведений и причудливых форм, которые развитие Запада вызвало в художественном творчестве, можно ли найти что-либо более волнующее, чем сознательное возвращение к монументальной скульптуре? Имперское искусство, воспитанное на воспоминаниях об искусстве классическом, в течение веков утверждало ценность человеческой фигуры, изображенной в трех измерениях. В своем победном шествии оно понемногу вытеснило замысловатую резьбу и абстрактный геометрический или растительный орнамент, присущие варварскому искусству. Переворот, подготовленный первыми шагами епископов оттоновского возрождения, заказывавших скульптурные изображения распятого Христа и отлитые из бронзы библейские сцены, предваренный смелыми исканиями золотых дел мастеров Аквитании, выковывавших раки в виде человеческих фигур, этот переворот, совершившийся после 1100 года в романской части христианского мира, в областях, где латинская культура никогда не умирала, где клюнийские монахи и вставший на их сторону Римский Папа отныне чувствовали себя владыками мира и начали борьбу за imperium, за престиж и власть, заключался в создании священных изображений, принявших пластический облик римских статуй. Эти изваяния начали помещать у входа в храм; их больше не прятали у алтаря, где они тайно взирали на литургическое богослужение, или в сумраке крипт. Напротив, их упорно выставляли на самом виду, под открытым небом.
В каком монастыре подобная дерзость победила последние сомнения? Какой из романских тимпанов самый древний — муассакский или не дошедший до нас клюнийский? Никто не сможет разрешить спор археологов. Произведения искусства той эпохи невозможно датировать точно. Эти скульптуры были дарами Предвечному, они существовали вне времени; время их создания никого не интересовало. Начав строительство церкви и желая украсить каждую часть здания, лишь только она поднималась над землей, Гуго Клюнийский собрал в главном аббатстве самых умелых мастеров христианского мира. Поместив в 1115 году скульптурную группу, изображавшую сцену Вознесения, над входом в самую большую в мире базилику, и раньше, декорируя капители хоров, мастера вдохновлялись образцами пластики с украшений, изготовленных в областях, лежавших вдоль берегов среднего и нижнего Мааса. Они помогли южному искусству — романским сводам, изображениям демонов и сирен — слиться над вратами церкви с классическими традициями имперского искусства.
Иисус сказал, что Он есть дверь, ведущая к непознаваемому и славе. В XI веке постепенно зарождается идея о том, что внушающий страх Бог, чей трон на портале в Муассаке возвышается над собранием судей, разгневанный Бог, карающий людей чумой, голодом, набегами неведомых грабителей, вышедших некогда из недр Азии, Бог, Второе пришествие которого ожидалось с таким напряжением, не кто иной, как Сын, то есть человек. Понимание тайны воплощения Бога в человеке становилось все ясней, туман рассеивался.
Было ли это понимание в народной среде сильней, чем в монастырской? Что мы знаем об этом? Смутные течения волновали отдельные общины верующих, восстанавливали их против Церкви, привлекая внимание к словам странствующих проповедников — отшельников, во множестве скитавшихся по Италии. Некоторые из них уже начали появляться в деревнях Галлии. Эти люди вдохновенно рассказывали о нищем Боге, не прельщавшемся золотом, которое собирали к Его ногам священники, о строгом Боге, которому были мерзки молитвы развращенного духовенства. Священные обряды открывали народу дверь к спасению. Продолжение церковной реформы лишь усилило стремление к тому, чтобы ритуальные жесты совершались чистыми руками. Именно этого желали толпы в Милане, требовавшие от священников целомудрия и восстававшие против архиепископа, торговавшего церковными должностями. Народ страдал, видя пороки, запятнавшие церковную власть, от которой зависела магическая связь между человеком и Богом. Какая духовная жажда толкала жителя Шампани, о котором Рауль Глабер говорит как о крестьянине, одержимом манией иконоборчества, опрокидывать распятия и разбивать изображения Господа? Какое свойство Бога особо почитали тринадцать орлеанских каноников, «казавшихся чище других» и которых король Роберт в 1023 году приказал сжечь как еретиков? И если аквитанцы, «отрицавшие Святое крещение, добродетели креста и всё, в чем заключалось учение Церкви, воздерживавшиеся от некоторой пищи, походившие на монахов и казавшиеся целомудренными», были признаны большими манихеями[81], чем другие, то не потому ли это случилось, что они возводили в принцип ощущавшееся всеми противостояние между библейским Богом и силами тьмы и более радикально, чем другие, отвергали все плотское, с тревогой ожидая конца времен? Не было ли это протестом против избытка ритуализма? Людей томило присутствие зла в мире и тайна вочеловечения Бога, они ждали более ясного определения природы Христа, объяснения, как сущность Божия могла снизойти до воплощения в человеческом теле, жить среди людей и спасти их.
Казалось, именно этим тревожным размышлениям отвечали два течения в церковной жизни, наметившиеся после 1050 года. С одной стороны, ученые люди, следуя путем диалектических рассуждений, начали выдвигать доводы и спорить о главных проблемах, служивших камнем преткновения для низших слоев общества: о Троице, Евхаристии и, более точно, вторжении Бога в человеческую сущность. В переживших реформу нормандских монастырях Иоанн, племянник Гийома де Вольпиано, с 1028 года аббат обители Фекан, размышлял над текстом синоптического Евангелия. Он искал способ освободить человека из его теперешнего состояния, избавить от злого мира, удерживавшего его в плену. Иисус представал в его понимании как путь, ведущий к свету Отца.
Он был обрезан, чтобы отсечь от нас грехи плоти и разума; принесен в храм, чтобы мы приблизились к Богу чистыми и освященными; крещен, чтобы омыть нас от наших преступлений; искушаем, чтобы защитить нас от козней дьявола; схвачен, чтобы освободить нас от власти врага; подвергнут осмеянию, чтобы оградить нас от издевательства демонов; увенчан терновым венцом, чтобы избавить нас от шипов первородного греха; поднят на крест, чтобы привлечь нас к Себе; напоен желчью и уксусом, чтобы привести нас в землю бесконечной радости; принесен в жертву на кресте, подобно незапятнанному агнцу на алтаре, чтобы взять на Себя грехи мира.
Мысль Иоанна Феканского следовала извилистыми тропами мистических размышлений, где образы соответствовали словам[82] и где, как в литургии, все стремилось к торжеству Богоявления. В ней совершалось магическое преобразование низкой материи в сокровища непознаваемого мира. Она также пролагала путь святому Ансельму. Итальянец — также аббат нормандского монастыря, а затем, с 1094 по 1098 год, архиепископ Кентерберийский — вопрошал: «Cur Deus homo?» (Почему Бог человек?) В поисках ответа он составил схоластическую методу и предложил толкование воплощения Бога в человеческом образе, иллюстрацией чему стала готическая скульптура.
Второе движение зародилось в недрах монастырской жизни. Некоторые монахи считали Апокалипсис менее захватывающим, чем Новый Завет. Они восстали против торжественности и роскоши клюнийской литургии и, не стремясь к славе серафимов, стали проповедовать образ жизни, который здесь, на земле, должен был превратить служителей Бога в истинных апостолов, подражавших Христу в Его нищете. В 1088 году, когда аббат Гуго начал строительство новой базилики, завершилась великая эпоха Клюни. Пришло время новых монастырей, заботившихся прежде всего о строгости устава. Школы, в которых обучались священнослужители, приняли монастырский образ жизни, не переставая нести в народ Слово Божие, и способствовали постепенной унификации всего института каноников[83]. В то же время возвращение достоинства епископскому сану, ставшее возможным благодаря усилиям григорианских реформаторов, подготовило грядущее массовое строительство соборов, длительный подъем, вызвавший постепенное обострение религиозного мировосприятия и ограничение господства литургической духовной практики. Это движение заставляет обратиться к религии, стержнем которой становится не отблеск Небесного Иерусалима, а человеческая природа Сына Божия.
Такому повороту в церковной жизни способствовало стремление к благочестию, приведшее впоследствии к крестовым походам. Паломники, вместо того чтобы посещать места, где покоились останки святых, отправлялись к могиле Христа. Покаянные обряды, предлагаемые рыцарям, заботившимся о спасении души, направили агрессию воинов в иное русло, указав путь, ведущий ко Гробу Господню, и крест начал приобретать новое значение. До сих пор это был символ, помогавший осознать владычество Господа над миром. Космический знак, перекресток пространства и времени, древо жизни, он воплощал все творение целиком, и Бог избрал его орудием Своих Страстей в силу его эзотерического значения. Когда на кресте изображали Христа, Он представал не мучеником, а живым, увенчанным и торжествующим, вознесенным на крест, возвеличенным им, а не умершим на нем. Короли были наследниками победоносного креста, как, например, Роберт Благочестивый, представавший в образе Христа в церемониях Святой недели. С каждым днем этот символ занимал все больше места в жизни, тогда как его значение незаметно искажалось.
В последние годы X века германские епископы, князья Церкви, которых император наделил всей полнотой земной власти над городом и его окрестностями, будучи пастырями, обладали в то же время авторитетом, равным королевскому. Они дерзнули нарушить традицию, в соответствии с которой прежде избегали представлять крест как орудие пытки. Через тысячу лет после смерти Христа большие деревянные распятия, воздвигаемые посреди оттоновских базилик, впервые являли взорам народа жертву, а не коронованного и живого человека. Появление на Западе первых распятий ознаменовало решающий поворот в истории религиозного мироощущения. Постепенно этот поворот становится все явственней. Когда в 1010 году монах из лиможской обители святого Марциала увидел «воздвигнутый посреди неба огромный крест с изображением распятого Спасителя, проливавшего обильные слезы», это чудо напомнило ему о страданиях Христа. Так же и рыцари старались хранить Божие перемирие в четверг и пятницу, «в память о Тайной вечери и Страстях Господних». Заказывать домашним ювелирам золотые кресты и жертвовать их церквам долгое время оставалось привилегией императоров и королей. Жест престижа, жест в значительной мере политический. И вот правители утратили монополию на него, так же как и на другие привилегии, растворившиеся в феодализме. В течение XI века крест приобретает все более обыденное значение. В 1095 году этот знак носил любой, кто собирался отправиться в Святую землю. Крест также был эмблемой мира, который Бог обещал людям, символом Его победы над смутами века. Кроме того, этот знак, установленный на дорогах, обозначал границы областей, где было запрещено любое насилие, грабеж и лихоимство; он указывал путь к приютам, которые благодаря стараниям поборников мира возникали вблизи святилищ. Вышитый на плаще крест извещал о том, что крестоносец направляется к Голгофе, но он имел и другое, более глубокое значение. Крест запечатлевал на теле знак пасхального жертвоприношения, союза с воинством Предвечного. Крест отмечал избранных и был залогом того, что после Судного дня они войдут в царство мира. Аббат Одилон Клюнийский показывал своим монахам крест как залог всеобщего спасения, как очищающий знак, который должен подготовить род человеческий к тому, чтобы следовать за Христом в небесной славе, и, следовательно, как символ двух основных добродетелей монашества — смирения и бедности. Любой рыцарь, носивший крест, отправляясь в крестовый поход, становился Христом. В недавнем прошлом это относилось лишь к королям, над которыми совершалось таинство миропомазания. Рыцари повторяли в Палестине земной путь Спасителя.
Когда около 1000 года у самых образованных людей Церкви спрашивали, что означает «такой приток народа в Иерусалим», они отвечали, что в их глазах это предвестие «пришествия проклятого Антихриста» и близости конца света. «Все народы расчищали дорогу с Востока, откуда должен был появиться Антихрист; все люди готовились идти навстречу ему». Однако некоторые рыцари возвращались домой уже другими. Не потому ли граф Ангулемский желал умереть, «почитая и целуя древо креста», что недавно посетил Гроб Господень? Один факт остается бесспорным — восхищенные странники, подобно пчелам роями стремившиеся в Землю обетованную, отправлявшиеся в путь в ожидании конца времен, потрясенные и ослепленные сокровищами небесного Иерусалима, возвращались в свои соборы, замки, деревни, обладая большим знанием о Христе, если только не умирали в дороге.
Могли ли паломники узнать Сына Человеческого, Чьей гробнице они поклонялись, в том великолепном изображении Правосудия и Власти, которое скульпторы 1120 года устанавливали над порталами монастырских церквей? По-прежнему огромное расстояние разделяло Христа из сцены Вознесения в Клюни и тех, кто созерцал Его, проделав длинный путь, огромное расстояние было между Предвечным из Муассака и гениальным скульптором, воздвигшим эту деспотическую фигуру в окружении евангелистов и двадцати четырех старцев музыкантов. Но эта дистанция уже сократилась на паперти в Отёне: здесь Иисус восседает посреди апостолов, которые больше похожи на людей, чем на небожителей; на их лицах отражается любовь, а не священный ужас. Тех же апостолов мы снова видим на тимпане церкви в Везеле, трепещущими в водовороте благодати. Здесь впервые представлено не скрытое от взора Царство, но человеческий мир, время, отмеренное двенадцатью месяцами года, земли, простирающиеся до окраин, населенных странными племенами. Кажется, будто на рубеже XII века романский сон рассеивается, евангельское слово распространяется по всему миру, избавляя человека от страха и толкая его к завоеваниям. На пороге монастыря, где святой Бернард вскоре начнет перед французским королем проповедь нового крестового похода, с приходом зрелости возникло самое величественное изображение живого Бога, которое когда-либо создавала христианская культура.
Несомненно, что Гислеберт, оставивший свое имя на скульптурах в Отёне, и мастер из Везеле обучались мастерству и, уж во всяком случае, черпали вдохновение на клюнийских стройках. Для историка культуры и эстетических мировоззрений имеет значение то, что скульптурные группы, созданные вскоре после Первого крестового похода, в порыве, ставшем продолжением этого похода, стали вехами основного этапа в развитии западного христианства. До сих пор фигура Христа не занимала центрального места в творчестве. Если изображения Богочеловека не были чистой абстракцией, эзотеризмом креста, альфы и омеги, или монограммой Христа, то они помещались вне времени и пространства, в нереальном мире мистических видений, как, например, на иллюстрациях рукописных богослужебных книг. Они были бесплотными, бестелесными, словно души, не нашедшие покоя, о появлении которых говорил Рауль Глабер. Они относились к той неразличимой империи, скрытое устройство которой пыталась передать архитектура романских церквей.
Так продолжалось вплоть до 1120 года. До того момента, когда в церковных школах областей, населенных франками, диалектики начали спорить о природе трех ипостасей Бога и задаваться вопросом, как Бог стал человеком. Тогда монументальная скульптура изъяла изображения Бога из области сверхъестественного и перенесла их в земное окружение, облекая в более прочный и долговечный материал. Утвердила их в реальном мире. Воплотила их.
Аббат Сен-Дени Сугерий после 1130 года принял, может быть, самое активное участие в этом воплощении. Во всяком случае, он создал искусство, которое мы называем готикой. Сугерий принадлежал к ордену бенедиктинцев. Его мысль, как и мысль монахов XI века, следовала путем аналогий, ассоциации от монастырских размышлений вели к непознаваемому Богу. Сугерий принял всю символику романского искусства, и можно сказать, что она нашла полное выражение в его творчестве. Для монастырского портала Сен-Дени Сугерий составил посвящение, которое толкуется по-разному. Вот один из нескольких возможных переводов. «О том, что сияет внутри» — следует понимать: внутри здания, но также и в сердце мира, времени, в сердце человека и в сердце Бога, — «расскажет золотая дверь» — искусство, повторяю это вновь и вновь, изображает главные реалии, которые откроются человеческому разуму, когда будет преодолена та граница, которая называется смертью, Воскресением и разверзшимися небесами в Судный день — «через ощущаемую красоту душа поднимается к истинной красоте и от земли, где она лежала ниц, возносится на небо, воскрешенная сиянием его великолепия». Справедливо утверждение: искусство XI века пытается сорвать завесу с лица Бога. Оно просвещает. Оно стремится дать человеку верное средство воскреснуть озаренным.
Собор
1130-1280
По определению, собор — это церковь епископа, следовательно, городская церковь. Возникновение церковного искусства в Европе в первую очередь означало возрождение городов, которые в XII—XIII веках непрерывно росли, становились оживленней, предместья тянулись все дальше вдоль дорог. Города притягивали богатство. Долгое время города находились в тени. Теперь же к северу от Альп они снова стали основными очагами высочайшей культуры. Однако источник питавшей их жизненной силы находился в близлежащих полях. В то время большинство сеньоров избирали город местом постоянного жительства. В город стекалось все, что производилось в вотчинах. Самыми активными коммерсантами становились торговцы зерном, вином, шерстью. Городское искусство, искусство соборов черпало в окрестных деревнях все необходимое для своего развития. Его триумфу на фоне широкомасштабного сельскохозяйственного наступления способствовали усилия множества первопроходцев, расчищавших поля, сажавших лозы, рывших рвы и строивших плотины. На фоне новых полей и молодых виноградников вознеслись башни Лана; их венчает вырезанное в камне изображение пашущих волов; на капителях соборов цветут виноградные лозы; на фасадах Амьена и Парижа смена времен года представлена круговоротом сельских работ. Награда воздается по заслугам: жнец, который точит косу, и виноградарь, подстригающий ветви, вскапывающий землю или берущий отводок у лозы, своим трудом взрастили собор. Это плод их тяжелой работы. Нигде в то время стремление к процветанию в сельском хозяйстве не было столь сильно, как на северо-западе Галлии. Самые зажиточные деревни находились в центре этого края, на равнинах, окружавших Париж. Новое искусство также воспринималось людьми того времени исключительно как «французское искусство». Оно расцвело в провинции, называвшейся тогда Францией, — между Шартром и Суассоном, там, где умер Хлодвиг. Париж стал его средоточием.
Париж, королевский город, первым в средневековой Европе ставший настоящей столицей — тем, чем давно перестал быть Рим. Столицей не империи, не христианского мира, но королевства, Царства. Городское искусство, наивысшим проявлением которого в Париже стали формы, называемые нами готикой, предстает как королевское искусство. Основной его темой становится прославление единовластия — безраздельного владычества Христа и Богоматери. В Европе соборов утверждается могущество королей, освобождающееся от душившего его феодализма. Прежде чем сформулировать для монастыря Сен-Дени положения новой эстетики, Сугерий создал принятый Капетингами образ короля-сюзерена, стоящего на вершине иерархической пирамиды и сжимающего в руке, словно сноп колосьев, все полномочия, которые в течение столетия растворялись в феодализме. После 1200 года среди государств, постоянно расширявших свои границы, было одно, самое большое и сколоченное крепче других, — королевство, владыка которого пребывал в Париже. Во всем мире латинского христианства ни один монарх не стяжал столько славы и сокровищ, как Людовик Святой. Богатства отовсюду стекались к нему ручейками сеньориальных поборов и вассальных податей со спеющих нив и виноградников.
Король Франции Людовик IX, при жизни почитаемый святым, ни минуты не помышлял, что власть, которой он облечен, имеет земную природу и преходяща. Он ощущал себя духовным лицом и хотел им быть. Читая Жуанвиля, мы видим, как годы, проведенные на Востоке, и постигшие его там неудачи убедили короля-весельчака в том, что он грешник и что его грехи пали на королевство. Король отказался от мирских радостей, «возлюбил Господа всем сердцем и стал подражать Ему в деяниях», живя так, как, по словам его друзей-францисканцев, жил Христос.
Людовик IX стал преисполнен святости. В середине XII века французский король чувствовал, что его держат в строгости. Большая часть богатств тратилась во славу Господа и шла на придание блеска богослужению. Король строил не замки, а храмы. Конечно, Людовик Святой, как и епископы, любил одеваться в прекрасные ткани, но не украшал свое жилище; он действительно вершил правосудие, сидя под венсеннским дубом или на камне. Он лучше германских императоров сохранил воспетые многими наследие и славу Карла Великого; вслед за Карлом Великим он открыл двери своих сокровищниц, чтобы построить часовню. Его предки, щедро одаривавшие епископов, были настоящими строителями новых соборов во Франции.
Во Франции, как и в Клюни, искусство, существовавшее благодаря щедрости королей, вновь обретавших власть, было по своей сути религиозным. Если оно и порождало светские произведения, они имели второстепенное значение и были недолговечны: ни одно из них не дошло до нас. Основные формы этого искусства возникли в тесном кругу приближенного к трону духовенства, в немногочисленном обществе с высоким уровнем достатка, в среде тех, кто находился в авангарде интеллектуальных изысканий. Епископы и корпус каноников, разделявших с ними земную власть матери-Церкви, занимали самую высокую ступень феодальной иерархии и владели лучшими землями. С уборкой нового урожая огромные амбары доверху наполнялись благодаря церковной десятине. Духовенство держало в своих руках города, эксплуатируя ярмарки и рынки. Оно получало прямую выгоду от торговли и использования земель. Отдельную статью дохода составляли щедрые пожертвования богатых мирян, беспокоившихся о своей душе. Общество, как никогда, заботилось о том, чтобы бедняки были по-прежнему бедны. Достаток, ставший следствием развития сельского хозяйства, оставался уделом избранных, а пирамидальную структуру государственного устройства венчала теперь фигура короля, причислявшего себя к церковнослужителям и восседавшего в окружении епископов. Вот почему следствием подъема деревень было строительство соборов, знаменовавшее расцвет королевской власти.
Благополучие монархии и Церкви коснулось также искусства Франции, становившегося более безмятежным. Оно привыкало к улыбке, училось выражать радость. Эта радость была не только земной, так как священное неразрывно соединялось с мирским (сам король был тому примером), происходило чудесное слияние преходящего и вечного. Искусство соборов нашло завершение в почитании вочеловечившегося Бога и стремилось изобразить примирение Создателя и Его творения. Таким образом оно переносило в область сверхъестественного и освящало радость жизни, которую испытывал рыцарь, галопом мчавшийся по майским цветам, беззаботно топтавший луга и нивы.
Однако не следует относить к XIII веку блаженные лица увенчанных коронами Богородиц и улыбающихся ангелов. То было суровое, тревожное и дикое время. Прежде всего необходимо представить раздиравшие его смуты и волнения. Епископ Ланский, задумавший строительство нового собора, не забывал, что его предшественник погиб во время бунта, растерзанный горожанами[84]. В 1223 году жители Реймса восстали против чрезмерных поборов, введенных другим епископом-строителем: они заставили его остановить строительство, отослать каменщиков и скульпторов. Такие происшествия были неожиданными. Столкновения и вспышки насилия в действительности стали проявлением скрытых противоречий, зревших в недрах феодального общества. Три группы противостояли друг другу: духовенство, рыцарство и массы бедняков — угнетаемых, порабощенных, раздавленных. Рыцарство восставало против Церкви, против ее морализаторства, против всего, что пыталось обуздать свободную радость сражения и любви. Эта борьба не могла не затронуть художественное творчество.
Но общество по-прежнему твердо стояло на ногах. Между 1130 и 1280 годами глубинные течения, незаметно изменявшие его строение, получали едва заметный отклик в узком кругу духовенства, руководившего художниками и следившего за строительством соборов. Эти течения не нашли явного отражения в художественном творчестве, развитие которого зависело в значительной степени от движения религиозной мысли. Итак, чтобы понять искусство того времени, в первую очередь следует обратиться не к экономике или социологии, а к богословию.
На этом отрезке европейской истории, движимой непрерывным развитием производства и успехами в торговле, в душах людей возникло напряженное противостояние между жаждой богатства, нетерпеливым желанием завладеть сокровищами, страстью распоряжаться ими и подспудным стремлением к бедности, которую каждый христианин почитал главной дорогой к спасению. В эпоху, когда формировались королевства, все чаще с тревогой звучал вопрос: духовное или земное, Папа или император, Церковь или король? Кто должен обладать безраздельной властью и править миром? Все это растворялось в последнем, фундаментальном противоречии — в конфликте христианской веры и еретических отклонений. Любой вновь назначенный епископ, а вскоре и каждый правитель первым делом начинали борьбу со лжепророками, опровергали их утверждения, выслеживали сектантов. Другой насущной заботой было оградить христианство от неуверенности и туманности мышления, не знакомого с логикой, возвести просторное, причудливое и строго упорядоченное здание доктрины, убедить народ в его прочности, указать слабые места еретических учений и вывести на прямой путь сбившихся с него верующих. Множество непрерывно возникавших ересей свидетельствовало о том, что культуру Запада охватило стремление к росту, это же стремление придавало силу новым учениям. В XII и XIII веках соседство ересей и угроза их наступления определяли пути развития искусства, которое заявляло себя в первую очередь как учение об истине.
Тем не менее искусство Европы далеко от того, чтобы найти полное выражение в формах, предложенных первопроходцами богословия, — то есть в готике. Раздробленность мира, который все еще был разделен на тесные мирки, возродившийся престиж римской эстетики, привычный образ мыслей, с трудом сдававший позиции, — все это создавало серьезные препятствия для признания новых форм, считавшихся сначала французскими и королевскими. Им было трудно привиться во многих провинциях. Окраины, обширные пространства ускользали от их влияния.
Тот, кто захочет понять истинную связь между возникновением произведения искусства, структурой общественных отношений и движением мысли, должен уделить пристальное внимание сложной географии высокой культуры. Необходимо учитывать, что между 1130 и 1280 годами горизонты европейской цивилизации претерпели серьезные изменения. Это не было медленным созреванием и мирным расцветом. Напротив, изменения происходили резко, скачками. Особую важность здесь приобретает хронология событий. В нашем исследовании мы предполагаем обозначить этапы этих изменений, а также непрерывные векторы разнообразных сил, которые на протяжении всего указанного периода находились в постоянном противоречии.
1 Бог есть свет
1130-1190
В 1130 году первым королевским храмом почитался не собор, а французский монастырь Сен-Дени. Со времен короля Дагоберта потомки Хлодвига избрали эту святыню своей усыпальницей; три рода, сменяя друг друга, правившие Францией, погребали там умерших; Карл Мартелл, Пипин Короткий, Карл Лысый покоились в королевском склепе подле Дагоберта и его сыновей, Гуго Капета, его предков (герцогов Франции) и потомков (королей). По сравнению с рядами этих гробниц Ахен казался промежуточным этапом, молодым побегом, цветением плевела. В крипте Сен-Дени уходили в землю корни монархического древа, корни королевства, которое Хлодвиг с помощью Бога и Святого крещения основал на руинах римского могущества. После коронации владыка Франции возлагал корону и символы своей власти к гробницам, где покоились его предшественники. Он приезжал туда, чтобы взять орифламму[85], когда отправлялся в военный поход. Здесь возносились молитвы о даровании победы и велась хроника подвигов. «Главное аббатство» обрастало преданиями, вокруг него слагались исполнявшиеся во время рыцарских собраний эпические песни. В них прославляли легендарного Карла Великого, «милую Францию», воспевали других владык и блеск их побед. Утопавший в королевских дарах, монастырь процветал. Он возвышался над огромным парижским виноградником и ярмаркой Ланди. На корабли, прибывавшие по Сене, грузили бочки молодого вина и отправляли дальше, в Англию или Фландрию. На рубеже XII века вслед за подъемом сельского хозяйства и торговли неуклонно возрастало богатство монастыря, а престиж его рос вместе со славой парижских государей. Мало-помалу сюда, в королевство, символом которого стала лилия, перетекали главные христианские силы, покидая империю, некогда возрожденную в Германии династией Оттонов. Реванш старой Франции над тевтонской гегемонией. Каролингская традиция, поглощенная могущественными Капетингами, возвращалась к своим истокам — теперь уже на равнине Франции, а не Франконии. Новое искусство, возникшее в Сен-Дени, в первую очередь знаменовало этот отлив.
Монастырь возник по воле одного человека — аббата Сугерия. Монах, не отличавшийся благородным происхождением, был другом детства короля. Эта дружба вознесла его на самую вершину политического влияния. Сугерий лучше других понимал символическое значение монастыря, настоятелем которого он стал. Возложенную на него задачу он считал величайшей честью, а значит, дело, которому он посвящал себя, следовало окружать великолепием. Сугерий был бенедиктинцем, в его представление о монашеской жизни не входило понятие бедности или полного отказа от мира: он следовал клюнийской концепции. В его глазах аббатство Сен-Дени, как потом Клюни для аббата Гуго, находилось на вершине земного мироустройства и должно было блистать к вящей славе Господней.
Пусть каждый придерживается собственного мнения. Что касается меня, то мне кажется справедливым, это все самое ценное должно прежде всего служить прославлению Святой Евхаристии. Если золотые сосуды, золотые чаши, маленькие золотые ступки когда-то служили, по Слову Божию или указанию Пророка, для сбора крови коз, телят и телок, насколько же больше золотые сосуды, драгоценные камни и все, что наиболее ценно среди тварных вещей, применяемых с неизменным почтением и с полным благочестием, подходят для принятия крови Христовой! Порицающие нас возражают, что праведного ума, чистого сердца и благочестивых устремлений достаточно для этого священного дела, и мы, конечно, согласимся, что это важнее всего. Однако мы утверждаем также, что необходимо служить Господу и через внешнее украшение святых сосудов, особенно во время литургии, со всей внутренней чистотой, со всем внешним благородством.
Заботясь о «внешнем благородстве», Сугерий превратил богатства монастыря в великолепное обрамление богослужений. Между 1135 и 1144 годами в ответ нападавшим на него приверженцам совершенной бедности он начал перестраивать монастырскую церковь и обновлять ее убранство, трудясь во славу Господа, святого Дионисия, а также во славу французских королей, мертвых (покоившихся в его владениях) и живого (своего друга и благодетеля).
Гордясь предпринятым делом, Сугерий описал его в двух трактатах «О моем управлении» и «Об освящении», позволяющих яснее понять его намерения, а также то, что памятник королевской власти был им задуман как синтез всех эстетических новшеств, которые он некогда видел, посещая новые монастыри на юге Галлии. Он желал, чтобы его монастырь, принадлежавший королю, возвышался над другими, подобно тому как монарх превосходит других владык в своем королевстве. Наконец, Сугерий сам был автором некоторых нововведений. Оставаясь хранителем гробницы Карла Лысого и заботясь о том, чтобы держава Капетингов стала преемницей императорской власти, он решил соединить традицию Каролингов, истинную традицию франков, с аквитанскими и бургундскими формами. С этой целью он привлек во Францию эстетику Австразии, эстетику бесценных произведений Ахена и Мааса, надеясь сплавить ее с романским искусством, возникшим в противовес ей. Сугерий стремился к тому, чтобы его монастырь стал произведением богословия. Безусловно, богословие это основывалось на сочинениях покровителя аббатства, святого Дионисия, или, как было принято считать, Дионисия Ареопагита.
Действительно, останки франкских королей покоились подле могилы первого христианского мученика Франции, Дионисия. Сугерий, все его монахи, все его предшественники-настоятели считали, что святой, принесший свет Евангелия во Францию, и ученик апостола Павла Дионисий Ареопагит, которому традиция приписывает самое величественное мистическое произведение христианской мысли, — один и тот же человек. В монастыре хранился текст этого произведения, написанного по-гречески неизвестным автором на Востоке в самом начале эпохи раннего Средневековья. В 758 году Папа Римский преподнес рукопись королю франков Пипину Короткому, который воспитывался в Сен-Дени. В 807 году второй экземпляр был послан константинопольским императором Михаилом Заикой императору Запада Людовику Благочестивому. Гильдуин, один из настоятелей Сен-Дени, сделал первый, и плохой, перевод этой книги на латынь. При Карле Лысом Иоанн Скотт Эриугена, лучше владевший греческим, сделал новый перевод и сопроводил его комментарием. В Сен-Дени будут почитать и «Theologica mystica». На этот источник опирались мысль и искусство Сугерия. У Данте на вершинах его «Рая» находится
Трактат, приписываемый Дионисию, содержит описание устройства видимого и невидимого миров: «О небесной иерархии. О церковной иерархии» (несомненно, Сугерий черпал вдохновение в этом произведении, когда представлял себе иерархию власти феодального короля). Центральная идея произведения: Бог есть свет. Каждое существо — часть изначального, нетварного и творящего света. Всякая тварь получает и передает свет Божий в меру своих способностей, то есть в соответствии с местом, отведенным ей в иерархии живых существ, в соответствии с уровнем, на который она помещена замыслом Божиим. Возникший из сияния мир — это поток света, низвергающегося подобно водопаду; свет, исходящий от Творца, раз и навсегда определяет место каждому тварному созданию. Этот же свет и объединяет всё творение. Связующая сила любви пронизывает всю вселенную, устанавливает в ней порядок и гармонию, а поскольку каждый предмет в той или иной мере обладает способностью отражать свет, непрерывная цепочка отражений вызывает в глубинах тьмы обратное движение, возвращающее свет к его источнику. Таким образом, сияющий акт творения сам по себе - постепенный, ступень за ступенью, подъем к невидимому и неописуемому Существу, стоящему в начале всего. Всё возвращается к Нему через видимые вещи, которые на более высоких уровнях всё лучше отражают Его свет. Итак, тварное приводит к нетварному через целый ряд подобий и соответствий. Проникая в их смысл, можно шаг за шагом продвигаться к познанию Бога. Бог, абсолютный свет, в более или менее скрытом виде присутствует в каждом создании в зависимости от того, какой отражательной способностью это создание обладает. Каждое существо может открыть то, что таит в себе, тому, кто смотрит с любовью, оно являет часть скрытого в себе света. В этой концепции содержится ключ к пониманию нового искусства, искусства Франции, образцом которого стала церковь монастыря Сен-Дени — искусство света и непрерывного отражения.
Изменения начались с паперти. Эта передняя церковь пришла еще из каролингской традиции. Она по-прежнему была массивна, компактна, сумрачна и служила лишь первой ступенью, начальным этапом восхождения к свету. Кроме того, паперть при входе в королевский монастырь представляла собой образ могущества, безраздельного господства, то есть олицетворяла военную мощь, так как в то время власть опиралась на силу оружия и король по своей сути был прежде всего военачальником — именно это символизировали две зубчатые башни фасада. Однако их мощное единство прорезал ряд арок. Свет заходящего солнца проникал внутрь через окна трех порталов. Над ними сияла роза — первая, появившаяся в западной части церкви и освещавшая три верхние часовни в честь небесных иерархов — Девы Марии, архангела Михаила и ангельского воинства. Основной элемент фасада всех будущих соборов возник благодаря богословским рассуждениям Сугерия.
Однако настоящие эстетические изменения затронули хоры новой церкви. На противоположном конце, там, где, повторяя движение восходящего солнца, завершалось литургическое шествие, Сугерий устроил источник света, место, где становилось возможным в ослепительном сиянии приблизиться к Господу. Было решено убрать стены, и строителям пришлось использовать для этого все архитектонические возможности того приема, который до сих пор применялся в зодчестве лишь для украшения, — речь идет о пересечении стрельчатых арок. Таким образом между 1140 и 1144 годами была перестроена «часть часовен, расположенных полукругом, и вся церковь засияла необыкновенным светом, проникавшим сквозь огромные окна и не имевшим никаких преград на своем пути». В XII веке в главной церкви монастыря было принято устраивать множество часовен. Теперь почти все монахи становились священниками; каждый день они должны были совершать богослужение, а для этого требовалось все больше алтарей. Романские образцы предлагали план галереи церковных хоров, от которой во все стороны отходили ответвления-ниши. Сугерий приложил все силы, чтобы сделать эти ниши как можно более открытыми дневному свету. Изменив строение сводов, он добился появления дополнительных окон; заменил стены-перегородки колоннами и воплотил свою мечту — придал стройность ходу богослужения, подчинив освещение храма особой логике. Все участвующие в службе будут теперь собраны вместе, организованы в единое целое самой формой полукружия и более того — объединяющим всех светом. Движения молящихся, подчиненные единому ритму, должны находиться в гармонии с освещением, подобно тому как сливаются голоса в пении хорала. Омытые одним светом, совершаемые одновременно священником и молящимися, литургические действия соединяются в единодушную хвалу Господу — в Симфонию. Итак, в день торжественного освящения хоров, месса была отслужена «столь празднично, с такой радостью и охватившим всех чувством единства, что дивное пение, возносившееся с хоров, своей стройностью и гармонией напоминало симфонию ангельскую, а не человеческую».
Дионисий Ареопагит славил в основном единство Вселенной. Следовательно, необходимо было, чтобы от хоров до дверей солнечное сияние могло беспрепятственно заливать все внутреннее пространство церкви и таким образом все строение превратилось в символ мистического акта Творения. Сугерий велел разрушить амвон, «который, словно мрачная стена, перекрывал центральный неф. Сделано это было для того, чтобы не затмевались красота и великолепие церкви». Сметается любая стена, любая завеса на пути, по которому изливается и возвращается обратно поток божественного света. «Когда задняя часть храма соединяется с передней, церковь сияет, ибо и средняя ее часть осиянна. Сияние это — то, что сияющее сплавлено со светом, и сияет благородный храм, который пронизан новым светом»[87].
Сугерий совершил задуманное, возведя пристройки с двух сторон церкви. Ему не хватило времени выстроить между папертью и хорами еще один неф, который соединял бы их. Он ограничился тем, что предложил его план. Сочетая новую технику строительства сводов с архитектурными традициями Нейстрии, он, несомненно, задумал неф как некое свободное пространство — прообраз внутреннего единства здания, которое спустя сто лет было воплощено в Буржском соборе.
Поэтика света, возникшая из богословских рассуждений Сугерия, и порождаемая ею эстетика нашли свое отражение не только в архитектуре. В представлениях монаха XII века божественное сияние концентрировалось в некоторых особенных предметах. Так же как внутреннее строение здания, эти предметы увлекали душу от тварного к нетварному, от материального к тому, что нельзя описать словами. Посредниками между двумя мирами были, в частности, драгоценные камни. Религиозные мыслители приписывали им особое, нравственное значение. Каждый камень находился в символической связи с христианскими добродетелями. Их представляли сверкающими совершенным светом в величественных стенах Небесного Иерусалима. Когда король Людовик VII закладывал первый камень в основание хоров Сен-Дени, ему было вручено несколько драгоценных камней для того, чтобы он положил их рядом с обычным. Монахи в это время пели слова псалма: «Стены твои из драгоценных камней». Внутри церковь также полагалось украшать сокровищами: их блеск должен был отражать потоки света, сквозь множество окон заливавшего хоры — часть церкви, имевшую особое значение в богослужении. Любовь к драгоценностям, эмалям, хрусталю, к любому взаимодействующему со светом материалу, всегда привлекавшему предводителей варварских народов, нашла теперь объяснение — литургическое и мистическое. По словам Сугерия,
<...> когда волшебство разноцветных драгоценных камней, проникнутое очарованием красоты дома Господня, представило мне нематериальным все материальное и заставило задуматься о великом множестве святых добродетелей, мне показалось, будто я увидел себя самого в некоем странном месте, которого никогда не существовало ни в мерзости земной, ни в чистоте небесной, и будто бы по милости Божией я смог анагогически перенестись оттуда в мир горний.
Превознося таким образом посредническую роль священных сосудов и драгоценностей, настоятель Сен-Дени следовал традиции тех, кто занял особое место в истории монашества. Однако в соответствии с дионисиевской концепцией света Сугерий отводил роскоши иное место в церкви, драгоценности должны были играть там иную роль. «Раки с мощами святых, украшенные золотом и драгоценными камнями», обрели свое место на пересечении центрального нефа с трансептом, в «освещенном пространстве» монастырской церкви, где они были отныне открыты взглядам посетителей. Базилика перестала быть тем, чем были до тех пор церкви романских монастырей — простой надстройкой гипогея[88], mairyrium'a, замкнутого пространства, темного подземелья, куда вереницей спускались паломники, со страхом погружаясь во тьму, чтобы увидеть наконец освещенные свечами тела святых. В Сен-Дени зал, где хранились реликвии, был поднят из мрака священных пещер. Появившись на свет из таинственного сумрака, которым его окутывала религия, требовавшая коленопреклонённого почитания, зал слился с остальной церковью, открытой и светлой; раки с мощами теперь находились на ярком свету. Покрытая драгоценными камнями, гробница святого Дионисия возвышалась посреди сияющего, ослепительного потока света — света его собственного богословия. Сама теория святого Дионисия была отражением, зеркалом Бога. Она способствовала просвещению верующих.
Передняя часть главного алтаря была покрыта золотом, полученным в дар от императора Карла Лысого. Сугерий велел добавить к фронтальной части три панели, чтобы «[алтарь] был позолочен со всех сторон». Вокруг он расположил свои сокровища.
Мы используем во время богослужения сосуд из порфира, представляющий собой чудо мастерства резчика по камню и полировщика, придавших древней амфоре форму орла и украсивших ее золотом и серебром. Также у нас имеется драгоценная чаша, вырезанная из целого массивного сардоникса, а также еще один сосуд из того же камня, но формой напоминающий амфору, и еще другой — сделанный словно из берилла или хрусталя.
Это страсть к редким материалам, к тому, как они отражают свет, как они удерживают его и испускают. Целая артель ювелиров трудится над коллекционными предметами, приспосабливая их к повседневным нуждам. Благодаря «удивительному чуду, которое послал нам Господь», Сугерий увенчал хоры церкви семиметровым крестом, который был виден отовсюду.
Мне недоставало драгоценных камней, а возможности получить их в достаточном количестве не предвиделось, так как из-за их редкости цена на них необыкновенно высока. И вот из трех аббатств, два из которых принадлежат к ордену Сито, а третье — к Фонтевро
(в этих монастырях было в то время принято толкование бенедиктинского устава в духе аскетизма, проповедовавшего нестяжательство, и монахи отказывались украшать свои обители. — Ж. Д.),
прибыли монахи и, войдя в маленькую комнату, примыкавшую к церкви, предложили нам купить такое множество драгоценных камней — аметистов, сапфиров, рубинов, изумрудов, топазов, которое я не надеялся собрать и за десять лет. Монахи получили их в дар от графа Тибо. Избавившись от необходимости разыскивать драгоценные камни, я возблагодарил Господа. Мы заплатили за них четыреста ливров, в то время как они стоили много больше, и сверх того приобрели огромное количество других камней и жемчуга, которые пошли на украшение нашей святыни. Я помню, что истратил двадцать четыре марки[89] чистого золота. Призвав пять или семь ювелиров из Лотарингии, мы смогли завершить пьедестал, украшенный фигурами четырех евангелистов, и колонну, украшенную великолепно выполненным и покрытым эмалью изображением Спасителя и сцен из Его жизни со всеми аллегорическими фигурами из Ветхого Завета, а также сцену на верхней капители, представлявшую смерть Господа.
Огромный крест возвышался вблизи алтаря, декор которого был выдержан в каролингской традиции. Вкус, которым обладал Сугерий, заставлял его стремиться к тому, чтобы переустройство монастырской церкви, осуществлявшееся по его указанию, соответствовало стилю старого здания. С этой целью он призвал в Сен-Дени мастеров с берегов нижнего и среднего Мааса, из каролингских областей, где еще было живо старое имперское искусство. Этим он привлекал в Иль-де-Франс все эстетическое наследие Австразии. Увековечив славу Каролингов, Сен-Дени присвоил легенду о Карле Великом; в это же самое время Сугерий присоединял австразийскую традицию к своим преобразовательным идеям, расширяя область, затронутую изменениями, инициатором которых он был. Имперское, «возрождающееся», воспитанное на античных традициях искусство лотарингских ювелиров, несмотря на множество взаимных влияний, по-прежнему сохраняло отличия от романской эстетики. Оно отрицало фантазию, отвергало образы чудовищ, не поддавалось фантастическому бреду, превозносило пластику. В центре декора это искусство помещало человека во всем его величии.
Задумав восстановить гробницы Пипина Короткого и Карла Мартелла и избрав для этого каролингские формы почитания монархии, Сугерий, поколебавший архитектурные традиции и превративший каменное строение в иллюстрацию богословской концепции света, оказался вовлеченным во второе «возрождение», очагом которого стали области, лежавшие вдоль берегов Луары и Сены. Настоятель Сен-Дени участвовал в возвращении к классическим образцам, которые в то же самое время проповедовали в латинской литературе Хильдеберт Лаварденский, Иоанн Солсберийский и все почитатели Овидия, Стация и Вергилия. Включив Карла Великого в панегирик каролингскому могуществу, Сугерий как бы становился соавтором Евангелий Ады[90], дверей Хильдесгеймского собора, реймсских фигур из слоновой кости. Он наделял искусство Франции иными, особыми чертами — антироманскими.
Прежде всего это отразилось в витражах, которые он заказал для «самых светлых окон». Не были ли эти цветные стекла прозрачным воспроизведением лотарингских или рейнских эмалей? Во всяком случае, на витражах, которые должны были облагородить Божий свет, придав ему свечение аметиста или рубина, окрасив в цвета небесных добродетелей, чтобы увлечь слепой разум «по пути анагогических размьгшлений», человека изображали так же, как на страницах оттоновских лекционариев и покрытых эмалями алтарях прибрежных областей Мааса, а еще раньше — на античных мозаиках. Человеческая фигура находилась в центре медальона, отделенная концентрическими кругами от остального декора. Медальоны высвобождали ее из архитектурной среды, в которой ее хотели удержать романские скульпторы. Эти же формы, заимствованные у ювелиров и миниатюристов XI века, Сугерий решил использовать в монументальной скульптуре. В Бургундии и Пуату он видел фасады монастырских церквей, украшенные скульптурами. Он решил воспроизвести их. На северных берегах Луары Сугерий возвел первые каменные изваяния. На паперти Сен-Дени они стояли у бронзовых дверей оттоновских базилик. Камень пьедестала должен был повторять форму металла. Скульптуры не вырастали из стен подобно каменным соцветиям, они стояли как предметы. От здания их отделяла ниша, напоминавшая балдахин над каролингскими скульптурами из слоновой кости. Это были произведения искусства. Подобно драгоценным изделиям золотых дел мастеров, подобно сокровищам, выставленным для обозрения, Благоразумные девы Сен-Дени были в средневековом искусстве первыми скульптурами, отделенными от архитектурного целого.
Наконец, все эти изображения — на паперти, витражах, золотом кресте и окружавших его сокровищах — провозглашали то, что лежало в основе богословия Сугерия: идею вочеловечения Бога.
Кто бы ты ни был, если хочешь восхвалить великолепие этих дверей, восхищайся не золотом и затратами, а искусной работой. Сияет благородное изделие, но, будучи благородно сияющей, работа эта должна освещать умы, чтобы они могли продвигаться средь истинных светов к Истинному свету, в который истинный вход есть Христос[91].
В Сен-Дени все сокровища мира были собраны для поклонения Евхаристии, через Христа человек проникал в сияние святилища. Новое искусство, создателем которого был Сугерий, стало прославлением Сына Человеческого.
Мастера, работавшие в Клюни и Муассаке, также изображали Христа. Но они видели в нем Предвечного Бога. Сияние Неопалимой купины или апокалиптические видения все еще ослепляли их. Христос Сен-Дени — это Христос синоптических Евангелий: Он принял человеческий облик. Действительно, монастырь перестраивался во время всеобщего душевного подъема, вызванного завоеванием Святой земли. Вся эпическая литература, главные темы которой складывались вокруг Сен-Дени, прославляла Карла Великого — крестоносца, шествующего к Иерусалиму, — сам король Людовик VII, назначив Сугерия регентом, отправился в крестовый поход вскоре после завершения строительства хоров Сен-Дени. В течение пятидесяти лет, последовавших за освобождением Гроба Господня, когда практически каждый год толпы паломников отправлялись в путь, все религиозные настроения, владевшие духовенством, знатью и даже крестьянами, были подчинены зову Востока — искупителя грехов. Страна, где жил и страдал Христос, как великий мираж манила навстречу приключениям все рыцарство Франции. Ее владыкой был Христос, увенчанный короной. Чем был крестовый поход, если не реальным, осязаемым открытием человеческой природы Бога, которое совершалось повсюду — в Вифлееме, на горе Елеонской, у колодца Доброй Самаритянки? Вокруг строящегося Сен-Дени крестоносцы говорили о Гробе Господнем. В атмосфере рвения, пробужденного Евангелием, орудия Страстей, гвоздь из креста, частица тернового венца, которые некогда Карл Лысый пожертвовал монастырю, обретали все большее значение. Богословие Сугерия окончательно сформировалось в заключительной попытке соединить новый образ Бога — живого Христа евангельских притч — с прежним образом Предвечного Бога, вокруг которого до того времени концентрировалась монашеская мысль.
Это богословие следовало теми же путями, которые в течение многих поколений были известны монашеству Запада. Оно заключалось в толковании священных текстов. Валафрид Страбон в IX веке составил комментарий к Священному Писанию, который читал или собственноручно переписывал любой мало-мальски просвещенный клирик. Исходя из того что человек состоит из трех основ — тела, души и духа, Валафрид предлагал искать в Библии три смысла — буквальный, нравоучительный и мистический. Все попытки понять священные тексты, предпринимаемые в монастырях, основывались именно на таком подходе. Также у святого Августина можно было прочесть, что «Ветхий Завет — не что иное, как Новый, смысл которого пока скрыт, а Новый Завет — это Ветхий, смысл которого открылся». Августиновская концепция хода истории представляла судьбу человечества разделенной рождением Христа на два этапа; она предлагала считать историю еврейского народа пророчеством, символически представлявшим будущую историю христианства. Библейский текст содержал в себе целый ряд знамений, был исполнен духовного смысла, разгадку которого, согласно святому Августину, «следовало искать в самой жизни, а не только в словах». Новый Завет представлял собой модель этой истории, а Ветхий Завет пророчествовал о ней. Ход истории был предопределен извечно существовавшей истиной, а вовсе не стал результатом ее (истории) самостоятельного развития: Христос исполнял пророчества Ветхого Завета и тем самым отменял их. Таков контекст, в котором развивалась мысль Сугерия. Его богословие нашло свое выражение не в словах, а в образах, в убранстве, которое настоятель Сен-Дени создал для своей пронизанной светом церкви. Этот декор, вызывая длинную череду аналогий, должен был показать очевидную связь, существовавшую между Ветхим Заветом и Евангелием — повествованием, ожившим в глазах крестоносцев — современников Сугерия. Иконография Сен-Дени повторяла романскую символику, но в то же время решительно обращалась к изображению Христа.
Учение об аналогиях начинается с порога церкви, с украшения порталов. Вскоре оно предстает как ортодоксальная апологетика, направленная против еретических учений, как проповедь истинной веры. Портал церкви Сен-Дени, освященный одновременно тремя священнослужителями, был тройным. Он символизировал Троицу, четкое изображение которой видно на вершине архивольта центрального портала. Действительно, богословие Дионисия Ареопагита строилось вокруг темы троичности, символизировавшей Творение, а на рубеже XII века именно эта тайна вызывала самые горячие споры среди религиозных мыслителей: церковный собор в Суассоне в 1121 году осудил сочинение Абеляра «О божественном единстве и троичности». Изображения на портале прославляют прежде всего ту ипостась, которая со времен Первого крестового похода заняла центральное место, — Христа, «истинную дверь». Вот почему колонны, поддерживающие свод, в Сен-Дени впервые принимают форму скульптур. Это статуи ветхозаветных царей и цариц. Соединившись в торжественную процессию с наступлением нового времени, открывавшегося вочеловечением Христа, исторические персонажи составляют королевский род Христа, сына Давидова, — они, Его предтечи и в то же время предки по крови, живые существа, через которых Он воплотился и соединился с тварным миром. Кроме того, фигуры на этом памятнике капетингской культуры — это видимые символы величия королевской власти.
Этот мотив снова встречается внутри церкви, на большом золотом кресте. Сияющий символ искупительной победы, знак, который носили на своей одежде искатели приключений, отправлявшиеся в Святую землю, крест царственно отвергал все мрачные сомнения, обличал лжепророков, которые в недрах сект отрицали, что человек может искупить свои грехи, умертвив плоть. Крест осуждал ересиарха Петра из Брюи, сжигавшего распятия в Сен-Жиле на южных окраинах Галлии. Крест был свидетельством того, что все в истории взаимосвязано, — его покрывали помещенные рядом шестьдесят восемь изображений историй из жизни Спасителя и персонажей Ветхого Завета. Проповедь того же учения звучала на витражах трех восточных часовен: на юге — Моисей, novum testamentum in vetere;[92] на севере — Страсти Господни, vetus testamentum in novo;[93] в центре — Древо Иессеево, которое по линии Марии вводило Христа, воплотившегося Бога, в человеческую семью, помещало Его в центральную точку истории, в ее плоть и время. На одном из витражей, изображавшем Христа, венчающего короной Новый Закон и срывающего покрывало с Ветхого, сделана надпись, представляющая собой своеобразный манифест Сугерия: «То, что Моисей скрывает, учение Христа открывает». Переплетения аналогий сливаются в одно целое, чтобы возвеличить и утвердить против соблазнов дуализма не трансцендентность Бога, но Его воплощение в человеческом естестве.
Внимание, переключившееся с Псалтири, Книги Царств и Апокалипсиса на синоптические Евангелия, заставило Сугерия изобразить Бога снизошедшим к человеческой природе, поместить Богоматерь в центре витражных изображений, представить на главном алтаре Благовещение, Посещение Богоматерью святой Елизаветы и Рождество, а на одном из витражей в тетраморфе — не того Предвечного Бога, которого мы видели в Муассаке, а распятого Христа. В Сен-Дени, как и в Конке, сцена Страшного суда украшает центральный тимпан портала. Но здесь текст Апокалипсиса соединен с Евангелием от Матфея. Старцы, играющие на музыкальных инструментах, оттеснены в архивольты, центральное место отведено девам Благоразумным и неразумным, то есть человечеству, разделенному между легкомыслием и ожиданием пришествия Христа. Руки Христа подняты, словно на распятии, подле Него — орудия Его Страстей. По обе стороны изображены апостолы, слева — возможно, святой Иоанн, справа — Богоматерь-Заступница. Таким образом здесь раскрывается глубокое единство величественной картины Судного дня и сцены Распятия. Нельзя было яснее передать надежду первых крестоносцев, которые, отправляясь к Голгофе, стремились обрести Небесный Иерусалим в славе конца времен. Наконец, внизу Сугерий дерзнул поместить собственное изображение, представлявшее его дарителем. Безусловно, это было выражением гордости творца, удовлетворенного делом своих рук, но в еще большей степени — желанием обозначить присутствие человека в сцене Второго пришествия. Разве в соответствии с иерархией, предложенной Дионисием, даже самое ничтожное создание не разделяло с Господом Его сияние и славу? Базилика Сен-Дени символизировала христианство, которое, перестав быть только литургией и музыкой, стало богословием. Богословием Всемогущества — и в еще большей мере вочеловечения Бога. Творение Сугерия обрело новое измерение — измерение человека, озаренного светом.
Новая, открытая свету церковь, возвышавшаяся на равнине Франции над хижинами хлебопашцев и виноделов, стояла на перепутье, в краю, который усилиями тех, кто осваивал новые земли, превратился в центр экономического и политического развития. Церковь служила удивительным примером. Она распространяла новое искусство. Сравним первые соборы, которые старались облечь в рациональную форму это искусство, цистерцианские монастыри, лишившие его всякой роскоши и, наконец, отвергавшие его ереси.
Сугерий был духовным сыном святого Бенедикта: он построил церковь, быть может, самого городского монастыря. Продолжателями его дела стали епископы, пастыри пробуждающихся городов. Витражи Сен-Дени породили возникшие в середине века цветные окна соборов в Шартре, Бурже, Амьене; статуи-колонны были повторены в Шартре, Мане, Бурже; архитектурные новшества Сен-Дени между 1155 и 1180 годами нашли свое продолжение в Нуайоне, Лане, Париже, Суассоне, Санлисе, в целом ряде соборов Франции. Это было естественным наследованием — власть коронованного короля, как ее понимал Сугерий, опиралась не столько на феодальную иерархию, принципы которой он сформулировал, сколько на Церковь. Сугерий, как во времена императоров Людовика Благочестивого и Карла Лысого, представлял себе епископов истинными столпами монархии. Монастырь уступал собору художественное первенство. Это было связано с глубокими изменениями социальных структур, вызванными мощным ростом городов Северной Галлии.
Окруженные каролингским лесом города мало-помалу исчезали. Расчистка новых земель вернула их к жизни. Быть сеньором, светским или церковным, означало жить в роскоши — в этом состояло отличие от остальных. Хозяева крупных земельных владений носили самые богатые одежды. Они желали, чтобы на пирах им подавали хорошее вино и заморские яства. Разбогатев благодаря развитию сельского хозяйства, они смогли потакать своим желаниям. Попутно они помогли встать на ноги владельцам кораблей, «купцам-мореходам», плававшим вверх и вниз по Сене, Уазе, Эне и Марне и стремившимся к парижским набережным. Торговцы винами, пряностями, пестрыми тканями процветали; с конца XI века на дорогах Франции появились итальянские купцы; шестьюдесятью годами позже в Шампани наступил расцвет ярмарок, которые в скором времени превратились в главные перекрестки большой европейской торговли. В то время купцы были, как правило, странствующими искателями приключений, но склады предпочитали держать в городах. Торговцы притягивали в города народ. На северных окраинах Галлии римляне основали мало городских центров, да и те растворились в варварской среде, так и не сумев возродиться. Поселения без прошлого возникали здесь на лучших местах — близ монастырей или замков. В центре Франции древние римские города встречались чаще и оказались более живучими. Торговцы обосновались у их стен. Новый квартал разрастался на набережной, вдоль которой по реке тянули баржи, или вокруг рыночной площади. Он расширялся в течение всего XII века — рост его находился в прямой зависимости от успехов торговли. В мрачных хижинах, построенных из прутьев и глины, втайне накапливались сокровища. На смену земле, осязаемому богатству прежних сеньоров, пришли движимые ценности, которые приходилось прятать от сборщиков налогов. В зависимости от того, как повернется удача, монеты, слитки, ящики пряностей приносили прибыль, используясь в операциях обмена и ссудах под залог. В этих тайных сокровищах епископ и капитул, хозяева города и его окрестностей, черпали средства на перестройку собора.
Собор выглядел обветшавшим. В течение всего X века, пока норманнские пираты совершали набеги на этот край и опустошали его, строительство здесь почти не велось. Не строили и в XI веке, пока шло медленное возрождение деревни. Теперь же начался приток денег. Каноники заключали сделки, старались как можно более выгодно продать зерно и вино, производимые в их владениях и поступавшие в виде десятины. Они увеличивали налоги с порта и рынка, приносившие немалый доход, невзирая на незаконный провоз товаров. Горожане были их «людьми», то есть подданными, обязанными платить сборы и подати. На какие бы хитрости они ни пускались, чтобы скрыть достаток, было известно, что деньги у них водятся. Церковные сеньоры выжимали из них все, что могли, отбирали бочки с вином и тюки шерсти. Они вытягивали часть сбережений у горожан, с каждым днем становившихся многочисленней и состоятельней. Иногда те сопротивлялись. В мятежах, посреди насилия формировалась коммуна, боевое сообщество. Случалось, что восставшие убивали нескольких каноников или даже епископа, но в конце концов все приходили к согласию. Договор даровал городу вольности. Обещал меньше произвола в поборах. И в конечном счете всегда усиливал власть соборного духовенства над городским богатством.
Богатство текло в епископскую казну и другим, быть может еще более мощным, потоком — через пожертвования. Совесть у купцов была неспокойна. Они всё время слышали, что «ни один торгующий не может быть угоден Господу», потому что наживается за счет своих братьев. В XII веке во Франции по-прежнему считается смертным грехом получать прибыль от торговли. С приближением старости деловой человек, беспокоясь о душе, желал искупить грехи, щедро одарив какой-нибудь монастырь. Сделать это он мог совершенно свободно, поскольку его сбережения принадлежали только ему и не считались, как недвижимое имущество знати, достоянием всего рода, члены которого сплачивали ряды, чтобы не растратить богатство, и постоянно оспаривали у духовенства слишком щедрые дары своих предков. Некогда сельская знать не скупилась на пожертвования — на этих дарах укрепилось могущество монастырей. Теперь же аристократия становилась прижимистой. Во времена Людовика VII и Филиппа Августа река благочестивых подношений потекла от разбогатевших горожан. Чаще всего это были деньги, а не земли; монеты из лавок ремесленников и менял попадали в руки епископов и каноников. Кроме того, затевая строительство нового собора, прелат мог многого ожидать от короля, который делал пожертвования с необыкновенной щедростью. Иногда епископ был родным или двоюродным братом короля и почти всегда — его другом. Он старался устроить в богатый приход сыновей королевских вассалов и клириков королевской церкви. Королю ни в чем не было отказа. Таковы причины, приведшие к тому, что во Франции почти одновременно было возведено множество соборов.
Строительные планы епископов, требовавшие огромного количества денег, в первую очередь были направлены на то, чтобы утвердить их собственное могущество, способствовать их личной славе. Епископ был сеньором, князем и желал, чтобы о нем говорили. Новый собор казался ему подвигом, победой; он мечтал о нем, как полководец о выигранной битве. Чувствуется, что Сугерий, описывая предпринятые по его указанию строительные работы, трепещет от гордости. Стремлением к личной славе объясняется дух соперничества, в течение двадцати пяти лет поражавший одного за другим всех епископов в принадлежавших королю землях, порыв, который позже побудил архиепископа Реймсского изобразить себя в окружении свиты на большом соборном витраже и перестроить притвор, чтобы превзойти в великолепии постройку, только что завершенную его соперником, епископом Амьенским.
Перестроенная епископская церковь символизировала также союз Саула и Мельхиседека — говоря иначе, союз церковной и королевской власти. Подобно обители Сен-Дени, а возможно, и в большей степени, она была памятником королевскому могуществу: те же возвышающиеся над фасадом башни, те же статуи-колонны, изображения на которых допускали двоякое толкование. Народ узнавал в них скорее французского короля Филиппа и королеву Агнессу, чем царя Соломона и царицу Савскую. Наконец, новый собор возвещал о благосостоянии финансировавшего его строительство города, пестрого сборища лавочек и мастерских, над которыми он возвышался и которые прославлял. Собор был предметом гордости горожан. Венчавшее его множество шпилей, стрельчатых фронтонов, пинаклей[94], вздымалось к небу, как сказочный замок; в этом идеальном Граде Божием возвеличивался и обычный городской пейзаж. Когда коммуны начали обзаводиться печатями, они не нашли лучшего символа своей власти, чем силуэт церкви, закрывающий небо. Башни собора обеспечивали безопасность торговли, центральный неф был единственной крытой площадью в центре города, представлявшего собой переплетение узеньких улочек, пересеченных сточными канавами и перегороженных свинарниками. В собор приходили не только молиться — там проводили цеховые собрания ремесленников и собрания городской коммуны. С другой стороны, человеку, «принадлежавшему церкви», полагались привилегии и таможенные льготы — торговцы прекрасно понимали, как это выгодно. Деловые люди считали собор своим домом. Они хотели, чтобы он был великолепен, они же и украшали его. Таким образом вновь проявлялся дух соперничества. Амьенские купцы, торговавшие красителями для тканей, знали, что их могущество отражено в великолепии городского собора. В Шартре каждый цех пожелал иметь в главной церкви города свой витраж.
На строительство соборов расходовались огромные средства. Не нанося ущерба процветанию города, соборы посвящали это процветание Господу, оправдывали и возвеличивали богатство города. Однако на стройках каменщики, витражисты и скульпторы выполняли указания не торговцев вином или сукном — их работой руководили ученые.
В XII веке соборы на территории королевского домена Капетингов были единственными сохранившимися школами. Во мраке, сгустившемся в правление Каролингов, французские короли прикладывали все усилия для того, чтобы вновь засияли науки, скопированные с образцов периода античности и Римской империи. По их инициативе восстанавливались школы, библиотеки, скриптории. В этом мире центром жизни была деревня. К книгам и образованию имело доступ лишь духовенство, а аббатства представляли собой краеугольный камень церковного здания. Вполне закономерным было то, что инструменты знания сосредоточились в монастырях. На протяжении веков монахи давали лучшее образование. Они обучали послушников и принимали в свои школы детей из знатных семейств. Король посылал своих сыновей учиться в Сен-Дени. В XI веке с наступлением смутного времени, когда королевская власть переживала упадок, а Церковь подвергалась влиянию грубых рыцарских нравов, монастырские школы Северной Галлии оказались самыми яркими очагами науки. После 1100 года их свет быстро померк: школы замкнулись в себе, ограничились обучением членов ордена, к которому принадлежали, и более не распространяли знания. Стремясь к аскетизму, монастырь отрезал себя от мира. Монахам подобало лишь молиться и искать Бога в уединении; преподавание становилось монополией белого духовенства, первоочередной задачей епископа. Однако епископ был слишком высокопоставленным лицом: он находился при королевском дворе, вершил суд, возглавлял военные походы, облачившись в доспехи. По большей части он перекладывал дело образования на плечи клириков своей церкви, на каноников, выбирая одного человека, которому поручал управлять школой. Прилегающий к собору квартал — всегда называемый клуатр[95], хоть он и был открыт, — заселили ученики. Благодаря движению, уводившему школьную жизнь от монастыря к собору, в центрах городов возникали основные очаги художественного творчества. Движение это определялось все теми же структурными изменениями, возрождением культурных связей, распространением свободного перемещения людей и возросшим объемом материальных ценностей. Оно способствовало появлению различных новаций, в том числе литургического искусства.
В епископской школе возник новый стиль обучения. Преподавание становилось более непринужденным, открытым окружающему миру, к которому монастыри повернулись спиной. Аббатства отреклись от мира, окружили себя стенами, за которые монах не должен был ступать. Обучение в монастырях проходило не в группах, а скорее попарно — новичка поручали заботам давно живущего в обители монаха, который выбирал ему книги, направлял ход его размышлений, приобщал его к знаниям и шаг за шагом вел по пути созерцания. В школе при соборе ученики, напротив, были одной шумной ватагой — группа собиралась подле учителя, читавшего вслух книгу и сопровождавшего чтение комментариями. Ученики жили свободно. Они участвовали в повседневной жизни, ходили по улицам города. Конечно, все или почти все они принадлежали к Церкви —· они были клириками, принявшими постриг, и подчинялись епископу. Учеба была священнодействием. Однако миссия, к которой готовило обучение, требовала реальных действий; это была светская, пастырская миссия, миссия проповедника. Ученики были призваны распространять среди мирян знания о Боге.
Новый мир, вырванный прогрессом из варварства, требует все больше людей, способных понимать и объяснять. Молодые люди, оставившие оружие и рыцарские турниры, чтобы служить Богу, прекрасно знали, что если научатся мыслить, то получат возможность занять лучшие места в церковной иерархии. Все больше учеников стекалось к епископским соборам, школьные группы росли. Но они не были статичны, а увеличивались или уменьшались, в зависимости от личности учителя. Из уст в уста передавались вести, что в такой-то школе лучше библиотека, в другой учитель более образован и опытен, его следует послушать. Одни школы со временем затмили другие, интеллектуальная деятельность быстро сосредоточилась вокруг нескольких крупных очагов, где можно было посещать лекции многих учителей, переходить от одного к другому, процесс обучения был организован в несколько этапов. На рубеже XII века Лан и Шартр были главными центрами образования. Когда закончилось переустройство Сен-Дени, Париж решительно опередил их. Этой победе немало способствовала слава Абеляра, самого выдающегося ученого того времени. В 1150 году в королевской столице толклись сотни студентов, приехавших не только из области Иль-де-Франс и соседних с нею, но и из Англии, Нормандии, Пикардии и германских земель. Центром обучения по-прежнему был собор Нотр-Дам, однако преподавание велось также и на левом берегу Сены, на холме Святой Женевьевы. Самые независимые, смелые учителя, чьи занятия по этой причине пользовались большей популярностью, снимали лавочки на Малом Мосту, на улице Фуар. В 1180 году один англичанин, бывший студент, основал первый коллеж[96] для бедных студентов. На южном берегу Сены появился новый квартал, где сосредоточились образовательные учреждения. Он сформировался напротив Сите - королевского квартала, а также напротив Гревской площади и Моста Менял — делового квартала. Великий город, где возник очаг нового искусства Франции, приобретал таким образом тройное значение. Париж становился королевским, торговым и университетским городом. На школьных улицах зарождался новый дух.
Внутри монастырей, и особенно Сен-Дени, учеба представляла собой упражнение в созерцании, в основе которого лежало уединенное размышление над текстом из Священного Писания и медленное течение мысли, перебирающей символы и аналогии. В Шартре, Лане и Париже тот же импульс, который заставлял торговцев пускаться в коммерческие предприятия, увлекал молодых клириков к завоеваниям разума. В этих школах не ограничивались чтением и рассуждением, там дискутировали. Преподаватели и студенты вступали в состязания, и первые не всегда выходили победителями. Школа при соборе была ристалищем, местом словесных подвигов, столь же волнующих, как военные, которые так же готовили к покорению мира. На этих турнирах блистал молодой Абеляр. Подобно герою-рыцарю, своими победами он добился славы, денег и любви женщин.
Хотя внешне обучение в епископской школе стало иным, оно по-прежнему ограничивалось «свободными искусствами», которые некогда придворные ученые Карла Великого для нужд каролингских монастырей извлекли на свет из дидактических трактатов, оставшихся в наследство от клонящейся к закату античности. Новшество заключалось в том, что во второй половине XII века упражнения trivium'a стали подготовкой к тому, что теперь получило основное значение для клирика, — чтению divina pagina[97], критическому толкованию Священного текста, укреплению в христианском учении для того, чтобы проповедовать истину. Студент получал начальные знания о грамматике и риторике. Толкователь Библии трудился над словами, в смысл которых следовало проникнуть и составить ясное представление об их порядке, — над латинскими словами. Преподаватели читали начинающим классические тексты латинских авторов, к которым с подозрением относились в клюнийских монастырях, — Цицерона, Овидия, Вергилия. Лучшие учителя чувствовали красоту слова и передавали свое воодушевление ученикам. Абеляр, многие другие и даже сам святой Бернард через всю жизнь пронесли восхищение этими образцами словесности. Таким образом прививался вкус к классике. Рост городских школ во многом способствовал тому, что в душах будущих создателей декора новых соборов возрождалась любовь к античности и чувство полноты человеческой натуры. Глаза учеников открывались. Отводя взгляд от романских форм, они все чаще обращались к каролингским скульптурам из слоновой кости, учились ценить пластику бронзовых изделий и эмалей, созданных мастерами с берегов Мааса. В школах, расположенных в Шартре и на берегах Луары, тех, что более других были привержены изящной словесности, брало исток возрождение, благодаря которому возникло проникнутое классической гармонией реймсское изображение Посещения Богоматерью святой Елизаветы.
Однако все это было лишь начальным образованием. В Лане и особенно в Париже диалектика стала главной ветвью trivium'a. Диалектика — искусство рассуждения, упражнения ratio[98] — на первое место среди способностей клирика возводит разум, «достоинство человека», как провозгласил веком раньше магистр Беренгар Турский. Достоинство человека — его особый свет, отблеск божественного сияния, отбрасываемый его натурой. Учителя и их последователи считали ум самым действенным оружием, которое приносит настоящие победы и помогает проникнуть в божественные тайны. Предполагалось, что начало любой идеи заключено в Боге-Творце и что в тексте Евангелия эти идеи выражены несовершенным, завуалированным образом, смысл их скрыт за иногда неясными, а зачастую и противоречивыми словами и, следовательно, именно логическое рассуждение должно рассеять мрак и разрешить противоречия. Доискиваться глубинного смысла слов нужно, строго следуя диалектическому методу, а не уносясь на крыльях фантазии, как это было принято в клюнийских монастырях. Прежде всего — сомнение. «Мы ищем, подвергая всё сомнению: в поисках находим истину», — учил Абеляр, который в своем трактате «Да и нет» сопоставил отрывки из Евангелий, содержащие несоответствия, надеясь устранить эти последние. Рассмотрение отдельных текстов, которые разум изучает со всех сторон и истолковывает со всех точек зрения, постановка вопроса, обсуждение, наконец, вывод — «сентенции»: таков метод, который предлагает Абеляр и победу которого он торжествует. Многие считали свободное движение разума самоуверенным, пагубным и даже демоническим. Абеляр отстаивал свою позицию: «Мои ученики желали объяснений с человеческой и философской точек зрения; им требовались вразумительные ответы, а не утверждения; они считали, что бесполезно говорить, если нечем подкрепить свои слова, и что никто не может верить в то, чего прежде не понял».
Рациональный подход быстро совершенствовался, последовательно усваивая мыслительные приемы, которые Запад заимствовал из культуры значительно более богатых областей, лежавших за пределами латинского христианства, — из кладезя знаний мусульманского мира и через него — из сокровищницы Древней Греции. Победив ислам, христианство начало расхищать его сокровища. В покоренном Толедо отряды клириков католической Церкви и евреев приступили к переводу арабских книг и содержавшихся в них вариантов греческих сочинений. Армии, теснившие неверных, состояли в основном из французских рыцарей, и французское духовенство прежде других смогло воспользоваться плодами военных побед. Труды переводчиков, работавших в Испании, были оценены в школах Франции — в первую очередь в Шартре, а позднее в Париже: в библиотеках появились новые книги, в том числе Аристотелевы трактаты по логике. В них преподаватели нашли диалектический инструментарий, о котором монахи Запада благодаря Боэцию до тех пор имели лишь искаженное, скудное и отрывочное - представление. После 1150 года для Иоанна Солсберийского, учившегося в Париже, Аристотель стал Философом, а диалектика — королевой trivium'a. Она лежит в основе развития мысли, которая при помощи ratio превосходит и делает понятным чувственный опыт, затем при помощи intellectus приводит все вещи к их божественному происхождению и осознает порядок, царящий в тварном мире, чтобы прийти наконец к истинному знанию — sapientia. Петр Ломбардский в своих «Сентенциях» предлагал Парижу первый логический анализ библейского текста; в это же время Петр из Пуатье выдвинул смелое утверждение: «Хотя существует уверенность, нам подобает сомневаться в положениях веры, искать и спорить».
В этих сомнениях, поисках и спорах крепнет молодое богословие, становясь суше, но в то же время тверже, сильнее, строже. Абеляр вызвал стойкую ненависть монахов Сен-Дени, впервые усомнившись в том, что Дионисий, мощам которого они поклонялись, и Дионисий Ареопагит были одним лицом. Вступая в спор с последним, Абеляр предложил другую Theologia, которая, надо сказать, также основана на озарении:
Свет материального солнца — не результат нашего восприятия, но сам собой изливается на нас, чтобы мы могли воспользоваться им. Также и к Богу мы приближаемся лишь в той степени, в которой Он приближается к нам, одаривая нас светом и теплом Своей любви.
Для преподавателей Бог был светом, поэтому соборы, которые они возводили, были освещены еще ярче, чем Сен-Дени. Они всё сильнее проникались евангельским духом. Школы продолжали развивать мысль о преемственности Ветхого и Нового Заветов. Приходит более ясное понимание идеи вочеловечения Бога. Образование тверже опиралось на первые строки Евангелия от Иоанна и на другие тексты, говорящие о том, что Слово Божие — Истинный Свет, через который всё начало быть; Свет, дарующий жизнь и просвещающий каждого человека, приходящего в мир[99]. В глазах магистров, преподававших в городских школах, заботившихся о строгости рассуждений и стремившихся понять суть того, о чем они говорили, Бог предстает уже не сияющим источником света, предвечная красота которого ослепляла монахов, предававшихся созерцанию. Они видели Его скорее таким же человеком, как они сами, представляли Христа Учителем, несущим свет разума, свет книжных знаний, видели Его своим братом.
Мысль стремилась к ясности. Она освобождала человека от формализма, отделяла волю от действия. В письме к Элоизе Абеляр провозгласил: «Преступление заключено в самом намерении, а не в проступке». Мысль, пользуясь методом анализа, разлагала сложное на составные части, утверждала, что «нет ничего, кроме человека». В новой, строго организованной картине реальности, как в новом соборе, слито воедино множество скрытых от глаза элементов. Мысль обратилась к природе, исследовала ее, так как, по словам Абеляра, «в травах и семенах, в природе деревьев и камней заключено достаточно сил, способных воспламенить или успокоить душу». То же самое и почти теми же словами говорит святой Бернард. Мысль, а вместе с ней и скульптурное убранство соборов описывают тварный мир, каким он предстает взгляду. Тьерри Шартрский первым предпринял попытку дать толкование Книги Бытия, основанное не на символике, а на физике. Он представил сотворенный Господом мир как сочетание четырех стихий и концентрических сфер: более легкий огонь устремляется к границам космоса; из испаряющейся воды возникают звезды; тепло порождает жизнь и все одушевленные существа. Мир перестает быть нагромождением символов, подавляющим воображение; он приобретает логичную форму, которую повторяет собор, отводя подобающее место каждому видимому творению. Геометру надлежало, обратившись к дедуктивным математическим знаниям, облечь в осязаемые формы, передать в камне невероятные бестелесные образы Небесного Иерусалима, которые в Сен-Дени смогли воплотиться лишь в ослепительном сиянии, льющемся через витражные стекла.
Еще одним трофеем, добытым у покоренной исламской культуры, стала математика. Клирики Испании и Южной Италии открывали в арабских книгах не только философию, но и науку древних греков. Для шартрских школ были переведены сочинения Евклида, Птолемея, трактаты по алгебре. Среди различных систем знаний, которые постепенно вытесняли прежнюю систему trivium'a, геометрия и арифметика занимали почетное место. В своем труде «Didascalicon» парижский магистр Гуго Сен-Викторский наравне с семью свободными искусствами упоминал механические искусства. Впервые в Сен-Дени структура здания была вычислена «с помощью математических инструментов», и скорее всего план крипты, в который следовало включить часть старого здания IX века, был построен с помощью компаса. Такой подход избавлял новую архитектуру от эмпиризма романских построек. Логический стержень помогал обрести большую независимость от материала, позволял строить не такие тесные и приземистые, более открытые свету здания. Появилась возможность с помощью математических расчетов воплотить в жизнь все эти рациональные построения. Аркбутаны[100], изобретенные в 1180 году в Париже, чтобы еще выше надстроить неф собора Нотр-Дам, были порождением науки чисел. Искусство Франции, выросшее в соборных школах, охотно украшало стены церквей изображениями семи свободных искусств. С конца XII века искусство принадлежало логикам. Вскоре оно должно было стать искусством инженеров.
Новые соборы появились в обществе, где представление о святости было по-прежнему связано с монастырем. В эпоху Абеляра и аркбутанов Нотр-Дам еще не иссякло мощное духовное движение, которое со времен победы христианства и падения Рима искало пути спасения в отречении от мира. Для современников Филиппа Августа спастись от гибели, уберечь свою душу прежде всего означало обратиться к Богу, облачиться в одежды святого Бенедикта, стать затворником. Не в обители, открытой каноникам и студентам, а в настоящем монастыре.
В действительности речь шла о реформированном, обновленном монашестве. Прежнее понимание бенедиктинского устава, принятого в Клюни, идеально соответствовавшее строению общества в первый период феодализма, теперь подверглось осуждению. Клюнийцев упрекали в том, что они ведут образ жизни, подобающий только знатным персонам, и не отвергают суету мира. Неодобрение вызывали их отказ от работы, комфорт повседневной жизни, любовь к роскоши, которая впоследствии побудила Сугерия начать перестройку Сен-Дени. Мир, в котором все было основано на деньгах, процветающий, привыкший к роскоши и развлечениям, считал, что совершенной может быть только жизнь в бедности, уединении, трудах и полном отречении от мирских благ. Он доверял свое спасение аскетам, почитал отшельников, живших в лесу и питавшихся травами и кореньями. Осенённый благодатью рыцарь, приняв решение порвать с ближними, сложить оружие и забыть о славе, направлялся теперь не в клюнийскую молельню. Там он не смог бы укрыться от мира власти, знатности и роскоши, которого бежал. Он становился угольщиком. Около 1100 года возникли новые религиозные ордена. Картезианцы проповедовали иные добродетели восточного монашества (пустынничества), такие как бегство в пустыню, пища, состоящая лишь из хлеба и воды, тишина кельи. Однако настоящим успехом пользовались менее суровые правила монашеской жизни, которые, возникнув в противовес уставу Клюни, пытались примирить бенедиктинские установления о жизни монахов в общине и стремление к аскетизму. В год, когда были освящены хоры Сен-Дени, а в Шартре началось строительство королевского портала, Франция стала свидетельницей еще одного триумфа монашества — победы ордена цистерцианцев[101]. В 1145 году этому ордену принадлежало более трехсот пятидесяти монастырей, рассеянных по всему Западу. Папский престол был занят цистерцианцем. Святой Бернард управлял миром. Можно не любить этого неистового человека, иссушенного, одержимого рвением о Господе, не на жизнь, а на смерть сражавшегося с Абеляром и победившего в этой схватке, бичевавшего Римскую курию и ее привязанность к мирской славе. Но именно святой Бернард был инициатором крестовых походов, советником и обличителем королей, именно он проповедовал в Альби против ереси катаров. Святой Бернард был повсюду. Его избрали архиепископом Реймса, но он пожелал остаться простым монахом. Он стоял во главе белого монашества[102] и вел его на завоевание Церкви и мира.
Триумф, подготовленный святым Бернардом, продолжался и после 1200 года. Сито долго оставался монастырем, воспитывавшим настоящих епископов, острием копья, пригвождавшего ереси. Обители ордена непрерывно умножались: в течение XIII века возникло еще двести аббатств. Множество цистерцианцев находилось при дворе короля Франции, они составляли двор Бланки Кастильской. Самым дорогим для Людовика Святого монастырем был цистерцианский — Ройомон. Сам король старался следовать монастырскому уставу и трудился в тишине. Он пожелал, чтобы весь двор следовал его примеру.
Когда вокруг обители Ройомон возводили стену, святой король часто посещал аббатство, чтобы послушать мессу или другую службу, или же просто навещал монастырь. А так как монахи, следуя цистерцианскому уставу, после чтения молитв третьего часа[103] приступали к работе и начинали носить камни и раствор к строящейся стене, святой король вместе с ними брался за носилки, нагруженные камнями. Он шел впереди, сзади носилки держал монах. Святой король приказывал носить камни своим братьям и сопровождавшим его рыцарям. Его братья иногда принимались разговаривать между собой, смеяться и играть, тогда святой король обращался к ним: «Монахи сейчас блюдут молчание, помолчим и мы». Если же они слишком нагружали носилки и желали отдохнуть посреди пути, святой король говорил: «Монахи не отдыхают, и мы не должны этого делать». Так святой король учил свою свиту трудиться на совесть.
Надо сказать, при жизни Людовика Святого Сито изжил сам себя. Монастыри этого ордена поднялись на одной волне с сельским хозяйством и стяжали чрезмерное богатство. Теперь настал их черед подвергнуться осуждению. Тем не менее цистерцианская мистика оставила глубокий след в эпоху первых соборов.
Монастырь Сито находился в решительной оппозиции епископской школе. Его монахи восставали против городов, которых они бежали, против клириков, которых считали стоящими на низшей ступени духовной иерархии, против бесполезного в их глазах схоластического учения, против Парижа — нового Вавилона, бездны, губящей молодые умы. В 1140 году святой Бернард посетил Париж с единственной целью — «обратить» студентов, переманить их, отвратить от учебы. В получившей широкую известность проповеди «Об обращении», составленной им по этому случаю, Вавилону противопоставлялось убежище, «пустыня», как единственный путь к спасению. Разве лекции школьных преподавателей не были «бесполезной завесой между душой и Христом»? Зачем их слушать? «В лесах ты найдешь больше, чем в книгах; деревья и скалы научат тебя тому, чего не знает ни один учитель». В глазах святого Бернарда спорить о священном тексте — грех. Нет ничего губительнее диалектики, рассуждения, никчёмных попыток объяснить то, во что следует верить. Он сурово обрушился на преподавателей, приложил все усилия, чтобы созвать Собор в Сансе, осудивший логику Абеляра, и другой — в Реймсе, осудивший Жильбера Порретанского. Как и Пьер де ла Сель, аббат реймсского монастыря Сен-Реми, святой Бернард полагал, что «истинная школа та, где учителю не платят и с ним не спорят», — школа Христа. Сито и религиозные круги, подвергшиеся его влиянию, не отрицали пользы образования и размышления над Священным Писанием, но давали им иную направленность, убежденные в том, что отражение Бога в человеке — не разум, а любовь: «Разум — это сама любовь».
В противовес рациональным ухищрениям современных философов, считавшихся совершенно заблудшими, развилось течение мысли, вдохновителями которого были святой Бернард и цистерцианцы. Это направление питалось из первоисточника латинского мистицизма — сочинений святого Августина. Поэтому оно смогло привлечь преподавателей некоторых капитульных школ, которые не так далеко, как парижские, продвинулись по пути диалектики, — в частности, шартрских учителей. В 1100 году преподавание в Шартре было построено на изучении редких произведений Платона, доступных в то время, на нескольких отрывках из «Тимея». Сугерий многим был обязан этим учителям. Распространяемое Шартром платоновское учение о вдохновении, пробуждавшем не столько логическое размышление, сколько движение сердца, позже укоренилось в другой городской школе — в самом Париже, но не в соборе Нотр-Дам, а в монастыре Сен-Виктор, уединенной обители, которую обратившийся каноник-преподаватель основал у городских ворот. Его последователи вели жизнь аскетов. В то же время они были клириками и продолжали служить своему основному делу — преподаванию. Однако перед своими учениками они открывали августинские пути созерцания. Безусловно, последователи сен-викторской школы категорически не отвергали диалектический метод. Ришар Сен-Викторский встал на защиту гуманистов и философов из собора Нотр-Дам и с холма Святой Женевьевы. «Душа, — говорил он, — должна пользоваться всеми своими способностями, и в особенности разумом; Бог есть разум: этим путем можно прийти к Нему». Но это — только один из многих способов приблизиться к Богу. Лишь порыв любви позволяет подняться на высшую ступень знания и достичь полного просвещения. Что же касается Гуго Сен-Викторского, то он, подобно святому Августину и Сугерию, утверждает, что любой образ, доступный чувственному восприятию, — это знак или «таинство» невидимых вещей, которые откроются душе, когда она освободится от телесной оболочки. Стремясь привести своих последователей к этому видению, Гуго Сен-Викторский, вторя святому Августину, предлагает следовать по пути постепенного духовного восхождения: они должны начать с cogitatio, изучения материи, исследования мира, доступного восприятию. Это необходимая основа для абстрактной мысли. Внутренний же человек должен подниматься все выше, прийти к meditatio, обращению души к самой себе, и наконец достичь contemplatio[104], которое есть интуитивное знание истины. Сито подхватил эту доктрину. В монастырях именно цистерцианского ордена, проповедовавшего образ жизни, полной лишений, получил развитие созерцательный опыт. Гийом из Сен-Тьерри, в 1145 году вступивший в дискуссию с картезианцами, славил любовь-заступницу. Он был гуманистом, и мысль его укреплялась и обогащалась чтением Цицеронова трактата «О дружбе» и Овидиева «Искусства любви», то есть тех же текстов, к которым обращались клирики школ, расположенных на берегах Луары, и наводнявшие королевские дворы трубадуры, стремившиеся придать утонченность другой теории, в которой особое место отводилось любви. Речь идет о земной, куртуазной любви. Подражая рыцарю, который шаг за шагом завоевывает любовь своей дамы, непрерывно совершая подвиги и укрощая страсти, Гийом из Сен-Тьерри увлекает своих духовных последователей в постепенное восхождение, поднимаясь от тела, вместилища животных инстинктов, к душе, вместилищу разума, а затем — к венчающему их духу, вместилищу любовного экстаза. Горя огнем любви, которая и есть истинный разум Божий, «душа переходит из мира теней и образов в полуденный свет благодати и истины».
Святой Бернард, человек своего времени, был горячим проповедником этой теории, которую окончательно сформулировал в большом сочинении — цикле проповедей на тему Песни Песней. Святой Бернард был подавлен величием Бога. Он не мог выносить диалектиков, которые подвергали сомнению Его единство, — Абеляра и Жильбера Порретанского, разделявших Троицу. Их рациональный подход бессилен поднять человека до понимания тайны и может лишь принижать величие Бога, разлагать божество на составные части. Как уловить всю полноту того, что нельзя выразить словами? Лишь путем полного отречения от мира. Только победив собственное тело, пройдя двенадцать ступеней смирения, человек, очистившись, может надеяться достичь познания себя самого как образа Божия, образа, во всем сходного с Божественным совершенством, но замутненного грехом. Так пусть же любовь поможет человеку подняться: «Причина, по которой мы любим Бога, и есть Бог». В пяти латинских словах этой фразы в сжатой форме дано описание импульса, который, в соответствии с построениями Дионисия Ареопагита, вызывает движение света. Святой Бернард пользуется сияющими метафорами Дионисия, но дополняет их другими, заимствованными из Песни Песней, брачными: экстатический союз души и Бога — это брак, союз любви, «супружеский поцелуй». Единение воли без смешения субстанций, которое действительно обожествляет душу. «То, что испытывает душа, поистине божественно; быть столь любимой означает быть обоженной». Душа растворяется в этом союзе, как воздух, пронизанный солнцем, растворяется в свете; но достичь этого она может лишь путем отречения от всего. «Как Бог может быть всем во всех, если в человеке останется что-то от человека; останется субстанция, но в иной форме, иной славе, иной силе». Возносясь на небеса, Данте выбирает провожатым святого Бернарда.
Мысль святого Бернарда, столь близкая богословию Дионисия, должна была способствовать возникновению искусства, которое соответствовало бы искусству Сугерия во всем, за исключением одного кардинального вопроса: оно не могло принять роскошь. Цистерцианский монастырь и его собор прежде всего отвергают излишества, отказываются от любых украшений. Это осуждение Сен-Дени, обличаемого святым Бернардом:
Не говоря о невероятной высоте ваших часовен, об их несоразмерной длине, чрезмерной просторности, роскошном убранстве и росписях, вызывающих любопытство молящихся, отвлекающих внимание, не позволяющих сосредоточиться и напоминающих в некоторой степени об обрядах иудеев, — хочется верить, что все это делается для того, чтобы возвеличить славу Господню, — я ограничусь, обращаясь к таким же монахам, как я сам, словами, с которыми язычник обратился к другим язычникам. «К чему, — говорил он, обращаясь к жрецу, — золото в святилище?» Повторю и я, изменив слова, но не мысль поэта: зачем нищим, если вы поистине нищие, все это золото, которое сияет в ваших храмах? Воздвигаете статуи святых и полагаете, что от них исходит тем больше святости, чем пестрей они украшены. Собирается толпа желающих припасть к изваянию и принести что-нибудь в дар; почитание воздается красоте предмета, а не добродетелям святого. В храмах также выставляют то, что с трудом можно назвать венцами, это скорее колеса, увешанные жемчугами, окруженные лампадами, украшенные драгоценными камнями, сияние которых затмевает светильники. Вместо подсвечников возвышаются настоящие бронзовые деревья необыкновенно искусной работы, которые освещают все вокруг не только сиянием свечей, но и блеском драгоценностей. О суета сует, и более безумие, чем суета! Церковь наполнена сиянием, а бедняки прозябают в совершенной нищете; камни храма покрыты украшениями, а его дети лишены одежды; любители искусств утоляют в храме любопытство, а нищие не находят, чем утолить голод.
Дух отречения от земных благ изгонял из церкви все украшения, вытеснял изображения. Вскоре после того, как святой Бернард стал пользоваться влиянием в цистерцианской конгрегации, белое монашество не решалось более украшать книги иллюстрациями. При жизни святого Бернарда великолепная школа миниатюристов прежних времен не могла развернуться в полную силу. Осуждению подверглись монументальные изображения, скульптурный декор, покрывавший порталы монастырей клюнийской общины. Цистерцианское аббатство лишилось фасада и портала: оно замкнулось в себе. Ничего, кроме наготы и простоты. «Пусть те, кого забота о внутреннем отвращает от внешнего, строят для своих нужд здания, имея перед глазами примеры бедности и святой простоты и строгие линии, прочерченные их отцами» (Гийом из Сен-Тьерри). Самой своей структурой, ритмом отдельных элементов, символическим расположением церковь — краеугольный камень, образ Христа — должна возносить дух к мистическим высотам. Дневной свет, проходя сквозь эту неподвижную раму, повторяет круговое движение всего мироздания, указывает пути созерцания. «Приближаться [к Богу] следует, не переходя с места на место, но через ряд последовательных озарений, — говорил святой Бернард, — озарений не материальных, но духовных. Душа должна искать света, следуя за светом». В пропорциях здания воплощено смирение, предписанное уставом святого Бенедикта. Никакого стремления ввысь, никакой гордыни; лишь равновесие, соразмерность вселенной. В теоретических положениях, как и в концепции архитектурных форм и их внутренних связей, Сито продолжает бенедиктинскую традицию. Церкви цистерцианцев приземисты, как все романские храмы Южной Галлии.
Тем не менее это искусство имело две общие черты с искусством Сен-Дени и первых соборов. Прежде всего речь идет о значении, которое придавалось свету. Огромные окна заполнены витражами, лишенными изображений, — они лишь пропускают свет. Пересечение стрельчатых арок дозволяет прорезать в стенах множество проемов. Обители цистерцианского ордена, возникшего в Бургундии и Шампани, вскоре рассеялись по всему миру латинского христианства, способствуя распространению искусства Франции, opus francigenum. Образцы его прижились даже в строптивых южных областях: в Каталонии возник монастырь Санта-Мария-де-Побле, в Центральной Италии — Фоссанова. Святой Бернард был также певцом Богоматери. Он видел в Ней невесту из Песни Песней, устроительницу браков. Благодаря ему цистерцианское искусство, как и искусство соборов, стало частью культа Девы Марии.
Сугерий ввел в свою систему взаимосвязанных символов образ Богоматери: через Нее совершилось воплощение Бога в человеческой природе. Однако в Сен-Дени Ей отводилось второстепенное место, в то время как в соборах Франции, которые все без исключения были посвящены Богоматери, центральное место в монументальном декоре занимало изображение божественного материнства, вызывавшее теперь поклонение народа. Повторяя иератические позы позолоченных романских идолов Оверни, эти изваяния оставались воплощением не нежности, но могущества и победы. Богоматерь уничтожала грехопадение женщины. Изгоняла бесов, смущающие душу желания и нечистые помыслы, искупала грехи. К ней были обращены мистические чаяния тех, кто стремился к чистоте, — каноников, обреченных на безбрачие, и, конечно, монахов Сито.
Богоматерь величественно поднимается на особое место в религиозных представлениях XII века. Ее окружают святые — Мария Магдалина торжествует в Везеле и Провансе. Именно тогда, когда христианство стало по-иному смотреть на женщину, ее начали возвеличивать и при рыцарских дворах в Пуату и областях, лежавших по берегам Луары. В песнях восхвалялись достоинства супруги сеньора, дамы, и на куртуазных турнирах молодые люди из знатных семей стремились покорить ее сердце. Культы Богоматери и Прекрасной Дамы шли разными путями, развивались в глубинах сознания. История еще неясно различает мощь и ход этих перекликающихся между собой процессов. Один факт совершенно бесспорен: латинские стихи, которые аббат Бальдерик Бургейльский посвящал анжуйским принцессам, песни, сложенные Серкамоном и Маркабрю для дамских собраний в Аквитании, романы, написанные на основе античных сюжетов об Энее и Троянской войне, первые рассказы, в которых военная тема переплеталась с любовной — все эти произведения перекликались с сочинениями Гийома из Сен-Тьерри и заимствованиями из Овидия, которые он включил в свой трактат «De natura amoris»[105]. Те же источники гуманистической мысли, тот же словарь, череда испытаний, страсти, надежда на спасение... Лучшее, что было в светской и религиозной литературе, перекликалось со скульптурами Шартра и поэзией культа Богоматери, который проповедовал святой Бернард. Франция того времени открывает для себя куртуазную любовь и любовь к Деве Марии. В этом заключалась некоторая двусмысленность. Подавить плотский эротизм, уловить эти движения души и направить их к богослужению — такова была цель духовенства, и прежде всего монашества. Клюнийский аббат Петр Достопочтенный, Бернард Клервоский и многие другие слагали в честь восседающей на престоле Богоматери гимны и секвенции, которые посреди зажженных светильников и курящегося ладана сливались с мелодиями литургических песнопений. Заклинания предваряли таинство — коронацию Богоматери.
Во имя этой королевы святой Бернард бросал вызов рыцарям княжеских дворов. Он стремился обратить всех, наставить на истинный путь. Он был вдохновителем устава нового ордена тамплиеров[106] — конгрегации, объединившей тех, кто, обратившись к Богу и став монахом, продолжал оставаться рыцарем. Это была nova militia[107], отважные воины которой обращали оружие против врагов Христа, а свою любовь -к Богоматери. Святой Бернард призвал всех воинов Франции следовать за королем в новый крестовый поход, желая направить их буйную энергию на дело, угодное Господу. Движимый тем же духом, он старался указать путь мистицизма пробудившимся чувствам, которые куртуазным языком воспевались в любовных песнях и романах. Здесь он сумел добиться некоторого успеха. Под его влиянием часть рыцарской лирики встала на путь обращения. В 1200 году завершение этого процесса отразилось в лесном очаровании сочинения «Поиски Святого Грааля»[108], а несколькими годами раньше прозвучало в сочинениях Кретьена де Труа. Герои его первых произведений исповедуют традиционные формы религии, а Персеваль, подвиги которого были воспеты в 1190 году, уже олицетворял христианство, погруженное в молитву, покаяние, стремящееся к чистоте, считавшейся первой добродетелью. Вслед за святым Бернардом знатные юноши Франции начинали относиться к церемонии посвящения в рыцари, старинному воинскому обряду, как к настоящему таинству. Посвящение совершается священнослужителями; готовясь к нему, молодой воин, молясь, проводит ночь в часовне; омовение — новое крещение — смывает грязь с будущего рыцаря. Отныне воин будет принадлежать к ордену, члены которого совершенствуются в добродетелях Христа (по крайней мере, должны совершенствоваться). Заряд земной радости, который несло в себе рыцарство, стремление к завоеваниям, любовь к роскоши и развлечениям не могли отступить так легко. К 1190 году Сито окунулся в жизнь века. Говорили, что затерянные в лесах монастыри ордена переполнены текущим через край богатством. И это было правдой. Белое монашество собирало теперь десятину, имело держателей и сервов[109]. Монахи все чаще пересекали порог своих уединенных обителей, их видели повсюду. Святой Бернард оскорбился, когда его пожелали избрать епископом, но Евгений III покинул монастырь, чтобы взойти на престол святого Петра. С приближением XIII века многие монахи последовали его примеру. На их головы возлагали митры. Они же, в свою очередь, начинали строить соборы. Они учились, и вскоре орден основал в Париже монастырь, при котором открылись школы. Тулузское духовенство избрало епископом цистерцианского монаха, настоятеля обители Тороне, Фолькета Марсельского, в прошлом трубадура. Епископская церковь была перестроена по образцу соборов области Иль-де-Франс. В это же время Франция стала свидетельницей другого очевидного факта — Сито потерпел полное поражение в битве с ересями Юга.
Свет, поиски Бога, принявшего человеческий образ, ясность мысли, логика — новая эстетика 1190 года завоевала весь север королевства, от Тура до Реймса, захватив всю область каролингского возрождения, область больших епископских церквей, покрытую растущими деревнями и испещренную торговыми речными путями, а также домен, находившийся под непосредственной властью Капетингов. Сито способствовал еще более широкому распространению этой эстетики. Она проникла в графство Шампань и Бургундию, по ее образцам были построены соборы в Везеле. Распространение искусства Сен-Дени шло бок о бок с усилением королевского могущества. Король Франции расширил границы своих владений до Макона и Оверни, лично пересек границы королевства, посетил Шартрёз, могилу святого Иакова, Иерусалим. У парижских преподавателей учились епископы Германии и Англии. В этих странах новые соборы — в Кентербери и Бамберге — повторяли французские эталоны, их дальний отсвет можно различить на порталах Компостелы, Сен-Жилля, арльского собора Сен-Трофим. Для Клостернойбурга ювелир Николай Верденский создал амвон, украшенный эмалями с парными изображениями сцен из Ветхого и Нового Заветов, которые напрямую восходят к богословским представлениям Сугерия. В своем победном шествии новое искусство оттеснило на задний план романскую иконографию. В области Иль-де-Франс ее персонажам приходилось прятаться в дальних углах порталов среди демонов Страшного суда, принимать облик тех существ, которые во множестве ползали и карабкались по капителям колонн и консолям статуй: древний бестиарий изображал теперь попранное зло, грех, смерть. Был ли он полностью побежден? Вовсе нет — вдалеке от Парижа и Шартра чудовища еще выползали на дневной свет.
Наступлению готики повсюду противостояли традиции, народные верования, образ мыслей, отличавшийся от того, что был принят в областях, считавшихся французскими в строгом смысле слова. На севере распространение готики было приостановлено потоком фантазии, бурлившим на островах — в Англии и Ирландии, и пристрастием к энергичному рисунку, раскручивавшему витки мечты, змеевидные извивы которого были принесены шотландскими монахами в Регенсбург. В империи возрождалось мощное оттоновское наследие — искусство бронзового литья, покорившее Италию. Избежав французского влияния, оно расцвело на церковных вратах в Пизе, Беневенто, Монреале так же, как в Гнезно. Романская эстетика продолжала распространяться и в южном направлении. Создание декора рипольского собора и клермонского Нотр-Дам-дю-Пор относится к последним годам XII века. Соборы эти были совершенно романскими, и в упомянутых областях всё принесенное с Востока в результате христианских завоеваний усиливало противостояние готическому соблазну. Здесь был вклад и Испании (мосарабское искусство вдохновило на создание серии иллюстраций «Комментария Беата»), и Византии, пример которой находил отклик везде — от баварских границ до восточных пределов латинского христианства и от дворов палермских владык до южных рубежей. Тем временем в Риме продолжалось слияние античной классики, романских приемов и восточных импульсов.
История любой из областей, сопротивлявшихся распространению готики, может служить наглядным примером того противостояния, которое встретила на своем пути французская эстетика. В некоторых провинциях причина неослабевающего влияния древних художественных форм крылась в замедленном темпе культурного развития. Не все сельские районы Европы в равной мере смогли воспользоваться плодами бурного хозяйственного развития, которое в Шартре и Суассоне раньше, чем где бы то ни было, привело к обогащению епископов, позволившему им начать строительство соборов. В горах Оверни церкви, возраст которых невозможно определить, вырастали в крестьянской среде, которую не затронули исторические изменения, и по-прежнему пропагандировали в застывших образцах народного искусства расхожие произведения XI века. Вымерший Прованс медленно поддавался живительному воздействию торговли. Туманные окраины мира — Ирландия, Шотландия, Скандинавия — оставались варварскими землями. В Англии не существовало настоящих городов, не было их и в Германии. Входившие в состав империи страны, где Карл Великий почитался святым, медленно ассимилировали каролингскую культуру. Повсюду не хватало школ, а существовавшие избежали влияния новых веяний. Там ничего не было известно о молодом искусстве литургии, центральным моментом которого стало таинство вочеловечения Бога. Тяга к чему-то новому, побуждавшая учителей продолжать поиски, заставлявшая их укреплять веру знаниями, пока не достигла этих учебных заведений; основным предметом, изучавшимся здесь, было хоровое пение. Капитулы соборов, в которых беспрестанно звучали песнопения, состояли преимущественно из феодалов. Архиепископ и каноники Лана и Арля, знатные лица, не колеблясь бросавшиеся в битву, с большей охотой упражнялись в умении владеть оружием, чем словом. В этих краях монастыри по-прежнему оставались главными очагами религиозной жизни, но они замкнулись в клюнийской концепции литургии. Зарождавшаяся там мысль следовала извилистым путем. Сочиняя трактат «О деяниях Божиих», аббатиса Хильдегарда Бингенская черпала вдохновение в аллегорической поэме некоего шартрского учителя, однако переработанный ею материал превращался в ряд расплывчатых видений, окутанных фантасмагорической дымкой «Комментария Беата»; когда калабрийский аббат Иоахим Флорский в своих размышлениях о перекликающихся местах в Ветхом и Новом Заветах заимствует у Сугерия некоторые богословские положения, он превращает их в мессианскую утопию. Всё это было проявлением крайне медленного изменения образа мыслей.
Все новое, что шло из области Иль-де-Франс, повсюду сталкивалось с силами, высвободившимися в таком же жадном стремлении к росту, как то, которое возродило сельскую местность, окружавшую Париж. Однако порыв этот имел теперь другую направленность.
К югу от Луары куртуазная культура во всю мощь восставала против искусства епископов. Аквитания так и не покорилась каролингскому игу. Она упорно сражалась с Пипином Коротким, Карлом Великим, Карлом Лысым. Отвергала их школы, концепцию просвещенной церкви, слияние вечного и преходящего, воплощением которого были франкские короли, и продолжала четко отделять религию от жизни: с одной стороны — совершенство затворнической жизни, с другой — мирские радости. В XI веке Аквитания была излюбленным местом церковных реформ. Церковные соборы освободили здесь религиозные общины от власти сильных мира сего, провели более четкую границу между монахами и мирянами: первым полагалось вести беспорочную жизнь, на долю вторых выпадали любовь и война. Аквитанские правители не претендовали на духовную власть; они не интересовались церковными службами, их приближенные поручали монахам молиться о своей душе, надеясь при помощи пожертвований приобрести право получать удовольствие от жизни. Они любили войну и охоту, как и французские рыцари, но жили в городах, где традиции римского полиса не успели окончательно исчезнуть, а потому им были знакомы также и мирные развлечения. Граф Пуатье, герцог Аквитанский, около 1100 года сочинил первые известные нам любовные песни, положив на мелодии григорианских секвенций стихи, в которых прославлял свою даму сердца. Все молодые люди при его дворе следовали его примеру. Они изобрели игру, в которой любовник стремится добиться расположения супруги своего сеньора и слагает к ее ногам преданность, состояние и вассальную службу. Стиль куртуазного поведения формировался в среде знати, чьи порывы Церковь, уделявшая внимание лишь монастырям и молитвам об искуплении грехов, сдерживала здесь гораздо слабее, чем к северу от Луары. Этот стиль распространился во всей Тулузской области, в Провансе, а затем в Италии. Знать французских провинций не без колебаний усвоила куртуазные манеры во второй половине XII века. Король Франции Людовик VII, женившийся на наследнице герцогов Аквитанских, с трудом выносил ее фривольные манеры[110]. Окружавшие короля монахи (среди них первым был Сугерий) убеждали его, что такое поведение идет от дьявола, и уговорили расторгнуть брак.
Оставленная жена быстро нашла себе нового мужа — английского короля Генриха Плантагенета, владевшего Нормандией и Анжу, перешедшим к нему по наследству. После свадьбы король Англии присоединил к своим землям целый ряд владений, мало-помалу охвативших половину Французского королевства. Он мечтал затмить наследника Капетингов и призвал придворных ученых создать эстетику, способную соперничать с парижской. Его церковнослужители стремились утверждать веру не на разуме, а на удовольствии и мечте. Таким образом, новая эстетика стала результатом слияния куртуазности на аквитанский и английский манер. На окраинах Галлии, в аббатстве Мальмсбери — Сен-Дени британских монархов, покоилось тело легендарного героя, короля Артура, имя которого прочно вошло в кельтские сказания. Придворные писатели Генриха Π черпали в них темы для своих произведений. Они принялись описывать чудесные приключения странствующих рыцарей, преследовавших драконов, чтобы заслужить расположение своей возлюбленной. Мрачная история любви Тристана и Изольды противостоит подвигам рыцарей и закованных в броню епископов, которые в эпических песнях сопровождали Карла Великого, противостоит мистическому рыцарству Персеваля. В западных областях возникла также альтернатива и французскому искусству: Анжерский собор, в котором использовалось скрещение арочных дуг, сохранил объемы романских церквей Пуату. По правде говоря, в домене Плантагенетов не было создано собственного архитектурного стиля. Его эстетика выразилась в основном в поэзии, мы практически не находим ее отзвука в искусстве, за исключением английской книжной миниатюры (сочетания ее линий отвергают шартрскую иконографию) и единственных предметов светского искусства, которые сохранились во Франции от той эпохи, — покрытых эмалями лимузенских блюд с изображениями гербов, которые служили для омовения рук сеньорам и их супругам на придворных пирах. Единственной монументальной иллюстрацией поэм, написанных для французских и других западных владык, можно считать итальянские соборы. Персонажи романа о Трое изображены на мозаиках в Битонто, рыцари Круглого стола — на одном из тимпанов в Модене. Столь далеко докатившееся эхо вполне объяснимо. Как я уже говорил, итальянская знать приняла куртуазную моду, и в итальянских городах собор, потомок античной базилики, стал средоточием как религиозной, так и светской жизни. В Италии собор в значительно большей степени, чем во Франции, принадлежал городскому населению, был его настоящим домом.
На юго-востоке латинского христианского мира иные силы, быть может прочнее укоренившиеся, обладавшие, безусловно, большей жизнеспособностью и черпавшие силы в развивавшейся средиземноморской торговле, постепенно вытесняли искусство области Иль-де-Франс. В этих областях процесс крушения западного христианства в волнах раннесредневекового варварства не так сильно затронул города, сумевшие быстро возродиться. Германцы, спускавшиеся с Альп, чтобы присутствовать на торжествах по поводу коронации императора, были потрясены их размахом. Городские коммуны вытеснили баронов-феодалов в маленькие сельские замки, подчинили епископов и церковнослужителей, победили Фридриха Барбароссу и с триумфом привезли в Милан имперских орлов. Внутри городских стен возник тип культуры, освобождавшейся, как в Аквитании, от влияния Церкви, но опиравшейся на школу. Итальянские школы не были церковными, в них не преподавали богословие, и клирики, желавшие обучиться ему, отправлялись в Париж. В итальянских городах — в первую очередь в Павии и Болонье — преподавали право, следуя чистой римской традиции. Здесь в конце XI века вновь открыли «Дигесты»[111] Юстиниана; итальянские преподаватели уделяли на своих уроках этому тексту столько же времени, сколько в studia области Иль-де-Франс отводилось Священному Писанию. Комментируя его, так же как и декреты канонического права, пользовались методикой, сходной с диалектическим анализом: около 1140 года Грациан при написании «Согласования несогласуемых канонов» использовал те же приемы, что и Абеляр. Эта наука обращалась к светскому сознанию и преследовала цель воспитать законников для службы императору и городам. Южнее, вблизи провинций, некогда подчинявшихся Византии и странам ислама, развивались другие формы светского образования, также направленные на заботу о теле, а не о душе. Здесь студенты изучали медицину, алгебру или астрономию, помогавшую составлять более точные гороскопы, комментировали переводы Гиппократа, Галена, Аристотеля. Из последнего преподаватели читали не трактаты по логике, а «Метеорологику» и искали в сочинениях Философа объяснений того, как связаны четыре стихии с типами человеческой натуры. В Италии победивших коммун образование было тесно связано с практической, земной жизнью. Оно приносило непосредственную пользу гражданам и не побуждало обновлять язык религиозного искусства. Что касается религиозной жизни, она была заражена лжеучениями. В Италии, как и в Аквитании, ересь процветала в среде народа, оставленного на произвол судьбы лучшими служителями Бога — отшельниками, укрывшимися в пещерах, клюнийскими или цистерцианскими монахами, затворившимися в своих обителях.
В городах на юге Европы Церковь действительно пока не помышляла о том, чтобы укрепить свою доктрину рассуждением. Она пела, а не проповедовала. Однако с развитием цивилизации обострялось сознание городской аристократии. Наступил момент, когда обряд богослужения перестал удовлетворять рыцарей, законников, торговцев, которые чувствовали, что их образ жизни в той или иной степени осуждается Богом. Они желали спасти свою душу, искали духовной пищи. Не находя ее больше в соборе, они слушали на перекрестках странствующих проповедников, обращавшихся к ним на понятном языке. Это были постоянно переходившие с места на место, неуютно чувствовавшие себя среди каноников беспокойные клирики или те, кто не сумел стать членом соборного капитула, замкнутого кружка, состоявшего из отпрысков богатых семей. Монастырская жизнь или отшельничество не привлекали их. Они несли Слово Божие, но Слово это было неистовым, и проповедники навлекали на себя немилость епископов.
Большинство странствующих проповедников призывало к покаянию. Стержнем еретических течений стала надежда на церковную реформу. Она имела глубокие корни и была продолжением реформистского движения XI века. Соборное духовенство ведет недостойный образ жизни, потому что утопает в роскоши и скверне. Могут ли быть святыми таинства, совершаемые грязными руками, и хвалы, возносимые теми, кто погряз в пороке? В то же время народу необходимы службы и молитвы, которые достигнут ушей Бога. Значит, следует прогнать плохих священнослужителей и вернуть Церковь к выполнению возложенной на нее духовной миссии. Эти призывы прозвучали в разгар сражения коммун за самостоятельность и подлили масла в огонь. Лишение епископа светской власти означало освобождение города. Обращенное к клирикам требование вести образ жизни, соответствующий евангельскому образцу нищеты, стало предлогом для начавшихся городских восстаний. Учившийся в Париже клирик Арнольд Брешианский, возглавивший в Италии очистительное движение, был инициатором создания в Риме в 1146 году общества во имя нищеты Христовой. Девятью годами позже он был сожжен за призывы к духовенству вести образ жизни, подобный тому, который вел Христос. Учение Арнольда Брешианского было объявлено еретическим. Охватывая городские круги, мистика нестяжательства постепенно отделилась от политических призывов. Лионский торговец Пьер Вальдо не был предводителем бунтовщиков. Переведя Евангелие, он обнаружил, что богатство навсегда закрывало ему путь в Царствие Божие. Он продал все, что имел, и раздал деньги беднякам. Затем он захотел помочь согражданам избавиться от власти зла и начал проповедовать. Однако он не был клириком, и архиепископ не захотел, чтобы торговец говорил о религии. В 1180 году архиепископ осудил Пьера Вальдо и добился у Папы Римского подтверждения своего решения. Последователи проповедника, «лионские бедняки», вальденсы, начали скрываться, тем не менее эта подпольная секта, отвергнутая Церковью и восстановившая ее против себя, повсюду пользовалась огромной популярностью — в больших и маленьких городах, в деревнях Альп, Прованса и Италии, среди суконщиков, торговцев скотом и ткачей.
В это же время в Тулузском графстве толпы следовали за другими проповедниками и внимали учению, которое, хоть и пользовалось именем Христа, было далеко от христианства. Бок о бок с официальной Церковью возникла другая, противостоявшая ей, — катарская. В первые годы XII века инакомыслящие проповедники Петр из Брюи и монах Генрих Лозаннский подготовили почву в этом краю. Они начали с обличения недостойных церковнослужителей, епископы же обвиняли их в манихействе. Действительно, в объявленной борьбе за нестяжательство и чистоту проповедники призывали провести более четкую границу между духовным и телесным, противопоставить одно другому, говорили о том, что мир поделен между двумя силами. Слова их звучали в обществе, в котором глубже, чем во все предшествовавшие времена, разверзлась пропасть, разделявшая народ и духовенство. Спустя пятьдесят лет стихийно возникший раскол принял огромный размах. Сектантов становилось все больше, кое-где они были гораздо многочисленней, чем истинные католики. Постоянное умножение числа еретиков побудило святого Бернарда обратить против них свое красноречие, но его труды пропали втуне. Победителем оказался не цистерцианский аббат, а терпеливые, упорные организаторы, некоторые из них прибыли с Востока. В Лангедоке, на севере Италии, они рукополагали епископов-еретиков, создавая целую церковную иерархию, существовавшую бок о бок с той, которая царствовала в пустых соборах. Именно тогда всеобщий капитул Сито получил от графа Раймунда Тулузского призыв о помощи: вся знать, все его вассалы оказались заражены ересью; в области Альби целый христианский край отпал от Римской Церкви, чтобы примкнуть к религии-сопернице.
Речь шла уже не об отклонениях от веры, но о другой догме. До сих пор точно не известно, чем же была катарская ересь[112]. Инквизиторы следующего столетия стерли ее с лица земли. Гонениям подвергалось всё, в чем видели хотя бы малейшее ее проявление. Все книги были сожжены. Руководства по преследованию еретиков позволяют составить некоторое представление об этой доктрине, противопоставлявшей бога добра богу зла, бога света и духа богу тьмы и плоти в равной борьбе, от исхода которой зависела дальнейшая судьба мира. Человек втянут в эту борьбу, он главная ставка в этом сражении. Если после смерти он хочет достичь света, а не воплотиться вновь в телесной оболочке, он должен содействовать победе света, то есть избегать всего, что имеет отношение к делам тьмы, презирать деньги, питаться лишь чистыми продуктами, отказаться от желания иметь детей: производить на свет потомство означало способствовать укреплению материи, умножать войска зла. В действительности лишь немногие совершенные смогли взять на себя такой аскетический подвиг. Но эти сильные люди могли вести слабейших к спасению: проповедникам достаточно было прикоснуться к своим последователям, чтобы те оказались проникнуты Святым Духом. Аквитанцы привыкли к подобному посредничеству, к тому, чтобы другие несли обет чистоты и бедности, привыкли перекладывать спасение своей души на профессионалов, вверять себя чужим молитвам. Сами же они в это время спокойно пользовались благами мира. Перед монахами Муассака, Конка или Сен-Жиля совершенные имели одно преимущество — они действительно являли своей жизнью пример истинного отречения от земных благ, были не столь лицемерны и не требовали многого от народа. Их заступничество казалось более действенным. Рыцари-трубадуры, разбогатевшие купцы следовали за ними, просили у них утешения in extremis[113]. Известно, что под их руководством жены аквитанских сеньоров перед смертью удалялись в общины совершенной жизни.
Можно было бы подумать, что все эти люди плохо представляли себе противоречия, существовавшие между учением совершенных и доктриной Римской Церкви. Катарский дуализм перенял терминологию и некоторые символы, которыми пользовалось католическое духовенство, так что переход от резкой критики, которой странствующие проповедники подвергали епископов, к чистой ереси казался незаметным. Доктрина катаров отрицала существование иерархии небесных чинов, предложенной Дионисием Ареопагитом, его теорию движения вперед и возвращения и само понятие Творения: материя — это зло; она не могла быть создана добрым Богом. Учение катаров отвергало также принцип вочеловечения Бога и, по-видимому, считало Христа лишь ангелом, посланцем Бога света. В подтверждение этому катары ссылались на первые строки Евангелия от Иоанна. Действительно, как вообразить божественное сияние погруженным во тьму человеческого тела, обретающим плоть в лоне женщины, как почитать Деву Марию? Катары также отвергали понятие искупления. Возможно ли представить себе, что Бог света претерпел страдания в человеческом облике, и какова цена мучений, принятых бренным телом? Для совершенных крест был бессмысленным символом, мистификацией. Они решительно отмежевались от Сен-Дени, от богословских спекуляций на тему Троицы, от всей иконографии соборов.
В конце XII века многочисленные ереси, толпы катаров, собрания вальденсов, тайно отправлявших культы чистоты и обходившихся без священников, все те непонятные секты, которые во множестве возникали в окрестностях южных городов, и цвет куртуазной культуры, возросшей в тени этих сект, представляли собой самое серьезное препятствие на пути того, что распространяли школы и памятники Парижа. Более того, ересь угрожала единству христианства, несла смуту в мир. Вот что больше всего тревожило церковные верхи. Разве могли они теперь уделять столько внимания Иерусалиму и Гробу Господню? Теперь речь шла о самом Западе, куда проникла зараза. Лучшие монахи — цистерцианцы — не справились со своей задачей. Их аббат, сопровождаемый слишком пестрой свитой рыцарей, вынужден был в смущении отступить. Римской Церкви пришлось спешно пускать в ход все силы. Искусство? В Италии оно уже служило проповеди истинной веры. В 1138 году мастер Гулельмо Луккский воздвиг изображение распятого Христа перед глазами тех, кто сомневался в святости Его жертвы; на хорах церкви Святой Марии в Транстевере мастера выложили мозаики, изображавшие Богоматерь, окруженную славой: эти произведения утверждали истинность воплощения Бога в человеческом образе. В 1178 году было решено украсить амвон (возвышение, откуда народу читали Евангелие) Пармского собора. Церковнослужители предложили Бенедетто Антелами повторить византийский сюжет Снятия с креста. Созерцая Христа, умершего на Голгофе, воинов, жён-мироносиц, Марию, целующую Его правую руку, невозможно было усомниться, что Бог — Дух и Свет — принял человеческий образ, страдал и умер, чтобы искупить грехи человечества. Несколько раньше, между 1160 и 1170 годами, в самом центре области, охваченной расколом, портал Сен-Жильского собора вознесся над огромной сценой, где разворачивалась борьба с ересью. Между колоннами античного храма, повергая наземь силы зла и искореняя ростки лжеучений, апостолы, свидетели Слова Живого, предстояли в силе истинной веры: они были изображены настоящими атлетами. На фризе, который они держали на своих плечах, разворачивался евангельский рассказ. В центре его, над главным входом, располагалось изображение Тайной вечери. Оно утверждало истину Евхаристии. В конце XII века южное романское искусство предлагало убедительные формы наглядной агитации. Это было искусство готических соборов, ставшее во всем христианском мире, наверное, самым эффективным средством подавления, которым пользовалось католичество.
2 Зрелость
1190-1250
К 1200 году Римская Церковь превратилась в осажденную крепость. Среди наступавших враждебных сил, покоривших ее бастионы и подбиравшихся к последним укреплениям, самым яростным и ближе других подошедшим противником была ересь. Однако не одна она принимала участие в атаке. Развитие наук породило и другую, не столь очевидную на первый взгляд опасность, дав толчок смелым поискам, которые велись в Париже — центре университетского образования, а также вызвав тревожные отклонения от догмы. Размышляя над произведениями Дионисия, над тайной Троицы и Сотворения мира, Амори Венский пришел к следующему выводу, на котором построил свою проповедь: «Всё суть одно, ибо всё сущее есть Бог», и, следовательно, любой человек, будучи частью Бога, тем самым избавлен от греха — разве не достаточно человеку знать, что Бог находится внутри него, чтобы жить в радости и свободе? Сильная сторона этого учения заключалась в том, что оно было близко жизнелюбивому восприятию мира и лирическим порывам рыцарства. Вместе с тем оно подталкивало к мысли о ненужности духовенства и таким образом становилось пагубным в глазах церковных властей. В то же самое время парижские учителя постепенно приходили к пониманию истинной глубины Аристотелевой философии. В 1205 году Папа Римский послал некоторых преподавателей в Константинополь, к источнику греческой мысли. В Толедо группы переводчиков передали наконец логическую систему «Органона» и, сделав ее доступной, начали раскрывать содержание «Физики», а затем и «Метафизики» Философа. Религиозным мыслителям открылся целый ряд примеров, предлагавших рациональное и логичное объяснение устройства Вселенной, основанное на положениях, не стесненных рамками Священного Писания. Позволят ли отвратить себя от истинной веры те, кому надлежало укрепить броню догмы и заставить ересь сдать позиции, устоят ли перед соблазном, источаемым этими книгами? Первые сомнения и шатания почувствовались в то время, когда материальное процветание общества достигло пика, когда страсть к обогащению начала незаметно подрывать устои общества. Структуры Церкви, созданные на основе нестяжания, одной из монашеских добродетелей, сложившиеся в мире крестьян и воинов, которому были неведомы потрясения и изменения, по всей очевидности, более не соответствовали потребностям общества и движениям, происходившим внутри него. Следовало как можно скорее обновить эти структуры, вновь прийти к единству. Церковь утратила гибкость, превратившись в подобие монархии, некое тоталитарное образование с центром у престола святого Петра и Папы Иннокентия III.
Более двух столетий римский понтифик терпеливо расширял границы области, подчинявшейся его власти, и с успехом противостоял императорам. Законники курии создали теократическую доктрину, в соответствии с которой в этом мире Папе Римскому принадлежала auctoritas[114], превосходившая любое земное могущество. Утверждалось, что весь мир находится под его духовной властью. Папа отправлял легатов во все стороны света и мечтал подчинить епископов своим законам. Избранный в 1198 году на Папский Престол тридцативосьмилетний Иннокентий III привел к завершению многочисленные попытки, делавшиеся в этом направлении. Этот благородный римлянин был интеллектуалом. В Болонье он изучал право (итальянский стиль), в Париже — богословие (французский стиль). Он стал первым Папой, который открыто объявил себя не только преемником святого Петра, но и наместником Христа. Царем царей, Rex regum, возвышавшимся над государями и судившим их. В день интронизации он провозгласил:
Мне сказал Христос: «Я дам тебе ключи от Царства Небесного; все, что развяжешь на земле, будет развязано на небе». Посмотрите же на слугу, который возглавляет целую семью, — это викарий Иисуса Христа, преемник Петра. Он стоит между Богом и людьми, меньше Господа, больше человека.
Папа стремился накрыть всех правителей Европы сетью феодальных повинностей, которую держал в своих руках. Ему это почти удалось. Опираясь на достигнутые успехи, к концу своего царствования он созвал Собор в Латеране, который в средневековом христианском обществе по значимости решаемых на нем проблем и влиянию, оказанному на современное христианство, может быть приравнен к Тридентскому собору. В его программу входило «уничтожение ересей и укрепление веры, но также преобразование нравов, искоренение пороков, насаждение добродетелей, исправление ошибок. И наконец, прекращение раздоров, установление мира, ограждение свободы и повсеместное торжество истины».
Наступила реакция. Церковь собирала силы, крепла, отторгала от себя все инородное. В 1179 году предыдущий Собор повелел заключать в лепрозорий, отделив от народа Божия, любого человека, несущего в себе заразу, — пораженного гнойной болезнью, а также безумного или одержимого бесами. Продолжая эту политику, Собор, созванный Иннокентием III, предписывал евреям носить особую нашивку на одежде, некую метку — знак изгоев. Затем Церковь перешла в наступление. Следовало сохранить единство католического мира, и цель крестового похода была изменена — борьба теперь велась с раскольниками (в 1204 г. армия крестоносцев захватила Константинополь), а также, и в первую очередь, с еретиками, представлявшими главное зло[115]. В 1209 году Папа, пообещав рыцарям области Иль-де-Франс индульгенции из Святой земли, призвал разграбить Лангедок и уничтожить альбигойцев[116]. В этой борьбе, говорил он, и отчаянном усилии повсеместно утвердить свое владычество Римская Церковь давно не полагается более на монахов.
Древние монашеские ордена утратили свой авторитет, служили посмешищем на рыцарских пирах. Дидактические поэмы, составленные в начале XIII века для французской аристократии на ее родном языке, полны критических замечаний о бенедиктинцах и картезианцах, упреков в уединенном и роскошном образе жизни, который они вели, «будто настоящие ярмарочные торгаши». В действительности обличения были направлены против религии равнодушия и самодовольного эгоизма. Монахи — рыцари орденов тамплиеров и госпитальеров[117] в меньшей степени подверглись опале. Они, по крайней мере, сражались в миру, проповедовали куртуазные добродетели — мужество и стремление к завоеваниям, представляли собой иллюстрацию деятельного христианства. Однако духовные движения, приведшие к возникновению новых конгрегаций, призывали теперь к религиозной жизни, которая была основана не на звоне мечей и конных поединках, а на любви к Богу и людям. Подражание Христу, Его заботе о бедных — таков новый стиль ордена Святого Духа, последователи которого посвящали себя уходу за больными, а также ордена тринитариев[118], занимавшегося выкупом пленных. Деятельность этих орденов отвечала евангельским настроениям, которыми были проникнуты миряне. Лишь такой подход давал некоторую надежду на благоприятный исход в битве с лжеучениями. Иннокентий III прекрасно сознавал это, он сам привнес в Церковь некоторые элементы учения вальденсов и множества других сект, проповедовавших отказ от богатства, — он принял «католических бедняков», гумилиатов;[119] поддержал светское покаяние. Теперь следовало привлечь интерес к двум учителям, двум «вождям», которых Небесный Промысл, стремясь приблизить Церковь ко Христу,
Речь идет о Франциске Ассизском и Доминике Гусмане, впоследствии канонизированном.
В 1205 году парижские рыцари еще не мчались в Лангедок, чтобы во имя Христа истребить еретиков или любого, кто попался бы им под руку. Папа Иннокентий III принял епископа испанского города Осма, которого сопровождал субприор Доминик. Их путь в Рим лежал через области, охваченные ересью катаров, и в Монпелье они встретили совершенно павших духом легатов-цистерцианцев. Причины поражения католиков предстали им со всей ясностью — они заключались в безнравственном поведении духовенства, погрязшего в роскоши. Прибывшие объявили Папе, что «для того чтобы закрыть рот злоязычным, священнослужители должны уподобиться Доброму Пастырю, проявлять смирение, ходить пешком, не иметь золота и серебра — иными словами, вести образ жизни, во всем сходный с апостольским». Епископ и его каноник предлагали отказаться от роскоши, в которой со времен Карла Великого жили все церковники Западной Европы, отказаться от конных выездов, драгоценностей, знаков земного могущества. Они намеревались вернуться в области, находившиеся в руках раскольников, в качестве свидетелей о Христе — истинно евангельских свидетелей, то есть совершенно нищих. Папа благословил и поддержал их, и посланцы отправились в Нарбонну. В Памье, Лаво и Фанжо они открыто выступили против совершенных, но теперь все видели, что представители Римской Церкви, как и их противники, не имели ни богатства, ни жен, ни оружия. Начались турниры красноречия. Доминик и его спутники были священнослужителями, образованными людьми. Если еретикам удалось восторжествовать над монахами-затворниками, то теперь в борьбу вступали представители университетской культуры. Они составляли памятные записки, заранее готовились к диспутам, желая ниспровергнуть сами догмы катаров, доказать их несостоятельность с точки зрения богословия. Свои аргументы они излагали на окситанском[121] языке, том же, на котором говорили их противники. Победителя в турнире выбирала аудитория, состоявшая из сеньоров и горожан. Доминик остался в одиночестве. В то время он основал близ города Пруй женский монастырь, соперник общин, куда женщины этой области удалялись, желая вести аскетический образ жизни и упражняться в катарских добродетелях. В монастыре был принят устав святого Августина[122], основанный на заповеди бедности. Лучше не знать, какова была судьба Доминика в кровавом водовороте крестовых походов; однако через некоторое время он снова начал проповедовать. Новый епископ Тулузы приблизил к себе Доминика вместе с группой его учеников. В краю, разграбленном бандами Симона де Монфора, католичество, подобно тирании, насаждалось силой, на руинах, встречая молчаливое сопротивление истребляемого, подавленного, враждебного населения. Маленькая доминиканская община пыталась сражаться, предпринимала новые попытки овладеть умами и посвятила свою деятельность духовному возрождению. Доминик присутствовал на Латеранском соборе. Отцы Церкви, прибывшие на Собор, созванный для борьбы с бесчисленным множеством сект, с подозрением отнеслись к возникновению новой конгрегации. Доминик сумел победить их недоверие. Ему было предписано воздержаться от составления собственного устава и выбрать какой-либо из уже существовавших. Доминик выбрал тот, который дал монахиням пруйской обители, — устав каноников-августинцев. Внеся некоторые изменения в этот устав, он основал орден проповедников.
Главным принципом доминиканцев стала совершенная нищета. Не бутафорское нестяжание цистерцианцев, а истинное, подобное бедности Христа. Богатство подтачивало мир, именно против него следовало направить острие меча. В XXVI главе, называвшейся «Отказ от собственности», излагался этот основополагающий тезис: «Никаким образом мы не будем получать ни собственности, ни дохода». В обществе, где земля перестала быть единственной ценностью, возникла религиозная община, которая впервые в истории не укрепляла своей власти земельными владениями. Ее монахи не возделывали поля, а добывали пропитание, бродя от порога к порогу. Книги — вот все, что было у доминиканца. Его орудия труда. Ему надлежало распространять истинную веру, шаг за шагом теснить демонов неверия, ловких противников, которых можно было изгнать лишь при помощи знаний, дарованных Духом. Следовательно, доминиканцу необходимо было непрерывно упражняться, закалять ум, вооружаться аргументами, читать, учиться. Лучше всего получать знания в группе, что уже было наглядно доказано университетскими преподавателями. Монахи-доминиканцы жили в общине, как соборные каноники или бенедиктинцы. Но не за тем, чтобы хором с утра до ночи петь хвалу Господу. Для доминиканцев литургические каноны становятся более гибкими, упрощаются: братья значительно сокращают объем молитвословий, обращаясь к Богу когда угодно и не заботясь о соблюдении установленных часов. Они более не рабы космических ритмов, которые на протяжении веков, невзирая на перемены в окружающем мире, устанавливали порядок общения с Богом. Миссия проповедника побуждала доминиканца к действиям — сражение нельзя было откладывать. Встреча с противником происходила не один на один в пустыне или в полях — враг находился среди людей, в самом центре нового мира. Речь уже шла не только о деревне, но и о городе, где также предстояло сражение. Поэтому доминиканский монастырь возник среди городских домов, на которые проливал свой свет. Обитель братьев проповедников отличалась от обычной обители также тем, что жизнь монахов не заключалась в четырех стенах. Монастырь — лишь кров для братьев, куда, завершив дела, они возвращаются на ночлег, где делят пищу — подаяние, собранное в предместьях. Кроме того, как и монастырь при соборе, доминиканская обитель стала — и в этом состоит ее главная задача — некой стройкой, где кипит умственная работа, иначе говоря — школой. В каждом подобном центре обучения «лектор» излагает и комментирует Священное Писание. В соответствии с уставом каждый доминиканец должен иметь собственноручно переписанные Библию, «Сентенции» Петра Ломбардского, где в сжатой форме содержится вся богословская наука, «Историю» Петра Едока, откуда можно черпать темы проповедей. Речь не шла о тяжелых, богато переплетенных книгах, подобных тем, что извлекались из монастырских библиотек для богослужений или долгих размышлений. Это были настоящие учебники, всегда находившиеся под рукой, которые братья проповедники носили с собой в суме, чтобы в любой момент получить нужную справку. Большую часть содержавшегося в книгах они помнили наизусть.
Не следует основываться в своих занятиях на писаниях язычников и философов, за исключением краткого ознакомления с ними. Не следует изучать светские науки, а также так называемые свободные искусства, за исключением тех случаев, когда глава ордена или главный капитул не примут иного решения в отношении кого-либо из братьев. Настоятель может дать особое разрешение ученикам, которые не могут легко прервать свои занятия и которых нельзя потревожить, призвав на службу или обеспокоив любым другим делом.
Самое важное в этом отрывке из установлений ордена, свидетельствующем о нововведениях, о главном стремлении, взгляде, обращенном в будущее, — не формальные и традиционные ограничения, но исключения из правила, открывающие двери интеллектуальным поискам, пока еще осторожным, но уже набирающим силу и размах. Монахам предстоит принять участие в бою за доктрину, следовательно, они обязаны предстать во всеоружии — хорошо разбираться в диалектике, этой «светской науке», а также изучить рациональные доказательства, заключенные в произведениях Аристотеля, философа и язычника. Новый орден возник рядом с образовательными структурами того времени. Во всех крупных городах — центрах образования, в Монпелье, Болонье, Оксфорде и прежде всего в Париже, на улице Сен-Жак, — доминиканские монастыри присоединились к группам, занимавшимся богословскими изысканиями, и вскоре встали в авангарде их.
Орден братьев проповедников, колыбелью которого был кафедральный капитул, отделился от него, стремясь к тому, чтобы просветительская деятельность ордена отвечала требованиям времени, и желая поставить ее на службу Римскому Престолу и под его контроль.
Возникновение францисканского ордена было прямым следствием ряда духовных разочарований, постигших городское население. Сын разбогатевшего купца, выходец из коммуны города, охваченного катарской ересью, Франциск Ассизский в юности предавался куртуазным развлечениям — сочинял любовные песни, участвовал в рыцарских забавах. Позже он проникся тревожными настроениями, которые испытывали в то время средние слои населения южных областей. Это не было проявлением учения катаров — с ним говорил Сам распятый Христос. Когда, вслед за Пьером Вальдо, святой Франциск пожелал отказаться от всех мирских благ и нагим предстал перед своим отцом, бросив к его ногам богатые одежды и деньги, епископ его родного города укрыл его своим плащом. Святой Франциск сохранил верность Церкви. Он также добывал пропитание подаянием. Он без устали возносил хвалу Богу и стал юродивым во имя Господне. По традиции трубадуров, святой Франциск продолжал служить своей возлюбленной — Госпоже Бедности. Он проповедовал покаяние и воспевал красоту мира, брата Солнца и звезды. За ним последовали другие юноши, его друзья. Святой Франциск повел своих учеников, одетых в рубища и не имевших даже сумы, в дальние странствия, подобно Христу, ведшему за собой апостолов. Им предстояла жизнь среди бедняков, работа на скотных дворах и в мастерских. Вечерами они будут делиться со своими спутниками радостью, которую приносит смирение. Если же они не получат денег за работу, тогда с верой, что Бог не оставит их, отправятся просить милостыни.
В 1209 году Папа Иннокентий III, стремившийся привлечь к себе нищенствующие ордена, благословил проповедь святого Франциска и одобрил его простой устав, основанный на нескольких евангельских текстах. Вскоре братья францисканцы появились во всех городах. Первые из них прибыли в Париж в 1219 году. Сначала им был оказан плохой прием — этих одержимых бродяг принимали за еретиков, им приходилось предъявлять письма Папы Римского. Но уже в 1233 году францисканский орден распространился во всех городах Северной Франции. В то время в знатных семьях положение жен и дочерей изменилось в лучшую сторону. Женщины, во всяком случае те из них, которые были богаты, составляли теперь группу, чьи духовные устремления привлекли внимание духовенства. В итальянском городе Ассизи знатная дама Клара основала общину сестер в подражание «меньшим братьям» своего друга Франциска — миноритам. Вскоре возник «третий[123] орден», предлагавший тем, кто не мог порвать с жизнью в миру, правила апостольской жизни, подходившие их положению. Сам святой Франциск продолжал идти вперед по пути подражания Христу. Он пришел к такому самоотождествлению с Ним, что «пламя любви» вызвало на его теле стигматы, подобные ранам, которые получил Спаситель. Толпы почитали его как святого. В городах Тосканы в нем видели образец нового совершенства, пример стремления к смирению, завладевшего недавно сформировавшимся городским слоем населения, стремления к отказу от благ, к благотворительности, к радостному поэтическому настроению, пылкому излиянию чувств. Святой Франциск боролся с ересью не мечом или разумными доводами, а порывами сердца, самим образом жизни, который он вел. В своей простоте он лучше, чем кто бы то ни был, воплощал евангельские истины, растворенные в мире. Этот человек хорошо ладил с Христом, был великим подвижником христианской истории, и можно без преувеличения говорить о том, что именно ему мы обязаны всем, что сохранилось в наши дни от живого христианства.
Святой Франциск не был священником и не стремился им стать; этому примеру следовали и его первые ученики. Но он не был настроен против духовенства. Говоря с народом, святой Франциск лишь желал помочь тем, кто каждый день освящал хлеб и вино. В то время главным оружием Церкви в борьбе с катарами, вальденсами и всеми, кто отвергал священство, была Евхаристия. Латеранский собор установил догмат пресуществления. В Бокэре, Сен-Жиле, Модене — городах, зараженных ересью, — на церковных порталах возникли скульптурные изображения Тайной вечери — Христос протягивает ломоть хлеба Иуде. Святой Франциск, слуга духовенства, встал на защиту священников.
Если блаженной Деве Марии воздается столь великое почитание, подобающее Ей, ибо Она носила Христа в Своем благословенном чреве, если блаженный Иоанн Креститель содрогнулся и не осмелился коснуться главы своего Господа, если гробница, где временно покоится тело Христа, окружена почитанием, сколь свят, справедлив и достоин тот, кто своими руками прикасается, принимает в сердце и уста и дает другим в пищу тело и кровь Христовы.
В своем духовном завещании святой Франциск продолжает:
Если бы я обладал такой же мудростью, какой обладал Соломон, и если б я встретил самых бедных священников века сего, не стал бы без их согласия проповедовать перед их паствой. Их и всех других хочу я бояться, любить и почитать как владык своих. Не хочу раздумывать об их грехах, ибо Сына Божия вижу в них, они — мои наставники. И потому так поступаю я, что нигде не вижу я в веке сем Всевышнего Сына Божия телесно, кроме как только в Святейшем теле и крови Его, которые священники воспринимают и дают другим. Эта Святые таинства хочу превозносить и почитать превыше всего, им подобает совершаться в местах, украшенных со всем великолепием.
Смиренное и почтительное дополнение дела духовенства, францисканская проповедь была поначалу наивной, предлагала примеры, а не аргументы, основанные на логике. Именно благодаря этому она была столь действенна. Кардиналы, однако, желали организовать ее иначе, усилить — в то время в первую очередь требовалось не столько воспевать хвалу Богу и Его творению, сколько устранить любые отклонения от доктрины Церкви, выправить народную веру, иными словами, укрепить догму рациональной основой. Папа нуждался не столько во вдохновенных псалмопевцах и юродивых, сколько в логиках и докторах богословия. Невзирая на протесты святого Франциска и части его последователей, Папский Престол принудил братьев францисканцев превратиться по примеру доминиканского ордена в некое воинство священников и ученых. Францисканцев заставили осесть в монастырях, пресекли их романтические странствия среди полей Умбрии. Их снабдили книгами и учителями, для них открыли studia[124] в Париже и других центрах университетского образования. С 1225 года францисканцы состояли при Папе в качестве второй армии — войска, вооруженного знаниями. Они проникли в города, которые предстояло завоевать; определилось их место в системе репрессий, разработанной католическим духовенством.
Иннокентий III пожелал, чтобы эта система опиралась на сеть приходов, через которые священники, при содействии мобильных отрядов, состоявших из монахов нищенствующих орденов, смогли бы контролировать всех верующих. Для борьбы с ересью весь христианский мир был разбит на примерно равные части. В XIII веке во Франции сельские общины постепенно были преобразованы в приходы. Каждого крестьянина начали определять как «прихожанина» той или иной церкви; ему запрещалось причащаться в другом храме. Предпринимались попытки заставить его регулярно исполнять религиозные обряды — Латеранский собор предписывал мирянам ежегодно исповедоваться и причащаться. Священник должен был следить, чтобы никто не уклонялся от этого обычая, выявлять тайных еретиков и вести действенную борьбу с колдовством. Благоденствующий, сильный властью, подчинявшей ему паству, деревенский священник превратился в маленького деспота, которого высмеивали сказки, «Роман о Лисе»[125] и сборники фаблио. Ячейки, подобные описанным выше, возникали в новых городских кварталах. Над всем диоцезом царствовал епископ.
Перед епископом стояли две точно определенные задачи. В первую очередь он должен был выполнять функции антиеретического надзора. Его обычный суд, суд официалов, разбирал жалобы на самые распространенные нарушения церковной дисциплины. Параллельно была учреждена особая судебная инстанция — инквизиция. Теперь расследование проводил лично епископ, который не дожидался вынесения обвинений. Правила экстренного судебного производства, установленные Латеранским собором, вскоре нашли применение на юге Франции. Подозрительные лица, на которых поступал донос, подвергались преследованиям, аресту и допрашивались при свидетелях. Прилагались все меры, чтобы как можно скорее добиться признания подсудимых. Если же те упорствовали в своих заблуждениях, их предавали в руки светского суда и сжигали в очистительном пламени. Иногда инквизитор приговаривал виновного к покаянию, паломничеству, а чаще всего — к пожизненному заключению. Такова была одна из функций епископа — репрессивная. Пастырю вменялось в обязанность истреблять паршивых овец, очищать христианский народ, уже избавленный от евреев и прокаженных, ото всех плевел, таивших в себе заразу. Епископ подносил огонь к кострам, но он должен был также просвещать души благим светом. Вторая задача — разъяснять догматы, распространять истину — уходила корнями в традиции. Епископ должен был проповедовать сам или же, по крайней мере, способствовать развитию образования в городе.
С возникновением централизованной монархии Римская Церковь подчинила непосредственно Папе крупнейшие образовательные центры, кузницы богословия, где закалялись религиозные догматы. Эти центры стали главной деталью в механизме, при помощи которого религия, обратившись к знаниям, стремилась укрепить свои позиции. Главные очаги научных исследований были преобразованы в структуры, более соответствовавшие потребностям времени, — «университеты», которые вышли из-под власти епископа, но которые Рим пытался тем не менее держать в своих руках. В течение долгого времени преподаватели и ученики объединялись в корпорации, подобные цеховым организациям городских ремесленников. Таким образом они стремились к большей самостоятельности. Плечом к плечу они противостояли притеснениям сеньора и пытались выйти из-под опеки капитула. В Париже преподавательский и студенческий синдикат восторжествовал над королем и собором Нотр-Дам и приобрел частичную свободу. Иннокентий III официально признал эту ассоциацию, его легат дал устав universitas magistrum et scolarium parisiensium;[126] это было сделано для того, чтобы лучше подчинить ее себе и теснее связать с Папским Престолом. Недавно возникшая организация тут же попала под строгий контроль. Учение Амори Венского подверглось осуждению. Были сожжены десять университетских преподавателей, продолжавших его поддерживать. Из программ обучения были исключены книги, губительно влиявшие на умы: парижским преподавателям было запрещено рассказывать ученикам о новой философии Аристотеля, о его метафизике и комментариях к трудам Авиценны. Возникло мнение, что нищенствующие ордена смогут выделить из своих рядов наиболее надежных учителей; таким образом, представители этих орденов проникли в университеты. При поддержке Папы они заняли места на главных богословских кафедрах.
В это же время умственная деятельность сконцентрировалась на логическом размышлении. Отвергнуты праздные эстетические изыскания и праздное любопытство. В первые годы XIII века Париж стал огромной машиной непосредственного рассуждения. На подготовительном факультете, где получали образование будущие богословы, все завоевала диалектика. «Урок», прямое общение с авторами отступили перед «диспутом», формальным упражнением в ведении беседы, необходимым для того, чтобы подготовить умы к сражениям за постулаты веры. Комментирование текстов постепенно уступило место чистым играм силлогизмов. Грамматика более не открывала пути к словесности, но приобрела форму структурной лингвистики. Она спекулировала словесной логикой и занималась анализом способов выражения в зависимости от механизмов, которые рассуждение навязывало языку. Зачем нужны были Овидий и Вергилий? Зачем искать в литературе источник наслаждения, если слова стали лишь точными инструментами для наглядного изложения аргументов? Эти изменения быстро положили конец порывам гуманизма и погасили воодушевление, с которым преподаватели и монахи-цистерцианцы относились к классическим поэтам, служившим для них образцами. Схоластическая мысль отвергла украшения и постепенно скатилась к сухому формализму. Во всяком случае, в Париже и других университетских городах, в Оксфорде и Тулузе, она ускорила развитие богословской системы, состоявшей из разрозненных частей, которая очень быстро приобретала мощь.
На этой системе основывалась истинная проповедь. В городах она действовала на первых порах через слово, принадлежавшее прежде всего профессионалам — доминиканцам и францисканцам. Они умели проповедовать лучше любого епископа или священника, которые были вынуждены уступить им. Они были повсюду, к ним привыкли. Более чуткие к движениям нового сознания, они сумели привлечь большую аудиторию, задевали слушателей за живое. Они говорили на языке повседневной жизни, стремились к конкретным образам, которые могли бы поразить воображение паствы, включали в свои проповеди занимательные истории, соответствовавшие социальному положению тех, к кому были обращены их слова. Уже в то время проповедники подкрепляли свои речи эффектными театрализованными действами — парижанам представляли первые «Чудеса Нотр-Дам». Что касается искусства, до сих пор оно было в первую очередь молитвой, поклонением, воспеванием славы Божией. Теперь же благодаря возникшей потребности найти новые средства убеждения искусство целенаправленно, а отнюдь не случайно, стало орудием наставления, поучения.
В первой половине XIII века нищенствующие ордена еще не принимали непосредственного участия в художественном творчестве. Они едва утвердились. Монастыри их были неким подобием постоялых дворов, а молельни немногим отличались от сараев. Братья проповедники и францисканцы уступили духовенству заботу об украшении храмов. Они побуждали его к этому, поставляя новые иконографические темы, возникавшие на основе их проповедей. Святой Бернард, изгонявший любые изображения из цистерцианских обителей, допускал появление произведений изобразительного искусства в городских церквах для того, чтобы «помочь епископам, обращающимся ко всем, как к ученым, так и к необразованным, пробудить в народе набожность осязаемыми образами, если духовными им этого достичь не удалось». Святой Франциск желал, чтобы церкви, в которых находилось Тело Христово, были «богато украшены». В период возникновения первых доминиканских и францисканских общин новое поколение соборов поднялось над городами, олицетворяя непрекращающуюся проповедь. Темпы роста отныне ускорились. В 1250 году было завершено строительство собора Парижской Богоматери, длившееся больше столетия. Растущее благосостояние буржуазии, ставший более эффективным сбор пожертвований, стремление как можно быстрее привлечь колеблющихся на свою сторону ускорили темпы строительства. На стройках кипела бурная деятельность, они стали подобием линии фронта, где разворачивалось решающее сражение за истину. В 1191 году в Шартре начались работы по возведению нового собора. Спустя двадцать шесть лет строительство было завершено. Еще стремительней шли работы в Амьене. В Реймсе первый камень был заложен в 1212 году, а основной этап строительства закончился к 1233 году. Огромные стройки стали местом основных капиталовложений, самыми крупными художественными предприятиями всего Средневековья. Теперь капитулы поручали управление строительством специалистам-инженерам, следившим за каждым этапом работ. Один из мастеров, Виллар де Оннекур, оставил после себя тетради с записями, которые свидетельствуют, что он работал над совершенствованием разнообразных механизмов, интересовался подъемными устройствами, которые позволили бы экономить ручную силу и ускорить работу. Он с успехом использовал на практике теоретические знания и мог представить себе еще не завершенный собор как единое целое. «Доктора каменных наук» хорошо усвоили математические знания, полученные в школе. Они называли себя мастерами, магистрами, как бы стремясь приблизить свою деятельность к университетской. Действительно, здания, которые они возводили, запечатлевали в неподвижной материи мысль преподавателей и ее диалектические изгибы, наглядно представляли католическое богословие.
Богословие же в то время, более чем когда бы то ни было, было утверждением света. Чтобы с большим успехом сражаться с ересью катаров, лучшие религиозные мыслители ссылались на небесную иерархию, описанную в трудах Дионисия Ареопагита. Они стремились укрепить это здание более прочными аргументами, обогатить его знаниями, которые принесло развитие естественных наук. Роберт Гроссетест, основавший школы в Оксфорде, читал по-гречески. Он был знаком с сочинениями Птолемея, новой астрономией и научными комментариями, которыми арабы снабдили Аристотелев «Трактат о небе». В его представлении Бог был светом, а вселенная — сияющей сферой, которая из единого источника испускает свет в три стороны пространства. Все человеческое знание есть результат воздействия духовного излучения нетварного света. Если бы грех не лишал человеческое тело прозрачности, душа могла бы непосредственно созерцать огонь любви Божией. В теле Христа Бог стал человеком, телесный и духовный мир обретают изначальное единство. Христос (и собор, символизирующий Его), таким образом, становится источником, освещающим все, началом всего — Троицы, Слова Воплощенного, Церкви, человечества, тварного мира. Искусство находилось под влиянием этих теорий. «Среди всех явлений видимый свет — самое лучшее, восхитительное и прекрасное; в свете заключена красота и совершенство материальных форм». Роберт Гроссетест изложил философским языком то, что смутно сознавали францисканцы, сложившие похвалу святой Кларе:
Ее ангельский лик становился еще светлей и прекрасней после молитвы и сиял от радости. Воистину милостивый и щедрый Господь освещал Своими лучами Свою смиренную невесту таким образом, что она распространяла божественный свет вокруг себя.
Доминиканец Альберт Великий определил красоту как «сияние формы».
В большей степени, чем церкви первого поколения, новые соборы были наполнены светом божественной славы. Верхние этажи часовни Сент-Шапель в Париже были настоящей воздушной ловушкой, расставленной, чтобы ловить и удерживать солнечные лучи. Стены исчезали. Дневной свет, проникая со всех сторон, равномерно освещал все внутреннее пространство. Сугерий пришел бы в восхищение. В Реймсе Жан д'Орбэ задумал, а Виллар де Оннекур сделал эскиз полностью ажурного окна, которое получило повсеместное распространение. Затем мэтр Гоше уничтожает тимпан над порталом фасада и заменяет его витражом. Повсюду расцветают розы. Они расширяются и наконец достигают контрфорсов. Круги совершенства, символы космического круговорота, они символизируют поток творческой энергии, движение света и его возвращение, мир сияющих импульсов и их отражений, описанный в богословии Дионисия.
Оптическая теория Роберта Гроссетеста привела к написанию «Трактата о линиях, углах, фигурах, отражении и преломлении лучей» и далее — к геометрии и чертежам. Именно ей архитектура XII века обязана сиянием и строгостью линий. В этой архитектуре нашли отражение новые знания, которые распространял факультет искусств. В соборе чувствовалось меньше риторики, стремления к развлечениям, ощущался поворот в сторону диалектического анализа структур и ясности схоластических доказательств. Его формы зародились в среде духовенства, которое круглый год оттачивало ум в ожидании больших пасхальных турниров, увлекательных диспутов, поединков в фехтовании стальными аргументами. Также и мэтр, руководящий строительством, сначала выделяет одинаковые части, затем части этих частей для того, чтобы соединить их, следуя логике. Собор, подобно игре разума, побеждающего при помощи аргументов, развивается по вертикали в соответствии с правилами геометрии света.
В соборе теперь можно увидеть украшения, но они здесь не для того, чтобы вызывать восхищение. Теперь это иллюстрации церковной доктрины. Победоносные, выставленные посреди городских улиц словно утверждение мощи, все эти изображения открыты взорам. В Реймсе и Амьене статуи вышли из ниш, выступили навстречу верующим, молчаливо проповедуя о достоинствах священства. Эти фигуры восхваляли миссию всего духовенства, преподавателей, дающих знания, священников, благословляющих хлеб и вино, епископов, инквизиторов. Мельхиседек подает гостию Саулу-рыцарю. Собор борется с заблуждениями вальденсов, и скульпторы больше не изображают Христа в нищете и одиночестве, окруженного предательством. Они представляют Его как основателя Церкви, восседающего, подобно епископу, в окружении духовенства. Собор борется с катарами, отрицающими Творение, Воплощение и Искупление, и в декоре начинает звучать тема всемогущества Бога, единого в трех ипостасях, Бога Творца, Бога, ставшего человеком, Бога Спасителя.
В начале века пантеизм Амори Венского был безжалостно искоренен. Следовало не смешивать Бога с Его творением, но различать свойства, присущие телу, душе или разуму. Не вынося окончательного приговора материи, не полагая ее вне Бога и не восстанавливая ее против Него как некий враждебный и чуждый принцип, манихейский дуализм становился главной угрозой. Осторожно истолкованное богословие Дионисия Ареопагита давало точку соприкосновения. Оно представляло природу творением Бога, отделившимся от Него и возвращающимся к Нему, чтобы Его дополнить. В этом двойном движении любви творения предстают как отделенные от божественности, которая также независима от них, но их существование соответствует идеальному образцу, который и есть Бог. Озаренные, наполненные Им, они тем не менее всего лишь его отражение. В соответствии с положениями Дионисия и вдохновленного им ортодоксального богословия материя участвует в славе Божией, прославляет Его, ведет к Его познанию.
Восторженный оптимизм Франциска Ассизского именно так и воспринимал тварный мир.
Как выразить умиление, охватывавшее его, когда он открывал в творениях знак присутствия, мощь и красоту Спасителя? Подобно трем отрокам в пещи огненной, призывавшим все стихии славить и воспевать Творца, Франциск, полный духа Божия, находил во всех явлениях природы, во всех существах повод славить, восхвалять и благословлять Творца и Владыку мира. Видел ли он луг, покрытый цветами, тут же обращался к ним, как имевшим разум, призывая славить Господа. Нивы и виноградники, водные потоки, зеленеющие сады, огонь и воду, воздух и ветер с необыкновенной кротостью увещевал он любить Бога, повиноваться Ему от всего сердца. Он называл братьями все создания, и благодаря особенностям, которых другие были лишены, его сердце проникало во все секреты, как если бы, освободившись от своего тела, он уже жил в достославной свободе детей Божиих.
Христов брат, святой Франциск ощущал себя и братом птиц, солнца, ветра и смерти. Он шел через деревни Умбрии, и вся земная красота радостным кортежем следовала за ним. Эта причастность к радости мира отвечала стремлениям к новым победам, которыми была охвачена куртуазная молодежь. Радость святого Франциска могла привести к Богу толпы юношей и девушек, украшавших весной майский шест. Приняв природу, диких зверей, свежесть раннего утра, зреющие виноградники, Церковь эпохи соборов могла надеяться привлечь к себе рыцарей-охотников, трубадуров, древние языческие верования и неукрощенные силы. Святой Бернард ранее выразился в своей суровой манере: «Вы сами, на собственном примере увидите, что можно из камня извлекать мед и масло из самых крепких скал».
Реабилитируя материю, католическое богословие разрушало фундамент катарской ереси. Быть может, именно францисканский гимн всему сущему принес решающую победу над сектантами. Восхваляя Бога и Его акт Творения, богословы закладывали в основу искусства соборов образ видимой Вселенной, в которой воцарился мир. Роза северного трансепта Реймсского собора, своды собора в Шартре являли Бога, заставляющего сиять свет и звезды, отделяющего день от ночи, воду от тверди, творящего растения, животных и, наконец, человека — картину Сотворения мира. Здесь рассказ Книги Бытия освобождался от символизма. Можно было вслед за Тьерри Шартрским попытаться привязать текст к тому, чему учила в то время физика. Этапы Творения обретали зримость, обретали ясный и четкий образ. Человек мог воспринимать всё существующее на земле при помощи чувств, которыми Бог наделил его. Всё тварное приглашало человека смотреть на себя, видеть, а не представлять в мечтах. «Душа, — говорил святой Фома Аквинский, — должна получать знания из видимого мира». Достаточно открыть глаза, чтобы увидеть бесчисленные обличия, в которых предстает нам Господь. Новая мысль заставила отступить сказку, фантастические образы бестиариев, вымышленные чудеса. В то время как крестоносцы, купцы и миссионеры отправлялись осваивать неизвестные земли, эта мысль рассеивала дымку фантазий, показывала живых зверей вместо чудовищ, которых, странствуя, встречали когда-то герои куртуазных романов, листья настоящих деревьев вместо воображаемой растительности романских миниатюр.
В областях, откуда распространялось французское искусство, рубеж XIII века ознаменовался пробуждением внимания к окружающему миру — романы Жана Ренара описывали реальную жизнь, алчность буржуа, хвастовство фанфаронов. «Книга о природе» магистра Фомы Кантипратанского может служить путеводителем по извилистым тропам аллегорических истолкований явлений видимого мира; это сочинение не ограничивается описанием отношений между добродетелями и всеми сотворенными существами, но пытается также объяснить, в чем заключается их практическая польза. Что касается теологических построений, все они, по Аристотелеву примеру, связывают физику с метафизикой, которая не основывается более на аналогиях, но на чувственном опыте. Эти своды знаний претендуют на научность и пытаются усвоить сведения, почерпнутые у арабских и греческих ученых. На пике исследований находится оптика, включающая в себя геометрию. В Европе это время астрономов и первых точных измерений звездной Вселенной. Это время естественных наук. Альберт Великий, прибыв в Париж в 1240 году, вскоре, вопреки запретам, познакомил своих учеников с «Естественной философией» Аристотеля.
В том, что касается веры и морали, нужно более следовать святому Августину, чем философам, так как между ними нет согласия. Но если речь идет о медицине, я предпочту Галена или Гиппократа, а если о природе вещей, то обращусь к Аристотелю или другому сведущему в этом философу.
Альберт Великий составляет «Сумму творений», где добросовестно описывает особенности животного мира германских областей, где ему привелось жить. Доминиканцы, как и миряне, любили бродить в лесах и рощах. Города не были еще такими большими и замкнутыми, в них еще ощущалось дыхание весны. Новая городская стена шла вокруг садов, виноградников и даже полей, где спела пшеница. Человек XIII века еще не был отрезан техническим прогрессом от вселенной. Он оставался неприрученным животным, время для него приобретало иные ритм и запах вместе со сменой времен года. Ученые не сидели в кабинетах, а проводили время в полях и виноградниках; внутри каждого монастыря был сад, полный птичьего пения и цветов. Такая близость к природе и чувство, что она свободна от греха, несет на себе отпечаток руки Творца и обращает к Нему свой лик, привели к тому, что живительный сок мало-помалу поднялся по стволу колонн собора Парижской Богоматери, достиг капителей и проник в самую крону. Эта крона — хоры — была завершена в 1170 году и выдержана в строгих геометрических формах. Спустя десять лет в первых рядах нефа флора на капителях приобретает больше сходства с реальной растительностью: отсутствует симметрия, природа предстает во всем своем многообразии, каждый листок узнаваем, можно легко определить вид любого растения. Тем не менее растения еще несут символическое значение. Они начинают оживать по-настоящему лишь в тех частях строения, декор которых завершился после 1220 года.
Однако движение навстречу реализму не пересекло определенных рубежей. Если человеку предназначено исследовать окружающий мир, он должен это делать для того, чтобы лучше узнать все многообразие сотворенных существ и установить место, которое Бог отвел каждому из них. В школах учили, что каждое создание неповторимо, уникально и принадлежит к определенному виду, идеальный образец которого существует в Божественном разуме. Украшая собор, художник должен показать этот удивительный образец, а не случайные формы, так или иначе искажающие его. Следует как бы дать отстояться зрительным впечатлениям и проанализировать их при помощи разума. Божественная мысль, как и человеческая, следует логике. Формы, порождаемые ею, имеют отражения, подобно тому как это происходит при игре света, то есть следуя законам геометрии. Когда Виллар де Оннекур заносил в свои тетради наброски животных, движущихся фигур, людей, которые борются или играют в кости, то строил изображения при помощи углов, прямых, дуг, словно выстраивая архитектурное целое собора. Через эти рациональные рамки под пеленой случайного открываются скрытые структуры, которые и есть для богослова истинная реальность. Геометрия подчинила себе готическую иконографию, быть может, с большей жесткостью, чем романскую. Новшеством было то, что теперь она служила не вымыслу, а восприятию; особое внимание начали уделять соблюдению истинных пропорций. Теперь задачей геометрии было наделить каждую фигуру идеальным строением, которое в соответствии с Божиим замыслом поднимало образец надо всеми видимыми глазу созданиями.
Кроме того, отдельные изображения теряли смысл. Мэтру, руководившему работами, следовало составить из них ансамбль, в котором бы они сочетались друг с другом, были соединены в определенном порядке и представляли завершенную картину тварной вселенной. Природа едина, как и Бог, создавший ее, и собор должен представлять ее как единое целое. Декор храма не может быть случайным набором украшений. Он должен быть исчерпывающим перечнем творений, образом единства, некой «суммой творений». Для Алана Лилльского Природа, «наместник Всемогущего Бога», была многообразным отражением божественной простоты. Эта теория подразумевает родство всех элементов сотворенного мира, предполагает гармонию в отношениях между ними. Реализм, на путь которого вступило искусство Франции, — это реализм, затрагивающий самую сущность вещей, не единичных случаев, но целого. Искусство, стремящееся к ясности, учитывает иерархическое устройство мира, описанное Дионисием. Оно помещает каждый элемент универсума, каждое небесное тело, царство, тип, вид на предназначенное ему место. Искусство становится организующей силой целого. «Природа Божия по установлению сохраняет все вещи в определенном порядке, так, что все они находятся в строгом соответствии друг другу, каждая сохраняет свою особую чистоту, даже вступая во взаимодействие с другими». В этом определении святого Фомы каждое слово служит ключом к пониманию готической эстетики. Данте подхватил и продолжил эту мысль:
...Всё в мире неизменный
Связует строй; своим обличьем он
Подобье Бога придает вселенной.
Для высших тварей в нем отображен
След вечной Силы, крайней той вершины,
Которой служит сказанный закон.
И этот строй объемлет, всеединый,
Все естества, что по своим судьбам —
Вблизи или вдали от их причины.
Они плывут к различным берегам
Великим морем бытия, стремимы
Своим позывом, что ведет их сам[127].
Художник должен был теперь стремиться к тому, чтобы передать всю полноту изображаемого явления: «Отсеченное от совершенства творения отсечено от совершенства самого Господа» (святой Фома Аквинский).
К этому совершенству стремятся законы природы. Но достичь его было бы трудно, если бы человек не ускорил их развитие, устраняя все, что мешает свободному течению природных ритмов. Такова его роль, именно для этого Господь наделил его разумом. Человек готики, как и человек романского периода, жил в центре Вселенной. Он был связан с ней «взаимными соответствиями». Постоянно чувствовал ее воздействие на телесную оболочку, в которую был заключен. Стихии определяли его настроение. От движения звезд зависело течение его жизни. Но он уже не так подавлен Вселенной, как романский человек, не так пассивен. Вознеся человека на вершину материального мира, на верхнюю ступень иерархии видимой вселенной, Верховный Художник призвал его разделить с Ним труд. Создавая человека, Он определил ему активную роль в творении. Порыв, заставлявший идти вперед, уничтожая пустоши, луга, поля, виноградники, расширять городские предместья, порыв, подчиняясь которому купцы отправлялись на ярмарку, рыцари в бой, а францисканцы на завоевание душ, эта деятельная радость, наполнявшая новое время, — всё это передано в богословии соборов. Творение не завершено. Делами своих рук человек принимает в нем участие. Таким образом, была реабилитирована не только материя, но и ручной труд. Парижские и оксфордские магистры осудили пренебрежительное отношение к труду, которое исповедовала аристократия времени застоя и которое было принято в Клюни и даже в Сито. Совершенные катары отказывались прикладывать малейшее физическое усилие, которое могло бы пойти на пользу материальному миру, тогда как все ломбардские гумилиаты, «братцы» святого Франциска, трудились в поте лица. Они изменили мир и в меру своих сил способствовали продолжавшемуся сотворению вселенной, подобно неграмотным труженикам, которые направляли течение водных потоков в новые русла и вырубали колючие заросли, расчищая места для будущих полей. В новых пособиях для исповедников был оправдан любой род занятий, в основе которого лежал труд, и моралисты предприняли попытку узаконить получение прибыли. Изображения совершавшихся в течение года сельских работ, расположенные в городских церквах у входа, обрели истинное значение с наступлением экономического подъема в XIII веке. Принося витраж в дар собору, главы цеховых корпораций желали, чтобы на нем как можно подробнее были изображены разнообразные профессиональные приемы, использовавшиеся в их ремесле. В самом соборе нашла место хвала торжествующему труду.
Итак, на подъеме творческого процесса в иконографии соборов утвердилась фигура человека. Готический человек представлял собой особый тип. Лицо его не было изможденным ликом аскета, исчезли надутые щеки прелатов, страдавших от мочекаменной болезни и умиравших от апоплексии. Оно не было подвержено изменениям, которые накладывали возраст, работа или удовольствия. В соответствии с замыслом Божиим такой человек рождается взрослым, на пике жизни, куда его вознесет возмужание и откуда старость его низвергнет. Он кажется братом Богу-Гончару, который под сводами Шартрского собора лепил человека из глины. Исказить человеческое тело чрезмерным реализмом или же, подобно романским миниатюристам, сжать его, подчинив размерам рамки, означало умалить совершенство Господа. Это было святотатством. Рациональная гармония, присоединяющая человека к творению, должна была проявиться и в его изображении, так как она управляла его специфическими формами. Рост, лица Адама и Евы в Бамберге вписываются в совершенные геометрические пропорции. Это спасенные люди, призванные воскреснуть во славе, омытые от всякого греха. Лучи света Божия уже озарили их, ведя к радости. На их просветленных лицах едва заметна ангельская улыбка.
Готический человек был личностью. В Реймсе среди святых, апостолов, рядом с Богоматерью, недалеко от похожего на нее Христа, в совершенном смирении предстает служанка из сцены Сретения Господня. Появляется свободный человек, отвечающий за свои поступки. Появляется совесть. Христианин XII века, привыкавший к ежегодной исповеди, к вопросам, обращенным к себе самому, к обнаружению причин, побуждавших искать корни ошибок, упражняется в самоанализе, о котором говорил Абеляр. Теперь учителя школ помещают на фасадах не некие абстрактные фигуры мужчин и женщин, но изображения зрелого человека, свободного от слепых порывов, владеющего собой. Он омыт любовью, которая так же, как и разум, позволяет достичь просветления. Поэтому губы его дрожат, а глаза, посредством которых происходит общение и возможен обмен любой информацией, открыто взирают на мир. Через глаза приходит божественное озарение в сердце, где раздувается огонь милосердия. Взгляд становится живым. Наконец, взгляд, приобретающий основное значение в наполненных светом богословских метафорах, заставляет человека готики стать символом судьбы. Существо рождается и умирает, грешит, проживает столько, сколько отмерено звездами. Теперь мысль богословов стремится вырвать человека из-под влияния предопределенности, случайных изменений, происходящих в подлунном мире, освободить от действия разрушительных сил и видит его жизнь движущейся в едином ритме небесного времени, в согласии со своим предвечным образцом. Как Христос, вочеловечившийся, чтобы изменить ход человеческой истории, но бывший прежде Авраама, существовавший и царствовавший во веки веков.
Категория времени действительно исчезла в мистическом круговороте, который в богословии Дионисия Ареопагита управляет движением творения по двум разнонаправленным осям. Это милосердие, которое изливает Господь на свои создания, и любовь, которой они Ему отвечают. Святой Фома Аквинский говорит:
Мудрость и великодушие Господа изливаются на Его творения, но этот процесс может быть рассмотрен также и как причина возвращения к высшей цели (это выражается в дарах, которые единственно приближают нас к Богу) — всё освящающей милости и славе. В эманации живых существ, действующих в соответствии с первым принципом, есть некое движение или дыхание, возникающее из-за того, что все существа возвращаются к своей первопричине как к источнику, откуда они произошли. Следует соблюдать правила в возвращении так же, как в движении вперед.
Святой Фома ищет причины и опирается на Аристотеля, но свои размышления он прилагает к теории Дионисия. В своем стремлении к ясности доминиканским и францисканским магистрам, в середине XIII века преподававшим в парижских школах, удалось примирить рациональные приемы схоластики и душевные порывы святого Бернарда. Они пытались логическими методами установить законы этого живительного дыхания и, изучая явления, происходившие в мире, обнаружить Бога природы, идентичного Богу сверхприроды. Но они уступали уносившему их потоку любви.
На грани слияния любви и разума, при встрече исходящих и возвращающихся потоков света, тварного и нетварного мира, природы и сверхприроды, вечности и истории, находится Христос, Бог, ставший человеком, «свет от света», но облеченный плотью. С основания Сен-Дени готическое искусство посвятило себя изображению воплощения, приближалось к созданию точных образов, самые совершенные образцы которых можно видеть в соборах XIII века. Корнями они уходили в Евангелие и были ростками первых усилий христианского народа создать близкий ему образ Бога, который мог прогнать его тревоги. Так, миланские патарены[129] около 1050 года обратили взгляд ко кресту, олицетворявшему для wax победу над смертью и темными силами. Первые группы паломников, с наступлением 1000 года без оружия отправившиеся в путь к Иерусалиму и расчистившие дорогу крестоносцам, также подготовили расцвет готических изображений воплощенного Слова. Уже реформаторы 1100 года ссылались не на патриархов Ветхого Завета, но на апостолов, находили пищу для размышления в Деяниях, Евангелии от Матфея, говорившем о бедности.
Различные пути, описанные братьями и называемые уставом святого Василия, святого Августина или святого Бенедикта, не могут быть основанием религиозной жизни; это лишь саженцы. Не корни, но крона. Есть лишь один устав, ведущий к спасению, первое и главное правило, из которого остальные вытекают, как ручейки из одного источника: святое Евангелие, полученное апостолами от Господа. Прилепитесь ко Христу, истинной лозе, — вы ее побеги. Пытайтесь в той мере, в какой будет вам дано, следовать заповедям Евангелия. Итак, если будут спрашивать вас о вашем положении, уставе, ордене, отвечайте, что следуете первому, и главному, правилу христианской жизни — Евангелию, источнику и основе любого устава.
Монах, составивший в 1150 году это вступление к уставу гранмонов, выразил то, что пока еще смутно чувствовали самые чуткие рыцари и горожане. Пьер Вальдо открыл свое призвание через Евангелие. Сам Христос побудил Франциска Ассизского отречься от богатства и проповедовать нищим. Папа Иннокентий III, убежденный, что получил власть прямо из рук Христа, оправдывал свои действия волей Господа. Течение, возникшее в недрах народа благодаря тому, что чувства становились острее, а культура развивалась, поставило в центре искусства соборов фигуру Бога живого. Напрашивается вывод, что успеху катарской ереси во многом способствовала двойственность тех слов, которыми пользовались проповедники сектантов: на их речи была как бы наброшена завеса евангельского духа, скрывавшая полное отрицание Воплощения. Романская церковь сорвала этот покров, чтобы отвратить народ от еретиков. Тогда толпы пошли за Франциском Ассизским, мастерившим первые рождественские ковчеги. Католичество окружило Рождество Христово ни с чем не сравнимым поклонением.
На самом деле богословы, создавшие готическое искусство, представляли Христа не младенцем, но царем, Владыкой мира. Памятники, строительству которых покровительствовали французские короли, изображали Его Учителем, увенчанным короной, а вскоре — восседающим на престоле и возлагающим венец на главу Богоматери — Его Матери, но также и Невесты, женщины и в то же время Церкви. Учитывая роль Марии в воплощении Христа, создатели догмы окончательно утвердили главенствующее место, которое Богоматерь в XII веке незаметно заняла в верованиях мирян. Они пожелали, чтобы Ее поместили рядом с Иисусом в центре их богословской системы — в центре соборного декора. Так же как и в первой половине XIII века, художник не рассчитывал на то, что среди его зрителей будут дамы из куртуазных салонов, а повиновался владыкам Церкви, королю, его епископам и богословам. Он изображал не скорбящую или умиленную Богоматерь, но представлял Ее во славе. Воплощение — не народный праздник, это таинство. Скульпторы и мастера витража отводили тем более высокое и почетное место изображению Девы Марии, что для ученых Она была воплощением Нового Завета и завершением Ветхого. В Ней человечество воссоединилось с Богом. Через Нее совершился мистический брак души и Творца. Она символизировала единое тело Церкви, ибо Невеста, в чьем чреве Бог стал плотью, не сама ли Церковь, укрепившаяся против ереси? Коронация Девы Марии в соборе торжественно славит суверенность Римской Церкви.
Иконография Девы Марии развивается и продолжает свое победное шествие. В 1145 году королевский портал в Шартре был хвалебным гимном во славу могущества романского Бога. В самом центре было помещено изображение Господа, торжествующего над тьмой во славе Судного дня. Но, словно в ответ торжествующим катарам, это изображение также утверждало, что Бог явил себя людям во плоти, — на одном из боковых тимпанов размещались евангельские сцены Рождества. Первое скульптурное изображение Богоматери появилось в городе Бос, это означало победу над древними традициями, восходившими еще ко временам Каролингов, обильными всходами духовности, которые еще франкские короли и монахи посеяли в Нейстрии. Карл Лысый пожертвовал шартрской церкви прекрасные отрезы полотна, привезенные с Востока. С тех пор они символизировали одежды, в которых была Мария, когда архангел Гавриил принес Ей Благую весть. Ослепленные величием, толпы воинов и крестьян простирались ниц перед этим чудом. Спускаясь в крипту вслед за проводником, они видели сидящее на престоле величественное изваяние Девы Марии. Когда, последовав примеру Сугерия, раки с мощами вынесли на свет из мрака подземелий и поставили в лучах божьего света, открытые взглядам и сияющие, прелат, автор замысла королевского портала, приказал воспроизвести в камне эту статую-реликвию на тимпане западных дверей, посреди сцен, повествующих о детстве Спасителя. Этот рассказ всегда передавался с большой сдержанностью. Смиренные статисты, пастухи области Иль-де-Франс, казались ослепшими от сияния невероятного видения, вневременного лика Богоматери, который проступил сквозь таинственную завесу. Иератическому, как в Торчелло, но теперь сидячему изображению Девы Марии — «трона Соломонова», «престола Божия», поклонялся клюнийский аббат Петр Достопочтенный. Позднее ланские мастера использовали для прославления Девы Марии символы богословия соответствий, используя для повествования о девстве Богоматери библейские метафоры — неопалимую купину, руно Гедеона, еврейских отроков в огненной пещи.
Решающий этап был преодолен в Санлисе в 1190 году, когда действие папской карающей десницы начало ужесточаться. Церковь вступила в сражение, провозгласив догмат о вочеловечении Бога. Она возвеличивала Деву Марию, ставшую орудием этого таинства, и стала отождествлять себя с Ее образом. Впервые портал собора был целиком посвящен Богоматери, повествуя о Ее Успении, или, скорее, о переходе от земной жизни к вечной славе. По восточной традиции, которую приняло латинское христианство, Богоматерь не умерла, а заснула. Ангелы спустились на землю и унесли Ее тело, избавив от обычной участи, общей для всех творений, облеченных в плоть. Наконец, духовенство Санлиса замыслило поместить на вершине тимпана Деву Марию и Христа, вместе восседающих на царском престоле; Христос держит Свою Мать за руку, вводя Ее в Свое Царство. Это скульптурное изображение было иллюстрацией к литургиям праздника Успения, когда пели две секвенции из псалмов: «Царица в золотых одеждах сидит одесную Его» и «Увенчал короной из драгоценных камней главу Ее». Возникшая в эпоху, когда Папа Иннокентий III добивался всемирного господства для Церкви, сплотившейся вокруг него, эта тема получила широкое распространение. Наивысшее развитие она получила в 1220 году в соборе Парижской Богоматери.
Но и здесь она занимала пока лишь один из боковых порталов. Тридцатью годами позже, когда завершилось строительство Реймсского собора, в нем повсюду можно было увидеть множество скульптурных изображений Девы Марии. Жан д'Орбэ, первый мастер, руководивший работами, оставил план портала, центральная часть которого должна была быть освящена в честь святых покровителей епископской церкви. Портал был изменен, и Богоматерь, царственная Заступница, вытеснила второстепенных посредников между Богом и верующими. Святые были перемещены на северный портал, и Она стояла посреди них, поддерживая усилия, которые они совершали для спасения людей. Богоматерь вновь появляется на южном портале, в сцене Страшного суда, где Ее присутствие усиливает мистический смысл апокалиптического видения. Теперь, как и в Санлисе, весь ансамбль, изображавший Истину, расположенный на фасаде собора и откраивавшийся глазам верующих, группировался вокруг Богоматери. Дева Мария стояла над простенком центральных дверей. Ее окружали монументальные сцены Благовещения, Посещения Елизаветы, Сретения, фигура Давида, из колена которого происходила Богоматерь. Своды были покрыты картинами Ее земной жизни и изображениями, символизировавшими девство. Соломон и царица Савская служили прообразом Ее брака с Царствующим Христом. Розе со сценой Сотворения мира соответствовала западная роза, изображающая Успение. Наконец, на вершине стрельчатого фронтона Христос вручает Своей Матери знаки суверенной власти. Новый Адам, он возлагает венец на главу новой Евы, своей супруги. Не представляет ли собой Его Воплощение знак того, что Церкви уготована победа над миром?
Картина Сотворения мира и Воплощения Бога, сложившаяся у богословов XIII века, очищает мир от греха, освобождает от чувства вины и страха. По крайней мере, для части западного христианства, которая вышла из грубой деревенской среды, грех нельзя было искупить более одними обрядами, превратившимися в некие сделки, совершавшиеся по установленным расценкам; не помогало более и магическое вмешательство Всемогущего Господа, позволявшее при помощи испытания огнем отличить преступника от жертвы. Теперь человек знал, что к спасению его могут привести собственные дела и, в еще большей степени, благие намерения, любовь и разум, которые свидетельствуют о том, что он создан по образу и подобию Божию, и призывают его вернуться к Нему, подражать Ему с большим рвением. Однако грех по-прежнему существовал. Из-за него материя теряет прозрачность. Тело становится тяжелым и не пропускает лучей нетварного света. В этом мире грех сумел победить один Христос. Лишь Он может спасти человека. Значит, нужно следовать за Добрым Пастырем, подобно Ему нести свой крест.
Подвижники обновленной веры, нищенствующие ордена повсюду распространяли эту весть: «Не говорите мне, — сказал святой Франциск Ассизский, — ни о каком образе жизни, кроме того, который показал и дал мне милосердный Господь; устав меньших братьев заключается в соблюдении заповедей святого Евангелия Господа нашего Иисуса Христа». Евангелия в его простоте, sine glossa, без комментариев. Святой Доминик прежде всего желал быть «евангельским человеком». Проповедь истины, увещевая теперь принять радость, делает, однако, упор на раскаянии. В конце пути раздается призыв разделить мучения Страстей Господних. Святой Франциск преуспел в этом в Альверно. «Спустя некоторое время мы увидели нашего отца и брата словно распятого, а на его теле — раны, подобные стигматам Христа». С первыми лучами солнца святой Франциск, преклонив колени, воздев руки и устремив взор на восток, обращался к Господу с молитвой:
О, Господь мой Иисус, двух милостей прошу у Тебя, прежде чем наступит мой час. Первая — желал бы, сколь возможно, испытать страдания, которые Ты, о сладчайший Иисусе, перенес на Кресте. Вторая — хочу, сколь возможно, почувствовать в сердце моем безмерную любовь, которой сжигаем Ты, Сыне Божий, из-за которой претерпел столько мучений за нас, несчастных грешников.
Пятьдесят лет спустя король Людовик Святой решил следовать по тому же пути. По словам Жуанвиля, «он любил Господа всем сердцем и подражал Ему; так же, как Господь принял смерть, любя Свой народ, наш святой король неоднократно ставил свою жизнь под угрозу, любя своих подданных». Для всех, кто участвовал в дележе новых сокровищ, XIII век был временем радостных открытий. Все было проникнуто эйфорией, вызванной победами. Проповедь покаяния шаг за шагом следует за этой радостью, чтобы никто не впал в заблуждение и чтобы народ Божий не свернул с пути, ведущего в Землю обетованную. Как в грамотах, призывающих к крестовым походам, в скульптурном декоре соборов часто встречается крест. Он - центральный элемент сцен, изображающих Страсти Господни. Не следует забывать, что теперь крест стал символом победы, утверждал, что Бог, приняв человеческий образ, претерпел смерть. В триумфе Воскресения Христос увлекает за Собой все человечество к истинному блаженству, которое не от мира сего.
Размышляя о страданиях Господа, латинское христианство следовало течению религиозной мысли, которое ранее охватило Восток. Начиная с XI века византийское духовенство призывало верующих видеть в таинстве литургии конкретное изображение смерти, погребения и Воскресения Христа. Литургия представляла все сцены из жизни Спасителя; евхаристическое таинство стало кратким изложением всего Евангелия, собрало воедино все эпизоды, которые в скором времени зримо предстали в иконографии периода Македонской династии. Эхо этих изображений мы видим в Чефалу. Крестоносцы видели эти образы, когда обнаружили в Святой земле Иерусалим, оказавшийся более реальным, чем эсхатологические символы, призрак которых вызвал волну паломничеств в 1095 году. В 1204 году толпы франкских воинов захватили Константинополь. Это было решающим событием — все верили, что оно положит конец расколу и будет способствовать воссоединению двух частей Тела Господня. Во всяком случае, эта победа позволила Западу завладеть сокровищами, орудиями Страстей, хранившимися в храмах Византии. Робер де Клари был ошеломлен, увидев эти богатства — две частицы Креста, наконечник копья, два гвоздя, тунику, терновый венец. Орудия Страстей перестали быть чем-то абстрактным, они приобретали реальность. Крестоносцы покупали или крали эти вещи, забирали их с собой. Так, граф Бодуэн Фландрский привез в свой замок в Генте несколько капель Крови Христовой. На протяжении многих веков в сельских районах Запада вера подпитывалась сомнительными реликвиями, заключенными в раки, стоявшие в криптах аббатских церквей. Реликвиям, привозимым рыцарями из крестовых походов и казавшимся совершенно подлинными, подобало храниться в месте, которое соответствовало бы их значению. Возобновилось строительство часовен, старые же обновлялись.
Король Людовик Святой владел терновым венцом Господа нашего Иисуса Христа, а также большой частицей Креста, на котором был распят Господь, наконечником копья, которым Он был ранен, и многими другими драгоценными святынями. Он приказал выстроить для них часовню Сент-Шапель в Париже, пожертвовав на это более сорока тысяч турских ливров. Он повелел украсить золотом, серебром, драгоценными камнями и прочими сокровищами места и ларцы, предназначенные для хранения святых реликвий, и все полагали, что на украшение пошло более ста тысяч ливров.
Ларцы со святынями были украшены изображениями, повествовавшими о происхождении, значении и достоинствах заключенных в них чудесных останков. Лихорадочное стремление украшать все, что только можно, ознаменовавшее первые годы XIII века, стало прямым следствием разграбления Константинополя.
Художники, приглашенные почтить новые святыни, должны были придумать что-то новое. Они позаимствовали иконографию из Византии, только что опустошенной крестоносцами. Чтобы представить страдания Господа на Кресте не абстрактными образами, а картинами, способными тронуть душу и обратить ее к покаянию (ибо речь теперь шла о том, чтобы воздействовать на целые толпы, и воинствующая католическая Церковь, проповедующая репрессивные меры, стремилась затронуть самые глубины народного сознания), разработчики художественных программ обращались к живому повествованию синоптических Евангелий и в XIII веке, как несколькими поколениями раньше это сделали восточные мастера, начали иллюстрировать скульптурными и витражными изображениями сцены Страстей Господних. В альбомах Виллара де Оннекура можно увидеть Никодима, омывающего ноги Христу. Известно, что первоначальный план портала Реймсского собора был изменен и на нем впервые появилось изображение Голгофы. С этой же целью были усилены исправления, привнесенные Сугерием в романскую трактовку Страшного суда, значение которого, таким образом, принципиально изменилось. После 1204 года скульпторы в Шартре изображали Христа во время Второго пришествия не как осиянного славой Владыку, но в смирении обнаженного человека. Он показывает свои раны, его окружают орудия Страстей — согласно Евангелию от Матфея, символы Сына Человеческого — копье, терновый венец и древо Креста. Однако несут их не палачи, не Сам Христос, но ангелы. Они представляют их как реликвии — создания света не дерзают коснуться святынь, словно вокруг них проведена граница. Богослов, задумавший эту сцену, не стремился передать физические страдания Спасителя и, в еще меньшей степени, немощь истерзанного тела. Крест для него не был древом, на котором распяли Спасителя, и Его раны не напоминали о страданиях. «Они провозглашали Его силу, — говорил святой Фома Аквинский, — Он победил смерть».
В то время мысль учителей воинствующей Церкви не останавливалась на Страстной пятнице, а сразу обращалась к торжеству Пасхи. В Реймсе на внутренней стороне портала, украшенного витражами, пропускавшими лучи божественного света, дикие заросли и виноградники окружают фигуры сцены Воскресения, переставшие бытъ символами и ставшие персонажами. Но это еще и не действующие лица драмы. Эти скульптуры должны были олицетворять духовные добродетели, символом которых стала Голгофа. Изваяния символизировали евхаристические аналогии. Христианство XIII века более чем когда-либо было церковным и обращало силу священства против еретиков. Готическое искусство было создано духовенством. Реймсские статуи изображают причастие, высшее таинство, поднимавшее священников, совершавших обряды католического богослужения, над совершенными катаров и проповедниками вальденсов. Скульптурные изображения переносят события смерти Христа в вечную реальность церковных обрядов, в покой. Над их чистым ансамблем, на уровне розы — высшего иконографического достижения 1260 года — галерея царей, предусмотренная первоначально, в последний момент была заменена другой. Это были статуи свидетелей, видевших воскресшего Христа. С высоты, находясь на пике движения вверх, которое возносит к небу все здание собора, они провозглашали, что смерть повержена и что каждый должен радостно славить это чудо. Они говорили о надежде, обретенной искупленным человечеством. Римская Церковь прекрасно понимала, что миряне томимы тревожным неведением о том, что происходит в загробном мире. И вот она стремится уверить их в том, что там ожидает избавление, предлагает им утешение более действенное, чем то, которое могут предложить совершенные. Тому, кто согласится встать под ее защиту, Церковь обещает, что он легко преодолеет тесный проход, ведущий к свету. В «Песнопениях» святой Франциск славил Господа «за сестру нашу, телесную смерть, которой не избежит ни один живой человек; несчастен тот, кто умрет в смертном грехе, счастлив, кто соблюдал святые заповеди, так как вторичная смерть им не угрожает». Смерть более не имеет значения. Воскресение лишило ее власти.
Церковь позволила самым могущественным людям того времени устраивать гробницы внутри храмов и украшать их собственным изображением. Мастера принялись украшать гробницы. Около 1200 года, начиная с лондонской молельни ордена тамплиеров, открылась длинная вереница изображений великих усопших Европы, простертых на смертном одре. В Сен-Дени Людовик Святой решил превратить базилику Сугерия в мавзолей, где будут собраны надгробные памятники королевских предков. Пьер де Монтрей получил приказ обустроить здание и поместил на пересечении трансепта гробницы, напоминавшие парадное ложе. Надгробные изображения, однако, не обладали сходством с умершими, лики их были совершенно анонимны и исполнены безмятежности царей иудейских. По ту сторону смерти короли и королевы примкнули к находившемуся вне времени роду Христа. Разве перед очами Предвечного крестные муки и Воскресение не были лишь мигом? В этих исторических событиях следует видеть знак, пророчество. В действительности воскресение людей, каждого из них, с начала времен заключено в Воскресении Христа. Оно заключено в их собственной смерти, которая означает возвращение света к своему источнику, обратное движение творения к своему божественному образцу. Вот почему лежачие надгробные статуи XIII века не имеют ни возраста, ни лица: освободившись от всего случайного, они вернулись к своему первообразу, иными словами, к Богу, воплотившемуся в человеке. В них, наконец, находит выражение экстаз, к которому стремился святой Бернард. В Реймсском соборе в просветленных лицах воскресших, которые, еще дрожа, выходят из тени смертной, угадываются черты самого Сына Человеческого, Христа, указующего на раны и в то же время сияющего славой, черты Бога-Творца. Судьба рода человеческого завершается искуплением. Но свое наивысшее выражение Сотворение мира и искупление находят в вочеловечении Бога.
3 Счастье
1250-1280
Лучшее оружие для борьбы с ересью ковали в Парижском университете. Сюда приезжали учиться прелаты всего христианского мира, университету покровительствовали епископы Скандинавии, Венгрии, Мавритании, Сен-Жан-д'Акра, Никосии, а также бывшие ученики — Папы Римские. Студенты, как и остальное городское население, встречали триумфальный кортеж, с которым после Бувинской битвы в Париж везли в клетках пленников французского короля. Король победил императора и присвоил себе титул Августа, он окончательно восторжествовал над своими соперниками. Добродетели Людовика IX усилили ореол святости, окружавший победы Капетингов. Людовик Святой выступал судьей в спорах между владетельными особами; он был владыкой Лангедока, где его именем усердствовали инквизиторы, уничтожая последние ростки ереси. Брат короля, Карл Анжуйский, правил в Провансе, Неаполе, Сицилии. Королевский трон был центром Европы. Знати всего мира он предлагал образец нового рыцарства, «благородных воинов», смелых в бою, галантных с дамами, проникнутых страхом Божиим. Очарованный рыцарь Бамберга явил миру свое лицо. Все правители христианского мира желали говорить на его языке. Вымышленный мир бретонских романов, чувственность трубадуров уступали свежим аллегориям «Романа о Розе» и его ясному видению мира. Благодаря просвещению и распространению королевской власти в середине XIII века Париж, а вместе с ним — и искусство Франции, занимали главенствующее положение.
Французское искусство покоряло новые области по мере того, как их, подобно Нормандии, Артуа или Анжу, присоединяли к королевскому домену или же они, как Шампань, Бургундия и Фландрия, признавали превосходство короля. Епископы принесли в Тронхейм, Кастилию, Франконию формы, которые за годы учения приняли как максимально соответствующие богословским построениям. Монахи орденов святого Доминика и святого Франциска сменили цистерцианцев в деле распространения нового языка искусства: Ассизская базилика, Санта-Мария-сопра-Минерва[130] в Риме были готическими церквами. Борьба с ересью разрушила множество преград, стоявших на пути распространения эстетики французских соборов. Теперь они насильственно насаждались на покоренном Юге, в Тулузе, Клермоне, а по прошествии короткого времени — в Лиможе, Нарбонне, Байонне, Каркассоне и во всех оплотах катаров. Французские скульпторы присваивали лучшее, что можно было найти в искусстве побежденных, и развивали свой успех за счет трофеев. В скульптурный декор Реймсского собора проникли формы, заимствованные у романских гробниц, маасских купелей и античных камей, копии которых изготавливали теперь в Париже. Искусствоведы задаются также вопросом о том, какую роль сыграли заимствования из греческого искусства.
В середине века в Париже, в центре торжествующей эстетики, чувствовались глубинные течения, которые начали изменять облик мира. В 1248 году были завершены основные работы в часовне Сент-Шапель, в 1250-м — закончен собор Парижской Богоматери, в 1269-м — Амьенский собор, в 1260 году завершено скульптурное убранство Реймсского собора. Не эту ли последнюю дату Иоахим Флорский в пророческом видении о судьбах человечества назвал поворотным пунктом истории? Он предсказал наступление в 1260 году третьего периода земной истории: после царства Отца, после царства Сына наступит царство Духа[131]. Люди узрят, как вечное евангельское царство, описанное в Апокалипсисе, золотой век, восторжествует над миром, когда народ Божий достигнет в радости полной нищеты. Не будет больше нужды в Церкви: человеческий род, состоя исключительно из монахов и святых, создаст новую Церковь, очищенную, духовную. Иоахимитские писания нашли повсеместное распространение, многие начали видеть в святом Франциске предтечу наступления этих светлых времен. В Парижском университете францисканский теолог Герардо да Борго Сан Донино составил комментарий к трудам Иоахима Флорского. Другой профессор, Гийом де Сент-Амур, составил чуть позднее 1250 года направленный против Иоахима трактат «Об опасностях нового времени». Он обличал нищенствующие ордена, этих лжепророков, соперников белого духовенства. Через их головы удар был направлен против их покровителя — Папы Римского.
То, что выражал Гийом де Сент-Амур, было реакцией общества на чрезмерно узкие рамки, ограничивавшие его порыв, и реакция эта проявлялась двояко. Во-первых, общество сопротивлялось тирании романской монархии и тех, кто ей служил. Папство стремилось управлять миром и держать его в своей власти. Папа Римский уже прибавил к своей тиаре второй венец с украшениями в виде цветов — корону земных владык, «знак могущества». Папа Римский утверждал, что ему по праву принадлежит перешедшая от Константина Великого верховная власть надо всем Западом. Покоренная Византия была оккупирована латинскими рыцарями. Папа Римский победил императора Фридриха II. После смерти Папы, последовавшей в 1250 году, Римская курия не назначила его преемника, положив начало значительному провалу во времени, именовавшемуся междуцарствием. Римская курия претендовала на главенство в мире. Она присвоила безграничную власть над христианским миром, требовавшую, по ее утверждению, неизбежного уничтожения губительных ересей. В 1252 году Папа Иннокентий IV разрешил инквизиторам применять пытки. Однако, и это было очевидно, репрессии принесли определенные плоды. Монсегюр[132] пал. Ни один катар не заявлял открыто о своем вероисповедании. К чему теперь была такая концентрация власти вокруг Папского Престола? Она была необходима лишь для того, чтобы способствовать осуществлению земных интересов Церкви, удовлетворять алчность кардиналов. Рим погряз в мирских искушениях, которые обличал еще святой Бернард. Церковь стала служанкой маммоны, блудницей Апокалипсиса.
Приговор папской тирании звучал в пророчествах Иоахима Флорского, в мечте о воцарении в мире Святого Духа, которое отменит необходимость в институте духовенства. В 1252 году Святой Престол запретил в Париже чтение «Вечного Евангелия». Но на юге христианского мира, в областях, вырванных из-под влияния катарской ереси, где, однако, не были искоренены ростки духа нищенства, целая часть францисканского ордена начала возмущенную проповедь против Рима, призывая следовать Poverello[134] в его полном отречении от мирских благ и отстаивать духовную свободу. Уже Людовик Святой, вернувшись из крестового похода, слышал в Йере нищенствующего монаха-проповедника, поносившего священнослужителей, живших в придворной роскоши. Был среди слушателей и Жуанвиль. Он также не терпел ханжей, но по другим причинам. Упреки в том, что он слишком богато одет, Жуанвиль считал лицемерными, и, кроме того, даже в его собственных владениях служители епископа всегда обращали правосудие в свою пользу. В укрепляющихся государствах, на которые теперь была разделена Европа, усиливалось сопротивление Римской Церкви. Так же, как итальянские коммуны, как Рим XIII века, Град Божий был разделен на изолированные и враждебные друг другу владения, крепости, откуда каждый правитель следил за противником и готовился перейти в наступление. Приближалось время великих войн. Цельность туники без единого шва, которая в символике соборов воспевалась в образе Девы Марии, представлялась теперь мифом, Небесный Иерусалим становился объектом надежд, сожалений, воспоминаний, а не пережитой реальностью. Реальностью в 1250 году была Церковь и молодая армия ее функционеров, полных рвения защищать права своего господина, от авторитета которого зависело их собственное положение. В рядах этих служителей закалилась отвага Гийома Ногаре, который вскоре от имени короля Франции наградит Папу Римского пощечиной[135]. Уже в середине XIII века каждый правитель желал быть хозяином в своих владениях и смеялся над мирскими притязаниями Римского Престола. Сам Людовик Святой, готовый служить Христу, но не Его римскому наместнику, защищавший Фридриха II, помогал своим вассалам противостоять посягательствам Церкви.
Причины, побуждавшие общество сопротивляться церковным требованиям, коренились в развитии, увлекавшем Запад ко все возраставшему материальному благополучию. Феодальные противоречия усиливались. Бедняки все глубже погружались в безысходность, состоятельные члены общества восставали против морали духовенства, стремившегося ограничить светские развлечения. Мессианские образы, смутная надежда на наступление золотого века, который восстановит детей Божиих в равенстве первых дней творения, волновали угнетенные массы, жителей предместий, в среде которых нашли последнее пристанище преследуемые ереси, суконщиков, ткачей, красильщиков, «голубые ногти» фламандских городов, которые в 1280 году организовали первые в истории забастовки. Они волновали в сельской местности пролетариев с туго затянутыми поясами, побуждая их внезапно объединяться вокруг какого-нибудь взбунтовавшегося монаха или похожего на архангела ясновидца. Толпа в ослеплении отправлялась на поиски Спасителя, опустошая по пути церковные амбары. Таковы были восставшие в 1251 году «пастушки». Вслед за пророком, которого называли «учителем из Венгрии», они шли по деревням области Иль-де-Франс, желая вырвать доброго короля Людовика Святого из рук неверных, заточивших его в тюрьму. Для этих странствующих толп, которые вела вперед нищета, Папа Римский и епископы, благословлявшие их преследователей, призывавшие рыцарей потопить в крови восстание и внезапный порыв надежды, были олицетворением Антихриста. Для знати же Папа, епископы и нищенствующие монахи были лишь досадной помехой веселью. Разве не собирались они завладеть богатствами, которыми Господь наделял людей благородного происхождения, обещая взамен какие-то расплывчатые блага? В самом прелестном романе, написанном в то время, юный Окассен боится заскучать в раю и не найти там иных развлечений, помимо пения литаний, и уж если прекрасным дамам суждено попасть в ад, он предпочитает также отправиться туда[136]. Таковы были противостоявшие силы, крепнувшие с наступлением нового времени.
Еще одна утопия потерпела крах — мечта о скором завоевании вселенной, сплоченной единой верой во Христа. Эта мечта увлекла Европу после первых побед над исламом. Теперь же она очнулась, недоумевая. Пережитое разочарование породило, быть может, самые коварные сомнения: нелепыми стали казаться четкие пропорции соборов, в которых была воплощена вся история Сотворения мира. Иерусалим, к которому были обращены все чаяния Запада, выскользнул у крестоносцев из рук. В 1190 году они предприняли еще одну безуспешную попытку отвоевать Гроб Господень. В течение длительной осады Сен-Жан-д'Акра рыцарям пришлось привыкнуть к тому, что среди сарацин также много доблестных воинов, достойных уважения. Затем последовало возвращение на родину — больные, жалкие, с пустыми руками, рыцари на этот раз подвергли грабежу христианские области. Они нападали на Нарбонну или же, ведомые итальянскими купцами, на Византию. Сам Людовик Святой попал в плен и должен был платить выкуп. Ему не удалось завершить паломничество у Гроба Господня. В 1261 году раскольники выгнали франков из Константинополя, но в 1270 году Людовик Святой пожелал снова вести своих вассалов в Святую землю. «По моему мнению, — пишет Жуанвиль, который отказался примкнуть к экспедиции, — на тех, кто посоветовал королю предпринять это путешествие, лежит смертный грех». Действительно, король, образец рыцаря, должен был погибнуть, потерпев поражение в обреченном на неудачу предприятии. В Леванте осталось множество переселенцев, епископов и латинских монахов, новые поколения рыцарей продолжали мечтать о крестовых походах. Однако с радостными настроениями было покончено. Надежда, что все народы мира, движимые общими чаяниями, однажды сплотятся вокруг Гроба Господня, умерла. Армии Запада больше не продвигались вперед. Превосходящие силы сдерживали их, оттесняли и гнали с аванпостов. Угроза нависла непосредственно над Европой. На нее надвинулась вся Азия, о могуществе которой Европа лишь начала догадываться. Она чувствовала мощь толчков, вновь исходивших от нее, подобных тем, которые некогда разрушили Римскую империю. Из глубины степей явились монгольские орды. В 1241 и 1243 годах в Польше и Венгрии христианство должно было отражать нападения захватчиков со странными лицами. Испуганная Европа узнавала в пришельцах народы Гога и Магога, всадников Апокалипсиса, предвестников конца света.
Церковные деятели осознали, что области, где удалось насадить христианство, представляли собой лишь часть вселенной, причем часть незначительную, и что не было никаких оснований надеяться на скорый триумф христианства, которое, постепенно расширяя сферу своего влияния, наконец сможет охватить весь мир. Люди, глаза которых раскрылись благодаря новым знаниям и развитию культуры, должны были признать: тварный мир гораздо шире, чем казался их отцам, более разнообразен, менее покорен; он полон людей, не слышавших Слова Божия, отказывавшихся внимать ему и нелегко покорявшихся силе оружия. В Европе безвозвратно ушла эпоха крестовых походов. Наступило время исследователей, торговцев, миссионеров. Действительно, зачем сражаться с неверными, показавшими себя прекрасными воинами? Гораздо лучше открыть с ними торговлю и проникнуть в эти неприступные царства вместе с практикой ведения дел и мирной проповедью. В 1271 году Марко Поло отправился по Великому шелковому пути, о котором узнал из рассказов своих соотечественников — венецианских купцов и нищенствующих монахов. На смену активности французских рыцарей пришла деятельность итальянских купцов. Кроме того, чтение Евангелия с каждым днем приводило к более ясному осознанию, сколько варварства и, в целом, несоответствия учению Христа заключалось в стремлении уничтожить иноверцев или же мечом принудить их принять крещение, как это делалось во времена Карла Великого. С неверными следовало говорить, собственной жизнью показывая пример христианских заповедей. Прелаты сняли шлем Турпина[137]. Многие из них облачились в грубую рясу францисканцев. В Дамиетте святой Франциск сам увидел, что армия крестоносцев не многим отличалась от толпы язычников и также нуждалась в обращении. Вместе с несколькими монахами он встал между двух лагерей, и султан позволил ему проповедовать Евангелие среди мусульманских воинов. Это не принесло немедленного успеха, однако надежда вновь возрождалась. Стало известно о существовании несторианских общин в малоизвестных областях Азии, которые находились под властью татарских ханов, оставивших эти общины в покое. Это позволяло думать, что означенные области будет легче привлечь к истинной вере, чем находящиеся в руках общего врага — мусульманства. С этого времени монголов воспринимали как добрых язычников. Теперь они были не бичом Божиим, предвещавшим гнев Всевышнего, но возможными союзниками, позволявшими одержать победу над исламом, атаковав его с тыла. Монахи-минориты пустились в трудное предприятие. Людовик Святой послал ко дворам азиатских правителей
<...> переносную часовню алого сукна и, чтобы привлечь их к нашей вере, приказал выткать на ней сцены Благовещения, Рождества, Крещения Господа нашего, Страстей Господних, Вознесения и Сошествия Святого Духа. К этому он присовокупил чаши, книги и всё необходимое для мессы, которую должны были совершать два брата проповедника.
Против неверных Европа отправляла теперь не вооруженных людей, а лучших проповедников, давала им в помощь средства, которыми они привыкли наглядно подкреплять свои речи, — новый изобразительный ряд, украшавший соборы. Однако следовало признать, что это оружие оказалось столь же малоэффективным, как и прежнее. Христианский мир все еще оставался частью вселенной.
После 1250 года, в то время когда христианский Запад осознал свое истинное положение, ему открылось и истинное значение христианской истории. До сих пор время представлялось единым отрезком, в котором Промыслом Божиим прошлое и будущее были связаны с настоящим, соединены с ним мистическими нитями. Рядом с вечностью Сотворение мира и конец света смешивались с мигом настоящего. Святой Августин и Дионисий Ареопагит изложили подобное понимание течения времени. На этой теории основывалась идея соответствий Сугерия, библейские примеры Петра Едока и всё символическое построение, в котором искусство соборов сводило время к космическому круговороту витражных роз. События прошлого не объясняют настоящего, они предвещают его и в то же время завершают. Во второй половине XIII века эта теория была поколеблена. Глава доминиканцев Гумберт Римский получил от Папы приказ изучить историю греческого раскола. Велась подготовка к Собору, на котором предполагалось предпринять попытку объединения отошедших друг от друга Церквей, для этого было необходимо вести дискуссию, опираясь на исторические факты. Такой подход был новшеством. В небольшом «Трактате в трех частях», составленном в 1273 году, Гумберт попытался найти событиям своего времени объяснения, которые имели бы не только сверхъестественную природу. Он оставил попытки исследования мистических нитей, соединявших исторические события с текстом Писания, и попытался установить истинные связи между явлениями, найти то, что связывало их с изменениями в окружающем материальном мире и психике людей. Отношение Гумберта к истории полностью противоположно позиции Иоахима Флорского, и заключалось в следующем: время Святого Духа не впереди, оно в прошлом; настоящее же принадлежит Церкви. Такое отношение еще более решительно отрицает понятие продолжительности времени на определенном отрезке: созидательный порыв движет историю, тот порыв, который во времена молодости Гумберта вел вперед культуру области Иль-де-Франс и послужил причиной возведения соборов. Оптимизм и стремление к завоеваниям, которым были охвачены нищенствующие братья, отправлявшиеся в бой в реальной жизни, проживаемой, а не вымышленной, принимавшиеся изучать арабский, чтобы наконец попытаться обратить исламский мир, наполняет книгу Гумберта. Вместе с тем автор обладает и реальным жизненным опытом, то есть опытом поражений и тщетных попыток. Он долгое время жил в окружении советников Людовика Святого. Он видел возвращение побежденного короля, его новый поход навстречу поражению и мучениям, видел падение императора Фридриха II и последовавшее за этим крушение Латинской империи в Константинополе. Он имеет смелость утверждать, что греки не еретики, но отделившиеся братья, и что ответственность за этот раскол лежит не только на них. Он не верит более ни в единство христианской истории, ни в то, что это действительно необходимо. Она предстает перед ним полной случайностей, относительной, человеческой.
Наконец, Гумберт, как все его современники-ученые, прекрасно сознает, что не только представители отколовшейся восточной Церкви и ислама, но и огромное множество языческих народов Азии составляют единое целое, существующее за пределами западного христианского мира. Столкнувшись с арабской и греческой наукой, ученые Европы должны убедиться в относительности собственного богословия. Потрясающее открытие, которое, несомненно, гораздо радикальнее ставит под вопрос существование мира соборов. Папские запреты, стремившиеся изгнать из школ трактаты Аристотеля, не касавшиеся логики, оказались бессильны. Альберт Великий свободно комментирует «Естественную философию». В 1252 году англичане, обучавшиеся в Парижском университете, вносят в программу обучения на факультете искусств чтение книги «О душе». Сами доминиканцы, обосновавшиеся в епархиях, которые были основаны в византийских областях, подчиненных западному христианству, трудятся над прямым переводом с греческого всей Аристотелевой «Метафизики». Наконец, в Париж начиная с 1240 года проникают обладающие еще более разрушительным действием произведения Аверроэса, комментатора Аристотеля. Быть может, самая большая опасность нового времени — восхищение, вызванное у представителей тесного мира профессиональных мыслителей, людей, создававших интеллектуальные модели для художественного творчества, этой целостной системой мышления, которую следовало принять в ее единстве. Она давала ключ к пониманию мира во всем его многообразии, к его полному и ясному объяснению. Вначале труды Аристотеля были необходимым инструментом, самым действенным из всего имеющегося арсенала развивающейся мысли. Они были путеводной нитью при исследовании тайн природы, помогли классифицировать роды и виды, упорядочить их, иными словами, приблизиться к Богу. Но вслед за более полным пониманием его философии приходило осознание ее истинной, антихристианской сущности. Аверроэс как бы вынес на яркий свет основополагающую антиномию догмы и Аристотелевой системы со всеми ее соблазнами.
В Аристотелевом учении нет места творению. Изначально ум движим Богом, перводвигателем небесных сфер. Ни материя, ни космос не имеют начала. Нет здесь места и человеческой свободе. Не существует ни личности, ни индивидуальной судьбы, есть лишь род человеческий. Каждое тело, как любая вещь, стареет и умирает. Далее речь идет о разуме, но об общем для всех, который, будучи отделен от телесной оболочки, растворяется в безличном. Воплощение и искупление не имеют смысла в этом голом и абстрактном универсуме. Тем не менее эта философия вызывает уважение и обладает какой-то особой силой, что и служит главной причиной смятения, внесенного в умы. Как разложить эту систему на составные части, разбить, победить ее? Конечно, логика, которой университеты вооружили католичество, победила ересь катаров, но она не многого стоила против философии Аристотеля, так как эта система мысли основывалась на тех же приемах, на которые с самых первых шагов диалектики опирались рассуждения христианских учителей. Богословие позаимствовало основу у Аристотеля. Как теперь противостоять его философии? Приходилось сомневаться, что богословию хватило бы мощи присоединить ее к себе, привести эту строго упорядоченную, казавшуюся нерушимой систему в соответствие со Священным Писанием, трудами святого Августина, теорией Дионисия Ареопагита о движении света. Несомненно, влияние Аристотеля и Аверроэса распространялось в очень узком кругу. Оно поколебало стержень, объединявший проводников высокой культуры. Молодежь, студенты факультета искусств, со страстью принимались за изучение трудов Аристотеля, и ничто не могло удержать их от этого. После 1250 года врагом не был больше совершенный, им стал Философ. Теперь сражаться нужно было с ним. Это сражение также возглавило Папство, мобилизовав свою армию, нищенствующие ордена. Папа Римский осудил Иоахима Флорского, а в университетах оказывал поддержку доминиканцам и францисканцам, противостоявшим нападкам Гийома де Сент-Амура. В 1255 году Александр IV приказал Альберту Великому опровергнуть положения Аверроэса. Три года спустя Папа назначил на две главные кафедры парижского богословия Фому Аквинского и Бонавентуру, проповедника и минорита, двух монахов-итальянцев.
Между 1250 и 1280 годами в Европе продолжался экономический подъем, но основные направления его развития постепенно изменялись. Развитие началось с сельской местности. Возглавили его области, в которых сложилась наиболее благоприятная обстановка для сельскохозяйственной деятельности. В авангарде встал Иль-де-Франс. Затем общее движение охватило города. В тех же самых областях города просыпались от долгого сна. Городские агломерации продолжают расти в течение всей второй половины века, но сельскохозяйственные успехи на севере Франции достигли пика. Остановилась расчистка земель. Под поля распаханы все плодородные земли. Кое-где они даже зашли чересчур далеко, распространившись на скудные земли, которые быстро истощаются. Разочарованные земледельцы покидают участки, которые вновь зарастают кустарником. Начинается обратное движение. Технический прогресс остановился. На слишком долго используемых землях снижаются урожаи. Демографический рост, однако, нигде не прекращается. В деревнях увеличивается число безземельных крестьян, не знающих куда приложить свои силы и готовых работать за ничтожную плату. Этим пользуются крупные землевладельцы, которые нанимают работников за гроши, с легкостью продают зерно и увеличивают собственное благосостояние. В это же время толпы крестьян влачат нищенское существование и голодают. Перенаселение порождает тревожные настроения, вызывает вспышки недовольства. Начинаются выступления с неясной целью, «крестовые походы детей», время от времени пытающиеся повторить отчаянную авантюру «пастушков». В областях, где возникло готическое искусство, все определенней чувствуется противоречие между деревней, на которую наступают первые волны голода, эпидемий и страха, и окруженным стенами городом, активность которого продолжает возрастать, жители которого едят досыта и пьют вино и куда постоянно течет денежный поток. В конце XIII века фортуна обратила свой лик к городам. Она улыбалась ростовщикам, патрициям, скупавшим владения слишком расточительных аристократов, берущим за горло их должников, привлекающим в городские мастерские крестьянских сыновей, которым можно меньше платить. В Париже, на ярмарках Шампани, в центрах суконной промышленности Фландрии богатели деловые люди. Самые удачливые старались вырваться из мрака невежества. Некоторые взяли в жены бесприданниц из хороших семей, старались подражать манерам рыцарей. Кроме того, они начали оказывать покровительство поэтам; для развлечения аррасских банкиров песенники и актеры создали комический театр. Однако если в конце XIII века во Франции горожане по-прежнему сохраняли некоторую неотесанность, то в Италии, истинной стране городов, все было иначе.
Издавна крупные северные негоцианты самые удивительные товары, за которые получали наивысшую цену, покупали по другую сторону Альп. Это были специи, перец и индиго, драгоценные ткани, которые можно было предложить самым знатным дамам и архиепископам, шелка из Лукки, флорентийское сукно. Из Италии поступала и золотая монета. Экономическая мощь французских областей увеличивалась в краю, где драгоценный металл встречался все реже, оседал в сокровищницах церквей, расходовался на украшение алтарей и бесчисленных гробниц, на сверкающие одеяния, в которых любили щеголять сеньоры. В торговле ощущалась нехватка денежных средств для оплаты сделок, и эти средства поставляли итальянцы. Из Асти и Пьяченцы приезжали люди — они останавливались со своими мешками на ярмарках, разбивали на торговых площадях палатки, где меняли деньги и предлагали ссуды под проценты. Эти иностранцы вызывали подозрение, внушали зависть. Их ненавидели так же, как евреев, но правители защищали их как своих кредиторов. В Париже ломбардцам принадлежали целые улицы около Гревской площади. Через их руки проходили финансы короля и все перемещения капиталов в городе. Когда к середине века в Европе снова начали чеканить золотую монету, большая часть новых денег выходила из мастерских Генуи и Флоренции.
Денежное превосходство итальянских городов можно считать одним из последствий крестовых походов. В Италии крестовые походы не привлекли большого числа рыцарей, но пробудили в морских авантюристах тягу к приключениям. Их корабли достигали восточных берегов Средиземного моря, процветавших портов и базаров, полных соблазнительных товаров. В XI веке, когда набожность христиан Запада обратилась к Иерусалиму, в приморских городах Италии начали строить корабли, чтобы перевозить ко Гробу Господню первые группы паломников. Паломники платили за перевозку. Они продавали свои владения монастырям или закладывали их, получая взамен некоторую сумму. Часть этих денег доставалась морякам и участвовала в первых коммерческих операциях. Затем наступило время крестовых походов. Огромные толпы достигали Святой земли пешим путем, однако корабли Пизы и Генуи также способствовали покорению Палестины. Они неустанно поддерживали движение рыцарей Христовых. В XIII веке многие их них в Пизе, Генуе, Венеции поднимались на суда, которые благодаря успеху предприятия становились все более многочисленны и совершенны. Судовладельцы и моряки получали все больше прибыли. Правители, возглавлявшие походы христиан, оставляли в их руках целые состояния. Они уступали им право торговать и беспошлинно провозить товары в новые города, перешедшие в руки христиан. Если крестоносцы не могли расплатиться с перевозчиками иным способом, то оказывали им услуги во время путешествия. Самая большая удача выпала на долю венецианцев — желая защитить свои торговые привилегии, они заставили изменить маршрут крестового похода. В 1204 году крестоносцы взяли для них Византию, сокровищницу мира.
Горожане доверяли свои капиталы мореходам, чтобы те торговали в портах Леванта, играли на разнице курса, привозили товары, за высокую цену расходившиеся на французских ярмарках. Папа Римский запрещал торговлю с неверными. Купцы игнорировали этот запрет. Многие из них тонули в море или умирали от лихорадки, но другие копили звонкую монету, которую их компаньоны помещали в банки, находившиеся по ту сторону Альп. К середине XIII века генуэзские корабли увеличились в размерах и могли теперь отправляться в дальние путешествия. Один из них в 1251 году перевез в Тунис двести пассажиров и двести пятьдесят тонн товаров. Другой в 1277 году впервые обогнул Испанию и достиг портов Фландрии. Так был проложен новый маршрут, который позже привел к разорению ярмарки Шампани и изменил направление многих торговых путей, служивших процветанию Франции. Это движение, набиравшее мощь на протяжении двух веков, в 1250 году поставило итальянских купцов во главе мировой экономики. Оно незаметно передало в их руки рычаги культуры. В то время как повсюду продолжали торжествовать по поводу перехода из Греции в Рим, а затем и в Париж света мысли и искусства, начался новый процесс. Движение это было еще нечетким и продвинулось недалеко. Парижский университет еще долгие годы занимал главенствующее положение, и ни один из итальянских памятников не мог сравниться с собором Парижской Богоматери или с соборами Реймса. Однако величайшим святым XIII века был не король Франции Людовик, а сын ассизского купца.
В городах Италии развитие коммерции вызвало к жизни новое общество. Уже давно горожане свели полномочия городского духовенства к отправлению богослужения и освободились от власти баронов. Но во французских городах коммуна состояла только из горожан, а в Италии в нее входили и аристократы. Знать покорила коммуну с первых дней ее существования. Однако в XIII веке в самых процветающих городах активная часть населения оспаривала власть у аристократии и начинала теснить ее. Во всяком случае, стена, разделявшая рыцарство и горожан, была там гораздо менее высока, чем в других областях. Вскоре она стала еще ниже. Многие знатные люди, по собственной воле или вопреки ей, включались в коммерческие отношения, участвовали в торговле, в банковских операциях, а возвысившиеся до них горожане перенимали их образ жизни, строили башни, носили оружие и стремились принять участие в куртуазных турнирах. Франциск Ассизский провел молодость в рыцарских развлечениях. В 1200 году в Италии деловые люди из верхушки городского общества начинали щеголять аристократизмом.
Из этого сплава родилась культура, своеобразие которой с особой силой проявилось в 1250 году. В первую очередь она выразилась в чаяниях бедноты, которая сначала утопала в трясине ересей, а затем с энтузиазмом последовала за святым Франциском. В итальянских коммунах духовенство по-прежнему относилось к нему с недоверием. Большая часть епископских школ влачила жалкое существование. Благочестие знати и простого народа неожиданно повернулось к просветленным отшельникам, восхвалявшим Бога в пещерах, или к монахам нищенствующих орденов. Город исповедовал пылкое, но поэтичное христианство, выражавшееся в эмоциональных порывах. Что касается интеллектуальной деятельности, она протекала вне Церкви и заключалась в практических исследованиях. Изучение права готовило к судейской деятельности, а знакомство с точными науками давало возможность вести коммерческие дела. В портах Средиземноморья сыновья купцов изучали арабский язык. Многие овладевали им достаточно хорошо, чтобы читать трактаты по арифметике. В 1202 году житель Пизы Леонардо Фибоначчи изложил в своей «Liber abaci» всю систему мусульманской алгебры. Однако описанные в этой книге математические правила использовались больше счетоводами, чем строителями церквей. Новая культура действительно медлила проявиться в художественных формах.
Деньги активно участвовали в торговых операциях. Полученные в ссуду королем Франции и его епископами, они содействовали возведению соборов. В самом же городе они в очень малой степени способствовали распространению произведений искусства. Власть, которую купцы получили в коммуне, а также мощь евангельских настроений препятствовали распространению роскоши. В недалеком будущем должны были появиться строки, в которых Данте бичевал чрезмерное изящество флорентийцев. Но пока во Флоренции, как и в остальной Европе, декор, которым была окружена повседневная жизнь, оставался крайне строгим. Что же касается церквей, в их украшении не было заметно особой изобретательности. Мозаичники и художники следовали византийским образцам, скульпторы и архитекторы — римским. Единственным источником колебаний, первых изменений была францисканская святость. Влияние Древнего Рима еще не проявилось: юристы уже открывали максимы римского права, но римских поэтов читали мало, а величие античного искусства было погребено под культурными слоями, образовавшимися со времен конца империи, давление которых еще более увеличили возобновившиеся отношения с Востоком. Папа Римский был учеником французских школ. В искусстве Франции он находил формы, лучше всего способные восславить его могущество и величие Церкви. Он содействовал их распространению, и античное искусство в его глазах было виновно в том, что возвеличивало светскую власть его соперников — императоров. Первое возрождение римских форм произошло не в городах Ломбардии или Тосканы, и даже не в Риме, а в той части Италии, где был последний оплот императорской власти, перед тем как она пала под натиском Папы, иными словами — в Сицилийском королевстве.
Странный мир. Была ли это Италия? Был ли этот мир латинским? Он находился по другую сторону границы, отделявшей в древности греческий мир от римского, которую не изменили все потрясения, произошедшие в раннем Средневековье. Находившиеся на перекрестке новых морских путей Сицилия, Калабрия, Апулия, Кампания были в 1250 году открыты трем средиземноморским культурам — греческой и арабской в той же мере, что и культуре западного христианства. Ислам частично колонизировал эти области. Затем в середине XI века предводители вооруженных толп, пришедших из Нормандии, сумели утвердиться здесь, создали государство, основанное на знакомых им феодальных институтах и вассальных обязательствах, а также на верховной власти короля. Нормандцам удалось сохранить налоговую систему, прерогативы и установления власти, служившие опорой деспотичным правителям, на смену которым они пришли. Таким образом они основали одну из самых могущественных европейских монархий. Новые правители приблизили к себе латинских священнослужителей и монахов и стали верными союзниками Папы Римского. Однако под их тяжелой пятой покоренные народы продолжали вести привычный образ жизни, сохранили свой язык и традиции. Сицилийские короли принимали при своем дворе трубадуров, писали и говорили по-гречески и по-арабски, следовали советам мусульманских врачей и астрологов. В гораздо большей степени, чем Регенсбург и Антиохия, правителями которой, кстати, были сицилийцы, в гораздо большей степени, чем аванпосты, выдвинутые Генуей до берегов Понта Эвксинского[138], более, чем Венеция, накрепко связанная с Византией, более, чем сам Толедо, Палермо был местом встреч, приносивших богатые плоды, местом, где Запад утолял свое любопытство. Речь теперь шла не о нескольких колониях, насажденных в перерывах между кровавой резней и окруженных враждебностью, не о бастионах искателей приключений, не об избранных городах, куда бароны-завоеватели возвращались на отдых между грабежами. Палермо, столица древнего государства, мощный и просторный город, мирно открывался морским далям. Пожертвования его правителей пополнили казну Клюни. Европейские государи останавливались здесь на обратном пути из Святой земли. Здесь они чувствовали себя как дома — среди единоверцев, среди людей, чья речь была им понятна. Но в то же время это был Восток. Принцессы, новые Феодоры, благоухающие и одетые в шелка, гуляли в садах среди апельсиновых деревьев. Теперь Восток был действительно покорён, подчинён, но сохранил блеск своих достоинств. Дворцовые чиновники переводили на латинский Гиппократа и Птолемея. Когда в XII веке здесь начали строить бенедиктинские монастыри, их романские аркады тут же были покрыты буйной сказочной растительностью. Они отступали на второй план, как бы исчезали на фоне чеканок медресе, растворялись в сверкании мозаик.
В начале XIII века волей случая сложилось так, что дедушкой юного короля Сицилии был Фридрих Барбаросса, и Папа Римский возвел правителя Сицилийского королевства на трон цезаря. Фридрих Π Гогенштауфен не был немцем. В его лице Римская империя возвращалась к Средиземноморью. Рядом с Людовиком Святым, современником, двоюродным братом и союзником, король Сицилии предстает совершенно иной фигурой, столь же удивительной, как и его королевство. Он был нервным, тщедушным — «за такого раба не дали бы и двухсот су», в его взгляде сверкал ум. Он вызывал беспокойство. Смертельный враг Святого Престола, неоднократно отлученный от Церкви (хотя что значило в то время отлучение?), среди всех христианских правителей только он смог вновь открыть паломникам дорогу к Назарету и Иерусалиму. Stupor mundi, изумление мира, но также и immutator admirabilis, чудесный хозяин, поддерживавший Божий порядок в мире. При его жизни о нем слагали множество удивительных историй. В глазах гвельфов он представал Антихристом, «чудовищем, выходящим из моря, с пастью, полной проклятий, с медвежьими когтями, телом леопарда и яростью льва». Гибеллины же видели в нем Царя конца времен. Чувствуется, что Данте с сожалением помещает его в Ад. Вскоре его образ слился с образом Фридриха Барбароссы, чье тело унесли воды восточной реки. Умерев побежденным, как Зигфрид, он превратился в старца Киффгейзера, который однажды восстанет ото сна и чье пробуждение будет знаменовать возвращение Империи[139]. Даже историкам трудно отделить факты от вымысла. Говоря о нем через сто лет после его исчезновения, флорентиец Виллани уже находился под впечатлением легенды:
Это был человек удивительных добродетелей и большого мужества. Он был мудр и всесторонне образован, знал латынь, нашу простонародную речь, немецкий, французский, греческий и сарацинский; он был благороден, щедр, знал толк в оружии и внушал бесконечный страх. Он был самого распутного нрава, наподобие сарацин содержал огромное количество любовниц и мамелюков. Желал получать все доступные плотские наслаждения и вел эпикурейский образ жизни, словно для него не существовало будущей жизни. Он сам и его сыновья правили, окруженные великой мирской славой, но в наказание за грехи их ожидал плохой конец и род их угас.
Безусловно, Фридрих II любил женщин и не стеснял себя в этом отношении, но следует напомнить, что в то время подобным образом вели себя все правители, за исключением Людовика Святого. Бесспорно, он приказал выколоть глаза своему канцлеру, однако это не было особой жестокостью, а лишь обычной в этих областях пыткой, заимствованной у Византии. Мавританская стража охраняла его крепость в Лучере, он называл другом египетского султана, обменивался с ним подарками и посвящал в рыцари послов неверных. Можно ли считать его безбожником или циником? Его вера в Христа не вызывала сомнений. Крестовый поход не был для него развлечением. Но он был любопытен от природы и желал, чтобы ему объяснили, в чем разница между Богом евреев и Богом мусульман. Однажды он пожелал увидеть Франциска Ассизского. Он подвергал гонениям еретиков и поддерживал инквизицию более ревностно, чем кто-либо другой, а перед смертью облачился в сутану цистерцианцев. Противоречивый нрав, душа, открытая всему многообразию мира, характер, вызывавший недоумение, — всё это заставляло духовенство XIII века думать: это сицилиец!
Нужно отметить, что он любил науку, но отличавшуюся от той, которой занимались парижские богословы. Его наука заключалась в трудах Аристотеля и других книгах, которые на средства императора переводили с греческого и арабского. Эта наука основывалась на опыте. Сам Фридрих написал «Трактат об охоте», в котором попытался изложить всё, что знал о животных. Говорили, что однажды он умертвил человека в закупоренном сосуде с единственной целью узнать, что представляет собой душа после смерти. Действительно, Южная Италия была удивительным краем с особой научной культурой. Она принадлежала к христианскому миру благодаря духовенству и инквизиторам; благодаря юристам, вышедшим из школ Болоньи, она была знакома со схоластической методой размышления. В то же время Аверроэс, Евклид, вся мудрость исламской и греческой мысли была для нее не инородным знанием, но поднималась из ее собственных глубин. Король присутствовал на диспутах, подобных тем, что устраивались в Оксфорде или Париже, и проводимых в соответствии со строгими правилами диалектической системы доказательств, с постановкой вопроса и вынесением сентенции, но на этих диспутах речь шла об алгебре, медицине, астрологии. Тревожась о своей дальнейшей судьбе, Фридрих II, как восточные султаны, обращался к магам, алхимикам, составителям гороскопов, некромантам. Он стремился разрешить свои недоумения, и к его услугам из тьмы восточной ночи поднимались все тайны оккультизма. Подобно эмирам, он увлекался исследованием свойств предметов и живых существ. Петр из Эболи составил по его заказу поэму о водах Пуццоли и их свойствах. Его шталмейстер написал трактат об уходе за лошадьми, а астролог привез из Толедо «Астрономию» Аль-Битруи и «Зоологию» Аристотеля.
Император и придворные ученые наблюдали за явлениями природы с тем же упорством и стремлением к ясности, каким отличались парижские магистры. Но, в отличие от последних, они не были движимы желанием прийти к Богу в конце своих исследований тварного мира, их физика не растворялась в богословии, она оставалась самостоятельной и светской. Эти люди безусловно верили в божественную природу Христа и силу таинств Церкви. Они считали безбожниками Аристотеля, Аверроэса и всех сарацинских и еврейских учителей, у которых учились, чьим заботам вверяли свое тело и которым поручали исследовать звездное небо. Но их религия, как и религия тосканских городов, сохраняла лиричную окраску. Она не обладала полной властью над движениями их ума, не ограничивала любопытства, которое вызывали тайны видимого мира. В эпоху, когда строились Шартр и Реймс, итальянский юг держался на расстоянии от догматического синтеза соборов Франции. Обращая все внимание к реальности, он пытался обнаружить скрытые силы, управляющие ростом растений, повадками животных, движением небесных тел. Но изыскания эти совершались свободно, как в исламских школах. Быть может, это происходило потому, что христианство для него оставалось не столь ориентировано на воплощение Бога в человеческом образе, что Богу приписывалась трансцендентность Аллаха, всемогущество, неизмеримо возвышавшее его над природой. Как бы то ни было, именно в окружении Фридриха II впервые в христианском мире получила развитие наука о природе, которая не была наукой о божественном. Усилилось понимание конкретного, которое столетие спустя отразилось в искусстве итальянских городов. Источником этого реализма, отличавшегося от реализма готических соборов, был не буржуазный дух, как это слишком часто повторялось, но благосклонное внимание правителя, которого в Европе сравнивали с султаном.
Ни один монарх того времени, за исключением Людовика Святого, не заказывал такого количества произведений искусства. Став в 1218 году единовластным правителем Германии, а двумя годами позднее — императором, Фридрих II приказал мастерам, работавшим на него, порвать с византийскими традициями, которым следовали его палермские предки. По отцу он был швабом и опирался на орден тевтонских рыцарей. Он мечтал об имперском искусстве. Он не отказался от адаптации французского искусства, прославлявшего королей из династии Капетингов, от искусства, которое считала своим папская Церковь. Императору предложили художественные формы, возникшие в землях империи — Лукке, Модене. Их дальние корни уходили в леса оттоновской Германии. В первые годы его правления эстетика Ломбардии окончательно покорила Южную Италию: для палатинской часовни Альтамира скульпторы изготовили зооморфные капители, отличавшиеся удивительным сходством с пармскими. В Битонто сам император был изображен в образе дарителя, напоминавшего чертами романского идола. Но молодой император начинал все яснее сознавать силу, которой его наделила коронация, совершенная в 1220 году. Ему воздавали почести как «Цезарю, дивному свету мира». Он жил в окружении юристов, исповедовавших максимы Юстиниана. Его армия теснила ополчения объединившихся против него ломбардских городов; он приказал с триумфом поднять на Капитолий добытые трофеи. Отныне ему посвящались изображения орлов и факелов. Искусство епископов Тосканы и Эмилии вскоре уже не могло должным образом отражать его достоинства. Он изгнал Папу из Рима, его могущество освободилось от власти литургии, оно становилось военным и светским. После 1233 года он приказывал возводить не церкви, а замки, символы своего величия. Выстроенный в форме восьмигранника, как каролингская часовня в Ахене, Кастель-дель-Монте изображал императорскую корону, или Небесный Иерусалим. Восемь его граней, совершенное изображение вечности в соответствии с символикой чисел, возведены не для того, чтобы окружать хор, распевающий псалмы, или гробницы с мощами. Они являют всему миру земную мощь христианского цезаря, истинного наместника Бога на земле. На стенах крепости изящный, утонченный декор Шампани повсюду пришел на смену романским фантазиям. Наконец, в то время когда Людовик Святой собирался возвести Сент-Шапель во славу Господа, Фридрих II велел построить в Капуе свою собственную статую — изваяние Августа. Теперь из глубины времен победно поднялся античный Рим. В 1250 году великий император умер, а вместе с ним и империя. Современникам это падение показалось одним из самых явных знаков обновления мира. Вскоре умерли все потомки Фридриха И. Однако брат Людовика Святого Карл Анжуйский, которого папская власть возвеличила и посадила на трон в Сицилийском королевстве, не смог уничтожить всю культурную поросль, принесшую множество плодов, семена которой бросил в землю Гогенштауфен. Государь, избравший символом цветок лилии, в свою очередь поддержал амбиции предшественников, нормандских королей, правивших в Палермо, и их завоевательные стремления на трех фронтах Средиземноморья. Он оставил при своем дворе астрологов, врачей и переводчиков. Пьер де Марикур, «мастер опытов», строил для него астролябии, и вскоре появилось скульптурное изображение нового правителя, выделявшееся тяжеловесным величием римских статуй. Новый король желал казаться мудрым, обладающим познаниями в светских науках, подобно правившему по другую сторону Средиземного моря Альфонсу Мудрому, который сам писал книги «О познаниях в астрономии». В царствование Карла Анжуйского скульпторы Кампании продолжали заимствовать у античных гробниц изображения земного величия. Ими восхищались, их копировали. В коммунах Центральной Италии их считали более соответствующими новому мироощущению, чем романская или византийская символика или образцы, предлагаемые искусством Франции. Еще не был завершен декор Амьенского собора, когда Никколо Пизано уже трудился над кафедрой для Пизанского собора. Среди надвигающихся опасностей искусство нового времени зарождалось у южных пределов Европы, на почве, подготовленной Фридрихом II.
Ко второй половине столетия французские мастера, участвовавшие в строительстве соборов, понемногу утратили способность создавать что-либо новое. Они использовали формы, доведенные до совершенства, всё более подчиненные логике, расположенные так, чтобы как можно больше света проникало внутрь здания, но которые постепенно покинуло их духовное содержание. Причин такого опустошения было много. С одной стороны, это произошло из-за нового направления, которому теперь следовали центры школьной культуры. Университет отдавал все силы совершенствованию диалектических приемов, подлинная культура иссушалась. В школах теперь готовили только технических работников размышления. Холод силлогизмов захватил богословие и повлиял на подчиненное ему искусство. Кроме того, высокое искусство целиком посвятило себя воспеванию славы Божией. Священнослужители не принимали теперь в творчестве такого непосредственного участия, как прежде. Священников становилось все больше; как правило, их выбирали из нищенствующих монахов. Многие были выходцами из народа. «Сын простолюдина и простолюдинки» — так Жуанвиль обращается к францисканцу Роберу де Сорбонну, который искал с ним ссоры, и продолжает, упрекая его в том, что он забыл о низком происхождении своих родителей. Действительно, многие из этих священников, достигшие с помощью епископов вершин сеньориальной власти, не могли сопротивляться соблазну роскоши. Они были ослеплены ею — в соборе их больше всего поражало совершенство изображения, эффекты, хитрые строительные приемы. Лучшие из них, те, чья жизнь действительно основывалась на принципах нестяжания, старались больше проповедовать, чем строить, и если размышления приводили их на новый путь, то это был путь смирения и набожности. Медитация приводила к равнодушному отношению к формам монументальных сооружений. Святой Бонавентура не занимался строительством соборов. Он предоставил это королю Франции, который, безусловно, представал в то время образцом святости, но не был, однако, богословом. Таким образом, постепенно творческие обязанности перешли к специалистам — пришло время подрядчиков.
Эти люди теперь занимали ступень над простыми ремесленниками, которыми им было поручено руководить. Они больше не таскали камни и даже перестали сами их обтесывать. Они работали с компасом. Представляли каноникам план здания, в мельчайших подробностях изображенный на пергаменте. В то время один проповедник говорил:
Труд некоторых заключается лишь в том, чтобы отдавать приказы. На больших стройках обычно есть главный мастер, который делает распоряжения и редко или вообще никогда не прикладывает руку к работе. Мастера, поставленные над каменщиками, с компасом и линейкой в руке, говорят прочим: «Обтеши здесь». Они не трудятся, однако получают самое большое вознаграждение.
Эти люди прекрасно знали свое дело. Они были близко знакомы с докторами богословия, которые считали их равными себе и приобщали к науке чисел и диалектических построений. Но они не были священниками, не совершали Евхаристию, не проводили часы в размышлениях над Словом Божиим, не искали в Писании темных мест. Они выполняли работу, но, в отличие от Сугерия или Мориса Сюлли, не черпали вдохновения непосредственно в созерцании небесных иерархий. Их больше занимали проблемы динамики и статики. Занимаясь изобретательством, они оставались виртуозами, а не мистиками. Их достижения заключались в том, что им удавалось преодолеть сопротивление материала, а не проникнуть в какую-либо тайну. Те, чей разум склонялся к логике, ставили свой успех в зависимость от точности геометрических построений. Наиболее проницательные стремились достичь не истины, но милости.
В Сен-Дени великий Пьер де Монтрей в 1250 году не занимался новшествами. Он совершенствовал. Владея техникой, позволявшей ему свести здание к его каменной структуре, он распределял потоки света так, чтобы они радовали глаз. Две розы трансепта, в одной из которых движение света направлено к центру, а другая, напротив, излучает свет, иллюстрируют возможности совершенной математики, двойное движение вперед и в обратную сторону, которое богословие святого Фомы Аквинского заимствовало у Дионисия Ареопагита. С равновесием между структурой здания и декором покончено. Камень маскирует индивидуальные функции архитектурных масс поисками изящества. То же самое произошло и со скульптурами часовни Сент-Шапель — их пропорции гармоничны, но души в них нет. Это те же реймсские статуи, но лишенные одухотворенности. В самом Реймсе Гоше, последний из мастеров, руководивших строительством собора, устанавливая у портала огромные скульптурные фигуры, не следует первоначально предусмотренному расположению статуй, строго соответствовавшему учению Церкви. Он нарушает невразумительный порядок богословов, не чувствуя больше необходимости соблюдать его, и размещает изваяния, руководствуясь их пластическими особенностями, а не значением. Скорее всего каноники не осудили выбор мастера. Они сами становились восприимчивыми к изящному. Теперь художник старался понравиться. Фигура, изображающая Синагогу, переносит весь свой вес на одну ногу, становится заметным движение, постепенно вовлекающее Деву Марию и святых в танец куртуазного общества. Это направление начинает прослеживаться на витражах и покрытых миниатюрами страницах рукописей, в изменениях, которым подвергалась нарисованная линия, чтобы доставить удовольствие взору. Верующие и духовенство, ведущее народ к спасению, теперь почитают прекрасными Бога Живого и Его Мать.
Поворот к эстетизму отражает кризис, который переживает в Париже богословская мысль, а также те глубинные течения, которые этот кризис вызвали. Святые Фома Аквинский и Бонавентура по приказу Папы вели борьбу с новыми отклонениями от доктрины. Святой Фома опирался на доводы разума. Споря с Аристотелем, он противостоял Философу и Комментатору в диалектическом диспуте, стремясь загнать их в тупик. Его коллега из ордена францисканцев признавал за логическим инструментарием лишь подготовительное значение: «Философская наука — лишь путь к другим наукам. Тот, кто желает ограничиться ею, остается впотьмах». Возвращаясь к святому Августину, он призывал различать знание, добытое при помощи науки, которая способна ухватить лишь поверхностную сторону события, и более глубокое знание, прозревающее славу будущего мира. Его «Описание пути души к Богу» — или, скорее, «в Боге» — шаг за шагом ведет вперед, движимое порывом любви. Зачем выдвигать аргументы против Аристотеля? Гораздо больше способствует спасению совершенствование в созерцании света. Последнее наставление, очерчивающее границы интеллектуальных усилий: «Созерцая, остерегись думать, что ты понимаешь недоступное пониманию». Эта тактика в большей степени, чем действия святого Фомы, соответствовала требованиям нового времени и порывам наивных душ, полагавшихся в поисках Бога на озарение, даруемое Святым Духом. Она восторжествовала над томизмом, положения которого Бонавентура формально начал опровергать в «Беседе о дарах Святого Духа». В 1270 году напуганное дерзостью диалектики, чутко следящее за волнениями, тревожащими народное сознание, католическое богословие решительно встало на путь мистицизма.
Однако Иль-де-Франс, утопающий в роскоши Париж Филиппа Смелого, столица университетских профессоров и прекрасных дам, которым поклонялись рыцари, не был для мистицизма землей обетованной. Именно потому порыв, поднявший к небу башни Лана, Тура и Реймса, в этой области сошел на нет и во второй половине XIII века вновь набрал силу на востоке, в долине Рейна, в краю, где начинали складываться небольшие мистические общины бегинов и бегинок[140]. В Германии того времени наблюдался подъем коммерции, способствовавший развитию торговых путей. Повсюду возникали города; освобождая для них место, вырубали леса. До наступления 1250 года Альберт Великий покинул Париж и отправился преподавать в Кёльн, новый центр образования, немало сделав для того, чтобы прославить его. Он комментировал труды Дионисия. Вслед за ним доминиканец Ульрих Страсбургский развил некоторые свои теории, ставившие рациональные приемы на второе место после озарения, прокладывая таким образом путь, на который вскоре должен был вступить Майстер Экхарт. Наследницей искусства соборов стала Германия братьев Свободного духа и миннезингеров[141]. В Страсбурге началась последняя из великих строек готики. Росток реймсской скульптуры прижился в Наумбурге, посреди лесных чащоб.
Мастера, вдохновлявшиеся здесь готикой, направили ее в сторону экспрессионизма. Близ сцен Страстей Христовых они возводили сияющие красотой статуи принцесс. На этих поросших лесом землях, по соседству с обителями монахинь, одержимых видениями, искусство Франции тоже стало более насыщенным. Чудовищный бестиарий древних романских корней обогатился миром фантазий и сил, не подчиняющихся ничьей власти, облеченных в искореженные, вычурные формы, которые германская душа воспринимала как производную от византийских образцов. Лишенная логической основы, эстетика Сугерия в церквах Тюрингии и Франконии растворилась в игре полумрака, в нежности Девы Марии. Она изменилась в соответствии со вкусами верующих, искавших душевного мира в награду за жар сердца.
В это же время Париж предлагал иной путь. Это по-прежнему был путь разума, но теперь он вел к земному счастью. Столичные интеллектуалы с возросшим пылом отстаивали право заниматься философией, и поворот богословия к мистицизму лишь укрепил их на этих позициях. Христос пришел, чтобы Своей жертвой спасти людей. Достаточно полностью отдаться Его любви, чтобы достичь неземного блаженства; зачем запрещать себе в этой жизни свободно размышлять о светских предметах, зачем лишать себя мирских радостей? Профессора-миряне на факультете искусств не принимали участия в богословских диспутах. Их задачей было толковать труды Аристотеля. Они комментировали их перед аудиторией, состоявшей из совсем юных учеников, многим из которых была уготована карьера в миру. Профессора заявляли им, что мысль — привилегия человека. Мысль свободна. Положение философа более почетно, чем любое другое, оно ведет к высшему блаженству. Какова на самом деле его миссия? Открывать законы Природы, то есть истинный порядок. Если признать в Природе инструмент Промысла Божия, отражение мысли Господа, дело Его рук, разве можно в таком случае считать ее несовершенной? Проникать в ее тайны означает находить правила совершенной жизни, соответствующие планам Господа. «Грех есть человек, — писал Боэций Дакийский, — но истинные пути установлены естественным порядком». Пусть же человек стремится следовать этому порядку, таким образом он может быть уверен, что угоден Богу. Кроме того, он проживет земную жизнь в равновесии и радости. Молодая школа предлагала человеку счастье.
Счастье, единственный творец которого — он сам и которого может достичь своим умом. Наша госпожа Дама Природа обещает тем, кто служит ей, что они достигнут здесь совершенного блаженства. Таков урок, заключенный во втором «Романе о Розе», написанном Жаном де Мёном около 1275 года близ парижских школ. Жан де Мён обличал пороки, пытавшиеся нарушить божественный порядок: стремление к власти, а также вычурные куртуазные манеры и ложную проповедь нищенствующих монахов. Он напоминает о совершенном порядке начала времен:
Некогда, во времена наших праотцев и праматерей, по свидетельству древних, люди питали друг к другу утонченную и преданную любовь и не были движимы жаждой наживы или грабежа и счастье царило во всем мире. Земля не была возделана, она сохраняла наряд, дарованный ей Богом, но каждому давала достаточно пропитания.
Все было испорчено Ложью, Гордостью и Притворством. Эти идеи были порождены аверроизмом. Но также они были очевидным результатом антиеретической пропаганды, в противовес катарам реабилитировавшей тварный мир. Эти положения коренились в богословии творения, которое развивало искусство соборов. Они также не противоречили наивному оптимизму первых времен францисканства, от которых по приказу Святого Престола отвернулись минориты. Наконец, они сочетались с дикими верованиями о конце света, с ожиданием бедняков, которым говорили, что Бог создал своих детей равными. Парижская философия 1270 года предстает как новый этап в постепенном открытии вочеловечения Бога. Поистине, это был кардинальный поворот — мысль духовенства десакрализуется и поворачивается к мирской жизни.
Действительно, лишенное церковных ограничений обещание материального благополучия было адресовано прежде всего рыцарям, влюбленным в жизнь, дамам, тем, кто отказался сопровождать Людовика Святого в последнем крестовом походе («в то время не было никакого паломничества, никто не покидал свой край, чтобы исследовать дикие страны»). Жан де Мён писал на языке, которым пользовались при дворе. Это произведение по-своему воспевало радость, наполнявшую куртуазные поэмы. Оно приглашало открытыми глазами смотреть на красоту творения и просто радоваться. Эта радость звучала в детском смехе Избранных из Бамберга[142], в иронии Рютбёфа, в свежих мелодиях Адама де ла Аля, которые были проще, естественней и непосредственней, чем схоластические полифонии Перотена Великого. Этой радостью был охвачен молодой Людовик Святой, в то время когда он еще любил 11гутить. Теперь этой радостью был движим улыбающийся антиклерикализм знати при французском дворе и вся свободная и здоровая молодежь, для которой лжепророки и провозвестники конца времен были не преподавателями-диалектиками или трубадурами, а лишь ханжами и святошами, чьи призывы к покаянию препятствовали возвращению к свободе золотого века. Изящество новой скульптуры было эхом этих настроений. Оно давало живительный сок, питавший распускавшуюся на солнце флору последних капителей. Повинуясь зову блаженства, Воскресшие из Буржа встают, являя в свете Господа нежность юного тела. Радость ведет к осуществлению стремления к телесной красоте, в которой в Париже растворилось религиозное искусство соборов.
Три века непрерывного развития привели к тому, что в области Иль-де-Франс возникла философия счастья. Италия деловых людей была готова принять ее. Однако в стране, где церковные структуры были менее прочны, эта философия могла способствовать окончательному разложению христианства и погружению в безбожие, которое уже приписывали Фридриху II. Следует ли верить Бенвенуто д'Имола, говорящему, что «вскоре более ста тысяч знатных людей, занимавших высокое положение, мыслили так же, как Фарината дельи Уберти и Эпикур, полагавшие, что рай следует искать только на земле»? Действительно, Данте прошел в «Аду» круг, где находились
и Фарината открыл ему, что:
Однако Данте Алигьери именно в «Раю» поместил «вечный свет» Сигера Брабантского, величайшего из парижских философов, родоначальника новой школы. В своей теории об устройстве мира Данте помещает в виде двух параллельных, несоприкасающихся, рядов Церковь и Государство, Милость и Природу, Богословие и Философию, подобно тому как это делали преподаватели факультета искусств. Философия учит,
«Божественную комедию» можно считать последним собором. Данте возвел его на том, что доминиканские монахи, проповедовавшие во Флоренции, рассказали ему о схоластическом богословии, изучив его в Парижском университете. Как и великие соборы Франции, поэма ведет за собой, в соответствии с насыщенной светом иерархией Дионисия Ареопагита и при посредничестве святых Бернарда и Франциска и Девы Марии к любви, которая движет небесные тела. Проникнутое поэтикой воплощения Бога, искусство соборов воздавало удивительную хвалу телу Христа, торжествующей Церкви, иными словами — всему миру. На заре треченто подъем, незаметно способствовавший освобождению европейской мысли из-под власти духовенства, отвращал тех, кто жил на Западе, от сверхъестественного. Теперь люди шли другими путями к иным завоеваниям. «Природа — божественное искусство». Искусство, которое должно вести к счастью. Сам Данте и его первые почитатели устремились к другим берегам.
Дворец
1280-1420
В XIV веке начали проявляться признаки истощения, сказавшегося на западном христианстве. Стремление к крестовым походам по-прежнему живо и владеет умами. Оно диктует политику Церкви, определяет настроения рыцарства. Но постепенно это стремление уходит из области мифов и ностальгии. Между падением в 1291 году Сен-Жан-д'Акра, последнего оплота франков в Святой земле, и беспорядочным бегством крестоносцев при Никополисе в 1396 году под натиском турецкой армии, покорявшей Балканы, реальностью стало медленное отступление из восточных областей Средиземноморья. После 1400 года Византия превратилась в осажденный город, опасный край, некий аванпост, обреченный переживать набеги неверных, приходящих из Азии. Европа больше не распространяет своего влияния, напротив, она сокращает его, и происходит это потому, что население, которое непрерывно росло в течение трех веков, с приближением 1300 года начало уменьшаться. Великая чума 1348—1350 годов и последовавшие за ней волны эпидемий превратили снижение прироста населения в катастрофический упадок. В первые годы XV века население большинства европейских стран сократилось вдвое по сравнению с предшествовавшим столетием. Бесчисленные поля оставались невозделанными, тысячи деревень обезлюдели, почти повсеместно ставшие слишком просторными городские стены окружали обветшавшие кварталы. Следует также упомянуть военные потрясения. Агрессивная мощь, некогда вырывавшаяся наружу, неся на своей волне завоевательные экспедиции, теперь вернулась обратно. Она вызывала бесконечные столкновения между крупными и мелкими государствами, которые начали укреплять свои границы, дробить христианский мир, соперничать и противостоять друг другу. Шум битвы раздавался и в деревнях, и вокруг осажденных городов. Повсюду попадались вооруженные шайки, занимавшиеся грабежом и разбоем, бродяги, наемные солдаты. Везде бандиты и убийцы, «живодеры»[146] - профессионалы военного времени. В течение пятидесяти лет до наступления XIV века произошел один из великих переворотов, изменивших в Европе историю материальной цивилизации. В развитии этой истории произошли две мощные вспышки, отделенные друг от друга долгим затишьем. На XIV век приходится начало застоя, продлившегося до 1750 года.
Этого утверждения недостаточно для того, чтобы проследить за ходом мысли тех историков, которые, уделяя слишком много внимания означенному перерыву в развитии, сокращению населения и военным волнениям, с таким же пессимизмом судят и об истории«идей, верований и художественного творчества латинского христианства. Бесспорно, в том, что касается культурных ценностей, XIV век был не паузой, но периодом плодотворного развития. Сам упадок и потрясения, которые пережила материальная культура, стимулировали движение вперед, причем по трем направлениям. Во-первых, значительно изменилась география процветающих областей, зёрна интеллектуальной и художественной активности прорастали в новых краях.
Эпидемии и разлад, нарушавшие хозяйственную деятельность, военные беспорядки нанесли большой урон некоторым германским областям, Английскому королевству и тяжелее всего сказались на Франции, центре предшествовавшей экспансии. Многие области избежали общей участи. В прирейнской Германии, в Чехии, некоторых иберийских областях и больше всего в Ломбардии заметен рост городов, успех в коммерции, появление новых интересов и новых поводов для беспокойства. В то время как мореплаватели Генуи, Кадиса и Лиссабона отваживались заплывать по Атлантике все дальше, начинается поворот европейской торговли к Океану, который вскоре должен был возместить сторицей потери в Средиземноморье. Бедствия XIV века и, в частности, демографический спад не во всех областях стали причиной остановки развития. Эти факторы способствовали увеличению личных состояний и общему повышению уровня жизни и таким образом создали материальные условия для более активного меценатства и популяризации высокой культуры. Действительно, в это потревоженное чередой бедствий время, ознаменованное резким сокращением численности населения, богачей было гораздо больше, чем в безмятежном XIII веке, когда разворачивалась экспансия, а состояния также росли, но все-таки не с той скоростью, с какой увеличивалось население. Вот почему некоторые привычки и вкусы, свойственные прежде лишь благородным и знатным особам, постепенно распространялись во все более широких слоях общества, независимо от того, шла ли речь об обычае пить вино, носить белье или читать книги, украшать жилище и гробницу, понимать смысл рисунка или проповеди, заказывать произведения в художественных мастерских. Вот почему тяга к роскоши, несмотря на застой в производстве и торговле, не только не отошла на второй план, но, более того, усилилась. Наконец, ослабление материальных структур вызвало разрушение, подрыв целого ряда ценностей, на которые до недавнего времени ориентировалась культура Запада. Возник беспорядок, но в то же время это вернуло культуре молодость и в чем-то способствовало ее освобождению. Люди того времени были охвачены тревогой в значительно большей степени, чем их предки. Причиной тому была напряженность, возникшая в ходе борьбы за освобождение, несущее новизну. Те, кто были способны думать, временами с головокружительной ясностью ощущали новизну своей эпохи. Они осознавали, что открывают иные дороги, пролагают иные пути. Они чувствовали себя новыми людьми.
Свидетельством реальности этого ощущения новизны может служить судьба многих великих литературных произведений, созданных около 1300 года, таких как вторая часть «Романа о Розе» или несравнимо более прекрасная «Божественная комедия». Эти произведения обращались к каждому в отдельности. Написанные на народном языке и, следовательно, предназначенные публике, не имевшей отношения к Церкви, они предлагали свод всех интеллектуальных побед и знаний предшествующих времен. Их первой задачей было открыть наконец научную культуру, культуру школ и духовенства, представителям высших слоев светского общества, сгоравшим от стремления к образованию. Эти произведения имели невероятный успех и быстро стали предметом толкований, публичных чтений и дискуссий. Вскоре их стали причислять к классике. Последующие поколения постепенно отдалились от этих книг, от итога, который они подводили под накопленными знаниями, от системы мироустройства, которую они заключали в себе. На эти произведения возникла литературная критика, то есть некое осознание их эстетической ценности и в то же время понимание прошлого, понимание того, что завершился определенный период истории, чувство новизны жизни. В то время обновление затронуло все сферы деятельности ума и сердца. Далее оно распространилось на религиозное мироощущение. То, что к 1380 году начали называть devotio moderna[147], было «современным» способом приблизиться к Богу. Но самым главным следует считать то, что освобождение, вызванное пришедшим чувством новизны, затронуло и молитвенную жизнь — оно касалось Церкви и духовенства. Становясь все более народной, европейская культура в XIV веке вместе с тем переставала быть церковной. Искусство — именно в этом заключалось то новое, что появилось в нем, — в момент решающего поворота духовной и материальной истории Европы перестало в первую очередь быть символом священного. Отныне оно обращалось ко всем, ко все большему числу людей, как призыв или напоминание об удовольствиях.
Ars nova[148]— это выражение употребляли в XIV веке для определения некоторых форм музыкальной композиции, которые характеризовались обилием украшений, духом беспричинности, поиском чистого эстетического наслаждения, быть может, неосознанным стремлением ввести в религиозную музыку мирскую радость. В целом это было завоевание литургического пения инструментальными арабесками, всем, что дало весенние всходы в театральной музыке Адама де ла Аля, а ранее — в мелодиях трубадуров. Произошел прорыв светских ценностей в высокое религиозное искусство. В эту эпоху подобный процесс прослеживается во всех областях творчества — для архитектора, скульптора, ювелира, художника, для тех, кто нанимал их, главной задачей произведения искусства было не соучастие в литургии воплощения, которая в XIII веке из самого сердца Франции распространилась по всей Европе и которая предлагала, в соответствии с гармонией творения, расположить точно на отведенных им местах человека, разум и природу, то есть совершенные формы, через которые Бог являл Себя миру. Художники и их покровители, чувствовавшие себя новыми людьми, не воспринимали искусство, подобно современникам Людовика Святого или, позднее, друзьям Лоренцо Великолепного, как один из способов проникнуть в тайны мира и понять их загадочный порядок. В их глазах искусство становилось иллюстрацией, повествованием, рассказом. Его цель — такое переложение истории или, скорее, историй Бога, рыцарей Круглого стола или завоевания Иерусалима, которое может быть немедленно воспринято зрителем. В этом заключалось фундаментальное новшество. Художник более не вторил священнику в литургическом действе. Он перестал быть помощником духовенства и принялся служить человеку, томимому жаждой видеть, желавшему видеть не повседневную реальность (искусство в то время более, чем когда-либо, способствовало бегству в мир фантазии), но свои мечты. В XIV веке художественное творчество превращается в погоню за воображаемым миром. Как следствие, главная цель теперь — не создание -пространства для молитвы, религиозной процессии, распевания псалмов; ныне первоочередная задача — показывать, являть зрительный образ. Живопись, обладавшая большими возможностями в этой области, выдвигается в Европе на передний план.
Что касается причин этих кардинальных изменений, их следует искать в сочетании трех неразрывно связанных между собой процессов. Первый из них касался общества, изменения в котором отразились на условиях и целях творческого акта. Второй процесс затронул верования и представления о мире, изменения в которых повлекли за собой перемены в содержании и предназначении произведения искусства. Наконец, третий процесс повлиял на изобразительные формы. Художник, подобно философу или писателю, пользуется языком, который приходит из прошлого неизменным и ограниченным шаблонами. Художнику приходится преодолевать их сопротивление, и конечная цель его усилий не всегда остается достигнутой. Необходимо в качестве вступления проанализировать совокупность трех перечисленных выше процессов.
1 Новые люди
Принцип, в соответствии с которым следует основываться на социологическом исследовании художественного творчества, оправдан: обновление и свободы XIV века в значительной степени были следствием новых отношений, которые в то время установились между людьми. С момента обращения Европы к христианству вплоть до конца XIII века дошедшие до нас произведения высокого, серьезного искусства, памятники которого окружают нас, возникли благодаря вмешательству представителей некой однородной социальной среды, члены которой разделяли одни и те же концепции и владели общим культурным багажом, — немногочисленной группы высокопоставленных церковных деятелей. Эти несколько человек, прошедшие обучение в одних и тех же школах, были создателями религиозного искусства, на них лежала ответственность за его единство. Однако после 1280 года социальный слой, внутри которого происходило создание произведений высокого искусства, значительно расширился, стал более подвижным и, следовательно, более сложным по составу. Он разделился на несколько культурных областей. Этот процесс следует рассмотреть более подробно.
В действительности положение, занимаемое художником, в ту эпоху не претерпело значительных изменений. Мастера XIV века в большинстве своем вели светский образ жизни, но так же обстояло дело и с их предшественниками в XII и XIII веках. Художники объединялись в профессиональные узкоспециализированные организации. Заменив семейный клан, эти корпорации обеспечивали своим членам защиту, облегчали перемещения из одного города в другой, со стройки на стройку и таким образом содействовали встречам мастеров друг с другом, обучению подмастерьев, распространению технических знаний. Цеховые корпорации представали также как замкнутые организации, жизнь которых строго подчинялась традициям; возглавляли их пожилые люди, с подозрением относившиеся к любому проявлению личной инициативы. Однако уже в XIII веке существовали братства каменщиков и ювелиров. После 1300 года такая организация труда лишь начала распространяться на представителей других профессий, в частности на художников. Иногда возникали мобильные сплоченные команды, своего рода condotte[149], посвящавшие себя художественным завоеваниям. Во главе их стоял подрядчик, который, как, например, Джотто, собирал заказы, заключал договоры и распределял работу среди своих помощников. Следует тем не менее сказать, что на строительстве соборов подобные отряды работали и раньше. Наконец, в XIV веке все чаще становятся известными имена заказчиков крупных художественных произведений и памятников, в это же время начинают звучать и имена военачальников. Они заявляют о себе, их начинают узнавать, говорить о них — вот первый шаг к признанию творческой индивидуальности. Но и ранее строители соборов стремились оставить на них свое имя. Таким образом, единственные существенные изменения были вызваны продолжавшимся развитием светской стороны жизни, которое одновременно затронуло множество ремесел. Или же, что стало одним из главных новшеств в эстетике того времени, эти изменения имеют отношение к стремительному развитию живописи.
Стоит отметить, что в остальном, вплоть до конца столетия, до регресса, сменившего к 1420 году эпоху творчества, художник по отношению к заказчику продолжал оставаться в подчиненном положении. Художник, зарабатывавший на жизнь своими руками, как правило, был человеком очень скромного происхождения, выходцем из городских низов. Ценность его труда всегда казалась ниже, чем стоимость материала, с которым он работал. Наконец, на заре XIV века в христианской Европе начинают появляться знаменитые художники, признанные мастера, право покровительства которым оспаривают многие и которым иногда удается самим выбирать заказчиков. Таков Джотто, первый в ряду великих живописцев. Но ни Джотто, ни Гиберти, работавший веком позднее, не были свободны. Они были исполнителями — используя по своему усмотрению бесчисленные возможности, предоставляемые их профессией, мастера должны были следовать воле заказчика и покорно исполнять ее.
Однако можно выделить некоторые изменения в отношениях художника и того, кто оплачивал его труд. В это время зарождается торговля произведениями искусства. Она касается уже выполненных произведений, которые выставляются в лавках на продажу в ожидании возможного покупателя или за которыми итальянские купцы через всю Европу отправляют своих помощников. Предметами этой торговли в первую очередь стали книги, изделия, вырезанные из слоновой кости, аксессуары для молитвы, такие как дорожные складни, или украшения — рамы для зеркал или ящички для благовоний. Появился спрос на надгробные камни. Париж стал главным рынком произведений искусства и центром их производства (здесь, однако, в 1328 г. продавали и привезенные товары, например живописные панно из Италии). Торговля художественными изделиями продолжала расширяться. Ее поощряло уменьшение размеров произведений искусства, которые, таким образом, становилось легче перевозить. Более глубинными причинами расцвета этой торговли (миниатюризация произведения сама по себе была лишь следствием другого процесса) были рост личных капиталов, возвышение в городах все более многочисленного слоя населения, имевшего возможность приобретать украшения, появление людей, желавших не только пользоваться общедоступными произведениями искусства, но и безраздельно обладать каким-то их количеством, которое, теша самолюбие и поддерживая авторитет владельцев, должно было служить уменьшенным эквивалентом богатств, прежде заключенных лишь в королевских сокровищницах и храмах. Бурный процесс популяризации и в то же время обмирщения культуры поддержал развитие торговли произведениями искусства.
Не следует, однако, считать, что торговля оказала особо сильное влияние на художественное творчество. С одной стороны, она подтолкнула развитие технических приемов и стилей, умножила противоречия, ускорила процессы художественного слияния — если бы в Италию не ввозили парижские статуэтки из слоновой кости, итальянские мастера не смогли бы так близко познакомиться с готическими формами. С другой стороны, и на это стоит обратить особое внимание, торговля освобождала художника. Она изменила отношения между заказчиком и исполнителем, передав инициативу последнему. Следует, однако, признать, что это свободное искусство расцвело на низших ступенях художественного творчества. Мелкими покупателями художественных произведений были, как правило, незадачливые любители, которым не улыбнулась фортуна. То, что они могли найти в упомянутых лавках, было лишь разменной монетой высокого искусства. В этих серийных изделиях полностью отсутствовала игра воображения. Они были лишь копиями, выполненными на скорую руку, пересказом образца на грубый язык. Желая привлечь более широкий круг покупателей, торговцы прежде всего стремились снизить стоимость производства, ускоряя рабочий цикл и используя материал низшего качества, шла ли при этом речь о выпуске душеспасительных картинок по самой низкой цене или о принятом в XIV веке решении печатать их на бумаге, используя гравюру на дереве. Однако для того, чтобы завладеть вниманием и удержать многочисленную клиентуру, торговцы также стали упрощать темы произведений, делая их более доступными пониманию, обращаться не к разуму, а к чувствам, увеличивать место, отведенное в повествовании изображению. Упрощение — такова была специфическая роль, которую играла в ту эпоху торговля по отношению к искусству. Двигатель истинных творческих процессов был иным. Речь здесь идет о меценатстве.
В наши дни, когда у знаменитого художника денег больше, чем у любого покровителя искусств, когда он — свой собственный меценат и творит в абсолютной свободе для собственного удовольствия, словно лишь себе на потребу, требуется некоторое усилие, чтобы осознать прочность пут, которыми во времена Чимабуэ, мастера Теодорика или Слютера художник был привязан к покупателю. Любое значительное произведение выполнялось в то время по заказу, любой художник зависел от воли своего заказчика. Появляется большое искушение сказать — от своего хозяина. Отношения мастера с заказчиком закреплялись двумя путями. В первом случае договор, составленный надлежащим образом и затем удостоверенный нотариусом, заключался на конкретное произведение. Взаимные обязательства устанавливали не только стоимость и сроки выполнения заказа, но и качество материала, детали исполнения и, наконец, главное — основную тему произведения, строй композиции, выбор цветов, расположение персонажей, их жесты и позы. Или же, и в этом случае переход художника в зависимость от заказчика становился очевиднее и продолжительнее, мастер на определенное время входил в число слуг мецената — поступал в его распоряжение, жил в его доме на полном обеспечении, выполнял в нем особую службу и получал за нее вознаграждение. Подобное подчиненное положение было пределом мечтаний лучших мастеров. Оно отменяло зависимость от корпорации, от цеха, от команды. Сулило большую выгоду. Вводило в самый блестящий, открытый круг общения. Благодаря такому положению мастер оказывался на перекрестке новейших тенденций, поисков, открытий. Появлялась возможность действительного роста в обществе. На пороге XV века именно в больших княжеских домах зародилось уважительное отношение к положению художника и свободе его творчества. В действительности художник, скульптор, резчик гравюр, домашний ювелир, а при больших дворах — подрядчик, руководивший строительством и управлявший работами по украшению построек, по-прежнему подчинялись воле сеньора. Можно ли вообразить хотя бы некое подобие диалога между господином и художником? Обсуждал ли Джотто с Энрико Скровеньи план будущей часовни Капелла дель Арена, представляли ли братья Лимбурги Иоанну Беррийскому наброски «Роскошного Часослова»? В течение всего XV века положение слуги, так же как пункты договора, полностью подчиняли значение произведения искусства желаниям, вкусам и капризам мецената.
Заказчик диктовал только свои пожелания, сюжет и, в значительно меньшей степени, способ выражения. Выбор художественных средств оставался за исполнителем. У этих средств была своя жизнь, развивавшаяся независимо от ограничений, навязанных заказчиком. Следует подробнее остановиться на этом основополагающем факте, который свидетельствует о полной свободе художественного акта по отношению к социальным структурам и дает понять, что заниматься живописью, ваять, строить во все времена означало совершать открытия, исследовать неизведанное, тем самым способствуя, а иногда опережая в решении задачу, которая стояла и перед писателем в его творчестве, ученым в его научных изысканиях или философом в его размышлениях, — представить широким массам любителей обновленную картину мира. Нужно ли здесь упомянуть также о том, какое огромное поле деятельности открывалось личному творчеству? Среди этих художников-узников не было недостатка в гениях. В рамках, которые навязывал заказчик, они могли широко реализовать свое дарование, и даже с большей свободой, чем современные художники, самостоятельно выбирающие сюжеты своих произведений, но с трудом осваивающие новые художественные приемы. В гениальности есть нечто, не подвластное никакому анализу. То, что в художественном произведении было связано с историей общества или сменой вкусов (а моя цель — исследование лишь этих факторов), в то время в значительной степени зависело от заказчика. Итак, пора определить, чего же он желал.
В предшествующую эпоху искусство процветало в стабильном обществе со сложившимися структурами. Избыток роскоши, результат труда крестьян, сосредоточивался в руках двух групп аристократии. Одна из них была военной и действовала разрушительно, проматывая богатства на празднествах и торжествах. Другая, религиозная, призванием которой было церковное служение, в самом прямом смысле слова посвящала средства Богу, тратя их на возвеличивание Его славы. На стыке этих двух групп находилась фигура короля, помазанного на царство военачальника. В действительности именно щедрость короля Людовика Святого в XIII веке привела высокое искусство на пик его развития. С 1280 года этот порядок нарушился. Безусловно, щедрость, главная добродетель, необходимая при совершении пожертвования, принесении в дар сокровищ, как двойное символическое подтверждение власти и смирения, продолжала занимать главенствующее место в сознании богатых людей и, следовательно, заставлять их оказывать помощь художникам. Изменилось лишь социальное положение меценатов. Этому способствовали две тенденции.
Во-первых, произошли потрясения имущественной иерархии, нарушился покой главенствующего общественного слоя, обладавшего финансовыми средствами, необходимыми для поддержки главных художественных предприятий. Это ускорило развивавшийся в двух направлениях процесс обновления, затронувший эту область. Прежде всего влияние оказали демографические изменения, в частности вспышки массовой смертности, следовавшие одна за другой во второй половине века практически на всей территории Европы. Эпидемии, и в первую очередь чума 1348-1350 годов, в некоторых местах унесли жизни всех работавших там художников. Книжная миниатюра, до тех пор, бесспорно, бывшая великим и самым оригинальным искусством Англии, в середине века внезапно сдала позиции и затем застыла, опустившись на более низкий уровень, — и все потому, что мастерские, опустошенные чумой, не смогли впоследствии оправиться. Смерть, разом уносившая множество жизней, могла нанести удар художественному творчеству, поражая мастеров. Однако, как представляется, все это носило ограниченный характер. Действительно, в самой Англии в других областях искусства, где артели мастеров были более многочисленны и лучше выдержали натиск эпидемий, не наблюдается никакого разрыва художественной традиции: необыкновенные архитектурные фантазии Глостерского аббатства развивались в то время, когда демографическая катастрофа достигла пика. В действительности эпидемии повлекли за собой изменения во вкусах заказчиков, что сказалось на сюжетах, предлагаемых художникам, и даже на способах самовыражения последних.
Если, например, внимательно изучить фактуру фресок и живописных панно Центральной Италии, с приближением 1350 года можно обнаружить значительный пробел в традиции. Достоинство и изящество, характерные для живописного повествования Джотто или Симоне Мартини, внезапно исчезают. На смену им приходит более грубая интонация — мотивы Андреа да Фиренце или Андреа из Гадди. Невозможно отрицать, что внезапная кончина некоторых мастеров изменила дальнейший путь мастерских, находившихся под их руководством, что разрыв традиции был также эхом череды громких банкротств, потрясших во Флоренции слой крупных дельцов, в результате которых одни разорились, а другие вознеслись. Тем не менее ослабление напряжения, которое в живописи продемонстрировали использование ярких красок, второстепенных деталей и поиски способов воздействия на душу, безусловно, стало следствием внезапного обновления состава городских властей. Чума 1348 года, а затем периодически вспыхивавшие снова эпидемии оставили зияющие пустоты в высших слоях городского общества, на которое уже успели оказать влияние идеи гуманизма. Свободные места оказались заняты стремительно выдвинувшимися выскочками. Нуворишам не хватало культуры, точнее, их культура, заключенная в рамки общедоступной проповеди нищенствующих братьев, находилась на несколько ступеней ниже. Приспосабливаясь ко вкусам нуворишей, формы художественного выражения утратили возвышенность. Ускорившееся движение социального роста по прошествии середины XIV века вызвало в Тоскане периода треченто, как и во всей Европе, ярко выраженное снижение уровня эстетических запросов.
Столь быстрое выдвижение новых людей было следствием не только эпидемий чумы. Этому способствовали превратности военных действий, практически постоянно потрясавших Европу того времени. Не следует считать, что вооруженные столкновения унесли жизнь многих состоятельных людей. Постоянное совершенствование вооружения обеспечивало достаточную безопасность во время сражения, и, кроме того, противники, как правило, стремились не убить друг друга, а захватить в плен. В XIV веке война превратилась в охоту. Она стала игрой на деньги — наконец на передний план выдвинулся выкуп. Любой рыцарь, желавший соответствовать своему положению и, следовательно, обязанный презирать богатство и мечтать лишь о славе, попав в плен, в глубине души желал, чтобы назначенный за него выкуп был как можно больше, так как в некотором роде эта сумма указывала, чего он стоит на самом деле. И рыцарь с легким сердцем примирялся с собственным разорением. Следствием любого боя или турнира было массовое перемещение состояний из одних рук в другие. Случалось, что те воины, кому повезло в сражении, кто захватил большую добычу, часть ее тратили, заказывая произведения искусства. Лорд Бэверли предпринял строительство Бэверстонского замка, вернувшись с победой и золотом после одного из сражений Столетней войны. Стоит отметить, что этот английский владыка уже был богат. Война, подобно чуме, открывала дорогу в среду аристократии людям, вышедшим из средних слоев общества, знакомым с менее утонченной культурной традицией, и происходило это потому, что война становилась делом профессионалов, предводителей наемных войск, кондотьеров, авантюристов. Эти люди спешили усвоить привычки знати и, в частности, ее эстетические вкусы, но делали они это как нувориши, неловко и слишком старательно.
В XIV веке, таким образом, были неотделимы друг от друга два течения, ускорившие возвышение новых людей, что привело к упрощению вкусов. Всё это способствовало появлению общей тенденции в искусстве — вульгаризации.
Во-вторых, изменения затрагивали не отдельные судьбы, но всё общество в целом. Они стремились перераспределить движение материальных ценностей и, следовательно, поколебать порядок наследования имущества, вызвав приток в новые социальные сектора богатства, необходимого для меценатства. Одно время в основе любого состояния лежали земельные владения, сельская сеньория была источником стабильных доходов. Известно, что наиболее обеспеченными из пользовавшихся результатами крестьянского труда были большие религиозные общины, монастыри, кафедральные капитулы, органы церковной власти, некогда вызвавшие самый большой подъем художественного творчества. С наступлением 1280 года три тенденции нарушили установленный порядок. Изменения сельской экономики потрясли прежде всего сеньориальный институт, лишив сельскую аристократию и, в частности, древние религиозные образования львиной доли средств. Вторая тенденция состояла в том, что области, находившиеся под княжеской властью, продолжали укреплять свою мощь и сумели создать приносящий выгоду и весьма эффективный фискальный аппарат. В Европе того времени повсеместно вводятся государственные налоги, то есть механизм, изымающий значительную часть денег из обращения и направляющий их в сундуки короля. Впоследствии эти средства тратятся на поддержание роскошного образа жизни, на широкие жесты, укрепляющие престиж, которые правитель обязан совершать в силу своего положения, а также недавно появившегося убеждения, что его достоинство распространяется на его подданных. Наконец, деньги тратятся на обогащение всех, кто ему служит. Таким образом, в сокращающемся и слабеющем христианском мире все более ярким светом сияют несколько центров изобилия и благосостояния — дворы правителей. Но такое положение вещей — и здесь мы переходим к третьей тенденции — способствовало развитию деятельности определенного числа крупных дельцов, денежных воротил, помощников государей, когда дело касалось сбора налогов или выпуска в обращение новых денежных знаков, умевших извлекать выгоду и помогавших украшать двор все новыми предметами роскоши. В большинстве обезлюдевших городов торговля и банковское дело пошатнулись, но в столицах, куда стекались большие потоки драгоценного металла и предметов роскоши, они продолжали процветать. Многие буржуа, обогатившиеся на службе великим владыкам Запада в ближних или дальних краях, привыкли к великолепию, безвозмездности дарения, именно в то время достигнув такого уровня благосостояния и культурной зрелости, когда богатый человек может позволить себе делать художникам крупные заказы.
Эти экономические изменения в значительной степени объясняют, почему вмешательство церковных институтов в художественную деятельность в XIV веке постепенно ослабевало. Разоренные, порабощенные Папой и королями, раздавленные налогами, потревоженные новыми принципами приема в общину и правилами распределения церковных доходов, монастырские общины и общины каноников практически повсеместно перестали быть вдохновителями крупных художественных предприятий. В церковном мире осталось лишь несколько институтов и деятелей, не утративших активности. В первую очередь это некоторые религиозные ордена — картезианцы, целестинцы[150] и особенно мендиканты[151]. Как ни удивительно, но эти ордена всегда отличались самыми суровыми правилами жизни. Они желали быть символом и примером самоотречения и презрения к земным делам. Казалось, они должны были отказаться от любого стремления к украшательству и проявить себя злейшими врагами любого творческого процесса. Некоторые поступали именно так. Джотто был вынужден свести к минимуму работы по украшению часовни Капелла дель Арена в Падуе под давлением августинцев-еремитов[152], на которых была возложена обязанность наблюдать за ходом работ. Августинцы упрекали Джотто в том, что он слишком многое «делает из стремления к пышности и суетной жажды славы, а не из желания воздать хвалу Господу». Однако монастыри самых бедных орденов зачастую были самыми яркими очагами искусства треченто. Этому есть две причины. Расположенные в городах или близ городских ворот, они в изобилии получали пожертвования как от знати, так и от простых горожан, поскольку воплощаемые в монастырях добродетель отречения от земных благ и аскетизм привлекали к этим центрам набожности всех богатых и слишком богатых людей, чья совесть не могла успокоиться из-за окружавшей их чрезмерной роскоши. С другой стороны, именно эти общины выполняли в обществе функции, связанные главным образом с отправлением похоронного культа и проповедью Евангелия, которые в то время были немыслимы без некоторой роскоши, а также без обращения к помощи изображений.
Церковь XIV века стала колыбелью и другого типа меценатов — аббатов, каноников, епископов, кардиналов и особенно Римских Пап. Поддерживая художников, прелаты действовали не как служители культа или наставники, отвечающие за жизнь общины, но как частные лица, движимые стремлением окружить великолепием собственную персону. Со временем их деятельность приняла еще более отчетливый характер, став сходной с княжеской. За исключением бедных орденов, в художественном творчестве принимала участие лишь та часть церковного общества, которая была наиболее связана с мирскими делами, меньше других участвовала в литургической жизни, я бы даже сказал, та часть, которая подверглась частичному обмирщению. Английские или французские епископы, продолжавшие работы по украшению соборов, если сами не принадлежали к сильным мира сего, то находились на службе при их дворах. Королевская налоговая система способствовала росту их доходов, так же как папский фискальный институт был источником благосостояния кардиналов. От королей доставались им вкусы и стремления, в частности желание прославиться, которое они реализовывали, украшая церковь, находящуюся под их покровительством. Если Папа Бонифаций VIII в Риме, а Папа Климент VI в Авиньоне были самыми щедрыми меценатами, как никто другой поддерживавшими искусство, если они поощряли творческие поиски Джотто или Маттео да Витербо, они в меньшей степени преследовали цель вознести хвалу Господу и в большей — добиться того, чтобы престиж государства, как светского, так и духовного, бразды правления которого находились в их руках, был подкреплен величием создаваемых памятников.
В действительности именно светская знать пришла на смену представителям Церкви и реализовывала большие художественные программы, дворы сиятельных особ становились авангардом творчества и поисков. Самыми блистательными и имеющими наибольшее влияние были дворы Папы, французского короля и императора, то есть священных фигур, перед которыми с момента зарождения христианского искусства лежала задача воодушевлять лучшие художественные школы. С одной стороны, XIV век стал тем временем, когда в концепции папской, императорской или королевской власти светские ценности потеснили религиозные, сводя к минимуму священническую миссию (для тех, на кого она была возложена) и, напротив, расширяя часть, которую занимал imperium, власть в светском понимании, которую образованные люди того времени все яснее осознавали по мере того, как постигали историю Древнего Рима. Происходило своего рода всеобщее обмирщение. С другой стороны, персона короля утратила во Франции около 1400 года былое значение, и многие правители, среди которых были очень состоятельные сеньоры, ставшие вдохновителями возрождения парижской эстетики, — герцог Анжуйский, герцог Бургундский и герцог Беррийский, как и «тираны»[153], захватившие синьории в крупных коммунах Северной Италии, не получили миропомазания и не чувствовали в себе ничего от священнослужителя. При всех дворах, где концентрировались люди и денежные средства, при дворах, все еще легких на подъем и становящихся все более открытыми миру, в этих центрах общественного развития, единственных местах, где люди незнатного происхождения могли оружием, умелой организационной деятельностью или церковным служением подняться до самых высоких ступеней, в этих домах, в лоне огромных семей, церковные цели постепенно уступили место целям политическим, священные ценности — ценностям мирским. Пришло осознание значения власти, величия, выведенного из римского права легистами[154], получившими образование на университетских юридических факультетах, или же найденного другими образованными людьми в трудах латинских классиков. Пришло время еще более ярких ценностей рыцарства и куртуазной культуры, принесенных в жизнь и насаждаемых широким потоком привычек и обычаев, уходящих корнями в феодальное Средневековье.
Это были те самые ценности университетской и рыцарской культуры, которыми вооружились некоторые крупные негоцианты, повсюду, и особенно в Италии, составлявшие элиту. В то время лишь эта элита, за исключением Церкви и княжеских дворов, была способна порождать меценатов, действительно поддерживающих творчество. Буржуазия в целом играла крайне незначительную роль в художественном процессе. Ее участие ограничивалось самыми низкими уровнями творчества, областью создания вульгаризированных произведений искусства. Чаще всего это творчество было коллективным, проходившим в рамках профессионального союза, принимавшего в свои ряды горожанина. Руководство культурной жизнью полностью находилось в руках нищенствующих орденов. В силу этих причин следует сказать, что в XIV веке существовало буржуазное искусство и, более того, в искусстве существовали буржуазные ценности. Банкир или крупный негоциант становится меценатом, поднявшись над буржуазией, примкнув к княжескому обществу, которому он служит, или же, но это случалось крайне редко и лишь в некоторых крупных городах Италии, наделяя коммуну, сообщество, в управлении которым он участвует, величием, придав ему imperium государей, а также атрибуты куртуазной аристократии. Эти великие коммерсанты, а вместе с ними, безусловно, и остальной народ, богатый и бедный, продолжали восхищаться придворными обычаями, тем, что доходило до них из этой жизни, а также двойным идеалом священства и рыцарства, заключенным в этих обычаях. Буржуазный дух исчез, на смену ему пришло постепенное приобщение достаточно ограниченных групп людей, принадлежавших по рождению к буржуазии и оторвавшихся от нее, к куртуазной культуре, к рыцарским ценностям. Следом за ним происходило приобщение к идеям гуманизма и ценностям университетской культуры. Все это, однако, означает лишь то, что в меньшей степени шел процесс вульгаризации и в большей — обмирщения общества.
Следует обратить особенное внимание на еще одно следствие изменений, произошедших в структуре общества. Во всех центрах культуры, где в то время создавалось высокое искусство, в монастырях, при дворах знати, в больших городских коммунах, новое звучание, которое приобрела эстетика XIV века, в определенной степени было следствием ставшего более явным значения индивидуально принятого решения. Идет ли речь о покупке произведения искусства, о поручении придворному мастеру или о заключении договора на выполнение крупного заказа — и даже в том случае, когда кажется, что меценатом выступает целое сообщество, например городское братство[155], капитул Йоркского собора, францисканцы из Ассизи или коммуна Флоренции, — всегда в решающий момент значение имеют личный вкус и выбор. В переломный момент своей творческой жизни Джотто оказался лицом к лицу с кардиналом Джакопо Гаэтани деи Стефанески и с наследником ростовщика Энрико Скровеньи. Один на один. И безусловно, не для того чтобы вести разговор на равных. Художник почти всегда находился на службе одного человека, чья личность проявлялась теперь рельефней, чем когда бы то ни было, и который чувствовал себя свободнее в выборе. Эта свобода, раскрепощение индивидуальности клиента, но не художника, стала еще одной гранью обновления.
Теперь значение имеет воля не сообщества, но отдельной личности, и это повлияло на некоторые основные характеристики, которые отныне стали присущи произведению искусства. Само произведение теперь более ясно, чем когда-либо, предстает чьей-то собственностью. Принадлежа конкретному лицу или находясь во владении сообщества, как, например, витраж или статуя портала, произведение искусства всегда несет на себе отпечаток, некий след, свидетельство того, что оно было создано для того или иного человека. Широкое распространение геральдических символов, все более частое присутствие фигуры молящегося дарителя в произведении, которое он пожертвовал ради собственного спасения и спасения ближних, стремление достичь в этих изображениях портретного сходства — проявления власти мецената над произведением, созданию которого он способствовал. Внимание мецената к собственной славе никогда не ослабевает, напротив, чем более низкого происхождения заказчик, тем более склонен он считать, что созданное по его заказу произведение будет демонстрировать окружающим уровень его достижений, поэтому, как правило, он упрямо навязывает художнику материалы, формы и идеи. В произведении XIV века, рождающемся благодаря чьему-то индивидуальному решению, заложено больше стремления поразить воображение. Как правило, создаются произведения небольшого размера, ибо так удобнее дляих владельцев. Украшенная миниатюрами книга, ювелирное украшение, драгоценное изделие выполняются из очень дорогих материалов, служащих концентрированным воплощением роскоши и благосостояния, их можно сжать в руке. Такие произведения в большей степени, чем своды нефа или монументальное изваяние, отвечали вкусам общества, которое освобождало свои эстетические пристрастия от давления коллективной собственности. Наконец, на всех этих произведениях лежал глубокий отпечаток характера. Чаще всего речь шла о характере дарителя, который стремился к чему-то особенному, желал, чтобы какая-нибудь своеобразная деталь отражала свойства его личности. Иногда в произведении находил отражение характер самого художника. Теперь не все меценаты были представителями Церкви, как раньше. Не будучи ни мыслителями, ни высокообразованными людьми, они не могли проникнуть в глубь заказанного сюжета и меньше стесняли свободу мастера и его понимание темы. Таким образом, в художественном творчестве возросло многообразие форм. Хотя бы на беглый взгляд, так как в глубинах художественного процесса повсюду в Европе, во всех социальных слоях, несколько культурных моделей продолжали определять личные желания заказчика и индивидуальную работу художника.
Сложной проблемой, решить которую не представляется возможным, безусловно, были истинные отношения между развитием мысли, религиозных верований, трансформацией коллективного самосознания и изменениями, происходившими в области художественного творчества. Если считать, что проблема определилась в XIV веке, то мы окажемся лицом к лицу со множеством неясностей. В то время связи были гораздо менее очевидными, чем в XI, XII, XIII веках, когда лишь создатели высокого искусства были людьми образованными. Очевидно, что Сен-Дени — непосредственное воплощение представлений Сугерия о мироустройстве. Подрядчики, работавшие на строительстве монастырской церкви, получили от него точные указания, и можно с точностью утверждать, что он имел при этом в виду. Сугерий сам говорил об этом, и легко проверить, что он построил и украсил церковь так же, как он построил бы и украсил проповедь или «Историю Людовика VI Толстого», пользуясь тем же рядом символов, сочетая те же математические и риторические гармонии, сходным образом используя методы размышления, основывающегося на аналогиях. Напротив, хотя невозможно отрицать, что «Райский сад»[156] или любая другая страница из «Роскошного Часослова» также передает мировосприятие Иоанна Беррийского, здесь механизмы воплощения идеи в значительной степени утратили очевидность. Это произошло, во-первых, потому, что понять образ мышления владетельной особы 1400 года гораздо сложнее, чем движение мысли бенедиктинского аббата XII века. В частности, и это немаловажно, причиной, во-вторых, стало то, что мысль теперь воплощалась в материальную форму с помощью множества изощренных замен.
Бесспорно, многие произведения искусства XIV века были задуманы как видимое, доступное пониманию воплощение религиозной доктрины. Это относится ко множеству изображений, служивших проповеди церковного учения, и, в частности, к огромному числу живописных произведений, появившихся под влиянием доминиканского ордена. Средневековому зрителю «Торжество святого Фомы Аквинского», написанное Андреа да Фиренце в испанской часовне в Санта-Мария-Новелла, и то же «Торжество», созданное Траини для церкви Святой Екатерины в Пизе, предлагали не образ томистской философии, которую требовалось реабилитировать, но простую, наглядную и потому эффективную схему, в которой этой философии легко находилось место в общей системе знаний рядом с «классиками», Аристотелем и Платоном, святым Августином и Аверроэсом и, следовательно, с мудростью Божией. Однако произведения со столь строго соблюденной структурой в то время встречались редко. Новые формы меценатства уже не так, как прежде, способствовали участию в художественном процессе мыслителей-профессионалов. Как правило, в произведении в лучшем случае можно установить связь между работой художника и мировосприятием, соответствующим интеллектуальному уровню заказчика, занимающего определенную ступень в обществе. В том же, что нашло выражение, речь в меньшей степени идет о мысли, верованиях или знаниях, чем о ценностях, связанных с социальными привычками, обычаями и запретами. В результате изменений, связанных с процессами вульгаризации и обмирщения, искусство XIV века меньше заботится о просвещении, изложении догм или концепций. Оно становится скорее отражением существующих культурных моделей, неким знаком, подтверждением общественного превосходства людей, считавших себя членами избранного общества и в качестве таковых дававших указания архитекторам, скульпторам и художникам, людей, число которых непрерывно росло, а происхождение становилось все более разнообразным.
Для всех, повторим это еще раз, для священников так же, как для правителей и крупных банкиров, существовали одни и те же культурные модели. Они были организованы вокруг двух принципов, двух образцов поведения и мудрости: рыцарства и священства. С начала расцвета рыцарской культуры, иными словами, с конца XI века, шло непрерывное соперничество рыцаря и священника, двух моделей самореализации человека. Многие литературные произведения XIV века, подобно «Сновидению садовника», еще выстроены в форме диалога, горячего спора между представителями духовенства и рыцарства, каждый из которых защищает противоположные принципы и идеалы. Однако одна из новых черт того времени заключается именно в сближении этих двух культур. Этот процесс был обусловлен многими причинами, и в первую очередь изменениями, произошедшими в структуре общества. В XIV веке увеличивается число тех, кто входит одновременно в обе группы. Представители духовенства, погруженные в мирские заботы, постепенно приобретают светские привычки, некогда подобавшие лишь тем, кто занимался военным ремеслом, с другой же стороны, появились milites litterati, рыцари образованные, то есть способные постигать книжные знания и проявляющие интерес к научной культуре. Княжеские дворы, где на духовенство и рыцарей возлагались одни и те же задачи, от которых, следовательно, ожидали равных умений, стали центром сближения двух культур. В частности, именно там, возникнув для развлечения государей, а в более широком смысле для того, чтобы «служить пользе подданных» (ибо просвещение представало теперь одной из главных функций княжеской власти), расцвела необыкновенно выразительная литература, возникшая на стыке двух культур. Книги, созданные, чтобы быть прочитанными, адресовались любому образованному человеку, а не только духовному лицу. Они были написаны не на латыни, а на народном языке, и в то же время они распространяли школьные знания.
Книгами, в которых ярче всего проявилась постепенно приходившая открытость куртуазной культуры схоластическим знаниям, были появившиеся в огромном количестве переводы. В Париже порыв, направленный на то, чтобы люди, воспитанные в рыцарских традициях и имеющие призвание к этому занятию, могли познакомиться с текстами латинских «классиков» школьной культуры, начался в самом конце XIII века при дворе французского короля. Когда для Иоанна Бриеннского перевели военный трактат Вегеция с говорящим названием «Искусство рыцарства», когда Филипп Красивый заказал перевод «Утешения философией» Боэция, его супруга — сборника стихотворений о любви, написанного на латыни двумя поколениями ранее, а невестка — «Метаморфоз» Овидия, можно было говорить о том, что начался процесс, шедший по трем направлениям. Для короля, по-прежнему чувствовавшего себя членом Церкви, переводились тексты духовной направленности; для знатного сеньора, лучшего представителя и образца рыцарской культуры — трактаты, посвященные военному делу; для дам — кодексы куртуазной любви и их лучшие образцы из классической литературы. Когда, следуя прежним направлениям, это увлечение в XIV веке при дворе Иоанна Доброго, Карла V и его братьев приняло более широкий размах, некоторые произведения Тита Ливия, Петрарки, святого Августина, Боккаччо, Аристотеля, университетских магистров, описывавших «свойства вещей», изучавших загадки материального мира, постепенно проникли в систему культурных представлений, общую для рыцарей и дам, находившихся при королевском дворе Франции. Безусловно, эти авторы были представлены крайне скудно, отрывками, грубо вырванными из контекста, фрагментами, которые наиболее соответствовали мыслям и интересам людей того времени. Тем не менее это было достижением, причем значительным. Навстречу прогрессу развивалось еще одно движение.
При дворах Валуа и некоторых принцев крови среди представителей образованной элиты, вышедших из университетов и, следовательно, принадлежавших к духовенству, в конце XIV века формировалось ядро гуманистов. Оно складывалось вокруг нескольких главных фигур, выполнявших при владетельных особах функции секретаря. Эта должность в Париже была внове. Введенная полвека назад при папском дворе в Авиньоне, она нашла широкое распространение во всех политических столицах Европы, а также в городских республиках Италии. Изначально задачей секретаря было редактировать письменные указы знатной особы, поэтому он должен был в совершенстве владеть чистым латинским языком, для чего требовалось усердно читать классиков. Через некоторое время секретарская деятельность стала касаться исключительно мирской стороны жизни, и представители этой профессии невольно начали рассматривать светские латинские тексты с критических и эстетических позиций и более не считали чтение подготовкой к литургической практике или толкованию Слова Божия, напротив, теперь они находили в них примеры политической жизни, свидетельства человеческой истории, осознавали историческую перспективу во времени; чтение стало главным источником радости и примеров светских добродетелей. На этом достаточно высоком уровне перемена взгляда на мир, повлекшая за собой изменения в методах воспитания и образования, открывала дорогу радикальной десакрализации церковной культуры. Это происходило в тот самый момент, когда адаптированные варианты некоторых текстов, до тех пор лежавших в основе всей системы образования духовных лиц, нашли распространение в высших слоях светского общества. В привилегированных кругах княжеских дворов, которые были краеугольным камнем общественного здания того времени и завораживающим образцом для всех выдвиженцев из Церкви и городской буржуазии, течения обмирщения и опрощения сливались, сближая в повседневных человеческих отношениях стереотипы поведения рыцаря и священнослужителя. В то же время происходило еще более тесное сближение, причиной которого стали изменения внутри каждой из культурных моделей.
В том что касается рыцарской культуры, речь в меньшей степени идет об изменениях и в большей — об утверждении. Эта культура определяется, находит свой стиль и вместе с тем обретает мощь, позволяющую заявить о себе, расцвести и широко распространять свою главную ценность — добродетель радости и оптимизма. На XIV век приходится торжество рыцарского духа. Уже давно были собраны воедино различные составляющие образа совершенного рыцаря, который предлагали куртуазные романы и песни. Самые первые и наиболее глубоко укоренившиеся черты определились в сознании аристократии на заре XI века во Франции в тот самый момент, когда складывалась форма существования общества, названная феодализмом. В фундамент были заложены исключительно мужские и военные добродетели — сила, отвага, верность свободно избранному господину. Помимо этого основного ядра, на первый план выходила способность совершить подвиг, доказательство храбрости и владения военным мастерством, венчающая рыцарские добродетели. Средоточием светской культуры стала засиявшая уже в XIV веке радость битвы, победы, торжества над противником, утверждения своей завоевательной мощи.
Следующая группа добродетелей сложилась к тому времени, когда в высшем обществе изменилось отношение к женщине, занимавшей до тех пор крайне низкое положение. Перемены начались около 1100 года на юго-западе Французского королевства. В кругу военных место прежде всего нашлось для жены господина, для его дамы. В связи с этим начали внедряться новые привычки, куртуазный кодекс поведения, которому отныне должен был подчиняться любой рыцарь, заботившийся о собственной славе и чести. Была изобретена новая форма отношений между мужчиной и женщиной, получившая название западной любви. Война и любовь. Чтобы дать определение рыцарской культуре, я бы выбрал три слова: Canti guerrieri e amorosi (Песни войны и любви [ит.) — так назывались мадригалы Монтеверди, что свидетельствует о том, что их слава не угасла и в барочные времена). Действительно, эта культура прежде всего нашла свое выражение в песнях — о деяниях или о любви. С другой стороны, рыцарская культура предстает как некая стратегия. Так же, как поражают противника, добиваются и любви чужой супруги. На самом деле в обоих случаях стратегия изначально была игрой и со временем все больше становилась ею. Игрой, приносящей развлечения, но требующей соблюдения правил чести, то есть кодекса поведения.
Этот кодекс окончательно сформировался во второй половине XII века. Множество литературных произведений передали его положения тем представителям последующих поколений, которые желали выделиться из толпы. Шедевры рыцарской литературы были созданы ранее XII века. В то время возникли персонажи, ставшие образцами рыцарских мифов, — король Артур и Персеваль. Однако наивысший успех этих произведений и наиболее глубокое влияние, оказанное ими на общественные отношения, приходятся на XIV век. В этот период культурной истории Европы яд, заключенный в рыцарских романах, поистине отравил высшие слои общества. Показные поступки представителей этого класса оказались ограничены строгой системой правил, которые имели все меньше общего со спонтанными проявлениями человеческой натуры. Реальная жизнь треченто — это дикая война, пожары, насилие, вооруженные грабежи, мир, живущий по разные стороны крепостных стен, ощетинившихся копьями, среди разграбленных и разрушенных деревень. Этот мир в точности таков, каким Симоне Мартини изобразил его на втором плане за спиной кондотьера. Тем не менее этот воин желает быть рыцарем — он шествует посреди сражения в праздничном наряде. При Креси, Пуатье, Азенкуре французские сеньоры, цвет аристократии, лучшие люди того времени были обязаны, к их глубокому сожалению, сражаться, соблюдая правила куртуазного кодекса. Государи, потерявшие зрение, во время битвы приказывали привязать себя к седлу и направить лошадь в гущу сражавшихся, чтобы найти там славную смерть[157], подобно героям цикла романов о Ланселоте. Самые кровавые командиры наемных солдат соблюдали при дворе правила куртуазной любовной игры. В тот самый момент, когда экономическое развитие начало приводить к разорению семей старой аристократии, когда прежняя знать опустилась ниже уровня, который занимали некоторые выскочки, разбогатевшие во время войны — в результате финансовых махинаций или на службе у высокопоставленных особ, в тот самый момент, когда рушились прежние иерархии, начали складываться символические и бессмысленные образы прежнего порядка, которые, однако, весьма успешно способствовали соблюдению правил игры. Примером этого могут быть рыцарские ордена, которые кастильские короли, император, вьеннский дофин, короли Франции и Англии, а вскоре и множество правителей меньшего масштаба основывали в XIV веке, чтобы, подобно королю Артуру, окружить себя новыми рыцарями Круглого стола. Для новых людей единственным способом проникнуть в светское общество было проявить в любовных и военных делах совершенное знание правил и безукоризненное их соблюдение. Вокруг отваги и куртуазности в то время сформировался настоящий религиозный культ, единственный, который еще имел власть над сердцами, нашедший развитие в праздниках и зрелищах, в которые превратились сражения, на турнирах и ночных балах. Именно поэтому в XIV веке высокое искусство перестало ориентироваться на церковную литургию, начало отвечать потребностям светского кодекса поведения и, тем самым, закрепило его, немало способствуя его успеху. Быть может, главным новшеством в искусстве того времени стало появление пышной рыцарской культуры.
Эта культура опиралась на некоторые ценности, в самом начале сблизившие ее с культурой духовенства. В эпоху феодализма Церковь предпринимала усилия, чтобы привлечь к христианству рыцарство, как любую другую высшую форму общественных отношений. Среди качеств, необходимых человеку, посвятившему себя военному делу, некоторые, например сила и осмотрительность, были в равной степени востребованы в богословии. Однако духовенство продвинулось по этому пути дальше. Христианство XI века пришло к освящению насилия и агрессии — крестовый поход стал выражением христианской доблести. Церковь приняла войну, поединки на мечах и благословила смертоубийства, но продолжала порицать стремление к земной радости, главными выразителями которого были рыцарство и куртуазная культура. Подобно лучшим представителям монашества, рыцарь должен был презирать золото и преходящие ценности. Но если он желал разрушить эти ценности, он должен был делать это, доставляя себе удовольствие — швыряя деньги на ветер, проводя жизнь в роскоши и празднествах. Что касается куртуазной любви, плотской по определению, в основе которой, в принципе, лежал адюльтер, она в еще меньшей степени, чем военное насилие, сочеталась с евангельским духом. Во всяком случае, Церковь отказалась освятить ее, после некоторых усилий превратив это чувство в поклонение Деве Марии. Духовенство порицало куртуазную любовь. Поэтому рыцарская литература XIII века, то набросив покров иронии, как в романе «Окассен и Николетт», то грубо, как в песнях Рютбёфа, то с наивной свободой, как в произведении Жуанвиля, заявляла о принципиальном конфликте между теми, кого называла ханжами и лицемерами, последователями косного христианства, воздержания и покаяния, и настоящими рыцарями, надеявшимися примирить менее строгие принципы спасительной религии со своей любовью к жизни и миру.
В это время радостное отношение к жизни, свойственное рыцарской культуре, проникло в стан духовенства. В некоторых христианских провинциях это отношение положило начало фундаментальному перевороту в мировоззрении. Франциск Ассизский, сын богатого горожанина, был проникнут куртуазным духом. Как все молодые люди, принадлежавшие к тому же социальному слою, до своего обращения он мечтал о рыцарских приключениях и сочинял веселые песни. Став слугой любви и избрав своей дамой Бедность, он стремился тем самым достичь совершенной радости в соответствии с куртуазной моделью поведения. Францисканское учение, в большей степени, чем другие, соответствовавшее духу Евангелия, было по своей сути полно оптимизма. Торжествующее, лиричное, оно призывало к примирению всего тварного мира, проповедовало милосердие и красоту Господа через любовь к Его творению. Не отрицая ни одного из положений самой строгой христианской доктрины, но в то же время не отвергая мир и, напротив, погружаясь в него, чтобы победить его, францисканство стало высшим выражением радостного порыва рыцарской культуры. Послание святого Франциска оказалось слишком новым и революционным, чтобы быть принятым романским обществом. Часть его утрачена в XIII веке. Но то, что сохранилось, завоевало весь религиозный мир, широко распространилось в Церкви и, выйдя за пределы ордена миноритов, достигло его соперников — братьев ордена проповедников. Когда в XIV веке религиозные мыслители утверждали, что любое творение содержит в себе частицу божества и поэтому достойно внимания и любви, когда доминиканец Генрих Сузо, охваченный лирическим порывом, вызванным Песней Творений, восклицает, обращаясь к Богу:
Дивный Господи, недостоин я воспевать Тебе хвалу, однако душа моя желает, чтобы небо хвалило Тебя, когда в самой своей великолепной красе освещается солнечными лучами и бесчисленным множеством сверкающих звезд. Пусть дивные поля славят Тебя, когда посреди великолепия лета сияют, как подобает им, в пышном цветочном уборе и своей восхитительной красоте,
все они оказываются в одном ряду с Poverello из Ассизи, который в свою очередь связывает их с этикой рыцарской и куртуазной культуры. Ценности рыцарства и куртуазности теперь усвоены не только всеми образованными мирянами Европы, они коснулись и глубинных основ новых форм церковной культуры.
В среду богословов-профессионалов, в мир университетских преподавателей светский дух проникал иными путями. За исключением маленьких светских школ, созданных деловыми людьми в крупных торговых центрах для того, чтобы привить своим сыновьям начала письма и счета, знание которых теперь было необходимо в их ремесле, учеба по-прежнему считалась занятием глубоко религиозным, а университеты — церковными учреждениями. Студентов, как и преподавателей, Церковь считала своими сыновьями. Не все, однако, собирались посвятить жизнь служению Господу. Некоторые факультеты готовили выпускников к светской карьере и были наименее церковным этажом во всем университетском здании. На факультетах, где читали и комментировали тексты из римского права (этим особенно увлекались в школах Болоньи), в течение по меньшей мере двух веков методы схоластического размышления применялись к задачам светского характера, например, таким, которые возникают в процессе управления людьми. Здесь создавались инструменты политической науки, освободившейся от участия духовенства, провозглашавшей верховенство светской власти, власти императора, и отвергавшей притязания Римской Церкви на управление земной жизнью. С 1200 года постепенно происходило знакомство с духом Древнего Рима, его законами, символикой, некоторыми из почитавшихся в ту эпоху добродетелями. Укрепление государств, возникшая у государей потребность в хорошо подготовленных и более многочисленных помощниках способствовали тому, что время, отведенное в университетах на изучение права, постоянно увеличивалось, а следовательно, расширялась и та часть университета, которая была открыта светской жизни.
Однако самые значительные изменения происходили в лоне богословских факультетов в Парижском и Оксфордском университетах, выпускавших лучших служителей Церкви и проповедников. Трещина, через которую должны были проникнуть все веяния свободной научной мысли, образовалась в 1277 году. Решение церковных властей, запретивших преподавание учения Аверроэса, тем самым коснулось и некоторых положений святого Фомы Аквинского. Сомнительными признавались все попытки, предпринимавшиеся в течение полувека парижскими доминиканцами для того, чтобы соединить Аристотелеву философию с христианством и достичь наконец примирения веры и разума, о котором с конца XI века мечтали все мыслители латинского христианского мира. Доминиканский орден выступил против этого запрета. Его генеральные капитулы в 1309 и 1313 годах запретили членам ордена отрицание томизма. В 1323 году орден добился канонизации святого Фомы. Доминиканцы всеми доступными им средствами, и в частности при помощи художественных изображений, стремились добиться признания истинности его учения. Они сумели достичь этого в Италии, где в течение всего треченто университеты хранили верность учению Аристотеля и традиционным схоластическим методам. В Париже и Оксфорде, напротив, позиция ордена проповедников была достаточно шаткой и к 1300 году авангард богословских исследований переместился в соперничающий с ними орден — к францисканцам.
Два минорита — двое английских ученых, получивших образование в оксфордских школах, преподавание в которых издавна велось с упором на изучение математики и наблюдение за окружающим миром, — совершили настоящий переворот в христианской мысли. До сих пор пределом исследований было использование рациональных методов Аристотелевой логики для того, чтобы проникнуть в тайны Сотворения мира. Иоанн Дунс Скотт заявил, что лишь ограниченное число догматических истин может быть основано на разуме и что не следует стремиться постичь остальные — в них следует лишь верить. Вслед за ним Уильям Оккам открыл поистине «новый путь». Его учение радикально противостояло учению Аристотеля. Оккам полагал, что идеи представляют собой символы и не имеют реального выражения, знание может быть лишь интуитивным и индивидуальным, а следовательно, любые попытки абстрактного размышления не имеют смысла, идет ли речь о том, чтобы постичь Бога или сотворенный Им мир. Человек не может достичь этого лишь двумя четко разделенными путями — либо верой, глубочайшим проникновением души в недоказуемые истины, каковы, например, существование Бога или бессмертие души, либо при помощи логической дедукции, применимой лишь к тому, что в этом мире доступно непосредственному исследованию.
Учение Уильяма Оккама, в силу того что оно следовало естественному движению цивилизации своего времени к обмирщению, с наступлением второй половины XIV века вдохнуло новую жизнь во всю европейскую мысль. Оно предлагало двойное бегство от противоречий, навязанных Церковью. С одной стороны, утверждая иррациональность догмы, оно открывало путь постижения Бога не разумом, но любовью. Оно прокладывало широкую дорогу мистицизму, со времен святого Августина питавшему латинское христианство и который, однако, встретил препятствие с развитием схоластики, оттеснившей его в монастыри, францисканские обители и маленькие общины, проповедовавшие аскетизм и покаяние. Христианство XIV века все сильнее склонялось в мистицизм — именно поэтому оно смогло стать истинно народным, доступным для самых слабых, необразованных, простых людей, женщин. Эта религия, став гораздо более личной, в значительной степени утратив общественный характер, начала отдаляться от духовенства. Основным религиозным актом стал теперь поиск Бога в любви, на первый план вышла надежда на соединение, на «брачный союз» самой сокровенной части души каждого человека, тех «глубин», о которых говорит Майстер Экхарт, и божественной субстанции, ибо союз этот заключается в таинственной беседе. И следовательно, какой же здесь может быть роль священнослужителя? Теперь его задача — не богослужение, так как верующий уже не может переложить на другого совершение молитвы, а должен постепенно достичь внутреннего озарения путем приобретения собственного опыта, личного постижения Слова Божия, ежедневного подражания Христу. Миссия Церкви — больше не проповедь, не объяснение. Она ограничивается медитацией и тем, что подает верующим собственный пример. Через священника на верующих нисходит благодать Божия, он свидетель Христов. Требования к священнику выросли, его отношение к власти и богатству не должно было противоречить его новым функциям. Учение Оккама стало залогом успеха любой критики того, что склоняло Церковь соединиться прочными узами с земной жизнью, любых попыток, направленных на то, чтобы ограничить ее притязания, осудить недостойных священнослужителей, доверить светской власти контроль дисциплины в лоне Церкви и заботу о том, чтобы, несмотря на сопротивление, поддерживать в клириках строгую духовность.
С другой стороны, Уильям Оккам, предлагая человеку проникнуть в тайны видимого мира, пользуясь возможностями собственного разума, тем самым провозглашал полную свободу научных исследований. Оккам прежде всего выступал за строгое разделение духовного и светского. Область первого, сердце, остается под духовным контролем очистившейся Церкви. Что же касается области разума, здесь, напротив, следует избегать любого церковного вмешательства. Это учение предполагало освобождение науки из-под гнета Церкви и в то же время освобождало ее от влияния различных метафизик, в частности Аристотелевой системы. Парижский магистр Николай из Отрекура вскоре заявил, что «существует некоторый уровень знания, который люди могут достичь, если будут использовать свой разум не для изучения трудов Философа или Комментатора, но для постижения природы вещей». Новый путь, побуждавший к непосредственному, критическому, свободному от влияния любой заранее принятой системы взглядов, исследованию каждого отдельного явления, оказался необыкновенно плодотворным. Этот путь подразумевал, что факты следует представлять такими, какие они есть, во всем их многообразии, символ абстрактной идеи уступал место истинному образу того или иного явления тварного мира. Учение Оккама напрямую способствовало возникновению того, что в искусстве принято называть реализмом. Поэтому, быть может, следует считать реализм, который в XIV веке начал оказывать некоторое влияние на живопись и скульптуру, следствием некоего иллюзорного «буржуазного духа». Но и искусство того времени, повторим еще раз, не было детищем буржуазии. Его аванпосты находились при княжеских дворах, где в тесном соседстве жили величайшие художники и ученые. Проявившийся в искусстве реализм шел нога в ногу с авангардом университетской мысли.
Мысль эта в своем развитии слилась с глубинным течением рыцарской культуры, заключавшимся в том, что не следовало более обходить вниманием видимый мир, презирать его проявления. Напротив, этот мир становился предметом, достойным исследования. Обе культуры объединяло то, что они призывали реабилитировать творение, цивилизацию, которую некоторые считали достигшей упадка и заката, общество с изменившейся и менее устойчивой структурой, в котором все чаще встречались люди, умевшие читать, способные понимать рассуждение и следить за его нитью, анализировать свои чувства и накапливать собственный религиозный опыт. Новизна XIV века в значительной степени заключалась в оптимизме, во внимании к окружавшим человека вещам. Предстояло найти формы, способные передать это новое отношение.
Чтобы говорить о невидимом, о Божественном разуме и устройстве вселенной, латинский христианский мир изобрел особый язык, который сыграл роль некоего тормоза. В Париже в середине XIII века приказы Людовика Святого способствовали тому, что искусство изображать в камне или на витражных стеклах таинство Воплощения Бога достигло совершенства. Вознесясь на вершину, парижская готика замерла, превратившись в набор простых форм, настолько самодостаточных, что они подавляли любой творческий порыв, подавляли всё, парализуя развитие. В течение двух поколений после завершения строительства часовни Сент-Шапель парижские мастера, казалось, оставались пленниками одного стиля, неспособными отступить от него, чтобы следовать изменениям, коснувшимся мировосприятия образованных членов общества, и новым направлениям мысли. Со времен, когда для Филиппа Красивого переводили Боэция, когда Дунс Скотт преподавал в Париже, а Уильям Оккам развивал свою философскую систему, архитекторы, резчики по камню, витражисты и миниатюристы продолжали следовать образу вселенной, устроенной по законам Божиим, сложившемуся при Альберте Великом, Перотене, Робере де Сорбонне. Блеск Парижского университета, откуда выходили все мыслители того времени, подъем торговли иллюстрированными книгами и статуэтками из слоновой кости способствовали распространению во всей Европе форм, предлагавших устаревшее толкование мира.
В начале XIV века обновление все-таки коснулось общества. Новые силы поступали из двух источников. Во французской готике обозначилась медленно, но неуклонно развивавшаяся тенденция к маньеризму[158]. Становясь все более ревностными приверженцами роскоши и радостного восприятия жизни, меценаты проявляли склонность к утонченности. Желая соответствовать новым требованиям, мастера вносили элементы вычурности в строгие рамки готики, выбирали более дорогие материалы, льстящие тщеславию заказчика, покрывали орнаментом строгие, выверенные архитектурные формы, а главное, начали изменять линии. Именно в изгибах арабесок, родившихся из разобщенности искусства витража и чистого рисунка монументальных изваяний, проявился дух игры, присущий куртуазной культуре, проникнувший в строгий литургический порядок, чтобы вскоре нарушить стройность его форм. Изящная, хрупкая арабеска передавала в позах статуй или — с еще большей выразительностью — в растительных орнаментах, буйно расцветших на полях рукописей, обычаи светской жизни, которые постепенно отодвигали на второй план церковные обряды. Повторяя скачки и кульбиты лошадей, уловки любовного преследования, тысячи эпизодов из приключений странствующих рыцарей, эти линии символизировали стремление к изяществу, радостные поиски удовольствия и развлечений, первые эротические вольности куртуазного общества. В арабеске воплощались его мечты. Однако для того, чтобы вымысел мог соединиться с реальностью, чтобы он вышел за пределы поэтической фантазии, требовалось, чтобы среди разрывов и скачков линий, так же как среди разрывов и скачков гармонии в ars nova, можно было легко узнать строго соблюденные формы реальности. Французская графика обратилась к опыту скульпторов, украшавших капители колонн подлинными изображениями растительности садов и лесов области Иль-де-Франс, а также к недавнему опыту изготавливавших надгробия мастеров, клиенты которых требовали придания могильным скульптурам сходства с покойным. Чтобы передать изобразительный ряд куртуазной культуры, французские художники должны были одновременно использовать символ, поэтическую аллегорию и иллюзию реализма. Нервный, вычурный стиль, который к 1320 году выделился из готического классицизма, неожиданными ходами, словно язык сновидений, соединяет между собой фрагменты реального мира на фоне вымысла и фантазии.
В то время в Центральной Италии происходили еще более революционные изменения. В области, откуда купцы и банкиры управляли самыми прибыльными делами во всей Европе, благодаря введению папской фискальной системы и общим изменениям западной экономики завершалось формирование центра самой могущественной финансовой державы. Сконцентрировавшиеся в Италии средства способствовали расцвету очага художественного творчества, соперничавшего с Парижем и, в противовес французской столице, выдвигавшего оригинальные формы выражения. Италия, в свою очередь, подверглась влиянию Парижа, которое вызвало увеличение экспорта французских произведений искусства. Однако французское влияние оказалось поверхностным. В Центральной Италии художественные традиции покоились на двух основаниях. Во-первых, речь идет о значительном вкладе восточной культуры, выразившемся в субстрате великолепных мозаик и икон, которые Византия оставила в качестве культурных наслоений, последовательно формировавшихся на протяжении всего раннего Средневековья вплоть до XII века. Эта традиция сохранила жизненные силы и по-прежнему питалась из своих истоков благодаря торговым связям, соединявшим эту область Европы с Константинополем, Черным морем, Кипром и югом Греции. Другая, более глубокая основа итальянской художественной культуры, первоначальный пласт, который итальянцы воспринимали как национальное достояние, относился к Древнему Риму, от которого сохранились развалины зданий и множество памятников, активно включенных в повседневную жизнь. Происхождение этого слоя отстояло еще дальше во времени, восходя к эпохе этрусков. Благодаря богатству, стекавшемуся к Папскому Престолу, поддержке кардиналов, покровительствовавших ордену францисканцев, материальной помощи деловых людей Сиены и Флоренции новое художественное направление вышло из-под французского влияния. Оно оторвалось от византийских корней, сбросило извечно порабощавшее его ярмо чужеземной эстетики и, храня верность итальянской родине, обратилось к римским истокам, воскресило античные формы. Это было настоящее национально-освободительное движение. Героем его стал Джотто. В то время как Данте начал писать «Божественную комедию» на тосканском наречии, Джотто (по словам Ченнино Ченнини, флорентийского художника XIV века, первым подвергшего его творчество критическому анализу) «изменил живопись, заставив перейти с греческого языка на латынь». С греческого — иностранного языка, на латынь — родную речь. Следует отметить, что прежде Джотто этим языком уже начали пользоваться скульпторы. Первыми были скульпторы, которые начиная со второй половины XIII века по приказу императора Фридриха II возрождали в Кампании искусство цезарей; за ними последовали пизанские ваятели. Пиза, обогатившаяся в результате удачных предприятий в восточных морях, стала главным городом на пути германских правителей, державших путь в Рим, чтобы получить императорскую корону, городом более царственным, нежели сам Рим, где императорской власти противостояла папская. В апсиде Пизанского собора рядом с фигурой императора было помещено изображение города в образе королевы-матери, преклонившей колени перед Богоматерью. Построив после 1310 года кафедру в соборе, Джованни Пизано также поместил в ее основание статую, изображавшую город, которую поддерживали четыре фигуры, символизировавшие добродетели; напротив нее находилась скульптура Христа, поддерживаемого четырьмя евангелистами. Гражданская гордость соединялась здесь с преданностью империи и способствовала возрождению римской пластики.
В художественном языке на пороге XIV века прослеживаются два новых течения. Во Франции появляется веселая грациозность, гибкость и мягкость, непринужденность, как, например, в осерском «Эроте» или страсбургском «Искусителе»[159]. В Тоскане, Умбрии, Риме искусство имело более суровый тон, в нем звучало непоколебимое величие, могущество светской власти. Оба новых направления отразились прежде всего в камне, однако вскоре они воплотились и в живописных произведениях, так как искусство повсеместно приобретало черты повествования и становилось своего рода иллюстрацией. Оба течения означали вторжение в искусство ценностей светского общества. Но если изменения, коснувшиеся готики, означали лишь медленную трансформацию обычаев, то вторжение рыцарских и куртуазных правил поведения в церковные обряды и придворные церемонии, проникновение францисканского радостного отношения к жизни в религиозную жизнь, а также постепенная реабилитация тварного мира и возрождавшийся римский дух означали резкий разрыв традиции. Торжествующая Италия князей Церкви, викариев, обладающих властью, глав городов, кондотьеров, ростовщиков, торговых компаний, городов, окруженных башнями, холмов, на которых возникали огромные амфитеатры террас, оливковых рощ и виноградников — эта Италия не просто усвоила новый художественный язык — она произвела в нем переворот. То, что итальянские купцы и деловые люди распространяли при дворах других европейских правителей, поставляя туда предметы роскоши, то, что Италия являла паломникам, прибывшим в Рим, правителям Франции и Германии, стремившимся в Италию в поисках удачи, дало мощный стимул движению общества к освобождению от религиозного влияния. Итальянские художники находили в древних образцах секреты создания иллюзий и обмана зрения, открывавших ложную сущность символов. Созданные, чтобы прославлять мирскую славу, чтобы провожать мертвых в страшный, но лишенный таинственности загробный мир, римские скульптуры и их этрусские прообразы говорили о божественной природе человека. Они утверждали его победу над миром, его власть и богатство, призывали перестать поклоняться служителям Церкви. Они еще не говорили об отрицании Бога, но предлагали посмотреть Ему прямо в лицо.
Язык пизанских мастеров — Каваллини, Арнольфо, Джотто, Тино ди Камайно — выражал надежды итальянских гибеллинов и стремление коммун крупных городов к независимости. Этот язык прекрасно послужил Папе Бонифацию VIII, когда тот решил объявить об исключительности папской власти и о том, что Святой Престол, подобно Римской империи, занимает в мире главенствующее место. К нему же прибегли кардиналы, руководившие большой стройкой в Ассизи, когда им понадобилось по-своему истолковать учение святого Франциска, обезоружить его, превратить Poverello в героя, проповедовавшего римское превосходство в мире. Однако новый художественный язык был слишком высокопарным и новым. Он не был понятен тем, кому успехи тосканской экономики лишь недавно открыли дорогу к высокой культуре. Людям, жившим по другую сторону Альп, этот язык казался абсолютно чужим. Помимо перечисленных причин, Запад XIV века не принял новый язык для выражения происходивших в нем изменений и в силу того, что влияние готики было еще очень сильно, римский дух не соответствовал куртуазным настроениям, а движение в сторону светской жизни продолжало идти в ногу с опрощением общества, что требовало использования образов, более доступных всеобщему пониманию. Новые художественные формы, возникшие в Тоскане и Риме к 1300 году, сыграли роль своего рода фермента, ускорившего развитие французских художественных средств. Они помогли искусству Франции освободиться от сковывавших его движения церковных покровов. Следует добавить, что в Центральной Италии не чувствовалось влияния новых живительных веяний, так как перенос Папского Престола в Авиньон, медленный упадок Пизы, поражение имперской политики, потрясения, которые флорентийское общество пережило в результате целой череды банкротств, наконец, бедствия, вызванные эпидемиями чумы, вскоре исчерпали силы этого края. То же самое можно сказать и о Париже, где традиции готики пустили глубокие корни. Иначе обстояло дело лишь при некоторых княжеских дворах, где новые тенденции, пришедшие из Италии, не вступили в конфликт с рыцарской культурой. Постоянное культурное влияние, оказываемое на эти дворы, превратило их в основные пункты на пути обновления художественных выразительных средств.
Неаполитанский двор, где правили французские принцы, первым принял на себя эту роль. Здесь работали Каваллини и Тино. Можно предположить, что Симоне Мартини именно здесь обогатил свой стиль новыми линиями, подсказанными образами и вымыслом куртуазной культуры. Некоторое время спустя Папа Климент VI начал в Авиньоне самую грандиозную стройку того века. Так произошла встреча мастеров, прибывших с севера Франции, и итальянских декораторов. Руководил строительством Симоне Мартини, самый известный из живших тогда мастеров. Он умер в 1344 году. От фрески, созданием которой он руководил, почти ничего не осталось, за исключением нескольких великолепных эскизов, выполненных сангиной по грунтовке. К 1368 году основные работы были завершены мастерами под руководством другого итальянского художника, Маттео Джованетти да Витербо. Предпринятая им первая серьезная попытка слияния готической лирики и пространственных достижений тосканской живописи увенчалась успехом. Его произведение находилось на скрещении крупнейших путей всего мира, где так или иначе оказывались все правители и прелаты со своими свитами, уезжавшие из Авиньона с дарами, полученными от Папы и кардиналов. Синтез культур, достигнутьй Маттео в Авиньоне на самом пике треченто, в самом центре христианского мира, стал вехой в истории искусства. В то время император Карл IV, потомок Карла Великого и наследник цезарей, пропитавшись парижским духом и будучи, как его двоюродные братья из французской династии Валуа, щедрым покровителем искусств, любителем драгоценных камней и предметов роскоши, пригласил к своему пражскому двору архитектора Матье из Арраса, художников Томмазо да Модена и Николая Вурмсера из Страсбурга. Чешские мастера многому у них научились. Чехия уже не была страной земледельцев и свинопасов. Она стала богаче и более открытой миру. Прага превратилась в центральный узел огромного сплетения торговых отношений; церковные и светские князья, получавшие доходы от своих владений, заказывали местным мастерам предметы роскоши, окружавшие их в повседневной жизни. Вскоре после наступления 1350 года неизвестный автор Вышебродского цикла создал свой шедевр, привнеся величественность в рисунок французских витражей, а мастер Теодорик наделил лики святых необыкновенной экспрессией, отказавшись от потустороннего выражения лиц, свойственного готической эстетике. Наконец, в течение последней трети столетия центрами, где происходило слияние художественных традиций, стали дворы «тиранов» Северной Италии. Князья, присвоившие себе власть над городскими коммунами и находившиеся в тесных отношениях с парижским двором, желали служить образцом рыцарства и изысканности. Так же, как и правители областей, расположенных севернее Альп, они страстно любили лошадей, охотничьих собак, всей душой отдавались хитросплетениям любовных интриг. При них происходил последний расцвет поэзии и рыцарских романов, пришедших из Франции. Но они яснее, чем парижская знать, видели истинную славу Древнего Рима. В этой стране творил Джотто, Италия древних гробниц была совсем близко. Художники, нанятые миланскими синьорами и веронскими патрициями для работ в библиотеке, в ломбардских творениях довели до совершенства методы передачи перспективы, которыми пользовалось античное искусство. Здесь более уверенно, чем где бы то ни было, реалистичное отражение действительности заняло место среди куртуазных арабесок.
В 1400 году Париж стал самым благоприятным местом для завершения синтеза стилей, готовившегося на протяжении всего треченто при дворах европейских правителей. Он мог распространить плоды этого слияния среди всей западной аристократии, которую праздники, турниры, летние крестовые походы в Пруссию и бесконечные странствия военных отрядов из одной провинции в другую превратили в единое целое, имевшее общие язык, обычаи, стремления и вкусы. Долгие войны с Англией завершились в пользу французского короля. Увеличилось его могущество, а главное — богатство, так как фискальный механизм, сформировавшийся на фоне затяжных вооруженных конфликтов, направлял в казну золото, которое король мог тратить по собственному усмотрению. После смерти Карла IV империя пришла в упадок. В результате раскола появилось два Папы Римских. Ничто больше не поддерживало абсолютное главенство дворов герцогов Анжуйского, Беррийского и Бургундского и двора их племянника — короля Франции.
Сказочные заказы короля и герцогов привлекали художников в Бурж, Анже, Мелен-сюр-Йер, к дижонским картезианцам, но особенно—в Париж. Ломбардцы принесли влияние новых течений, секретов перспективы, приемов конкретного восприятия, точной передачи особенностей мира, окружавшего человека, примером которой могут служить веронские иллюстрации «Tacuinum Sanitatis»[160]. Они научили мастерству перспективы нидерландских художников, которые следовали по стопам резчиков по камню, изготавливавших надгробные изваяния. Голландцы перенимали новые приемы, пользовались ими с меньшей тонкостью, чем их учителя, но с большим напором: их произведения отличались лаконичностью, а подчас острой наблюдательностью, свойственной сельскому жителю. Новые веяния, пришедшие с юга и севера, соединились в Париже с изысканностью готической традиции, и торговля произведениями искусства, подарки, которыми обменивались правители, а также блеск королевского двора распространили новые формы, появившиеся в результате слияния этих культур, до самых окраин латинского христианского мира.
На протяжении всего этого периода, но особенно тогда, когда подобное слияние ознаменовало его конец, проявилось бесспорное первенство выразительных форм, пришедших из Франции. В этом не было ничего удивительного. Источником светского могущества, сил, игравших главную роль в культуре XIV века, был не Рим, а рыцарство. Родиной рыцарской культуры была Франция, формы ее выражения были французскими и на Кипре, и в Памплоне, и в Виндзоре, и во Флоренции. Поэтому язык, распространившийся в 1400 году по всей Европе, оказавший влияние даже на Тоскану, был языком готических форм. Линейный, вычурный, игнорировавший понятия веса, прочности, пустого пространства, он не воспринял практически ничего из вновь открытых римских форм, за исключением, быть может, некоторых приемов, позволявших точнее передать внешний облик предметов. Меценаты требовали от художников не произведений, полных сурового величия, но образов, выражающих радость, которую приносит жизнь, — иными словами, перенесения реальности в область фантазии и игры, процесса, подобного тому, который в течение долгого времени происходил в структуре общества, выдвигая на передний план добродетель отваги и правила куртуазного поведения. Этим требованиям отвечала прочная связь, соединившая арабеску и художественные приемы создания обмана зрения.
При помощи арабесок и обманок[161] художники XIV века достигали в полном смысле слова куртуазной выразительности. В то же время они освобождали художественное творчество от влияния религии, постепенно приходя к тому, что отправной точкой становился сам человек. Главное здесь следующее: новое искусство, даже если оно выполняет религиозные функции, обращено уже не к священнослужителю, а к любому индивиду. Когда Джотто приступил к созданию картины о жизни Христа, он представил ее эпизоды как спектакль, происходящий на театральной сцене в окружении символического декора. Его искусство было не более реалистично, чем искусство соборов. Однако созданный им мир уже не был миром литургии и сверхъестественного. Он становится миром человека. В нем развертывается история, прожитая людьми, история человека Иисуса и женщины Марии. Находящиеся на одном плане с ними другие действующие лица — обычные люди, которые поднимаются до уровня живого Бога лишь благодаря возвышенности своих чувств. Таким образом Джотто передает в героической и римской манере некоторую, быть может главную, часть францисканской философии — усилия, совершаемые человеком, чтобы жить как Христос, как Бог, как божество. Однако столетием позже патетическое искусство создателя «Часослова Роанов», выразившего готическими линиями скорбь страждущего Христа, в равной степени доходит до совершенства, но в противоположном смысле, изображая божественные фигуры как людей.
В соответствии с утверждениями мистика Таулера, люди путем смирения могут настолько приблизиться к Богу, что сами становятся «божественными». Такая близость к Богу, воплотившемуся в жизни и страдании Своего творения, влекла за собой победу над многими запретами, наложенными Церковью на свойства человеческой натуры и удовольствия от жизни. Освободившись от влияния духовенства, новый человек стремился продолжить беседу с Христом на более глубоком уровне и в то же время желал вкусить радостей мира. Двойному пути, мистическому и естественному (открытому Уильямом Оккамом), в повседневности соответствовало двойное отношение к жизни. Герцог Людовик Орлеанский и королева Изабелла Баварская купались в светских праздниках. Однако Людовик иногда уединялся в келье монастыря, принадлежавшего целестинцам, ордену, ведущему самый аскетический образ жизни, и посещал по пять богослужений в день. По приказу Изабеллы Баварской для ежедневной медитации был составлен текст о Страстях Господних. Карлштейнский замок, построенный императором Карлом IV как реальное воплощение увиденного им сна, развернут к лесам Чехии. Попасть в него можно через ряд дворов, в которых проводили турниры и держали своры охотничьих собак. Однако дорога в замок, постепенно поднимаясь подобно пути к мистическому озарению, ведет к Святой часовне, предназначенной лишь для императора и его уединенных бдений перед реликвиями Голгофы. Восхождение к неземной реальности, мысль о которой начинает преследовать человека, в действительности разделило людей. Избавившись от долгих литургий, человек треченто становится узником себя самого. Радость жизни оборачивается тревогой, которую эта жизнь внушает. Человек ищет убежища в праздниках или в любви к Богу, изо всех сил стремясь представить Его снисходительным и милостивым. В искусстве, как в жизни, человек разрывается между желанием подражать Христу и жаждой обладать миром.
2 Подражание Христу
В значительной степени новизна XIV века заключается в обновлении религиозного восприятия мира и в новых формах религиозности, ставших итогом великого средневекового обращения в христианство. Проделав долгий путь, первый этап которого начиная с XI века был отмечен волнениями еретиков и который внезапно завершился проповедью Франциска Ассизского, христианская религия в конце концов перестала ограничиваться ритуалами и быть делом лишь священнослужителей. В XIV веке она стала привлекать к себе народные массы. Как мы уже говорили, начался период избавления от влияния Церкви. Однако это не было отходом от христианства. Наоборот, к христианству проявлялся все более сильный интерес, отношение к нему становилось более личным, более глубоким благодаря распространению и укоренению в сознании евангельского учения. До тех пор в Европе существовала только видимость христианства. Лишь очень немногие действительно жили в соответствии с учением Христа. С кардинальным изменением отношения к миру христианство становится народной религией.
В связи с этим христианство стало более наивным. Приобретая грубые формы народной религии, оно тем самым в определенной степени защитило себя от колебаний в вере. В толпах, наконец пришедших к Христу, и впрямь было больше наивности, чем в монастырях, соборных капитулах, университетских факультетах, меньше склонности к сомнениям, крепче вера в существование неземного могущества. Христианство XIV века было вооружено против искушений неверия. Однако спустившись со своих высот, оно стало более подвержено влиянию страха. Религия великих священнослужителей XIII века победила этот страх. Она спокойно развивалась, озаренная светом и надеждой. Напротив, в религии народа, который Церковь принимала в свое лоно и пыталась приучить к дисциплине, большое место занимали сумрак и страх. Из тьмы выступили демоны, которых свет готики прежде оттеснял в дальние углы соборов и которые нашли тайное прибежище в сектах еретиков, в лесах, близ деревьев, на которых жили феи, или около чудесных источников. Миряне XIV века боялись их так же сильно, как и Небесного Судию. Религиозная жизнь, в которой все меньше внимания уделялось совместным богослужениям, выдвигает на первое место в повседневной жизни совершение религиозных профилактических действий, которые должны были отогнать злые силы и привлечь божественное милосердие. В новом христианстве миряне уже не молчаливые и бессознательные зрители богослужения. Все члены светского общества, знать, Изабелла Баварская, тюрингские рыцари-грабители, образованная женщина Кристина Пизанская, итальянские банкиры, ее соотечественники, ганзейские купцы, владельцы крупных ферм и даже городские ремесленники в соответствии со своими возможностями участвовали в религиозной жизни. Художественное творчество было одной из составных частей этой жизни. Служа прославлению, горячему поклонению, выразившемуся в жертвенности, в неприятии богатства, в надежде заслужить милость Господа или спасительное заступничество, художественное творчество более чем когда-либо выполняло религиозную функцию.
Одной из главных перемен было то, что творчеством теперь управляло светское общество. Независимо от любых экономических и социальных изменений, краткий анализ которых приведен выше, отношения между духовенством и верующими стали радикально иными. В течение столетий церковные институты на Западе функционировали как инструменты духовной компенсации. Священнослужители и монахи молились за всех мирян, живя за их счет, и своими молитвами добивались милостей, которые затем распределялись среди остальных христиан. Совершая пожертвования в соответствии с установленным тарифом, каждый верующий приобретал для себя или своих близких определенное количество благодати и надеялся, что в Судный день оно поможет уравнять чаши весов. При входе в большие церкви изображение архангела Михаила, взвешивавшего души, напоминало об искупительной ценности подобной сделки. Для всеобщего спасения духовенство и монахи создавали памятники церковного искусства, имевшие действительно всеобщее значение.
Успех еретических учений в среде наиболее образованных мирян, стремившихся изменить свое пассивное положение в обществе, в XIII веке заставил Церковь возобновить пасторскую деятельность. Она уже не могла опереться на плохо образованных приходских священников, не имевших призвания к пастырскому служению, которые все чаще не проповедовали среди своей паствы, но лишь получали плату за услуги. Не могла Церковь опереться и на остальных живших в бедности священнослужителей. Лишь нищенствующие ордена поддерживали, по крайней мере в городах, происходившее обновление и совершенствовали методы привлечения и просвещения масс.
Стремясь собрать мирян в объединения, отличавшиеся большей активностью, чем обычные приходы, минориты и проповедники вовлекали в свои третьи ордена тех, кто, не имея возможности вести монашеский образ жизни, тем не менее стремился жить по христианским заповедям, а не оставаться сторонним, ничего не понимающим наблюдателем. Среди членов третьих орденов (терциариев) многие были в прошлом последователями еретических сект или неминуемо должны были бы там оказаться. Менее ревностные христиане начали объединяться в братства, гильдии, некие сообщества, члены которых оказывали друг другу помощь и совершали совместные трапезы, которые Церковь в течение долгого времени осуждала как прибежище языческих суеверий, но в XIV веке начала поддерживать и контролировать. Повсюду расцветали разнообразные братства, образовавшиеся вокруг некоего источника света, ровное горение которого обеспечивали общие пожертвования, или объединившиеся под защитой святого покровителя. Это были цеховые, районные и приходские братства, благотворительные и занимавшиеся делами милосердия сообщества, группы каявшихся, придерживавшихся строгого поведения, группы верующих, возносивших хвалу Господу, подобно итальянским laudesi[162], проповедовавшим благочестивую смерть, основным занятием которых было распевать «laudes», хоровые песнопения, и представлять для назидания братьям главные сцены евангельского повествования — Рождество или крестный путь, как правило отличавшиеся умелой постановкой. Терциарии и многочисленные братства предлагали своим членам, то есть большинству мирян, живших в городах, и значительной части сельских жителей духовную жизнь, сходную с монашеской, — уединенную, отгороженную от общества стенами монастырского сада, героическую борьбу за собственное спасение, проходившую в ежедневном самопожертвовании и упражнениях, пении псалмов и чтении молитв. Новое пастырское учение призывало верующих молиться самим, самостоятельно произносить слова священных текстов, читать и проникать в их смысл. Новое учение открывало мирянам богослужение, совершаемое в монастырях и соборах, перенеся его в повседневную жизнь, поместив в глубины сердца.
Стремясь воспитать народ и придать разумность обрядам, совершаемым в различных братствах, нищенствующие ордена широко использовали такие средства массового воспитания, как проповедь и театр, тесно соединив их друг с другом. Когда святой Франциск открыл, что ему недостаточно достичь собственного спасения и что Христос поручил ему распространять Свое учение, он начал проповедовать. Он не был священником и говорил о раскаянии, любви к Богу и совершенной радости так, как это сделал бы бродячий артист. Его услышал весь мир. Затем он послал своих учеников бродить по дорогам и местам, где велось строительство соборов, вооружив их теми же простыми словами. Что же касается святого Доминика, он основал свой орден именно как проповеднический. Чтобы победить проповедников-еретиков, живших вместе с народом и говоривших на одном с ним языке, их же оружием, образованные доминиканцы сумели превратить обычную соборную и монастырскую проповедь, трогавшую сердца лишь духовенства, в мощное оружие, служившее обращению верующих на истинный путь. Они отказались от ученого языка риторики в пользу обыденной речи. Они упростили темы проповеди, опустившись на уровень самого простого слушателя. Подобно еще одному монашескому упражнению, чтению молитв каждого часа, проповедь вышла за пределы монастырей и замкнутых религиозных общин XIII века, чтобы распространиться в народе. После 1300 года роль народной проповеди продолжала возрастать.
К восьмидесятым годам XIV века относится начало великих миссионерских экспедиций и странствий проповедников. Этих людей, предваряемых славой об их духовных подвигах, встречали у ворот все горожане. Церкви или площади заполнялись слушателями, горячо внимавшими каждому их слову. Собравшиеся ждали чудес, изгнания чумы, но особенно — очищения своей жизни, открытия пути к благочестивой смерти. О францисканце брате Ришаре, проповедовавшем в Париже в 1429 году, говорится:
Он начинал свою проповедь утром около пятого часа и заканчивал между десятым и одиннадцатым, и каждый день его слушали пять или шесть тысяч человек. Он говорил, стоя на помосте высотой примерно в туаз с половиной, повернувшись спиной ко рву, заполненному трупами, лицом к Шароннери, к изображению «Пляски Смерти»[163].
Эти люди, волновавшие народные толпы, часто прибегали к банальностям. Они желали, чтобы слушатели плакали, внимая им, стремились затронуть потаенные глубины души, вызвать эмоции, способные привести к массовому обращению. Уиклиф описал весь арсенал незамысловатых хитростей, к которому они прибегали, Чосеров Продавец Индульгенций оказался обычным шарлатаном. Но благодаря их нескончаемому красноречию в сердцах народа запечатлевался трогательный и близкий образ Христа. Этот образ был тем более убедителен, что фоном проповеди служило представление, народное гуляние. Проповедь проходила в окружении наглядных символов, живописных или скульптурных, религиозных процессий, смешивалась с театральным действом.
Театр возник из богослужения. Начиная с X века театральное представление стало переложением литургии, доступным пониманию простого народа. Тем не менее его подъем и массовое распространение относятся к XIV веку и идут параллельно с распространением проповеди. Приуроченные к двум главным христианским праздникам, Рождеству и Пасхе, а также к дню святого покровителя города или цеха, бесчисленные «sacre rappresentazioni»[164], мистерии, разыгрывались в итальянских братствах в виде картин, которые, постепенно оживая, смешивались с процессиями. Они начинали отличаться все более умелой постановкой, на сцене звучал диалог, появлялась музыка, декорации. Речь здесь шла об упражнениях, к которым допускались лишь члены религиозного братства и которые должны были способствовать их особому духовному росту и вызывать особый отклик в их сознании. Изображая страдания Христа, легче было понять все значение Его жертвы, отождествить себя с Ним. В конце века, с началом первых массовых проповедей, театр еще более укрепил свои позиции. Он утвердился в своем предназначении — коллективном прославлении Бога. В Париже, Лондоне и других крупных городах братства основывались именно для того, чтобы ежегодно устраивать большое представление в напоминание о Страстях Господних. Начались пятьдесят самых плодотворных лет в истории религиозного европейского театра.
Игра на сцене, декорации, пение, процессии бичевавших себя монахов, речь и жесты проповедников обращались не к разуму. Их целью было взволновать, растрогать, пробудить спасительный страх в сердце каждого человека. Находясь среди членов братства, среди людей, внимающих проповеди или созерцающих таинство, каждый человек чувствует себя участником происходящего. Речь идет о его душе, грядущей встрече со смертью, о личном спасении. Дело касается его самого, его ответственности и вины. Уходя корнями в глубь эмоций и чувств, новое, уже не столь безмятежное, как раньше, христианство, пронизанное священным ужасом, стало гораздо более личным. Оно теперь приобрело форму диалога, беседы кающегося со священником, совершаемого шепотом покаяния, признания своих грехов и их отпущения, разговора души с Богом. Проповедью, театральными представлениями, всеми способами прямого воздействия нищенствующие ордена отвлекали верующих от Церкви, их главной соперницы. Они использовали в своих целях антицерковные настроения еретиков, которых некогда стремились обратить в истинную веру, а теперь должны были препятствовать возрождению их учений.
В христианстве XIV века все эти настроения вырвались на свободу и расцвели. Иногда это приобретало угрожающий размах. В южных областях Европы, где тлела искра катарского учения и ереси вальденсов, в Италии и Провансе целая ветвь францисканского ордена встала в резкую оппозицию авиньонским Папам. Назвав себя спиритуалами[165], отступники проповедовали верность духу основателя ордена. Но они выражали также и свою веру в наступление третьего века, почерпнутую в писаниях калабрийского отшельника Иоахима Флорского. Вслед за веком Отца, за веком Сына, по пророчеству святого Франциска, наступит век Святого Духа. С наступлением Его царства посредники — духовенство — становятся ненужными, так как все верующие находятся под покровительством Святого Духа — дух которого искажает Римская Церковь. В Рейнской области те же настроения переживали общины бегинов и братьев Свободного духа, которых епископы в 1326 году подвергали преследованиям и сжигали на кострах за то, что те утверждали свободу совершенных и единство души с Богом, достигаемое мистическим слиянием.
В силу природного покоя, который они чувствуют внутри себя, и того, что не предаются никаким занятиям, они считают себя свободными, без посредников достигшими единства с Богом, вознесшимися над опытом, накопленным святой Церковью, над Божьими заветами, над законом.
Их учение находило своеобразный отклик в доминиканских женских монастырях, где проповедовал Майстер Экхарт, который сказал в одной из своих проповедей на народном языке:
Могущество Святого Духа берет все, что есть самого чистого, тонкого, возвышенного, искру, горящую в душе, и разжигает высоко возносящимся огнем любви; так же происходит и с деревом — мощь солнца берет самое чистое и тонкое от корней и, поднимая к ветвям, превращает в цветы. Точно так же искра, горящая в душе, возносится, окруженная светом и Святым Духом, от первого места своего обитания. Она обретает полное единство с Господом, стремится к этому единству, она находится в большем единении с Богом, чем пища с моим телом.
Позже, в конце века, противостояние церковной иерархии становится более резким и выраженным в Англии и Чехии. В глазах Уиклифа и его последователей — лоллардов[166], в глазах слушавших их рыцарей духовенство, погрязшее в пороках, утратило авторитет. Сущность религиозной жизни заключается в поклонении брату Христу, поклонении, основанном на чтении Евангелия. Следовательно, возникла необходимость перевести Слово Божие на народный язык, чтобы оно могло достичь слушателей. Наступает время Яна Гуса. Он поддержал глубинные течения в народе, ожидавшем прихода Мессии. Благодаря этому незадолго до начала насилия и кровопролитий ему удалось создать на символической горе Табор коммуну детей Божиих, основанную на принципах братства и равенства. Члены ее считали себя озаренными Святым Духом и жили в ожидании скорого наступления конца света. Став гораздо менее заметным, лишившись воинственности и шатаний, это движение обрело свое истинное значение в Голландии, превратившись в то, что было справедливо названо «современной религиозностью». Вдоль берегов Рейна небольшие общины «друзей Господа» принимали в свои ряды мирян, священников, монахов-доминиканцев. Они помогали друг другу жить по особым правилам, в духе всеобщего братства во Христе, отказываясь от мирских ценностей, в результате чего должно было наступить озарение. В «Духовном браке» ван Рюйсбрук предлагал общинам, стремящимся достичь единения с Христом, путь полного отречения от мирских благ.
Человек, живущий истинно духовной жизнью, обращает внимание лишь на свою душу. Он свободен от привязанности к земным вещам, его сердце с трепетом открывается навстречу бесконечной Божественной милости. Тогда разверзаются скрытые небеса. Божественная любовь, подобно молнии, поражает открытое сердце внезапной вспышкой света. В этом свете Святой Дух обращается к сердцу, полному любви: «Я принадлежу тебе, ты — Мне, Я обитаю в тебе, и ты живи во Мне».
Именно в Братстве общей жизни[167], которое создал Геерт Грооте, долго колеблясь между отшельничеством ван Рюйсбрука и строгостью цистерцианского устава, была около 1424 года написана духовная книга, имевшая самый продолжительный успех в светском обществе, — «О подражании Христу».
Стремление предаться медитации, которая теперь имела целью не проникнуть в божественные тайны, но слиться с Христом в Его человеческой природе, ступень за ступенью соединиться с Ним нерушимыми узами, вовсе не исключало вмешательство духовенства. Действительно, самым легким путем соединения с Христом была Евхаристия. Следовательно, сохранялась потребность в совершении некоторых обрядов. Литургия, образно являвшая картину Страстей Господних, во время которой верующие надеялись увидеть, как некогда в Больсене, кровь, брызнувшую из гостии, и лик Страждущего Богочеловека, проступивший на чаше, продлившееся поклонение corpus Christi[168], длинная торжественная процессия в Праздник Тела Господня[169] приобрели особое значение, требовавшее участия духовенства в религиозной жизни. Тем не менее главное место занимали личные духовные достижения — молитва, благоговение сердца и постепенное восхождение души к Богу. В связи с этим обретают смысл новые формы религиозного искусства.
Для совершения коллективных христианских обрядов в XIV веке было построено множество просторных зданий. В тех областях Европы, где сельская знать продолжала процветать, в Англии и Испании, аббатства и соборные капитулы иногда занимались обновлением своих храмов. Кроме того, помощь общинам поступала от щедрот прелата, покровителя или, как в Южной Франции, от самого Папы. В монастырях, залах, где заседал капитул, в нефах, предназначение которых оставалось прежним, никто не стремился изменить структуру здания. Новшества ограничивались добавлением позолоченного декора, прославлявшего дарителя, или же изысканным украшением амвона и окружавшей его решетки. В Толедо, в Капилла Майор, великолепная, но непроницаемая ограда амвона окружала совершавших богослужение, отделяла распевавших псалмы, отрезала их от остального народа. Развиваясь, высокое церковное искусство продолжало подчеркивать пропасть, разделявшую прежде духовенство, совершавшее богослужение, и народ.
В городах, однако, продолжали строить большие храмы. Городские коммуны желали способствовать прославлению родного города, и с этой целью возводили приходские церкви, которые, оставляя маленьким квартальным часовням роль местного святилища, могли вместить всех жителей города и представителей городской власти во время светских или религиозных праздников. Центральные коллегиальные церкви[170] фламандских городов, Сент-Мэри-Рэдклиф в Бристоле или Тын, пражская купеческая церковь, могли соперничать с соборами. Они были возведены как памятники, утверждавшие величие своих основателей, их высокие своды и колокольни возносятся как символы могущества. Рядом с ними появлялись другие церкви, выполнявшие сугубо духовные задачи и более соответствовавшие новым веяниям, — это были церкви нищенствующих орденов. Возникнув в пригородах любого мало-мальски значительного города, общины серого, черного или белого монашества (францисканцев, доминиканцев, августинцев, кармелитов) возводили просторные церкви, как правило разделенные на два нефа, один из которых предназначался братии, а другой — мирянам. В этих храмах новые формы нашли широкое применение.
Они символизировали отречение от мирских благ, путь бедности, избранный этими орденами. Снаружи отсутствовали аркбутаны, все было совершенно голо, четко выстроенная форма строго соответствовала предназначению храма и поэтому была прекрасна. Те же простота и единство были характерны для внутреннего пространства. Если нефов было много, все они имели одну высоту, так как миряне и духовенство равны перед Богом. Друг от друга их отделяли лишь редкие, тонкие колонны — следовало собрать воедино народ и любящей его братии монахов. Новая архитектура в своем стремлении привлечь как можно большее число верующих к участию в богослужении развивалась, отрицая само понятие амвона. Она разрушала любую ограду, убирала перегородки. Необходимо, чтобы каждый мог отовсюду слышать проповедь, видеть Тело Христово и даже читать. Окна становятся шире, а витражи, в которых встречается все больше желтого и серого цвета, — еще прозрачней. Рассеивается полумрак, в котором горели свечи и раздавалось пение хоралов. Лишенная украшений, строгая, просторная и хорошо освещенная церковь нищенствующих орденов (ее структуру вскоре переняли коллегиальные городские церкви и даже новые соборы) становится местом встречи, идеально подходившим для внешнего, зрелищного проявления религиозной жизни. Вдоль боковых стен вытянулся ряд внутренних часовен, предназначенных для молитв братии или отдельных семей.
Изначально часовня была местом молитвы короля — правителя, наделенного харизмой и чудотворными способностями. Помазанный на царство монарх, долгое время остававшийся единственным мирянином, имевшим право молиться наравне со священнослужителями, как епископ в соборном капитуле, был окружен целым корпусом домашних клириков, непрерывно совершавших литургию. Главным местом богослужения была часовня, где у короля имелся свой трон, свое кресло, своя кафедра, подобная епископской. Его окружали придворные. Перед ним находились принадлежавшие ему святыни. Монарху, стремившемуся увеличить свое могущество как посредника между Богом и народом, подобало окружить себя множеством частиц мощей. Таким образом, часовня выполняла также, и может быть прежде всего, роль хранилища святынь. Действительно, она была неким ларцом, выполнявшим двойную функцию — хранение и демонстрацию святых мощей. Поэтому стены часовни украшали драгоценностями, которые озаряли бы святыни блеском, а короля, восседавшего на троне в окружении символов своей власти, — величием. Такова была часовня, которую Карл Великий велел построить в ахенском дворце по планам часовен Восточной Римской империи. Такова была часовня Сент-Шапель, возведенная коронованным монархом Людовиком Святым для того, чтобы хранить терновый венец Христа, строительство которой стало завершающим этапом королевского церковного искусства.
Европейские монархи подражали этому образцу в течение всего XIV века. Английский король Эдуард III, желая показать свое могущество французскому государю, ровней которому он хотел быть, начал, как только сумел вырвать власть из рук своей матери, в Вестминстере, близ могилы Эдуарда Исповедника, которого велел почитать как равного заслугами Людовику Святому, строительство часовни в честь святого Стефана. Король Чехии Карл IV, решив возродить могущество императорской власти, которой он был наделен, приказал выстроить Карлштейн. Венцом сказочного замка стал украшенный золотом и драгоценными камнями зал для хранения реликвий, стены которого покрывали изображения ликов святых. Это вместилище Святого Креста было как бы мистической вершиной рыцарских и военных добродетелей, проявлявшихся на нижних этажах. На пути, ведущем к небу, часовня стала неким тайным местом, скрытым ото всех, наполненным силой от мощей святых, местом, которое множество преград защищали от любых посягательств, местом для уединенных встреч с распятым Богом монарха, Его наместника на земле.
Однако в XIV веке не только короли строили часовни. Правители, не принимавшие таинства миропомазания, также желали иметь часовни для своих нужд. В прекрасной буржской часовне герцог Иоанн Беррийский поместил часть своей удивительной коллекции драгоценностей. Однако самым глубоким изменением, в котором одновременно нашли выражение новые направления религиозности и общая тенденция культуры, становившейся более народной, было появление огромного числа часовен, принадлежавших частным лицам и предназначенных для сугубо личного использования. Эти часовни принадлежали не одному человеку, а небольшим группам, братствам, существовавшим поколение за поколением, общинам или семьям. Любой гильдии, корпорации или религиозному объединению было необходимо место для регулярно проводившихся молитвенных собраний, которые объединяли рядовых членов вокруг лица, руководившего их духовным опытом. Редкое братство имело достаточно средств, чтобы выстроить собственную часовню. Тогда приходилось пользоваться помещениями какой-либо церкви. Братству отводили определенное место у одного из алтарей, окружавших центральный, перед которым совершались общие богослужения. Все верующие прихода не собирались, как прежде, у одного алтаря. Каждая семья, каждый дом желали иметь свое место для молитвы. Издавна при домах знати существовали молельни, подражавшие королевской часовне, и число их росло. Тот, кто разбогател, стремился перенять привычки верхушки аристократии, есть, пить, одеваться и развлекаться так же, как высшее общество. Каждый глава семейства, имевший достаточно средств, в подражание знати обзаводился собственным священником, совершавшим мессу для него и его близких. На худой конец он пытался за солидное вознаграждение приобрести отдельное место на хорах или в одном из приделов церкви. Таким образом можно было продемонстрировать свое положение в обществе и добыть своей семье место рядом с сильными мира сего. Нищенствующие ордена не отказывали самым влиятельным или щедрым из находившихся под их духовным руководством мирян, которые желали приобрести место в церкви, — двадцать пять частных часовен располагались на хорах церкви Кордельеров[171] в Париже.
Часовни братств или отдельных семей выполняли двойную функцию. Первая, которую можно назвать внешней, была сосредоточена вокруг алтаря — частные литургии становились регулярными службами, совершаемыми для нужд членов той или иной группы. Для живых, но в значительно большей степени — для умерших. Ибо первая функция, выполняемая часовнями, была прежде всего связана с погребальными обрядами. Культ мертвых по-прежнему занимал главное место в подсознательной религиозной жизни народа. Его надежды и чаяния получили более христианскую направленность, стали более пристально контролироваться Церковью, и одновременно с этим широко распространились христианские обряды, связанные со смертью. Быть членом какого-либо братства для любого человека того времени прежде всего означало, что он может рассчитывать на совершённое по всем правилам погребение и церковные службы, которые живые члены общества совершали за упокой душ умерших. Члены каждого рода чувствовали, что на них лежит этот долг по отношению к предкам. Вера в действенную помощь обрядов, совершаемых живыми ради мертвых, ни в малейшей степени не ослабла в ту эпоху. Более того, казалось, что она укрепилась. В момент смерти участь человека не решается окончательно. Авиньонский Папа[172] объявил, что, оказавшись на том свете, душа предстает перед Богом и блаженно созерцает Его. Но между этим событием и Судным днем душа еще может умножить свои заслуги, которых ей недостает, чтобы оказаться в раю. Оставшиеся на земле друзья умершего могут помочь ему, совершая церковные службы за упокой его души. В то время практически невозможно представить завещание, по которому значительная часть наследства не расходовалась бы на пышные похороны и оплату бесчисленного множества заупокойных месс. Нередко это приводило к разорению семьи, но каждый считал щедрое прижизненное пожертвование лучшей гарантией от попадания в ад. Полагали, что чем ближе к месту захоронения совершается служба, тем в большей степени она содействует спасению души. Поэтому самым удачным вариантом считалось, если могила и алтарь, на котором священнослужители до конца времен будут совершать литургию, находились рядом. Любой христианин, заботившийся о собственном спасении и о спасении ближних, лишь только накапливал достаточно средств, основывал в церкви часовню, предназначавшуюся его семье. Это требовало немалых расходов. Следовало приобрести место для захоронения, обустроить, обозначив его особое предназначение, наконец, обеспечить постоянное пение псалмов, «услуги певчих», как говорили в Англии, то есть нанять одного или нескольких служителей церкви. Целый слой церковного пролетариата охотно брался предоставлять подобные услуги, так как это обеспечивало постоянный доход и требовало достаточно мало труда. В «Кентерберийских рассказах» капеллан представляет собой аллегорию мирной лени. Однако, как ни многочисленны были церковные служители, стремившиеся занять такое теплое место, спрос тем не менее превышал предложение, настолько возрастали требования богачей, чувствовавших приближение смертного часа. Некий состоятельный гасконец, капталь де Буш[173], в своем завещании помимо пятидесяти тысяч месс в год своей смерти заказал ежедневное совершение заупокойных служб в течение шестидесяти одного года и услуги певчих в восемнадцати приходах. В результате подобной практики многие приходы оставались без певчих и священников. Это способствовало упадку общинных организаций Церкви и развитию индивидуальных форм совершения богослужений.
Частные молельни существовали не только для совершения поминальных служб. Развитие внутренней религиозной жизни каждого человека обусловило возникновение второй функции часовен. Они стали местом молитвы, уединенного созерцания, так как духовная жизнь становилась все более личным делом. Верующий надеялся на встречу с Богом в часовне, куда приходил, чтобы молитвами добиться спасения своих умерших предков или духовных братьев, рассчитывал в тишине вознести к Господу «искру», горящую в его душе. Внутреннее убранство часовни должно было соответствовать этим порывам. По образцу королевских часовен частная молельня стала хранилищем святынь. В христианстве, спустившемся на уровень народных верований, также усилилась вера в спасительную силу, источаемую частицами мощей святых. С утончением религиозной культуры в XII и XIII веках в церквах, основанных высшим духовенством, постепенно удалось привести поклонение мощам в более организованную форму. Широкое течение мирского благочестия вызвало новый всплеск этого культа. В XIV веке частицы мощей считались самым ценным подарком, который только можно было получить, все стремились иметь хоть какую-то святыню. Возможность обладать мощами, как любой другой вещью, привела к тому, что культ поклонения святыням приобрел грубые, светские формы. В часовнях начали помещать изображения, глядя на которые любой верующий не должен был сомневаться, что любая душа сможет достичь озарения Святым Духом. Эти образы во множестве появились на витражах, смешавшись с личными знаками, геральдическими символами, девизами и портретами основателя часовни. Живописные и вырезанные из дерева или алебастра изображения покрывали створки находившегося у дальней стены алтаря диптиха или триптиха, который, как правило, был закрыт для остальных прихожан. Открывался он лишь для его владельцев. Еще более четко эти образы проявились в скульптурных изображениях святых покровителей семьи или братства, которым принадлежала часовня. Члены небольшой избранной группы иногда извлекали эти скульптуры на свет божий, чтобы поклоняться им в уединении молельни или нести как символ своего могущества во время религиозных процессий.
Подобные предметы, в отличие от неподвижных алтаря или надгробия, можно было выносить из часовни и распространять их мистическое значение на повседневную жизнь. Почему обращаться к Богу следует, воспевая молитвы лишь в определенном здании и в строго установленные часы? Новое христианство стремилось заполнить всю жизнь верующих. Развитие индивидуальной религиозности в XIV веке вызвало распространение миниатюрных предметов церковного обихода. Эти предметы, заменившие часовню и значительно больше подходившие для личного использования, могли в любое время и в любом месте послужить декором для погружения в спасительные размышления о духовном. Святыни начали превращаться в драгоценности, украшения, которые можно было носить постоянно. Таким образом они постоянно защищали их владельца и привлекали к нему милость Господа. Небольшие двух- или трехстворчатые складни, на которых в нескольких сценах были изображены основные моменты литургического действа, начали изготавливать из дорогих материалов. Подобно находившимся в часовне заалтарным композициям, эти складни открывали во время молитвы, перед битвой, поединком, во время деловой поездки или в своей комнате. Псалтирь, часослов также стали для большинства мирян подобием переносной часовни. Покрывавшие их миниатюры, повторяя сюжеты витражей или диптихов, окружали священный текст целым рядом выразительных изображений, обладавших большей убедительностью, чем латинские слова молитвы, и сильнее действовавших на воображение. Несомненно, те предметы, которые теперь хранятся в музейных коллекциях, прежде считались наиболее ценными. Они имеют роскошный вид, напоминая, как ни странно, аксессуары светских развлечений, предметы, за которые их иногда принимают. Как и часовни, эти предметы принадлежали лишь очень состоятельным людям. В то же время разнообразные описи имущества, завещания, архивные документы сообщают, что люди среднего достатка, мелкие рыцари, второстепенные представители власти, буржуазия небольших городов также иногда владели подобными вещами, но значительно менее дорогостоящими. Те же, кто имел еще меньший доход, а таких по-прежнему было большинство, довольствовались в конце века печатными оттисками, картинками, которые можно было повесить на стену, пришить к одежде или, сложив, носить в кармане.
На этих гравюрах так же, как в диптихах из слоновой кости, на покрытых миниатюрами страницах книг или драгоценных украшениях реликвариев, религиозный сюжет представлен в окружении архитектурных элементов, символически изображающих храм. Постоянное повторение переплетающихся арок, пинаклей, вимпергов[174] означает больше, чем еще одно, последнее, напоминание о главных задачах, которые некогда выполняла архитектура. Оно свидетельствует о том, что в глазах верующих эти предметы благочестивого поклонения, более соответствовавшие новым формам религиозности, действительно заменили не только саму часовню, где можно было уединиться для молитвы, но и постепенно опустевший собор. В ходе эволюции, которая на протяжении века обратила в христианство светское общество, призрак церкви возникает как воспоминание о совершавшихся в ее стенах богослужениях и в то же время как символ внутренней духовной жизни, храмом которой стало человеческое сердце.
Целью нового благочестия было подготовить душу к брачному союзу со Святым Духом, вести ее к Нему навстречу, оградить в решающий момент, на пороге смерти, от подстерегающих опасностей. Верующего призывали приблизиться и услышать Слово Божие, черпать в нем пищу для постоянного размышления. Как познать Отца, Сына и Святого Духа, если не через Писание? Непосредственное знакомство со Священными текстами получило в XIV веке для массы верующих то же значение, которое оно имело для бенедиктинских обителей в первые времена христианского просвещения Европы. Это была главная составляющая религиозной жизни. От верующего теперь требовалось не только издали внимать чтению Библии или псалмов, но и понимать смысл услышанного.
В действительности церковные власти, терзаемые сомнениями и преследуемые страхом возникновения новых ересей, не стремились к тому, чтобы народ начал читать эти тексты самостоятельно. Они старались познакомить широкую публику с латинскими книгами, написанными духовенством, но это никак не распространялось на переводы Ветхого и Нового Заветов. Около 1340 года отшельник в Йоркшире переложил Псалтирь на англосаксонский, язык народа. Пятьюдесятью годами позднее оксфордские магистры представили два перевода Евангелий. Но эти переводчики были сторонниками лоллардов, они стали агитаторами, поднявшимися против высшего духовенства. Когда Жан де Си переводил Библию на французский язык, сопровождая перевод комментарием, он выполнял заказ короля Франции Иоанна Доброго — эта великолепно изданная книга, настоящее произведение искусства, ни в коей мере не была предназначена для просвещения народа. На самом деле в начале XV века просвещенные миряне могли познакомиться на французском языке лишь с краткими отрывками из Евангелия, предназначенными для воскресного чтения, или с адаптированными, упрощенными текстами из Библии, снабженными моралью. С отголосками библейских текстов миряне знакомились в основном через проповеди.
Проповедники хотели, чтобы их слово проникло как можно глубже, а смысл запечатлелся в умах слушателей. Для толп, собиравшихся вокруг них, они стремились переложить Евангелие в жесты и мимику. Они сами становились актерами. Устраивали живые картины или процессии — представления, во время которых оживали основные сюжеты их проповеди. Они приглашали слушателей стать действующими лицами божественной драмы, приняв участие в массовых религиозных шествиях, собраниях различных братств или уединившись в часовне для молитвы. Религиозное представление позволяло затронуть струны в душе самых смиренных прихожан, тех, кого не трогало довольно банальное красноречие большинства проповедников.
Значение религиозного представления было еще шире. Требуя реального участия верующих, певших или оживлявших своих персонажей средствами мимики, спектакль заставлял участников изображать сцены из жизни Христа, уподобляться на некоторое время Христу, их брату. Средневековая религиозность всегда стремилась укрепить и дополнить душевные порывы телесным участием. В бенедиктинских монастырях молитва совершалась не в молчании, но сопровождалась мощной работой легких, единым выдохом всей братии. Писать или переписывать Священный текст, «возделывать» пергамент, было и физическим трудом, поскольку рука при этом работала столь же интенсивно, как и разум. Что же касалось чтения, то приветствовалось не произнесение текста про себя, но декламация его вслух, сопровождаемая работой мускулов. Таким образом, изображение Слова Божия позволяло наиболее глубоко проникнуть в него, сделать своим, действительно пережить свою веру. В монастыре, неся распятие во время ночной процессии, доминиканец Генрих Сузо переходил от одной колонны к другой, изображая Страсти Господни. Этот крестный путь завершался у распятия, расположенного в часовне, диалогом с Девой Марией. Путем подобных упражнений Генрих Сузо достигал минут наивысшего блаженства: «Часто ему казалось, что он парил в воздухе, находясь между временем и вечностью, окруженный глубокими водами невыразимых чудес Божиих». Если все христиане под руководством нищенствующих братьев последуют этому примеру, то путь мистики приведет их к спасительному прозрению, которое говорит, что сама смерть не что иное, как путь к свободе. Действительно, иногда население целого города принимало участие в грандиозном религиозном представлении. В 1400 году в течение трех дней Пасхи в Авиньоне проходило представление Страстей Господних, организованное жителями города.
В представлении принимали участие двести актеров, а кроме того, столько людей в костюмах и вооруженных жителей города, что никто не мог бы подсчитать общее число участников. На площади перед бенедиктинским монастырем было возведено множество помостов, на которых сидели мужчины и женщины. Никогда до того ни один королевский или какой-либо другой праздник не собирал десять или двенадцать тысяч зрителей.
Мистерии, которые представляли не только члены религиозных общин, способствовали тому, что театральное действо приобретало массовый характер, любой христианин становился участником ежедневных, совершаемых втайне представлений.
Возрастает роль зримых образов. Они теперь занимают центральное место, в силу того что становятся самым действенным посредником между Словом Божиим и яростными движениями, при помощи которых тело и душа освобождаются от всего, что их связывает, сдерживает их порыв «к благородству созерцания, к высотам блаженной жизни». Печатное изображение более всего доступно пониманию человека, только что вступившего на путь веры, оно сопровождает его первые шаги. «Дочь моя, — писал Генрих Сузо, — пора тебе подняться выше и покинуть гнездо утешений, которые разные изображения доставляют тем, кто стоит при начале пути». Проповедники прекрасно понимали, что множеству окружавших их начинающих христиан следовало предложить зрелище. Для того чтобы воздействие этого зрелища на аудиторию длилось дольше, необходимо было определить краски и образы, которые надолго запечатлелись бы в памяти зрителей, чтобы после ухода странствующего проповедника колеблющаяся душа могла в них вновь и вновь черпать силы для нового порыва. По призыву Бернардина Сиенского изображение имени Иисуса на фоне сияющего солнца, иллюстрации, которую он впоследствии сделал основной темой своей проповеди, начали помещать на фасадах дворцов. Живописное панно, многоцветная скульптура, любое изображение, которое теперь получало широкое распространение благодаря печати гравюр, должны были усиливать действие призывавших к покаянию проповедей и «sacre rappresentazioni», мистерий. Призванное привести широкие массы к Богу, с легкостью волнующее души, но быстро впадающее в заблуждения, религиозное искусство XIV века в основе своей было сценическим.
Слава пришла к Джотто благодаря тому, что он лучше своих предшественников сумел воспроизвести на стенах церквей сцены таинственной драмы. Оказавшись гениальным постановщиком, он запечатлевал сценическое движение, предлагал примеры образов тем, кто желал изобразить святого Франциска Ассизского, Иоакима, Деву Марию или Иисуса, понять глубинные черты этих образов, чтобы добраться до их духовной сути. Наконец, монахи, наставники пришедшего к вере народа, стремившиеся распространить свет Нового Завета среди самых низов христианского общества, рассматривали печатное изображение как самое надежное средство передачи информации, обладающее, быть может, большей убедительностью, чем чтение Библии. Для того чтобы быть более доступной большинству мирян, Библия в XIV веке стала «исторической», то есть ее повествование развертывалось теперь в виде череды историй, столь же удивительных и захватывающих, как рыцарские романы или легенды. Для тех, кто не умел читать, появилась своя «историческая» Библия — «Библия бедняков», в которой рассказ о событиях Священной истории был представлен в виде ряда выразительных иллюстраций с простым сюжетом, пересказывавших суть событий.
Все действующие лица новой пасторали полагали, подобно Эсташу Меркаде, автору «Страстей», около 1430 года исполнявшихся на севере Франции, что
Став более народной, религиозность приобрела большую изобразительность. «Взойди при помощи твоего внутреннего взора на Голгофу и посмотри внимательно на все приготовления, совершаемые против твоего Господа. Ты должен глазами души увидеть, как одни водружают крест, а другие готовят молот и гвозди». В «Meditationes Vitae Christi», «Размышлениях о жизни Христа», приписываемых святому Бонавентуре, но, несомненно, написанных в конце XIV века одним тосканским монахом-францисканцем, метафоры и сама тема произведения говорят о той значительной роли, которая отводилась видениям в развитии внутренней духовной жизни.
По глубокому убеждению людей того времени, видение предшествовало возникновению любви и питало ее. Соответственно, все чувственные отношения завязывались под воздействием лучей света, глаза считались вратами сердца. В XIII веке Роберт Гроссетест, основатель оксфордских школ, предложил свою, опровергавшую Аристотеля, систему мироустройства, вдохновленную идеями Дионисия Ареопагита и основанную на теории движения потоков света. В соответствии с его утверждениями мир возник в результате выброса света, который в своем сиянии порождает сферы и стихии, материю, ее формы и размеры. Подобное учение, принятое и углубленное университетскими преподавателями, принадлежавшими к ордену францисканцев, способствовало не только появлению новых течений в физике, вызвав интерес к исследованиям оптики. Это учение было в то же время родственно течению, которое противостояло искушениям рассудка и предлагало погрузиться в мистические изыскания. Разве тварный свет, просвещающий мир, не был доказательством теснейшей связи между творением и Богом? Через этот свет в мире распространялась милость Божия, а человеческая душа погружалась в созерцание Бога. Подобные идеи побудили ученых XIII века возвеличить поэтику света, пришедшую вслед за искусством соборов. Когда позднее христианство начало подвергаться влиянию светского общества, научная доктрина оксфордских францисканцев легко слилась с прежними светскими же теориями. Миряне полагали, что для того, чтобы любить, необходимо видеть предмет поклонения и что огонь любви передается взглядом. В песнях трубадуров XIII века искра любви, попав в глаза, оттуда спускалась в сердце, разжигая в нем пламя. Союз сердец возникал благодаря потоку света. «Пламя», «сердце», «жар», «искра» — в проповедях и письмах мистиков своим ученикам используются те же слова, что и в рыцарских песнях, повествующих о страсти. Религиозная эротика сливается с эротикой светской в рамках широкого движения, соединявшего культуру духовенства и рыцарства. Пыл куртуазного любовника подогревался созерцанием избранницы. Генрих Сузо, изображая Страсти Господни, также пришел к созерцанию иллюстрации, изображавшей распятого Христа. Страница рукописи второй половины XIV века, представлявшая в миниатюрах духовный путь Сузо, показывает на одном из главных этапов стоящую перед изображением распятого Христа душу, погруженную в созерцание. В скульптурных группах, украшавших надгробия, на панно, покрывавших стены и увековечивавших память о совершенном пожертвовании, дарителей представляют коленопреклонёнными перед изображениями Богочеловека и Его Матери. Восхищенный взгляд, полный священной любви, распространяет вокруг них потоки любви.
Этим объясняется, почему созерцание святынь занимает такое место в обрядах XIV века. Месса надолго прерывается в момент возношения, когда освященная гостия находится перед глазами верующих, наполняя их любовью. Реликварии превращаются во вместилища святынь, в ажурные клетки, сквозь которые можно видеть мощи святых. Каждый желает видеть предмет своих мистических устремлений; зрительное приближение к объекту поклонения становится лекарством, излечивающим тревоги, источником надежд. На самых низших уровнях религиозность наделяла изображение какого-либо священного предмета магической силой. Достаточно было увидеть изображение святого Христофора, чтобы не умереть в этот день насильственной смертью. Народ требовал, чтобы изображения этого великана, которого едва коснулось христианство, были размещены повсеместно. Его изображения появились на всех перекрестках, на стенах церквей, чтобы верующий, выходя из храма, мог, бросив на него последний взгляд, рассчитывать на защиту в течение дня. Церковная иерархия не препятствовала поклонению изображениям святых. Напротив, духовенство обещало необыкновенную помощь от некоторых из них — отпущение грехов было гарантировано тем, кто произнесет молитву из литургии святого Григория перед образом Христа, снятого с креста, или преклонит колени перед распятием в картезианском монастыре Шаммоль.
Однако в Церкви раздавались голоса, осуждавшие такие формы благочестия и поклонение якобы чудотворным образам. Был написан трактат «Против тех, кто поклоняется картинам или статуям». Позже на сцену выступили Жерсон и кардинал Николай Кузанский. Составленный на английском языке крайне сдержанный текст излагал учение, полное здравого смысла:
Изображения святых допускаются Церковью в качестве своего рода календаря для мирян и неграмотного народа, чтобы познакомить их с рассказом о Страстях Господних, о мученической смерти и жизни святых. Тот же, кто воздает мертвым изображениям почести, причитающиеся только Богу, впадает в грех идолопоклонства.
Самые резкие нападки происходили от представителей некоторых еретических учений. Последователи истинно духовной религии желали, чтобы она была избавлена от любых попыток свести ее к чему-либо земному, совершаемых духовенством, увлекшимся материальными благами, порочным и привязанным к мирской жизни. Они осуждали любые изображения, встречавшиеся в пышном убранстве романских церквей. В 1387 году два человека, лолларды, разбили в Лестере статую святой Екатерины. Позднее в Чехии гуситы Табора ополчились против декора, украшавшего церкви. Тем не менее иконоборцы всегда оставались лишь экстремистским крылом лжеучений, призывавшим к насилию. Монументальное искусство, как и произведения малых форм, появившиеся благодаря развитию индивидуальной религиозности, в XIV веке предстают как иллюстрация веры простого народа.
Религиозное искусство, безусловно, было связано с текстами, отрывками из Священного Писания или житий святых, которые часто были написаны на свитках или окружены рамкой, имитирующей театральную сцену. Эти иллюстрации следовало рассматривать одну за другой, наподобие современных комиксов. Вместе с ними широко распространялось и слово, экспрессивность которого они усиливали. Следовательно, от этих изображений требовалась реалистичность. Если же они обращались к символу или, чаще, к аллегории, делалось это для того, чтобы поместить реалии невидимого мира в привычную среду, облечь в привычные формы земной жизни. Эти изображения не просто что-то означали — они представляли. Они должны были изображать реальность, поэтому художники того времени позаимствовали античные приемы перспективы. В то же время было необходимо, чтобы между священными изображениями и светским миром сохранялась определенная дистанция. Роль этих изображений заключалась в том, что они должны были возвышать душу, помогать ей оторваться от всего земного. Также они должны были оставаться возвышенными. Художники и скульпторы могли изображать в одном пространстве человека и Бога, находящихся лицом друг к другу. В действительности невозможно спутать дарителя ни с Христом, которому он поклоняется, ни со святым покровителем, фигура которого располагалась за спиной дарителя, как бы защищая его. Они принадлежали разным мирам. Их разделяла мощная преграда, преодоление которой символизировала смерть. Чтобы сделать более очевидной эту дистанцию, Джотто использовал некоторые театральные приемы: голубой абстрактный цвет фона, на котором разворачиваются изображаемые им сцены, помещает их вне реального времени. Особенно часто Джотто прибегал к выражению царственности, открытому им в декоре античного Рима. Безусловно, действующие лица его торжественной драмы наделены человеческими чертами. Иоаким спит так же, как любой пастух. Однако что-то мешает подойти к нему и запросто хлопнуть по плечу, что-то невыразимое словами, некая невидимая стена, отделяющая зрителей от персонажа, причащающихся от священника, держащего гостию, Дон-Жуана от статуи Командора. Даже самый простой складень, написанный для ремесленной общины какого-нибудь мелкого города, никогда не низведет персонажи библейской истории до уровня земной жизни. Непоколебимая вера в существование иной жизни — вот что в религиозном искусстве того времени создавало определенные препятствия, тормозило развитие реализма.
Пространство, расположенное по другую сторону этой преграды, та часть реального, но невидимого мира, которую изображение, пока смерть не позволит увидеть это воочию, открывает зрителю, помещает перед его глазами, расчищая дорогу сияющему мечу любви, населена толпой второстепенных действующих лиц, множеством святых. Народное христианство радушно приняло их, так же как бесов и злые силы, которым они противостоят. Эти бесчисленные посредники наделены ярко выраженной индивидуальностью. Если приходилось изображать группу святых, самые искусные мастера старались придать каждому святому особые черты. У каждого из них были на земле любимые места, которые он посещал чаще других, — те, где погребены его останки. Именно там совершалось большинство чудес. Каждый обладал особыми способностями, к которым следовало обращаться в определенных обстоятельствах. Жития святых, «Золотая легенда» Якова Ворагинского, роман, состоящий из тысячи эпизодов, передавался на Западе из уст в уста. Каждого святого можно узнать по чертам, присущим только ему, по одежде, символическим предметам. У Жанны д'Арк не возникало ни малейшего сомнения в отношении того, какие святые руководили ее действиями. Так же как в церемониале религиозных процессий, в религиозной иконографии отводилось значительное место силам, защищавшим от насильственной смерти, святым, покровительствовавшим той или иной социальной группе или ремесленному братству, личным покровителям, которым каждый христианин вверял свои тело и душу. Вместе с распространением печатных изображений широкую известность получают имена вновь канонизированных святых — Фомы Аквинского, Екатерины Сиенской. Взяв под контроль изображения, Церковь смогла контролировать и еще не устоявшиеся формы религиозности, возникавшие в связи с почитанием этих участников священной драмы. Сформулированная в живописных изображениях ассизская программа представляла святого Франциска как фигуру, полностью вписавшуюся в упорядоченную систему папской Церкви.
Однако на авансцене театра благочестия зрители видели центральную фигуру Бога, единого в трех лицах. Многие общины создавались в XIV веке во имя Троицы. Художники и скульпторы получали заказы на изображение трех божественных ипостасей. Самые рисковые представители христианского мира, купцы, особо выделяли третью ипостась — Святой Дух. Большинство верующих вместе с Fraticelli[175] полагали, что Его царствие уже наступило. Святому Духу приписывали заботу об упорядочении отношений между душой и божественными силами. В изображениях Троицы Святой Дух в виде голубя был лишь второстепенной фигурой, как некий знак поэтического единства. Сам Бог Отец выступал лишь как фон, некий живой престол. В центре композиции находится распятый Сын. Спустя целый век с начала распространения францисканского влияния изобразительное искусство треченто сконцентрировалось вокруг источника, откуда исходила сияющая любовь, — вокруг Иисуса. Но какого Иисуса? Бенедиктинцы романского периода помещали в центр композиции тимпана Христа-Судию. На порталах соборов интеллектуалы XIII века помещали Иисуса-Учителя. Наконец, Христос, которого ожидала народная религия, стал просто человеком. Человеком, образ которого трогает сердца, потому что современная религиозность — это «некая мягкость сердца, легко вызывающая слезы». Это был Иисус, о котором говорили проповедники, которого представляли во время мистерий, Иисус Рождества и Пасхи. То есть Бог тоже стал «народным», персонажем рассказа; Христос стал ближе благодаря рассказам о Его детстве и, особенно, мученической смерти.
Рождество, Пасха. Зимний праздник радостен. Он возвещает надежду посреди глубокой тьмы. Но радость его идет не от Младенца, а скорее от Матери. Обращенное главным образом к женщине, народное христианство оплетает довольно слащавыми узорами тему Девы Марии. Эта тенденция получила широкое распространение в среде духовенства. Тема становится всеобщей и спускается на более низкий уровень интерпретации. Искусство XIV века, в котором умножились изображения Богоматери, постепенно начинает испытывать влияние светского общества. Появляются изображения Девы Марии, преклонившей колени у колыбели с Младенцем, потрясенной вестью, принесенной архангелом, созерцающей игры детей во дворике, заросшем травой и цветами, наконец, Девы Марии — Заступницы, Богоматери, простершей свой покров над толпами святых, единственной Защитницы, ограждающей своим синим плащом весь христианский народ. После покаяния и умерщвления плоти во время Великого поста вспыхивает сияние Пасхи, которой предшествуют Страсти Господни. Если Христос увлекает за собой весь род человеческий к спасению, то происходит это потому, что Его страдания умножаются. Он — жертва, агнец, взявший на себя грехи мира. Самым популярным зрелищем в то время было изображение Креста, Распятия, центрального стержня религии бедняков. Постепенно внимание перешло от Христа униженного, подвергшегося бичеванию, распятого, ко Христу умершему. В изображениях Пьеты Дева Мария уже не счастливая Мать, представленная на фоне цветущих садов, не Богоматерь из сцен Вознесения или Увенчания, но Заступница, помогающая искупить грехи рода человеческого своей глубокой болью, взглядом, полным страдания и любви, обращенным на Сына — на Ее коленях лежит Его бездыханное тело. Тело, погребение которого — история Гроба Господня — впервые было изображено на театральных подмостках в 1419 году. Исполняя роль Христа, созерцая сцены Его мучений, «видя глазами Его души, как одни воздвигают крест, а другие готовят молот и гвозди», погружаясь в созерцание этих событий, вплоть до того что собственное тело покрывалось стигматами, христианин в такой степени отождествлял себя с Христом, что мог победить смерть, как победил ее Он. Страх исчезновения в вечной тьме вызвал подражание Христу.
Христианство XIV века было не столько наукой жить, сколько искусством умирать, а часовня — не столько местом молитвы и созерцания, сколько местом отправления погребального культа. Опрощение религии и влияние на нее светского общества привели к тому, что мысль о смерти заняла главенствующее положение. В религиозных обрядах и иконографии на первый план выступил вопрос: что происходит с умершим, куда он попадает?
Учение официальной Церкви предлагало успокаивающий ответ. Смерть — это переход, окончание земного путешествия, прибытие в гавань. Однажды, быть может уже скоро, наступит конец времен, Христос во славе придет на землю, произойдет всеобщее воскресение из мертвых. Тогда праведники будут отделены от грешников, огромная толпа воскресших разделится на две части: одни пойдут навстречу вечной радости, другие — к вечным мукам. Ожидая наступления последних дней, умершие находятся в месте отдохновения и покоя, спят мирным сном. Так гласила заупокойная месса. Воинствующая Церковь раннего Средневековья некогда изгнала и уничтожила погребальные языческие обряды. Грозила страшными муками тем, кто продолжал носить мертвым пищу. Запретила класть в гробницы украшения, одежду, оружие, множество других предметов, которые оставляли рядом с трупом, чтобы покойный не испытывал лишений в таинственном загробном мире и не выказывал недовольства, беспокоя живых. Смерть стала нагой, окруженной покоем и отказом от всего лишнего. Трогательная скромность — никаких украшений или знаков на телах каролингских принцесс, чьи останки были обнаружены в фундаменте базилики Святой Гертруды в Нивеле. Когда археологи вскрыли единственную гробницу короля Франции, которая не была разграблена, гробницу Филиппа I в Сен-Бенуа-сюр-Луар, они не обнаружили рядом с останками ничего, кроме листьев, которыми было засыпано тело покойного.
Священнослужители были, однако, вынуждены считаться с мощными народными верованиями. Все большее значение придавалось заупокойным богослужениям. Был принят миф о существовании промежуточного места и времени, разделявших момент смерти и Страшный суд. Считалось, что находившиеся там души могли бодрствовать — те, кого посетил Данте, вовсе не были погружены в сон. До того как Церковь выбрала четкую позицию, Чистилище превратилось в некий край, отвоеванный дохристианскими представлениями о смерти. Захваченная территория увеличилась еще более во второй половине XIII века, когда влияние духовенства на формы религиозности ослабло, когда нищенствующие ордена прилагали все усилия для того, чтобы сделать христианство истинно народной религией. Церковь долго сопротивлялась тому, чтобы в храмах находились гробницы не только святых или представителей знати и духовенства. Стремление живых поместить останки своих родственников как можно ближе к алтарю постепенно победило это сопротивление. Обряды, которыми сопровождалось погребение знатных особ, приобрели оттенок роскоши. Полагалось, чтобы покойный вошел в царство мертвых во всем блеске своей земной славы. Могущество человека в то время определялось числом «друзей», находившихся под его покровительством или у него на службе, и его гроб сопровождала длинная вереница родственников и слуг, за которыми тянулись бедняки, питавшиеся от щедрот своего господина. Наконец, сама гробница была теперь покрыта разнообразными украшениями и символами. Если человек не желал исчезнуть бесследно, ему следовало при жизни принять меры, чтобы остаться хотя бы в изображении.
Стремление продолжать жить хотя бы в своей гробнице свидетельствовало о развитии другой тенденции, возникшей в противовес христианской добродетели отречения от всего земного. Это было еще одним, быть может самым важным, проявлением языческого духа — желанием победить телесную гибель и страх человека не только перед мертвецами, но и перед собственной смертью, перед смертью вообще. Церковь с первых лет своего существования сумела использовать эти настроения для достижения своих целей. Она всегда призывала задуматься о том, почему разлагается труп, рассматривая это как доказательство несовершенства плоти, ее преходящей природы, как осуждение временных, земных удовольствий, как громкий призыв встать на истинный путь, ведущий к Богу, призыв оторваться от мира. Изображение скелета и разлагающихся останков было одной из самых выразительных иллюстраций проповеди, призывавшей к покаянию. Также и laudi, распеваемые итальянскими религиозными братствами, часто обращались к образу плоти, отделяющейся от костей, которую точат черви во мраке могилы. Подобная просветительская деятельность основывалась также на теме, заимствованной из поэмы о «Трех мертвецах и Трех живых». Трое всадников встречают на своем пути три разверстые могилы, в каждой из которых лежит гниющий труп. Эта встреча внезапно открывает живым всю суетность земной жизни. Черви, кишащие в разлагающейся плоти, получили двойное символическое значение. Гниение означало тесную связь между телесной оболочкой человека и грехом. В то время полагали, что лишь тела святых избегают подобной участи, и когда монахи ордена проповедников открыли гробницу святого Доминика, они, вероятно, с тревогой ожидали сладкого «запаха святости», который должен был доказать всем, что основатель их ордена действительно святой. Кроме того, зрелище уничтожения плоти должно было побудить верующего посвятить свою жизнь делам благочестия, подобно девам Благоразумным не терять бдительности, так как Смерть — это лучник, стреляющий без предупреждения, стрела его поражает человека, когда тот меньше всего ждет этого. Образ разлагающегося трупа стал в христианской литургической иконографии оружием борьбы с губительными и гибельными прелестями мира.
На пороге XIV века развитие светской мысли поколебало значение этого образа и практически полностью исказило его смысл. Большая фреска в Кампо Санто в Пизе противопоставляет Трем мертвецам и Трем живым другую сцену, имеющую совершенно противоположное значение — изображение Триумфа Смерти. Сжимая косу, Смерть злобным вихрем налетала на чудесный сад, где дамы и кавалеры, предававшиеся куртуазным удовольствиям, воспевали любовь и земные радости. Одним ударом Смерть уничтожала эту радость. Подобно чуме, черной гибели, она превращала поющих в мертвые тела, повсюду громоздились груды трупов. Рисунки и другие изображения перестают быть просто символами суетности земной жизни, они выражают страх смертного человека перед могущественными силами, управляющими его судьбой. Движение лошадей, вставших на дыбы при виде Трех мертвецов и их разверстых могил, означало стремление к самоотречению, к отказу от мирских благ. Влюбленные же, напротив, невнимательны и не замечают яростного смерча, который, стремительно налетев, может в любой момент уничтожить их счастье. Они привязаны к жизни и радостям, наполняющим ее. Для них, так же как для трубадуров, чьим песням вторят их танцы, мир прекрасен и полон наслаждений. Оказаться вырванным из него — чудовищно. Появление Смерти, подобно la donna involta in vesta negra[176], описанной у Петрарки, мчащейся в вихре урагана, как в Пизе около 1350 года, или оседлавшей скелет лошади, как в Палермо около 1450 года, смерти неотвратимой, могущественной и торжествующей, объясняется тем, что в культуре треченто восторжествовала жажда земного счастья, присущая обществу, освобождавшемуся от морали, навязанной духовенством. Человек, поднявшись с колен, увидел перед собой зловещую фигуру Смерти, стоявшую вровень с ним.
На стенах церквей появились новые символы. Проповедники, деятельно участвовавшие в религиозной жизни, не смогли уничтожить любовь ко всему земному, сдержать всплеск оптимизма, охватившего светское общество. Они пытались выразить в своем обращении к народу хотя бы ту тревогу, которая находилась на другом полюсе этого оптимизма, — страх перед смертью, разрушающей все земные радости. Пизанская фреска представляет собой своеобразную иллюстрацию, усиливавшую впечатление от более древнего сюжета, воспоминание о котором стерлось. Новое изображение сильнее действовало на зрителя, так как его трагическая глубина задевала струны нового отношения к миру. В конце XIV века центральное место в религиозной иконографии вновь заняли изображения мрачного и зловещего. Около 1400 года в Германии появились первые книги, озаглавленные «Искусство умирать», — сборники гравюр, сцена за сценой подробно описывавшие агонию, изображавшие умирающего, терзаемого сожалением о том, что он покидает, мучимого демонами, искушающими его в последние минуты, которых в конце концов изгоняли Христос, Богоматерь и святые. В это же время, скорее всего во Франции, возникла Пляска Смерти. В глубинах народных верований образ торжествующей Смерти часто сливался с образом Гаммельнского Крысолова[177]. Смерть-музыкантша завораживала своей дурманящей мелодией мужчин и женщин, молодых и стариков, богатых и бедных, Папу Римского, короля, рыцаря, любого человека, независимо от того, на какой социальной ступени он находился. Она была неумолима. Возможно, проповедники пытались воспроизвести этот страшный и торжественный танец, который затем был запечатлен на рисунках, изображавших подобные представления. В 1424 году новый символ смертной природы человека появился в Париже на кладбище Невинноубиенных младенцев по соседству с утратившей былое значение группой, изображавшей Трех мертвецов и Трех живых, которую некогда велел установить здесь герцог Иоанн Беррийский. Сюжет, передававший страх человека перед своей природой, распространился повсюду — от Ковентри до Любека, от Нюрнберга до Феррары. Он касался самого больного места в том тревожном ощущении, которое томило человека. Страх теперь не был связан с отдаленным, смутным будущим, со Страшным судом. Он находился рядом, его присутствие было ясно ощутимо, его можно было испытать самому, пережить во время предсмертной агонии. «Каждый умирает в скорби». Переход в мир иной более не выглядит как мирный сон путешественника, прибывающего в гавань спасения. Теперь это шаг в зияющую бездну. Следует отметить, что торжество мрачных тонов было обусловлено не нищетой, увеличением налогов, войнами или эпидемиями, а развитием течения, которое на протяжении двух столетий влияло на христианство, приводя его в соответствие с чаяниями светского общества. Трепет перед кончиной появился не в результате того, что христианство испытывало давление со стороны, утратило уверенность в своих силах или ослабла народная вера. Дело в том, что христианство стало менее разборчивым, широко распахнуло двери простому народу, чья вера была крепка, но не имела под собой прочного основания и с трудом воспринимала отвлеченные понятия. Пляска Смерти, так же как итальянский сюжет Триумфа Смерти, как изображение Христа, умирающего на коленях Своей Матери, отвечала религиозному мироощущению народа, которое отличалось от мироощущения монахов или университетских преподавателей. Это был взгляд богачей и бедняков, молившихся во францисканских церквах или часовнях, окруженных могилами.
Когда мысль о смерти в самых своих грубых формах заняла место в самом центре религиозной жизни и стала управлять ею, когда страх исчезнуть с лица земли и стремление к продолжению жизни привели к тому, что главным в подражании Христу стало воспоминание не о Его жизни, но о смерти, в этот момент на передний план выдвинулась могила, став тем, чем в течение многих веков она была, скрытая покровом безмятежности, наброшенным официальной Церковью. Могила превратилась в предмет всех дум и помыслов. В XIV веке распоряжения человека, покровительствовавшего искусству, как правило, касались погребальной церемонии и всего, что было с этим связано. Среди заказов, получаемых художниками, самыми многочисленными были связанные с украшением надгробий. Главный пункт любого завещания содержал сведения о месте, избранном для погребения останков, которые будут там покоиться в ожидании Судного дня. Каждый, кто намеревался построить часовню, обдумывавший ее убранство и отводивший определенную сумму на совершение в ней служб, значительно больше заботился о могиле, чем о молитвах, которые будут звучать над ней. В обычае было задолго до предполагаемой кончины позаботиться о последнем пристанище, лично проследить за его обустройством и украшением, а также во всех деталях продумать собственную погребальную церемонию. Похороны напоминали торжество, они воспринимались как главное событие земной жизни человека. Каждый демонстрировал здесь, чего он достиг в жизни, и растрачивал огромные состояния. Похороны в то время совершались с необыкновенной помпезностью, приводившей к разорению оставшихся членов семьи.
Вот как останки короля (несчастного короля Франции Карла VI в 1422 году, посреди чудовищной разрухи, нанесенной Столетней войной) были перенесены в собор Парижской Богоматери. Четверо из епископов и аббатов были в белых митрах, среди них новый епископ Парижа, ожидавший тело короля на ступенях собора Святого Павла. Все, кроме него, вошли в собор, монахи нищенствующих орденов, весь университетский корпус, представители Парижского парламента, знати, народа, остальных учебных заведений. Затем останки короля вынесли из собора и епископ окропил их святой водой; началась большая заупокойная служба. Тело перенесли в собор Парижской Богоматери так же, как переносят тело Господа Нашего в Праздник Тела Господня. Над королевскими останками на четырех или шести шестах несли золотой балдахин. Тело несли тридцать, а может и больше, человек. Король покоился на ложе, лицо его было открыто. На главу его была возложена корона, в одной руке он держал скипетр, а другой — творящей суд — благословлял народ двумя пальцами из золота, такими длинными, что достигали короны. Впереди шли монахи нищенствующих орденов и представители университета, парижских церквей, собора Парижской Богоматери и, наконец, королевского двора. Пели только они, прочие же молчали. Толпившиеся вдоль улиц и собравшиеся у окон плакали и восклицали, как если бы все они видели мертвым близкого и дорогого им человека. Здесь же присутствовали семь епископов, аббаты церквей Сен-Дени и Сен-Жермен-де-Пре, Сен-Маглуар, Сен-Крепен-и-Крепиньен. Священники и прочие служители церкви находились по одну сторону гроба, а знатные персоны из Дворца правосудия, такие как прево, канцлер и прочие, — по другую. Перед ними шли бедные служители церкви, одетые в черное. Они громко плакали и несли сто пятьдесят факелов. Их предваряли восемнадцать плакальщиков. Также в процессии несли двадцать четыре креста, перед которыми шли звонившие в колокольчики. За телом в одиночестве шел герцог Бедфордский, рядом с ним не было ни одного французского принца крови. Так в понедельник останки покойного короля были перенесены в собор Парижской Богоматери, где горели сто пятьдесят факелов. Была прочитана вечерняя служба, а назавтра с самого раннего утра отслужена литургия. После службы прежняя процессия собралась, чтобы перенести тело короля в аббатство Сен-Дени, где после совершения службы король был похоронен рядом со своими отцом и матерью. Туда прибыло более восемнадцати тысяч человек, как знатного, так и низкого происхождения, и каждый получил восемь монет по два денье. Каждого приходившего приглашали к трапезе.
Разумеется, выше речь шла о погребении весьма значительной особы, однако любой человек того времени мечтал обставить собственные похороны с такой же помпой. Повествование это тем более ценно, что в нем содержится описание не только самой церемонии, но и тех изобразительных средств, которые постепенно начинают использовать, украшая надгробия знатных особ. Погребальное искусство XIV века прежде всего стремилось запечатлеть похоронную церемонию, увековечить события, происходившие вокруг останков покойного. Гробница, установленная около стены или в центре часовни, утратила былую простоту убранства. Теперь она выглядела как пышное ложе, на котором во время похоронной процессии покоилось тело умершего. На ложе, увенчанном балдахином, подобным тому, который носили над Святыми Дарами в Праздник Тела Господня, находилось скульптурное изображение умершего, выполненное в натуральную величину. Для того, чтобы сохранить останки во время всей погребальной церемонии, тело покойного бальзамировали, извлекали из него внутренности, которые нередко затем распределялись между различными храмами, желавшими иметь подобную святыню. Иногда тело заменяли замаскированным восковым манекеном или же покойника изображал живой человек. Итак, каменное надгробие было своего рода мумией. Оно изображало умершего, облаченного в эмблемы власти и могущества. Лицо его казалось нарумяненным. На стенках гробницы или на стене ниши, где помещался саркофаг и которую украшали ряды арок, сплетавшиеся в символическое изображение церкви, развертывались картины похоронной процессии: священники, совершающие богослужение, близкие, облаченные в траурные одежды, нищие, несущие свечи, символизирующие горячую молитву, возносимую ими прежде, чем они получат последнюю милостыню и обед. Умерший должен предстать в полной славе перед своим народом, который он собрал на последний пир. Он также центральная фигура очистительной литургии. Сложившаяся погребальная иконография способствовала усилению воздействия этой литургии на верующих. Наконец, покойного отождествляли с Христом, Который, сойдя на землю во время Второго пришествия, увлечет его за собой в вечную жизнь. Таким образом, погребальная иконография обращалась к символике спасения, иногда прибегая к изображению событий Пасхи, но чаще — к сценам воскресения.
Немногие христиане могли превратить свое последнее пристанище в подобный памятник надежде. Большинство из них после смерти попадали в общую яму. Более состоятельные граждане заказывали мастерам, занимавшимся изготовлением надгробий — делом очень прибыльным, обычные плиты, где изображение покойного сводилось к выгравированному силуэту, а церковное напутствие ограничивалось несколькими строками. Гробница знатной особы, как и ее пышные похороны, в полной мере были отражением того, к чему стремились все слои общества. Так воплощались общие представления о погребальной церемонии. В то же время эти представления получали более определенную форму. Сама церемония, всё погребальное действо конкретизировали понятие смерти. Искусство, связанное с погребальным культом, постепенно подвергалось новым влияниям.
На могилах, некогда лишенных любого декора, начали вновь появляться скульптурные изображения. Пора их расцвета пришлась на XIII век, и первыми странами, где они получили наибольшее распространение, стали Англия и Испания. Долгое время эти скульптуры оставались под влиянием высокого религиозного искусства. Духовенство приняло изображение умерших в виде лежащих фигур, но требовало, чтобы скульптуры были иератическими и безмятежными. Лица королей Франции, скульптурные изображения которых Людовик Святой приказал поместить в Сен-Дени, полны покоя, который окружал всё вокруг во время заупокойной службы. Их глаза открыты, из них стерлось воспоминание обо всех событиях земной жизни, лица преображены, исполнены красоты, находящейся вне времени, красоты, присущей телу, ожидающему воскресения из мертвых. Они спят спокойным сном, который может продолжаться вечно. Они перешагнули порог смерти, чтобы мирно достичь берегов вечности. Провожаемые пением священнослужителей, они вошли в мир идеи, которая, пользуясь путями, предложенными Аристотелевой абстрактной мыслью, открывала рациональный порядок жизни, отличной от земной. На пороге XIV века покой и умиротворение исчезли. Светское мироощущение проникло в эту сферу жизни и нарушило ее стройность. Мертвецов лишили покоя. Прежде они с невозмутимым презрением отворачивались от жизни. Теперь она возвращала их к реальному миру, заставляла разделять суету и заботы живых. В странах готической культуры покой надгробий и посмертных изваяний долгое время ничем не нарушался. Скульптурное изображение французского короля Филиппа III, гробница которого была построена между 1298 и 1307 годами, уже узнаваемо, наделено индивидуальными чертами, но отблеск славы на его лице и эхо совершенных в его память богослужений стирают понятие времени. Следует отметить, что в Италии, где до тех пор были неизвестны лежачие скульптурные изображения, первое надгробие, изображавшее конкретного человека, кардинала Гийома де Брея, которое Арнольфо ди Камбио в 1282 году установил в доминиканской церкви Орвьето, свидетельствовало о том, что здесь был выбран иной путь. В этом памятнике выразилось стремление передать величие человека и земной жизни в той же мере, что и божественную славу. Все итальянские скульпторы отныне следовали этому принципу. Постепенно воскрешаемые ими традиции Рима и этрусков нашли широкое применение в искусстве, создававшем произведения для мертвых. Для тех, кто не желал покоиться в блаженном забытьи и ожидании грядущего воскресения. Для мертвых, которые стремились остаться в этом мире и сохранить свое земное величие. В Тоскане, Лациуме, Неаполе, Вероне, Милане, областях, находившихся по другую сторону Альп, гробницы европейских князей Церкви и мира сего превращались в настоящие мавзолеи. Помимо самого распространенного изображения умершего в виде лежащей фигуры, покоившейся на пышном ложе, возрожденный страх смерти, присущий романской культуре, и тревога, терзавшая светское христианское общество, способствовали возникновению других форм надгробных изваяний — коленопреклоненного молящегося и всадника. Появление новых фигур, трех новых форм надгробий свидетельствует о развитии светских идей в искусстве, связанном с погребальным культом.
Разложившийся, покрытый волосами труп кардинала Лагранжа, скелет, остающийся после проведенного по всем правилам вскрытия, изображенный Мазаччо в церкви Санта-Мария-Новелла, просто показывал то, что находилось внутри саркофага, под позолоченной статуей. Memento mori, этот образ намеренно был помещен в ряду других, принятых церковью. Так же как и «Три мертвеца», это изображение символизировало пустоту материального мира, обреченного на тлен и возвращение в прах. Те, кто заказывал подобные изображения, желали, находясь на пороге смерти, продемонстрировать свое презрение к своему бренному телу, оторваться от земного существования и превратить строительство гробницы в акт назидания и смирения, проповедь, зовущую к покаянию. Появление в надгробных изваяниях изображения физического распада тела было лишь отголоском давно существовавшего учения Церкви, призывавшего к отказу от привязанности к ценностям суетного мира. Это зрелище могло пробудить у живых одержимость мыслью о торжествующей смерти. Таким образом, скульптурное изображение умершего вставало в один ряд с Пляской Смерти, Триумфом Смерти, присоединяясь к веренице мрачных образов.
Заказчики не желали, чтобы художник изображал их погруженными в божественный покой и безвестность избранных. Они требовали, чтобы их изваянию были приданы яркие, узнаваемые черты, чтобы оно было наполнено жизнью, поэтому они часто отказывались от изображения тела, лежащего на смертном одре, в пользу скульптуры, изображавшей молящегося, или стремились следовать примеру Генриха VII. Его надгробие в Пизе изображало императора в окружении двора, статуй советников, которые, в отличие от него, в то время по-прежнему находились среди живых. Заказчики были движимы самыми мирскими побуждениями. Они желали, чтобы окружающие лучше думали о них. Ведь гробница была не чья-то, а их собственная. Это должно было быть известно всем. Построенная при жизни великолепная усыпальница свидетельствовала об уровне, достигнутом ее владельцем, все искусство выставить напоказ свое богатство пускалось в ход лишь для того, чтобы ни у кого не осталось сомнения, кому принадлежит та или иная гробница. Следует также сказать, что гробница была в первую очередь призывом, обращенным к живым. Покойный обращался к проходившим мимо с просьбой помолиться за его душу. Он просил молитв ради себя, ради собственного спасения, и эгоистическая направленность религиозности выражалась в стремлении отметить свою могилу каким-либо особым знаком. На большей части могил, принадлежавших отдельным лицам, лежали готовые надгробные плиты, купленные у изготавливавших их мастеров. Они были украшены геральдическими символами, на них было также указано имя, позволявшее узнать, кто похоронен в этом месте. Знатные особы желали, чтобы на их могиле находилось изображение, обладавшее чертами сходства с покойным. Применение гипсовой маски, иногда используемой в ходе погребальных процессий, облегчало задачу скульптора в том случае, если умерший при жизни не озаботился строительством усыпальницы. Лица умерших стали излюбленной темой мастеров XIV века, стремившихся запечатлеть то или иное выражение.
Однако стремление отметить каким-либо личным знаком главное из заказанных при жизни произведений искусства, которым оставалась гробница, было сродни другому желанию, быть может менее осознанному, но столь же противоречившему духу отречения от мирской суеты. Запечатлеть свои черты в камне означало продлить их жизнь, избавить их от разрушений, наносимых смертью, символизировало победу над деструктивными силами. Потустороннее выражение на лицах умерших XIII века означало такую же победу, но помещало ее в иной мир. Иногда в ходе погребальной процессии покойного изображали живым, представляя ряд сцен из его земного существования. Когда Бертран дю Геклен был погребен в Сен-Дени, «четыре полностью вооруженных человека, сидевших верхом на четырех скакунах в полной сбруе, изображали умершего, каким он был при жизни». Во всяком случае, посмертный портрет христианина XIV века выполнял магические функции, которыми наделяли изваяния Древнего Рима. На усыпальнице, состоявшей из нескольких уровней, фигура умершего, преклонившего колени или же восседающего на троне в полной славе (так уже в конце XIII века были изображены Фердинанд Кастильский в Севилье, а позднее, в Чиара, — король Роберт Неаполитанский, надгробные изваяния которых отличались правдоподобием и портретным сходством с умершими), символизировала победу над тем образом умершего, который они отрицали.
Число подобных изображений возросло. Вскоре они стали появляться не только на могилах. Они возникали на створках складней бок о бок с изображениями святых и самого Бога, превосходя последние жизненностью и реализмом. Постепенно они заполнили нишу, которая в религиозном искусстве прежде отводилась священным изображениям. Император Карл IV пожелал, чтобы его собственный портрет украшал стены внутренней часовни в Карлштейнском замке. Отличающийся сходством с оригиналом портрет графа Эвре украсил один из самых прекрасных витражей в соборе, заняв место, которое некогда занимали лишь находившиеся на недостижимой высоте фигуры пророков. У церковных стен появились статуи, изображавшие людей. Чтобы угодить своему господину, тот же кардинал Лагранж заказал для кафедры Амьенского собора изображения короля Карла V, его советника Бюро де ла Ривьера, его второго сына и свое собственное. Фасад собора в Бордо теперь украшали не фигуры Христа и апостолов, но Папы Римского в окружении кардиналов. Тремя веками ранее клюнийские монахи, с трепетом опасаясь совершить святотатство, осмелились поместить у портала собора скульптурное изображение Предвечного Бога. Теперь в том же самом месте, на пороге святилища, в церкви целестинцев, в Наваррском коллеже, в картезианской церкви в Шаммоле появились знакомые лица сильных мира сего, приветливые личики принцесс, изображения французского короля Карла V, герцога Бургундского Филиппа Храброго, их супруг. Изображения человека, обычного человека, лица тех, кто никогда не хотел навсегда уйти из жизни, захватили в церкви места, куда некогда допускались только ангелы. Для этих новых людей, открывших трагическую сторону смерти, началась эпоха портрета.
В Вероне героизированная статуя всадника, вознесенная на самую вершину балдахина, украшавшего надгробие, увенчала мавзолей «тирана» Кангранде делла Скала. Изображение его не отличается портретным сходством с оригиналом. Оно утверждает торжество человека, его величие. Эта конная статуя, возникшая в результате двух сходных течений, как бы звала светское общество к бессмертию. Родиной первого течения, несомненно, был Рим. Уже в Болонье университетские преподаватели, комментировавшие римское право, первыми впустили в душу средневекового человека ностальгию по античному гражданскому обществу и начали строить свои гробницы вне церковных стен, устанавливая на них памятники в виде стел. Они пожелали, чтобы торцы надгробий были украшены портретами, изображавшими их в полном могуществе, с высоты кафедры обращавшимися к толпе слушателей и последователей. Конная статуя Кангранде, возникшие вслед за ней скульптуры, представлявшие других членов семейства Скалигер, затем, когда герцоги Миланские захватили Верону, статуя Бернабо Висконти также символизировали дух имперских побед. Искусство политического триумфа, основания которого заложил в Капуе император Фридрих II, возобновив традиции искусства цезарей, способствовало тому, что в этих городах, покорившихся тирании, на могилах знатных особ возникли первые памятники светского могущества. Сильные мира сего обретали бессмертие в истории. Эти огромные фигуры, вознесенные на стелы или поднявшиеся на стременах, воспевали также и иную славу, тоже имевшую земную природу. Это была слава героев куртуазных приключений. По дорогам, пролегавшим через Альпы, в ломбардские области пришло огромное количество рыцарских мифов. Через долину Адидже лежал путь в Бамберг, в другую христианскую и германскую, рыцарскую, но феодальную империю, в которой витал дух французских песен о деяниях, дух Роланда, Оливье, Персеваля. Кангранде и Бернабо желали быть рыцарями больше, чем цезарями. Победа, которую увековечивают их статуи, — это победа в рыцарском турнире. Память о них сохраняется в рыцарских преданиях, отголосок рассказов об их мужестве и «мощи оружия» достигает покоев дам. Они становятся неким воспроизведением святого Георгия. Их копье поражает Смерть, словно дракона. В противовес заупокойной службе и проповеди о загробной жизни искусство новых усыпальниц воздвигает статую рыцаря-победителя.
3 Обладание миром
Изображенный на ломбардских гробницах в полном вооружении рыцарь, гордившийся одержанными победами, вставал в один ряд с героями. Вскоре ему будет суждено присоединиться к девяти доблестным ратникам, избранным светским обществом символами своих добродетелей и любви к жизни. Иисус Навин, царь Давид и Иуда Маккавей, Гектор, Александр и Цезарь, Артур, Карл Великий и Готфрид Бульонский — эти девять легендарных персонажей возникли из глубины веков, окруженные ореолом бессмертия. Джотто написал их портреты на фресках королевского дворца Неаполя, их лики появлялись на многочисленных гобеленах, изготовленных по заказам принцев, а их статуи украсили к 1400 году обновленные резиденции сеньоров. Первые трое сошли со страниц «святых историй» Ветхого Завета. Следующие трое принадлежали античной истории. Их имена становились всё более известными благодаря неуклонно возраставшему успеху произведений, переведенных с латыни. Деяния трех последних были воспеты в жестах и романах как «французского», так и «бретонского» происхождения. Данный перечень наглядно свидетельствует о том, какими источниками подпитывалась рыцарская культура. Многих своих героев она позаимствовала из книг Священного Писания, однако подавляющее их большинство пришло из мирских повествований. В центре располагался Рим; на одном фланге — Иерусалим, на другом — Ахен, «милая Франция» и Виндзор; на заднем плане — мечты об империи, Востоке, крестовых походах. Не было среди героев ни святых, ни духовенства. Только рыцари, короли и воины, овеянные победной славой. Могущество и доблесть. А для того чтобы эта модель распространилась и на другую сторону рыцарской культуры, девяти ратникам придали в пару девять воительниц, девять женских образов, также заимствованных из Библии, античных повествований, придворной поэзии и воплощавших в себе куртуазные ценности.
В повседневной жизни мужчин и женщин, изображать желания которых искусство XIV века считало своей целью, подражание девяти ратникам и девяти воительницам чередовалось с подражанием Иисусу Христу. Эти два вида подражания дополняли друг друга. В жизни считалось обязательным имитировать жесты героев, а в преддверии смерти — жесты Спасителя. Изобилующая литературная продукция давала скрупулезное описание образцового поведения. Распорядок праздничных торжеств и церемониалов был символической транспозицией данного поведения. Однако эта мимическая игра разворачивалась отнюдь не на театральных подмостках, хотя «смены блюд», прерывавшие пиршество развлекательных интермедий, часто представляли собой их живые картины. Они проистекали главным образом в русле ритуала новых рыцарских орденов.
Опьяненный чтением нескончаемого романа о Персефоресте[178], победоносный король Англии Эдуард III опередил своего соперника по галантности — герцога Нормандского Иоанна, будущего короля Франции, — и воплотил в жизнь его замысел. Фруассар утверждает, что
<...> в то время он счел уместным повелеть переделать и перестроить большой Виндзорский замок, некогда возведенный королем Артуром. Именно там был впер вые учрежден благородный Круглый стол, из-за которого вышло столько храбрых мужчин, поставивших на службу миру свое оружие и доблесть. Король решил, что он создаст рыцарский орден, куда вступят он сам, его дети и самые отчаянные храбрецы его владений. Их будет сорок человек, и будут они называться Рыцарями Голубой Подвязки. В день святого Георгия в Виндзоре будут ежегодно устраиваться пышные торжества. Для начала король Англии созвал всех подвластных ему графов, баронов и рыцарей и высказал свое желание и намерение учредить праздник. Они радостно выразили согласие, поскольку это показалось им делом, достойным уважения и способствующим любви. И были избраны сорок рыцарей, которых сочли самыми доблестными среди всех остальных. Эти рыцари верой и правдой поклялись королю поддерживать порядок и проводить праздник в том виде, в каком он был задуман и предусмотрен. Король приказал возвести часовню Святого Георгия в Виндзорском замке и назначил каноников для проведения там богослужений. Желая, чтобы в провинциях узнали о празднике, король Англии разослал во Францию, в Шотландию, в Бургундию, в Геннегау, во Фландрию, в Брабант, а также в Священную Римскую империю герольдов, чтобы те возвестили о нем. Он предоставил всем рыцарям и конюшим, пожелавшим принять участие в торжествах, охранное свидетельство на четырнадцать дней после праздника, на котором должны были состояться состязания на копьях между сорока рыцарями, а также между сорока конюшими и всеми остальными. На торжествах должна была присутствовать королева Англии в сопровождении трехсот дам и девушек знатного происхождения, наряженных одинаково[179].
Итак, образовалось закрытое братство, возглавляемое государем, избираемое жребием в соответствии с таким качеством, как доблесть, объединившееся, как и все братства того времени, вокруг часовни, покровитель братства, святой Георгий, герой — победитель состязаний. Образ жизни — обет идти стезёю добродетели. Украшения, знаки отличия, девиз, наконец, ежегодный праздник, день святого покровителя, — и все это только для того, чтобы воспеть перед дамами славу лучшим из лучших. Вот так, в рамках, заимствованных у религиозных организаций, создавалась новая светская литургия. Рыцарский роман занимает место церковных служб, а упражнения в светской галантности вытесняют коллективное умерщвление плоти. Возникнув как прямой ответ братствам laudesi, новые рыцарские ордена стремились стать олицетворением собственной этики и способствовать ее распространению, периодически устраивая турниры и игры. Как и братства, они использовали во время игры массовку, перевоплощение в сценические образы. Однако предписания новой морали были обязательны не только для закрытых сообществ, окружавших королей и владетельных князей. Они регламентировали тип поведения, который воспринимался как общий идеал всеми теми, кто мечтал быть возведенным в дворянство и считаться человеком благородного происхождения. Тем, кто не был дворянином по рождению, например капитанам, удостоенным подобной чести благодаря одержанным победам, или разбогатевшим буржуа, приходилось, в отличие от потомственных дворян, вести рыцарскую и куртуазную игру, строго соблюдая все правила до единого. Придерживаться рыцарских мифов и ритуалов, придававших им реальность, входило в обязанность богатых людей, то есть всей социальной группы, занимавшейся меценатством. Вот почему в искусстве XIV века воображаемое куртуазной галантности симметрично соответствует воображаемому благочестия.
Как и «Библия бедных», «Artes moriendi» или фрески часовен, подобные иллюстрации служили примером для подражания и нравственными уроками. Они развивали три главные темы, присущие трем фундаментальным направлениям рыцарской радости. Давайте рассмотрим гобелены, изготовленные по приказу короля Франции Карла V и его братьев. На большинстве из них изображены сцены на религиозные мотивы. Такие гобелены украшали часовни. На других мы видим эпизоды войн или турниров: Гектор перед Троей, сражение при Кошереле[180], состязания в Сен-Дени. «Рыцари нашего времени, — говорится в "Сновидении садовника", — расписывают залы своих замков сценами пеших или конных боев для того, чтобы визуально насладиться воображаемыми битвами». Действительно, первейшая задача дворянства, его первостепенный долг — сражаться за благое дело. Дворянин, облачившись в доспехи, высвобождал агрессивную мощь, сдерживаемую кодексом чести. На большинстве светских гобеленов были изображены деревья, растительный пейзаж. Развешанные на стенах, они как бы упраздняли их, как бы переносили залы замка на вольную природу. Ведь герои рыцарства — это прежде всего люди открытых просторов. Они скачут по весенним лесам, сжимая в руке цветы. Увидев зайца, они забывают о битве и бросаются за ним в погоню. Лес представляет собой таинственную и магическую декорацию, обязательную для всех без исключения авантюрных романов, а сеньоры делают из фруктовых садов место для удовлетворения своих тихих радостей. Наконец, третье направление — это тема любви, регламентированная кодексом куртуазной галантности. Все гобелены из серии «Триумф любви», «Богини любви», заказанные приблизительно в 1400 году владетельными князьями ткачам Парижа, Арраса и Мантуи, воспевали превращающееся в ритуал сексуальное вожделение, в котором рыцарская этика достигала апогея.
К трем основополагающим ценностям, носившим исключительно завоевательный характер, — радости сражаться, радости охотиться и веселиться на свободе естественной жизни и, наконец, радости ухаживать — изменения, произошедшие в обществе, занятие торговцами и купцами приоритетных позиций и открывающиеся для парвеню возможности примкнуть к аристократии добавили еще одну, накопительскую, ценность: радость обладать. Правда, эта ценность долго оставалась тайной, непризнанной, поскольку рыцарское сословие упорно утверждало, что ему присуще прежде всего великодушие, то есть щедрость, широта натуры, безрассудные траты и безоговорочная неприязнь к скряжничеству в любой форме. Тем не менее светская мораль постепенно проникалась уверенностью в необходимости накопления богатства. Сначала это чувство утвердилось среди городской элиты Центральной Италии, где оно вступило в противоречие с увещеваниями нищенствующих монахов, проповедовавших всеобщую бедность. Джотто получил заказ создать наперекор проповедникам воздержания страстный гимн, предлагавший взамен всеобщей нужды другой идеал — идеал умеренности и равновесия. В часовне Падуи, расписанной для человека, разбогатевшего на проведении финансовых операций, единственная увенчанная короной добродетель-владычица — это Справедливость, иными словами, точное распределение богатства. Вероятно, поэтому Петрарка воспел суровость римлян эпохи Республики, а Боккаччо — равнодушие к миру, которое проповедовали эти образцы стоицизма. Вероятно, поэтому в 1360 году купец из Сиены Джованни Коломбини, раздавший все имущество бедным, основал нищенствующий орден иезуитов, а флорентийцы устремили взоры к Санта-Кроче и Санта-Мария-Новелла, двум церквам нищенствующих орденов. И даже принцы, чьи штандарты украшали цветы лилии, преклонялись перед абсолютной нищетой целестинцев или картезианцев. Однако к концу века доминиканец Джованни Доминичи восстановил богатство в правах. Он показал его как состояние, которого достигают избранные люди вполне законным путем благодаря помощи Божией. Таким образом он выразил поддержку протестантской Церкви больших процветающих городов секретарю Флорентийской республики, Леонардо Бруни, который, опираясь на авторитет Цицерона («Тускуланские беседы») и Ксенофонта (трактат «О домашнем хозяйстве»), провозгласил, что богатство, если оно добыто своими руками, служит верным способом для достижения добродетели.
Радостные ценности светской этики, гордость от обладания богатством, которую они влекли за собой и которая лежала в основе желания получать удовольствие, превозносили жизненное благополучие и все то, с чем, умирая, человек расставался. Они решительно противостояли религиозным ценностям, и одержанная ими в XIV веке победа доказала тщетность намерений Церкви христианизировать их. Тогда же появилась возможность представить богатство как знак благоволения Господа, учредить в рыцарских орденах духовную должность каноника и благословлять боевых коней, показывать в естественной красе образ Творца и мечтать о превращении в божественную любовь преданности рыцаря, влюбленного в избранную даму. На деле все это означало обрядить добродетели века в показные наряды, которые никоим образом не скрывали соблазнов. Иными словами, это была капитуляция перед несокрушимым проявлением их могущества.
Вторжение земной радости иллюстрирует глубинные изменения, произошедшие в самом характере цивилизации: она становится светской. Эта эпоха познала бурный расцвет блистательного ювелирного искусства, ставшего отныне на службу не прелатам, а владетельным князьям. Как и искусство времен Каролингов, искусство XIV века достигло кульминационной точки в изготовлении украшений. Для Сугерия, любившего драгоценные камни, они олицетворяли божественный свет и предвосхищали великолепие вселенской истины, которая была еще скрыта под густой тенью осязаемого мира и которая откроется взору только в день Страшного суда. Однако жемчужина, зажатая в руке Иоанна Беррийского или его кузена Джана Галеаццо, герцога Миланского, уже олицетворяла собой ощутимую радость мира.
По убеждению рыцаря и крупного буржуа, изо всех сил стремившегося подражать ему, богатство мира должно сгорать и растворяться в празднике. Феодальное общество просто не мыслило отправления власти и практики применения оружия без сопутствовавшего им расточительства. Самым лучшим сеньором считался тот, кто беспрестанно черпал из своих сундуков, осчастливливая тем самым всех окружающих. Для того чтобы сеньора любили и служили ему, он должен жить в постоянном окружении огромной свиты, устраивать праздники, созывать друзей на веселые пирушки, которые постепенно становились более рафинированными и утонченными.
Каждый поступок благородной жизни предоставлял возможность для проведения праздника. Литургия, регламентировавшая развитие этого проявления радости, имела две стороны. Прежде всего праздник, по сути, был ритуальной церемонией бахвальства: сеньор появлялся во всем могуществе и славе, осыпанный драгоценностями, извлеченными из ларцов. Он одаривал новыми одеяниями всех тех, кто откликнулся на его приглашение; он как бы делился с ними своим великолепием. Но точно так же, по сути, праздник был ритуальной церемонией разрушения, данью сладострастию бытия, всесожжением. Это было жертвоприношение, когда властители в мгновение ока уничтожали блага, созданные на протяжении долгого времени трудом бедняков. Вакханалии сильных мира сего отгораживались от нищеты рабов. Праздник ставил рыцаря выше большинства простых смертных. Рыцарь господствовал над ними, отверженными, жившими трудом, только и мечтавшими разбогатеть. Он же разбазаривал. Посредством праздника он избегал участи проклятого человека, приговоренного со времен грехопадения зарабатывать хлеб насущный в поте лица. Он демонстрировал свою особенность, свою свободу. Он торжествовал над природой, грабил ее, а затем убегал прочь. После смерти рыцаря траурный кортеж, поминальный пир и последующая раздача подарков в последний раз демонстрировали его стремление вознестись при помощи расточительности над нищетой жизни.
Итак, светская эстетика XIV века нашла высшее выражение в украшениях и хвастовстве. «Хроники» Жана Фруассара, написанные для того, чтобы прославить доблесть —
<...> столь благородную и столь достойную уважения добродетель, что не должно о ней рассказывать кратко, ибо она есть сама природа и суть дворян: как полено не может гореть без огня, так и дворянин не может достигнуть совершенных почестей и славы мира без доблести,
начинаются с описания жестоких праздников, какими были первые грандиозные сражения Столетней войны. Заканчиваются они описанием более замысловатых и извращенных праздников, устраивавшихся для умалишенного короля Франции Карла VI. В Париже 1400 года, блистательном центре рыцарских удовольствий, праздник, похоже, предоставлял прекрасную возможность убежать от реальной действительности, одержать победу над повседневными заботами. В некотором смысле он вступал в спор с самой природой. Праздник стирал различие между днем и ночью; он отодвигал границы сумерек, ведь веселые пляски продолжались до самого рассвета при свете зажженных факелов и отблесках костров. Костюмированные балы и маскарады становились кульминацией праздника. Сеньоры и дамы внутренне раскрепощались. Священнодействуя, они отождествляли себя с Благоразумным разбойником или страдающим Иисусом. На балу они становились королем Артуром или дикарем, вступающим в схватку с единорогом. И на протяжении всего праздника они играли в любовь.
Игривое умонастроение рыцарства расцвело пышным цветом в условностях куртуазной любви. На протяжении двух веков поэмы и романы призывали рыцаря любить. Духовники и наставники королевских дворов использовали все методы схоластического анализа для того, чтобы подчинить строгим правилам сложные обряды, которые должны были регулировать в знатном обществе поведение дворянина и женщины из благородной семьи. Книги, которые каждый вечер читали сеньору, окруженному домочадцами, рисунки, иллюстрировавшие их, вырезанные из слоновой кости узоры, украшавшие шкатулки и зеркала, постоянно напоминали о предписаниях данного ритуала. Каждый, кто хотел быть принятым в собрание рыцарей, должен был им подчиняться. Ему вменялось в обязанность выбрать себе даму сердца и служить ей. В расцвете молодости английский король Эдуард III мечтал стать всему рыцарству образцом для подражания. Он женился. Королева родила ему красивых детей. Она обладала всеми достоинствами добродетельной супруги, у них был очень удачный брак. Однажды Эдуард III приехал в замок леди Солсбери, чей муж, его вассал, попал в плен, будучи на королевской службе, и теперь томился в неволе. Эдуард III просил даму ответить ему взаимной любовью и целый вечер в присутствии свиты изображал человека, обуреваемого торжествующей, но неразделенной любовью. Действительно,
Честь и Порядочность запрещали его сердцу источать лицемерие, дабы не опозорить благородную даму и преданного рыцаря, каким был ее муж. С другой стороны, Любовь настолько подчинила его себе, что он победил и преодолел Честь и Порядочность.
Возможно, именно ради этой дамы он и основал орден Рыцарей Подвязки, повелел проводить в честь этого события праздник и учредил девиз ордена.
Используя праздник и игру, куртуазная любовь пренебрегала установленным порядком и преобразовывала естественные отношения. Будучи по существу прелюбодейной, она в первую очередь брала реванш над матримониальными ограничениями. В феодальном обществе в брак вступали во имя возвышения и обогащения рода. Это была расчетливая сделка, не учитывавшая сердечных порывов. Ее заключали родители и родственники новобрачных. Они определяли условия обмена, приобретения супруги, призванной стать для будущего сеньора хранительницей его очага, хозяйкой над его слугами и матерью его детей. Невеста должна была быть богатой, верной и происходить из богатой семьи. Социальные законы предусматривали жестокое наказание для жены-изменщицы и для того, кто пытался ее соблазнить. Однако мужьям они предоставляли полную свободу. Любезные незамужние барышни в каждом замке вели со странствующими рыцарями куртуазные беседы. Куртуазная любовь была не просто сексуальными разглагольствованиями. Она была осознанным выбором, которым полностью пренебрегала процедура сватовства. Тем не менее влюбленный рыцарь выбирал своей дамой сердца не девственницу, а замужнюю женщину. Он не стремился покорить ее силой, а завоевывал постепенно, хотя на пути ему встречались многочисленные опасности. Он шаг за шагом преодолевал ее сопротивление, ждал, когда она сдастся и начнет оказывать ему знаки внимания. Для достижения подобной цели он разрабатывал подробнейшую стратегию, которая на самом деле представляла собой превращавшееся в ритуал транспонирование искусства псовой охоты, рыцарских турниров, штурма крепостей. Мифы любовного преследования находят свое воплощение в прогулках верхом по лесу. Избранная дама представляла собой крепость, которую осаждали.
Однако подобная стратегия ставила рыцаря в зависимое положение. И вновь куртуазная любовь меняла местами естественные отношения. В реальной жизни сеньор целиком и полностью подчинял себе супругу. В любовной игре он служил даме сердца, исполнял все ее прихоти, проходил через все испытания, которым она его подвергала. Он стоял перед ней на коленях. В этой позе преданности нашли свое воплощение отношения, регулировавшие в обществе воинов поведение вассала и сеньора. Вся куртуазная лексика и жесты были заимствованы из словаря и ритуалов вассальной субординации. И в первую очередь — понятие самой службы и ее содержания. Влюбленный рыцарь должен прежде всего быть преданным даме сердца, как вассал — своему сеньору. Он принес клятву верности и не имел права ее нарушить. Такую связь нельзя было разорвать из-за простой прихоти. Он демонстрировал мужество, сражался во славу избранной дамы. Одержанные воинские победы неуклонно вели рыцаря к успеху. Наконец, он должен был окружить даму вниманием. Он ухаживал за ней, иными словами, прислуживал — точь-в-точь как вассалы, собравшиеся вокруг своего сеньора. Но, как и вассалы, влюбленный рыцарь хотел получить за свою службу вознаграждение и удостоиться милостей.
В этом плане любовная игра идеализировала и преобразовывала сексуальное влечение. Конечно, она не становилась полностью платонической. Усилия Церкви, направленные на то, чтобы обуздать куртуазную галантность, привели в XIII веке к появлению нескольких поэм, авторы которых лишали любовь плотских устремлений и придавали ей мистический характер. Это религиозно-абстрактное превращение достигло апогея около 1300 года в dolce stil nuovo[181]. В повседневной реальной жизни двора любовь жила надеждой на окончательный триумф, когда дама целиком отдастся своему рыцарю, на тайную и опасную победу над строгим запретом и над наказанием за прелюбодеяние. Однако, пока длилось ожидание, а в соответствии с правилами оно должно длиться очень долго, желанию приходилось довольствоваться малым. Влюбленному рыцарю, намеревавшемуся покорить избранницу, следовало сдерживать себя. Из всех испытаний, налагаемых любовью, особо выделялась «проверка», которая постепенно превратилась в самый яркий символ потребностей обоюдного ожидания и которую воспевали в своих песнях трубадуры: дама приказывала раздеться догола и возлечь рядом с ней. При этом он должен был сдержать желание. Любовь только крепла от ухаживаний подобного рода и неудовлетворенной радости осторожных прикосновений. Удовольствия порождали настоящее чувство. Любовный порыв объединял не тела, а сердца. После того как Эдуард III увидел Джоан Солсбери, он принялся «размышлять». Духовные лица, состоявшие на службе у владетельных князей, нашли у Овидия объяснение происхождения земной любви. Кроме того, в то самое время, когда правилам куртуазной галантности стали подчиняться все рыцари Запада, культ Марии постепенно завоевывал латинский христианский мир. По мере этого завоевания одухотворение сексуального инстинкта и перевод в религиозную плоскость женских достоинств обогащали друг друга. Дева Мария вскоре предстала как прекрасная Дама, которой все должны выражать любовь. Ее хотели видеть элегантной, грациозной, соблазнительной. Для того чтобы покорить сердца грешников, художники XIV века изображали Мадонну похожей на куртуазных принцесс: у нее были такие же прически, головные уборы, украшения. И даже в бредовых рассуждениях некоторых мистиков порой встречаются строки, восхваляющие телесную красоту Мадонны. И наоборот, избранная дама ждала от влюбленного рыцаря благоговения, хвалебных гимнов, позаимствовавших метафоры у гимнов мистической любви. Проявления набожности, становившейся сердечным делом, окружали ореолом светские радости.
Куртуазная любовь по-прежнему оставалась игрой, тайным развлечением. Она подпитывалась заговорщицким подмигиванием. И так незаметная, она рьяно соблюдала видимые приличия. Она прикрывалась эзотеризмом trobar clus[182], символическими жестами, двусмысленными девизами, особым языком, понятным только для посвященных. По существу и по форме она была таким же бегством от реальности, как и праздник. Она была страстным, но совершенно бескорыстным посредником, который никого не связывал какими-либо обещаниями. Если светским людям случалось увлечься игрой до беспамятства и позволить себя одурачить, то они всегда находили в соответствующих литературных произведениях, противостоящих куртуазным любовным песням, аргументы, позволявшие разоблачить мистификацию. Эти сатирические и пародийные произведения, взывающие к Разуму и Природе, пользовались не меньшим успехом, чем любовная лирика. Благодаря им, а также продолжению, написанному Жаном де Мёном к первому «Роману о Розе», где автор, прибегнув к аллегории, прославляет физическую любовь, или рассказу женщины из Бата из «Кентерберийских рассказов», или непристойным анекдотам «Декамерона», рыцари могли дистанцироваться от персонажей, роль которых они исполняли. Они возвращались к действительности, но только для того, чтобы вскоре вновь погрузиться в мечты. Однако, в отличие от мира праздника, иллюзорности и любовной мечты, изображать который вменялось в обязанность актерам, реальный мир не требовал убранства.
Куртуазная любовь была порождением видения и подпитывалась им. Когда Эдуард III вместе со свитой вошел в опочивальню леди Солсбери,
<...> все взглянули на нее с восхищением, да и сам король не мог отвести взора. В самое сердце его поразила стрела утонченной любви, которую госпожа Венера послала через Купидона, бога любви. И эта любовь продлится долго. Насмотревшись на даму, король отошел к окну, чтобы опереться, и принялся размышлять.
Для того чтобы поймать и удержать взгляд, следовало облачиться в красивый наряд и приукрасить лицо. Рыцарское искусство XIV века в первую очередь предполагало поэтизацию одежды. На костюмированный бал не допускались те, кто был одет обыденно, чьи наряды не заставляли забыть о повседневности и своей роскошью и бесполезностью не свидетельствовали об обдуманном намерении транжирить деньги. В миниатюре «Роскошного Часослова» изысканное изобилие мантий и накидок соперничает причудливостью форм с декоративными перекладинами, венчающими крыши замков, освещенных огнем фейерверков. А поскольку праздник представлял собой куртуазную игру и предполагал упорядоченный диалог представителей обоих полов, то мужчинам и женщинам не следовало наряжаться схожим образом. В великосветских обществах XIV века женский костюм поражал своеобразием. Подчеркивая прелести тела, он превратился в инструмент эротического хвастовства. Именно поэтому его не подгоняли в полной мере к формам тела. Он играл роль приманки. Скрывая, он показывал и тем самым соблазнял и разжигал желание. Как искусство витража, линии и цвета которого служили в Париже образцом для создания костюмов, так и искусство одежды в целом переносило из реального мира в нереальный. Во время праздника индивидуум должен был преодолеть, превозмочь свою натуру, возвыситься над ней при помощи различного рода приспособлений, всех этих бумажных полосок, рогов, хвостов, которые щеголихи, вняв призывам к раскаянию, иногда сжигали на кострах другого, на сей раз мистического, праздника, устраивая своего рода аутодафе отречения. Как и миниатюристы, по собственной прихоти рисовавшие среди орнаментов на полях Псалтирей маленькие картинки подлинной жизни, так и художники, создававшие парадные костюмы для куртуазных праздников, включали едва заметные фрагменты телесной действительности в искусственную основу архитектуры грез. Они работали во имя лирической иллюзии.
Тем временем любовные ритуалы уступали место другим мечтам. Условности куртуазной учтивости предписывали даме позволить своему кавалеру полюбоваться обнаженным телом издалека и всего лишь один миг, давая тем самым надежду. Образ тела избранницы должен был врезаться в сознание влюбленного рыцаря. Кроме того, распорядок общественных увеселений XIV века отводил среди живых картин большое место женскому телу, сбросившему с себя все наряды. Однако на протяжении довольно длительного времени стойкие предрассудки запрещали в произведениях куртуазного искусства изображать обнаженное женское тело, хотя литургическое искусство открыто воспевало красоту тела мужского. Литургическое искусство возвращало мужское тело к природе в том смысле, в каком употребляли это слово теологи-мыслители, то есть к совершенным формам, не запятнанным позором греха, куда вверг его Божественный разум. В соборах эти скульптурные изображения совершенных образов располагались между двух основополагающих композиций — между Сотворением мужчины и женщины и Воскресением из мертвых. Плоть всегда представ С конца XIII века скульпторы вытачивали тела с любовной нежностью, вспоминая о пережитых приятных моментах. Постепенно мечта приобретала материальные очертания. Ева и воскресшие из царства мертвых наделялись изяществом подростков. Тем не менее gula[183], voluptas[184], живая плоть, жаждущая удовольствий, по-прежнему пряталась в тень осуждаемых радостей. Она оставалась на периферии больших декоративных ансамблей, где за художниками не столь пристально следили и где они могли поместить символическое изображение своих запретных желаний. Эти желания либо воплощались в обнаженном теле женщины, либо исчезали в языках адского пламени: в Капелле дель Арена Джотто впервые в истории европейской живописи поместил среди демонов обнаженную натуру. Возможно, до нас не дошли другие образы, считавшиеся менее греховными. Однако представляется, что на протяжении всего XIV века светская культура развивалась медленнее своих возможностей. Если скульпторы и художники отваживались показать обнаженное тело женщины, то непременно с оттенком осуждения, считая его греховным. Их охватывало какое-то странное беспокойство. Оно навязывало им нервный, пронзительный стиль Пляски Смерти и заставляло отмечать тела знаком порочности. В готическом мире из всех форм вновь освященной природы тело женщины освободилось от греха последним, чтобы затем расцвести для земной радости.
Местом этого расцвета стала Италия. Сохранившаяся античная скульптура представляла собой образцы не прикрытых никакими предметами тел, гордо выставлявших напоказ свою наготу. В этой стране, где университеты, вышедшие из-под контроля Церкви, осмеливались проводить препарирование трупов, наступили времена, когда скульпторы обратили внимание на римские барельефы, обломки статуй, изображавших нагих людей, и увидели в них примеры для подражания. Создавая сцены Сотворения мира и Страшного суда, они черпали вдохновение в свободной и естественной природе древнеримского искусства. В парижской же живописи только в самом конце века появилось одно-единственное изображение тела, похожего непорочной чистотой на античный торс. Это тело мужчины — Лазаря, воскресшего из мертвых. Художники итальянской Ломбардии, родины рыцарства и куртуазной галантности, проявили еще большую смелость. Они изображали в ореоле сиятельной славы, окружавшей до сих пор только образ Христа и Мадонны, обнаженное тело торжествующей Венеры. Они смогли показать коленопреклоненных дворян, которые с обожанием смотрели на нее, получая взамен флюиды телесной любви, точно так же, как святой Франциск получал стигматы. Заметно, что угрызения совести заставляли их руки дрожать. Они творили, испытывая влияние сурового величия романского стиля, в Тоскане на заре кватроченто для патрицианской аристократии, которую христианство стоиков освободило как от чувства тревоги, так и от чувства вины за участие в эротическом празднике. Именно там впервые женская плоть, воплощенная в бронзе и мраморе, предстала во всей красе. Здесь женщина не воскресала, она рождалась. Она принесла новому человеку умиротворенную радость от своего тела.
Обладать миром означало в первую очередь навязать ему свой закон. Культура XIV века пришла к государям, людям, которые правили, заключали мир и вершили справедливость. Светское искусство Европы, большинство шедевров которого было создано по заказу государей, прославляло главным образом могущество. И делало оно это в русле феодальной традиции. Испокон веков на Западе власть ассоциировалась с образом вооруженного человека, то есть рыцаря. Сеньор, наделенный правом отдавать приказы и наказывать по своему усмотрению, прежде всего был военачальником, поэтому вся его жизнь проходила в седле. В этом мире, в котором каждый дворянин считал себя святым Георгием, конные фигуры заполонили придворное искусство. Даже в самой Италии, где Рим стремился насадить другие символы величия, бьющие копытами лошади на полотнах Уччелло и фресках Палаццо Скифанойя, равно как и Палаццо Те, еще очень долго будут вдохновлять рыцарскую добродетель. Точно так же со времени становления феодального строя олицетворением гордости сеньории, поскольку та основывалась на войне, служила, по общему мнению, башня. Башня, главное оборонительное сооружение, представляла собой опорный пункт любого военного начинания, место сбора воинов, последнее убежище защищающихся. Около крепости возводились торжественные залы суда. Башня была лишь временным жилищем. Суровая, возвышающаяся как штандарт, она прежде всего стала атрибутом власти.
В XIV веке положение вещей не претерпело изменений. Любой человек, достигший могущества, должен был возвести башню и начать строительство своей гробницы. По этой самой причине искусство владетельных князей носит кастовый характер. Когда Карл V подавил мятеж Этьенна Марселя и доказал парижским буржуа, что их попытки взять под контроль власть королей Франции были обречены на провал, он построил Бастилию, как триста лет тому назад Вильгельм Завоеватель воздвиг в Лондоне Тауэр. В Ферраре один маркиз соорудил так называемую Башню бунтовщиков из камней разрушенных дворцов враждебных ему родов, над которыми он одержал победу. И каждый из пейзажей «Роскошного Часослова» есть окрестности того или иного замка герцога Иоанна Беррийского. Безусловно, крепостные стены имели функциональное значение. В XIV веке война шла всюду. Ее самые значительные эпизоды заключаются не в сражениях в чистом поле, а во взятии крепостей — либо осадой, либо ценой предательства. Крепостные стены обладали огромной стратегической ценностью. Однако если властелин правил в замке, если там он исполнял свои основные обязанности — старые литургические обязанности и новые обязанности духовного меценатства, то вовсе не потому, что так требовали меры безопасности. Разумеется, часовня государя и его библиотека находились внутри укреплений, мощь которых свидетельствовала о власти сеньора. Так, Карл V разместил свою «библиотеку» в одной из башен Лувра. В Карлштейне пояс укреплений из зубчатых стен окружал часовню императора. В Авиньоне, ставшем резиденцией Пап по воле французских королей и духовенства, началось строительство дворца. Дворец, который освятил Бенедикт XII, в прошлом монах, представлял собой мрачный монастырь, возведенный в духе цистерцианцев. А вот Климент VI любил роскошь и поэтому расширил свои владения. В центре он приказал обустроить широкий двор, предназначенный для проведения торжественных церемоний. Лестница, на ступенях которой во время подобных церемоний располагалась свита, заканчивалась богато украшенной аркатурой, где святой отец мог появляться в торжественной процессии. Однако дворец по-прежнему был наглухо закрыт для внешнего мира, а его крепостные стены ощетинились бойницами вовсе не потому, что шайки разбойников, главари которых, смеясь, обещали в один прекрасный день захватить золото Папы, бродили вдоль Роны, а потому что Папа, к великому возмущению мистиков, непременно хотел, чтобы его считали одним из повелителей мира сего, и причем самым сильным. Авиньонский дворец, как и старый Лувр или Белльвер, построенный для короля Майорки Иакова II, имеет форму каре. В самом центре здания есть пространство, окруженное лоджиями и предназначенное для веселых праздников. Но дворец по-прежнему свидетельствовал о полновластном величии его хозяина. Климент VI нарушил суровость стен некоторыми архитектурными украшениями. Он также повелел устроить в одной из башен несколько маленьких уютных комнат.
Правители XIV века действительно хотели, чтобы в цитадели, демонстрировавшей их могущество, поселилась радость. Достигали они этого двумя путями. Если их жилище должно было по-прежнему сохранять функции крепости, то оно хотя бы становилось, по крайней мере, уютнее. Начиная с XII века роль благородных дам в жизни сеньоров постепенно возрастала. Менялись и представления о светской жизни. Эти факторы заставили рыцарей пересмотреть взгляды на грубые схватки и жестокую охоту. Они научились обходиться без доспехов. В XIV веке они узнали, что в их пристанищах с помощью факелов и огня в камине можно предаваться житейским удовольствиям даже ночью и даже зимой. Государь, цвет рыцарства и, следовательно, образец галантной учтивости, должен был в первую очередь обустроить в своей резиденции места, способствовавшие интимным утехам и любовным праздникам. Во всех новых или отремонтированных замках около старого зала, где собирались воины и где хозяин вершил правосудие, располагались небольшие комнаты с камином. Гобелены, развешанные на стенах, придавали им теплоту и уют. Итак, в XIV веке рыцарский замок начал постепенно превращаться в особняк. В саду дворца Сен-Поль, ставшего излюбленной резиденцией Карла V, были разбросаны маленькие забавные павильоны, приспособленные для разных житейских увеселений.
Второе дополнение носило декоративный характер. Сама война требовала украшения. Она была праздником. Несомненно, самым волнующим праздником, на который рыцарь приезжал одетый в самые роскошные наряды. Разорванные в клочья шелка, разноцветные камзолы, золотые пояса и остатки украшений усевали поля сражений XIV века. Первоочередная задача придворных художников заключалась в изготовлении красивой конской упряжи. Когда в 1386 году бароны Франции собрались во Фландрии, намереваясь захватить Англию, они выразили желание «украсить корабли своими гербами, штандартами и драгоценными камнями». Герцог Бургундский Филипп I доверил орнаментировать корабль лучшему мастеру — Мельхиору Брудерламу. Фруассар добавляет, что
<...> художников не торопили. Они получали все, что просили, если только это можно было найти. Они изготовляли знамена, штандарты из красного шелка, столь красивые, что лучших нельзя было даже представить себе. Они расписывали мачты до самого верха, а многие из них покрыли золотыми пластинками, чтобы показать богатство и могущество. Внизу помещали гербы сеньоров, которым принадлежали корабли.
Поскольку военная церемония должна была также блистать обилием побрякушек и безвкусными, но яркими украшениями, вполне естественно, что и башня получила убранство. Как и шлем, ее увенчали покрытым иглами декором и султаном, украшенным пламенем. Ювелирное искусство отделки нашло для себя новый материал — камень; оно обрабатывало его в той же манере, в какой выражались все мечты куртуазной галантности о бегстве от действительности. Готический орнамент достиг своего расцвета в замке Меюн-сюр-Иевр, отделанном по приказу Иоанна Беррийского. Замок стал выражением его буйной фантазии. Символ феодального могущества, устремившийся ввысь под шелест развевающихся вымпелов и знамен, замок владетельного князя повторял на своих стенах обильные украшения амвонов и страниц Часослова. Он символизировал бесполезность рыцарской мечты и расточительности.
Однако в европейском сознании зарождалась и другая концепция власти — более цивилизованная, более строгая. Опиралась она на римское право. Гораздо больше людей стало размышлять о политике. Внимание к механизмам власти было порождением возвышения государств и совершенствования органов управления. Княжествам приходилось брать на службу тех, кто, обучаясь в университетах, научился мыслить. Княжества теперь созывали собрания, Штаты[185], на которых представителям высших сословий вменялось в обязанность высказывать мнение по поводу важных событий и обсуждать общественные дела. В XIV веке в Европе стали пробиваться первые ростки гражданского мышления и одновременно увеличилось число людей, воспринимавших власть как абстрактное понятие, поскольку в это же самое время философы также обратили свой взор на проблемы управления. Политическая наука относилась к той светской области познания, которую доктрина Уильяма Оккама сделала открытой для опыта и рациональных умозаключений. Прежде всего у ученых вызывали беспокойство основные разногласия, омрачавшие средневековую политическую жизнь, в том числе старый конфликт между императором и Папой, между двумя могущественными ветвями власти, которые начиная с эпохи Карла Великого зависели друг от друга и обе претендовали на всемирное господство. В действительности борьба закончилась в середине XIII века полной победой Святого Престола. Однако триумф Рима по-прежнему вызывал полемику по поводу основ гражданской власти. В то время как юристы, состоявшие на службе Понтифика, использовали все возможности схоластики, чтобы окончательно подчинить папству теократическое учение, легисты Филиппа Красивого, короля Франции, искали в римском праве аргументы, чтобы обуздать чрезмерные притязания Бонифация VIII. Их учение было сродни учению итальянских гибеллинов, которое прославляло идею империи, в частности в «De Monarchia» Данте. В канун XIV века разногласия вспыхнули с новой силой. Тот факт, что центром власти Пап стал Авиньон, наглядно показал ее потворство преходящему. Король Германии Людвиг Баварский прибыл в Италию, чтобы заполучить императорскую диадему. Значительная часть францисканского ордена отвергла папское определение бедности. Именно в этот период появились два произведения, остававшиеся на всем протяжении XIV века путеводной звездой политической мысли.
Когда францисканец Уильям Оккам, которого за инакомыслие преследовала авиньонская курия и которому предоставил убежище император, писал «Dialogus», он еще придерживался основополагающего принципа своей методики, разгораживавшего религиозное и светское. Он неукоснительно отделял Церковь от государства, предоставляя последнему монопольное право на политические действия. Он утверждал, что Папа не может лишить людей свобод, предоставленных им Господом или природой. Итак, природа следом за Богом была признана источником права, что означало радикальную секуляризацию юридического учения и юридической науки. Однако другая книга, «Defensor pads»[186], опубликованная немного ранее двумя преподавателями Парижского университета, Марсилием Падуанским и Жаном Жанденом, содержала еще более резкую и революционную критику и вела открытую борьбу против притязаний Церкви на власть. Светские права, которыми она обладала, были украдены у государей. Совершенно недопустимо полагать, что может существовать независимая духовная жизнь. Не существует духа отдельно от тела, следовательно, духовное не существует отдельно от мирского. Поэтому особая власть Церкви есть результат узурпации. Необходимо подчинить эту власть государству. Однако откуда проистекает власть государства? Древняя феодальная традиция гласила: от меча, от войн, победоносно завершенных предками государя. Учение докторов соборных школ утверждало: от Бога, наделившего королей могуществом. А Папы добавляли: через святого Петра. «Defensor pads» с поразительной отвагой отвечал: от народа. От «большинства граждан, которые издают закон».
Слова «народ», «свобода», «граждане», «закон», «большинство», которым вскоре станут вторить «добродетель», «порядок», «счастье», звучали как римские максимы. Марсилий Падуанский вычитал эти слова у Тита Ливия. Пусть они еще сопровождались звоном оружия, но все-таки это было оружие ликторов и легионеров, а не крестоносцев. Эти идеи постепенно пробивали себе дорогу. Петрарка обогатил их своими знаниями классиков. В третьей четверти XIV века король Франции Карл V изъявил желание предстать перед своим народом в образе мудрого правителя. Все должны были знать, что в опочивальне он размышлял над книгами, что жил он в окружении ученых мужей, что зимой он «часто был поглощен до самого ужина чтением прекрасных историй Священного Писания, повествований о деяниях римлян или нравоучений философов». Специально для него перевели «Политику» Аристотеля, а в «Сновидении садовника» разработали целую теорию о королевской верховной власти, осуществляемой на благо res publica[187] и направляемой советами умеренных и осмотрительных людей. «Когда ты можешь отстраниться от церковного прихода и серьезных раздумий о судьбах народа и общественных делах, ты втайне читаешь и велишь читать любое хорошее учение или доктрину». Король больше не руководил сражениями лично. Эту миссию он возлагал на коннетаблей. В данном случае духовенство одержало победу над рыцарством, но речь идет о секуляризированном и сведущем в «деяниях римлян» духовенстве.
Для могущества, объявившего себя природным и как будто бы опиравшегося на народ, для власти, принявшей светский характер, требовались новые атрибуты, новые символические фигуры. Конь оставался, правда, при условии, что это конь Константина или Марка Аврелия. Но башня безвозвратно ушла в прошлое. Древний Рим предлагал иные средства для прославления правителя и укрепления его могущества. Художники Южной Италии извлекли их из прошлого для прославления императора Фридриха II. Когда во время юбилейного 1300 года обещания Папы Бонифация VIII раздать индульгенции привлекли в город цезарей и Святого Престола весь христианский народ, Папа повелел лучшим художникам Италии окружить его трон новыми символами и установить каменные изваяния императора во всех завоеванных для него городах. Новый образ могущества отождествлялся с торжествующей фигурой живого государя, с его статуей. Действительно, похожие статуи мужчин и женщин, которые в XIV веке вытеснили из порталов церквей статуи пророков, апостолов или царицы Савской, и те памятники, которые в свою очередь пришли на смену надгробным монументам в виде лежащих фигур, изображали в большинстве случаев владельцев сеньорий или их домочадцев. В апсиде Пизанского собора вскоре была установлена статуя Генриха VII Усыпальницу императора охраняли статуи его четырех советников. Карл V повелел изобразить себя в окружении супруги и сыновей и установить эту скульптурную композицию на новой лестнице Лувра. У входа на пражский Карлов мост восседают на троне короли Чехии. Королева Изабелла Баварская утвердила свое очарование и прелести своего тела в большом камине замка в Пуатье.
Наряду со статуей императора в Пизе была воздвигнута еще одна статуя, но не дамы, а абстрактного могущества, почти божества: статуя города. Города-республики заботились о том, чтобы превозносить гражданскую сторону своего могущества, которое зиждилось, как утверждали юристы, на праве Древнего Рима. Наиболее развитые республики Центральной Италии с гордостью говорили о своем римском происхождении. Будучи присяжными союзами теоретически равных граждан, которые по очереди исполняли обязанности магистратов, они проводили активную военную и откровенно агрессивную политику, однако претворяли ее в жизнь руками хорошо оплачиваемых наемников. Гражданам представлялось, что порядок, благоприятствующий торговле и всеобщему процветанию, должен быть основан на согласии, свободе, взаимной верности и всеобщей любви к городу-государству. Для того чтобы воссияла слава города, необходимо было объединиться. Слава находила проявление в монументальных произведениях, которые оплачивались из городской казны и заказы на которые художники получали на конкурсной основе. Из этих коллективных свидетельств престижа до наших дней дошло несколько символов военного могущества. Четырехугольные, массивные, глухие у основания и становящиеся все более изящными по мере приближения к вершине, колокольни коллегиальных церквей и каланчи ратуш, взметнувшиеся до небес по заказу муниципалитетов Северной Европы, были, по сути, башнями, похожими на башни рыцарских замков. Палаццо тосканских городов или дворцы подеста, представлявших императорскую власть, были не чем иным, как римскими домами с внутренним двориком, которые превратились в крепости и вознеслись ввысь наподобие вызывавших головокружение башен. Все без исключения патрицианские роды хотели построить подобную башню. Одержавших победу кондотьеров было принято изображать в образе солдат. Их статуи заполонили площади и залы ратуш, образовав целую кавалькаду. Тем не менее, по крайней мере, одно направление нового городского искусства отвергало эти военные символы. Около башен и новых террас били публичные фонтаны, источники мира. Девять доблестных ратников из рыцарской страны грез еще украшали фонтан Нюрнберга, оформленного в последней четверти века. Хотя уже минула целая эпоха с того момента, когда Никколо Пизано поместил элементы новой публичной иконографии на фонтане, воздвигнутом им в 1278 году по заказу коммуны Перуджи. Там, безусловно, присутствовали свойственные соборной схоластике патриархи, святые, знаки Зодиака, символы месяцев и свободных искусств; однако рядом с ними появилась и Волчица, кормящая Ромула и Рема, а также двойное изображение Перуджи и Рима, caput mundi[188]. Несколько лет спустя у основания колокольни Флоренции была установлена скульптура, прославлявшая Труд и Доброе правление, гарантов порядка и мира.
Первые итальянские фрески, воспевавшие величие городов, не дошли до нас. Полностью утрачен гороскоп Падуи, которым Джотто украсил Палаццо Публико, точно скопировав научную программу, разработанную одним из преподавателей университета. Самые древние из всех сохранившихся фресок подобного рода выполнены Амброджо Лоренцетти между 1337 и 1339 годами по заказу Сиенской республики. Они остаются самыми полными и самыми выразительными. Коммуна сначала пригласила Симоне Мартини, чтобы тот украсил наружные стены Палаццо Публико эпизодами римской истории. Она также хотела помочь магистратам никогда не сбиваться с прямого пути и поэтому пришла к выводу, что перед их глазами должны всегда находиться изображения добродетелей, воплощением которых они призваны служить, и последствий принятых ими политических решений. Поэтому коммуна решила сконцентрировать их внимание на противоположных аллегориях Доброго и Дурного правления. Перед Амброджо была поставлена задача расписать Зал заседаний Совета убедительными образами, олицетворявшими Аристотелевы понятия, которыми пользовалась риторика. Светская мысль того времени могла подняться до абстрактных идей лишь с помощью аллегории. Следовало придать этим идеям человеческий облик, наделить знаками отличия, выписать лицо и одежду и для большей убедительности постараться вдохнуть в них жизнь. Нудная когорта аллегорических фигур заполнила нравоучительные поэмы XIV века. Они появлялись во всех пантомимах, авторы которых хотели убедительно истолковать концептуальную теорию. Они стояли около фигур святых, облаченных в точно такие же одежды. Они способствовали образованию целого направления в светской живописи.
В Зале заседаний Совета Сиены Дурное правление представлено в образе князя Зла, сопровождаемого силами хаоса, Беспорядком, Скупостью, Тщетной Славой, Яростью и попирающего Справедливость. Ему противостоит торжествующее Доброе правление. Наделенное гражданскими атрибутами власти, оно величественно восседает на троне. У Доброго правления густая борода, как у императоров. Около его ног Волчица кормит молоком Ромула и Рема. Со всех сторон Доброе правление окружают рыцари-стражники с поднятыми вверх копьями. Воссияв во славе, оно занимает место Предвечного, верша суд над добрыми и злыми: по левую сторону находятся закованные в цепи пленники, враги коммуны, одним словом, возмутители спокойствия, которых обратила в рабство победа; по правую сторону — безмятежная вереница двадцати четырех советников. Словно торжествующий святой Фома доминиканцев, Доброе правление властвует, прислушиваясь к советам аллегорических фигур, но уже не девяти доблестных ратников, а девяти высших Добродетелей. Высоко в небе парят три первостепенные христианские Добродетели. Вокруг престола Доброго правления царственно восседают Сила и Благородство, Воздержание и Осмотрительность, Справедливость и, наконец, восхитительно беспечный Мир — шесть Добродетелей земной жизни, которые на символических эмблемах императорского величия образовывали свиту наместников Бога на земле. Они хоть и ниже ростом, чем Доброе правление, но так же, как и оно, увенчаны короной. Немного дальше в той же иерархической последовательности вновь появляется Справедливость, вдохновляемая Мудростью. Она карает плохих людей, вознаграждает хороших и, радея о равенстве прав и обязанностей, распределяет блага мира. Не стоит забывать, что коллегиальная сеньория, заказавшая эту фреску, выражала интересы «тугих кошельков», считавших нажитые барыши совершенно законными. От двух уравновешенных чашек весов Справедливости отходят две бечевки, которые сплетает Согласие. Соединенные бечевки символизируют не только гармонию, но и дружеские узы, объединяющие корпус магистратов. В такой абстрактной форме находит свое выражение целостная концепция.
Однако эти Добродетели, оказывающие влияние на жизнь городов и деревень, находят выражение в конкретике пережитых событий, отмеченных печатью повседневности. Внизу даны сцены из жизни. Амброджо Лоренцетти не ограничивает жизнь символическими рамками архитектуры соборов. Он переносит ее на театральные подмостки, поскольку политика свободна от литургии. Народ мирно трудится, стремясь разбогатеть и при этом не нарушить закон. Скрупулезно выписанный тяжелый труд действительно позволяет достичь благосостояния, необходимого для обеспечения безопасности и дальнейшего продвижения народа по пути справедливости. Тем не менее тривиальные усилия крестьян и торговцев влекут за собой исключительно радости дворянства, немотивированные действия, позволяют беззаботным девушкам устраивать танцы, а кавалькадам всадников отправляться на соколиную охоту. Однако самое главное заключается в том, что эта публичная аллегория могущества представляет собой одно из самых восхитительных изображений чувственной природы. Это первый настоящий пейзаж, написанный на Западе.
Хотя в ту пору Европу попирали вооруженные люди, опустошали эпидемии чумы, XIV век здесь стал эпохой расцвета песни. Песни носили откровенно пасторальный, незатейливый и всегда радостный характер. Под их ритмы девушки танцевали и водили хороводы на лужайке. Девичьи платья, украшенные цветами, принесли с собой обаяние соседних лугов в каменную кубистскую вселенную Сиены Лоренцетти. Светлая радость в полной мере расцветала на природе, на воздухе полей и лесов, а искусство, которое она вызывала к жизни, украшало стены закрытых залов и книжные страницы видимостью деревенских удовольствий. Мечта, которую она предлагала, устремлялась в знакомые леса и сельскую местность.
Рыцарская культура действительно зародилась в мире, практически не знавшем городов. Богатство сеньора основывалось на земле и крестьянском труде. Владетельные князья беспрестанно ездили из одного владения в другое и созывали торжественные ассамблеи на лоне природы. Известно, что Людовик Святой любил вершить правосудие, сидя под дубом, а опасные наслаждения, которые доставляла рыцарям XIV века война, в основном были вызваны тем, что искусство сражаться рассматривалось как спорт под открытым небом. Бои устраивались посреди виноградников, на лесных опушках, под запах, источаемый истоптанной землей. Битвы начинались, когда еще не высохла роса, и постепенно разгорались к восходу солнца. Когда башня расстегнула каменный пояс своих стен и приготовилась вкушать сладость жизни, она сразу же попала в сад. Во внутреннем дворике папского дворца в Авиньоне расцвел фруктовый сад, вдали от Праги возник Карлпггейн, а Виндзор — вдали от Лондона. В Париже старый дворец на острове Сите, да и сам Лувр были расположены слишком далеко от лесных зарослей, и поэтому Карл V приказал купить сады в районе Марэ и возвести там дворец Сен-Поль. Следуя примеру дворян, развлекавшихся на природе, все разбогатевшие торговцы хотели непременно обзавестись поместьем вне городской черты. Поставившая образ сеньора-феодала в центр своего идеала земного счастья культура Запада, которую влекли за собой и определяли городские нравы, вкусы и труд, не должна была более избегать соблазнов веселых сельских шалостей. Неожиданно выяснилось, что их уже воспел открытый заново Вергилий. Зарождавшийся гуманизм последовал его примеру и стал восхвалять буколические радости и прославлять счастье пастухов. Он побуждал своих приверженцев поменять фальшивую роскошь дворцов на бесхитростные сельские удовольствия. Он также устраивал вдали от городов места, предназначенные для ведения праздных бесед. Счастливая компания из «Декамерона» собралась вовсе не во Флоренции, а Петрарка бежал из Авиньона в Фонтен-де-Воклюз. Светские люди стремились перенести на свежий воздух даже свою религиозную жизнь. В куртуазных романах носителями христианской идеи были отшельники, уединившиеся вместе с волшебниками в лесных чащобах. Рьщарский оптимизм нигде не встречался со своим Богом так близко, как на просторах девственной природы. Для христианина, освобождающегося от оков литургий и стремящегося обрести чистую любовь, Бог, как утверждает Майстер Экхарт, «засияет в каждой вещи, ибо каждая вещь имеет для него вкус Бога и он всюду видит его образ». Мистическое озарение переносит душу в центр сада, правда, огороженного стенами, но зато полного цветов, птиц и журчащих источников. Церковь соборов короновала Деву Марию. Она представила Мадонну народу как королеву, окруженную ангелами и торжественными литургическими символами могущества, XIV век вернул Ее к самой себе, безусловно, погрузив в искупительное страдание людей, простершихся перед Телом умершего Бога, однако придал Ей облик счастливой женщины. Ликующая Мадонна Посещения, Рождения и Младенчества Христа восседает среди цветов и тех самых венков, которые Жанна д'Арк вместе со своими спутниками будет по вечерам развешивать на священных деревьях. Сидя в саду на траве, Она царствует как владычица умиротворенной природы.
Когда монахи и священники литургического века говорили о природе, они имели в виду абстрактную идею совершенства, неподвластную пониманию. Для нихприрода была концептуальной формой проявления сущности Бога, непреходящим и искусственным явлением, которое нельзя постичь с помощью зрения, слуха, обоняния. Не беспорядочной и недостоверной видимостью мира, а тем, чем был Райский сад для Адама до грехопадения: спокойной, размеренной и добродетельной вселенной, упорядоченной Божественным разумом и не подвластной смятению или разложению, возникшим одновременно с могуществом женщин и смертью. По их разумению, natura противостояла gula, voluptas, то есть физической развращенной природе, не подчиняющейся велениям Бога, строптивой и поэтому приговоренной, презренной и недостойной внимания. Интеллектуалы XII и XIII веков составили о природе духовное, бестелесное представление. Для того чтобы как можно глубже проникнуть в тайну, необходимо было идти путем размышлений, переходить от одного умозаключения к другому, от одной абстракции к другой. Только так можно было проникнуться разумом Бога. Физика интеллектуалов оставалась концептуальной, вот почему их учение так естественно соотносилось с учением Аристотеля.
У истоков Аристотелевой физики стояло наблюдение. Однако процесс развития знания происходил точно так же, как процесс развития схоластической логики: от частного, случайного к общему. Наука постепенно выходила за пределы изменчивого и неустойчивого, чтобы добраться до сущности субстанций, основания и причины всех наблюдаемых явлений. Таким образом, знание достигло своей цели, последовательно пройдя три абстрактных уровня: физический, математический и, наконец, метафизический. Согласно учению Аристотеля, физика — наука обо всем том, что во вселенной постоянно претерпевает изменения, — была строго отделена от математики — знания о том, что во вселенной становится устойчивым, когда абстракция достигает высшего уровня. Когда переводчики с арабского сделали его философию доступной, преподаватели и студенты факультета свободных искусств Парижского университета с воодушевлением внесли в нее свой вклад. Они увлеклись иерархической, целиком рациональной космологией и наукой о микрокосмическом человеке, симметрично с ней связанном. Подобная концептуализация мира способствовала объяснению природы, в которой интеллектуалы видели форму проявления Божественного разума. Попав в зависимость от людей, которые презирали плоть, объявляли ее погрязшей в грехе, отрицали непосредственное наблюдение и опыт, утоляли жажду знаний силлогизмами и голыми умозаключениями, искусство ранней готики, как и все романское искусство, приобрело абстрактный характер. Оно изображало не дерево, а идею дерева. Точно так же оно изображало не Бога, не имевшего внешности, а идею Бога.
Тем не менее Бог постепенно перевоплощался. В соборном искусстве изображения созданных существ мало-помалу приближались к их реальному облику. Вскоре в цветочном убранстве капителей можно было распознать листья салата-латука, земляники и винограда. Медленное распространение нового христианства, того самого, которое проповедовал святой Франциск и которое, излучая оптимизм, родственный рыцарской радости, предполагало восстановить в правах телесный мир, брата Солнце и другие создания, во многом способствовало привлечению внимания людей культуры к конкретному. Парижский университет и двор Людовика Святого заполонили монахи-францисканцы, пользовавшиеся огромным влиянием. Они говорили о видимой природе, которая больше не была греховной и к которой разрешалось обратить взоры. Однако в русле самой школы продолжали существовать некоторые недомолвки относительно системы Аристотеля, не представлявшейся такой уж неуязвимой. Схоластическая логика возникла для того, чтобы сделать очевидным противоречия властей и устранить их. Она вскоре обнаружила, что космология Аристотеля не соответствовала другим системам, в частности системе Птолемея, ставшей известной благодаря переводам «Альмагеста». Для того чтобы нивелировать эти расхождения и сделать выбор между враждебными друг другу точками зрения, предстояло внимательно изучить мир. В XIII веке астрономы оксфордского Мертон-колледжа и Парижского университета были первыми учеными Запада, сознательно прибегшими к опыту.
У физики Аристотеля имелись и гораздо более серьезные недостатки. Она не соответствовала христианским догматам. Сделав человека пленником космоса, она не признавала за ним свободы. Вводя понятие вечной материи, она не оставляла места ни для создания, ни для конца мира. В своих комментариях Аверроэс разъяснил все то, что христианству казалось незыблемым в физике Философа. Но в 1277 году епископ Парижский Этьенн Тампье торжественно осудил Аверроэса и его учение. Этот акт духовного притеснения, отвергнув удобную систему, дававшую на все ответ, вновь вверг мир в царство таинства. Он побуждал ученых к поиску. В школах Оксфорда францисканцы уже следовали по новым путям. Вопреки учению Аристотеля Роберт Гроссетест пришел к выводу, что свет представляет собой некую субстанцию, общую для всей вселенной, и это позволило рассматривать созданный мир как незакрытое, незамкнутое пространство и воссоздавать его до бесконечности. А поскольку свет мог вспыхивать и гаснуть, то и мир мог возникнуть в определенный день и точно так же мог когда-либо исчезнуть. Эта система способствовала развитию методологии. Поскольку вселенная рассматривалась как свет, то, для того чтобы понять структуру физического мира, следовало установить законы оптики. А такие законы находились в прямой зависимости от геометрии и арифметики. Итак, математическая наука оказалась объединенной с физической. Мистика чисел, которой придерживались сторонники неоплатонизма, с одной стороны, могла обоснованно объяснить мир, но, с другой стороны, новая система предлагала измерить вселенную. После 1280 года точные науки стали бурно развиваться именно по этому направлению. Система Аристотеля наделяла четыре элемента только концептуальными качествами. Ученые Оксфордского и Парижского университетов пытались придать этим качествам количественные характеристики. Поскольку для ученых свет был фонтанированием, динамизмом, они, размышляя о движении, в конце концов предложили, отвергнув греческую математику, которая оставалась математикой покоя, математику движения. Новая доктрина придавала огромную важность взгляду и считала главным методом исследований прямое и непосредственное наблюдение. Таким образом, наука стала беспристрастной. Когда на пороге XIV века другой францисканец из Оксфорда, Уильям Оккам, восполнил образовавшийся вакуум опровержением аристотелизма, когда он сумел убедить приверженцев различных школ, что любое концептуальное знание иллюзорно, что постижение субстанции вещей недоступно человеческому разуму, что разум способен постигать свойства и акциденции лишь с помощью чувств, он тем самым наделил видимую природу ее главной ценностью. Все развитие мысли, которое привело к оккамизму и вместе с ним устремилось в треченто, вырвало природу из области абстрактного, перевело ее в сферу конкретного и восстановило видение в правах. Став союзником францисканской и придворной радости, оно побуждало художников видеть.
Видеть мир и его разнообразие. Рыцарское общество, которое переняло эстафету от лучших представителей Церкви, намереваясь управлять творческим процессом, неожиданно проявило любопытство и стало находить удовольствие в созерцании вещей. У него возник вкус к незнакомому. Экзотика распахнула перед ним одну из дверей для бегства в неведомое. Само положение в обществе обязывало рыцаря путешествовать в поисках приключений и развлекаться, открывая для себя дальние страны. Крестовые походы действительно представляли собой прекрасный предлог для путешествий. Большинство крестоносцев бродили, словно туристы, по странам средиземноморского Востока. В художественных произведениях, созданных специально для рыцарской аудитории, говорилось в основном о заморских землях. Уже в первых жестах возникли образы сосны и оливы. Они были одновременно и ностальгическими воспоминаниями, и призывом к новым странствиям. Рассказы о подлинных путешествиях вступили в соперничество со сказками, которые создавали из рыцарских поисков вселенную небылиц и грез. «Зеркала мира», «Книги чудес», «Книги сокровищ», «Бестиарии», «Лапидарней»[189], написанные на народно-разговорных диалектах для окружения знатных сеньоров, давали подробное описание незнакомых созданий. Однако, в отличие от драконов и единорогов, эти существа действительно жили на Земле. Владетельные князья XIV века, в основном для развлечения, но также и из-за желания обладать всей вселенной, собирали коллекции диковинок, которые привозили купцы из различных уголков мира. У себя в садах они содержали зверинцы, где можно было увидеть живых обезьян и леопардов.
Однако рыцарское любопытство простиралось и на близкую, привычную природу, таившую в себе тайны и способствовавшую удивительным открытиям. Охота тоже была своего рода завоеванием. Для человека она служила повседневным средством приобщиться к созиданию, подчинить его своей власти. Охотники получали прямые и очень точные знания о диких зверях, их нравах, логовах и норах. Некоторые из охотников, последовав примеру императора Фридриха II, излагали накопленный опыт в трактатах. Наряду с любовными песнями и рассказами о дальних путешествиях охотничьи книги стали первыми литературными произведениями, написанными рыцарями. Это были предшественники естественной истории. Такие книги пользовались огромным успехом. Читатели с удовольствием рассматривали на полях Псалтирей и Часословов точное изображение зверей или растений, которых они видели во время облав. Художники помещали подобные изображения среди рисунков сказочных животных, окружая их витиеватыми орнаментами из диковинных цветов.
Рыцарская культура вызвала к жизни четкое изображение действительности — правда, действительности фрагментарной. Благодаря простоте форм она предлагала узнаваемые с первого взгляда предметы, которые, однако, должны были быть единичными, глубоко вплетенными в память или в полотно поэтической нереальности. На куртуазных праздниках дворянство не выставляло природу напоказ. Оно использовало ее отдельные элементы, которые помещало на своих нарядах как украшения, переплетавшиеся с нитями, которыми был вышит нереальный декор, золотой фон или красные и голубые клетки, напоминавшие витражи. Это было необходимо для соблюдения ритуала. Когерентному единству концептуальной Вселенной оккамистская физика противопоставила раздробленность, разнообразие феноменов. Она разрушила цельное пространство Аристотеля, заполнила вакуум мира нагромождением сокровищ коллекционера и мечтала оживить разрозненные частицы движением impetus[190], порывистым стремлением, для которого парижский магистр Буридан разработал целую теорию. Это было сделано наподобие того, как извилистые каркасы поддерживали замысловатые шляпы, как неистовство состязаний вовлекало в круговорот переливавшиеся всеми цветами радуги конские попоны. Однако художники узнали правила перспективы вовсе не от оксфордских математиков, которые тем не менее открыли оптику. Изображения природы, созданные для рыцарской радости, были основаны вовсе не на расчетах, как, например, римские базилики и соборы. Пространство иллюстраций расплывается под многочисленными прерывистыми, острыми, зоркими взглядами. Первые попытки рационально нарисовать пейзаж были предприняты не в Париже, а в Италии.
Именно в Италии странствующие монахи францисканского ордена проповедовали нищету духа и предавали анафеме научные изыскания. Университеты в целом оставались невосприимчивыми к оккамизму и продолжали комментировать Аристотеля и Аверроэса. Они не расставались с древней философией до тех пор, пока во Флоренции не появился перевод послания Платона, потрясающего, однако слишком запоздалого. Все научные открытия XIV века, кроме достижений в области медицины, были сделаны за пределами итальянских школ. Властители умов этой страны, прелаты и доминиканцы, с помощью которых элита городского общества приобщалась к книжным знаниям и которые составляли иконографические требования к художественному убранству, навязывали образ концептуальной, единой и целостной вселенной. Тем не менее язык художников полуострова, возрожденный на основе шедевров античной живописи, раньше всех остальных вновь открыл древние способы создания обманчивого представления. Для великого театрального искусства представлений, прославлявших гражданское величие и Иисуса Христа, требовались простые символические декорации, несколько элементарных знаков, которые перенесли бы действие на определенное место. Вслед за романским искусством и византийской живописью это искусство прибегло к абстрактному языку. Оно окружило персонажи понятиями деревьев, скал, построек и престолов. Но поскольку речь шла уже о театре, то требовалось, чтобы элементы декораций были рационально размещены в замкнутом пространстве, ограждены рамками и не представали, по сравнению с правдивостью игры актеров, в несогласованной нереальности. На просторной сцене своей драмы Джотто расположил фигуры Бога и святых в пластической материальности, что придало им вес и телесное обаяние статуй. Теперь было очень важно создать вокруг них определенную глубину фона. Джотто не стремился окружить их атмосферой. Тем более он не хотел расписывать стену позади них спасительным пейзажем. Он просто решил прибегнуть к уловкам только зарождавшейся перспективы, чтобы образ символических предметов, локализовывавший фигуры, устремлялся, в глазах зрителей, в третье пространство. Перемещение, свойственное театральной выразительности, пришедшей на смену выразительности литургической, исключало внезапное вторжение реализма. Напротив, напоминавшее квазиаристотелевскую абстракцию случайности и движения, оно призывало не пренебрегать оптическими законами, которые открывали путь иллюзии.
Джотто никак нельзя назвать провозвестником веризма. Тем не менее Боккаччо через несколько лет после смерти художника с восхищением писал о его манере изображать действительность: «природа не порождает ничего идентичного тому, что он написал, и даже похожего на то, хотя подчас люди ошибаются, глядя на вещи, сделанные им: они принимают за подлинную действительность то, что представляет собой только живопись». Однако действительность, о которой говорит Боккаччо, не носит трансцендентного характера. По сути, речь идет о внешней стороне мира. Тем временем у итальянских меценатов также пробудилось любопытство к природе вещей. Теперь они захотели, чтобы искусство давало им правдивую картину реальной действительности.
Именно здесь стало сказываться влияние менталитета, который можно назвать буржуазным, не исказив его глубинных устремлений, и который был присущ не только практикам в области медицины, юриспруденции и общественного управления, но и всем разбогатевшим благодаря собственному труду людям, вставшим у кормила власти городских сеньорий. Эти практики не посещали университетов. С помощью своего ремесла они приобрели остроту зрения, необходимую для того, чтобы с первого взгляда оценить многочисленные предметы mercatura[191]. Они вели дела со многими странами и поэтому имели о мире целостное, точное и стройное представление. Они чувствовали цифры, и для них слово ratio означало бухгалтерскую операцию. Эти люди хотели, чтобы декор написанных сцен более верно отражал реальность мира, сохраняя в то же самое время когерентность, целостность и глубину театрального пространства. Аллегории Доброго правления — это концепты. Они по-прежнему помещены в рамки сценической абстракции. Однако в тот самый момент, когда Джованни Виллани использовал для описания Флоренции статистические методы, в Сиене взору финансовых воротил и торговцев тканями и пряностями открылся первый рационально построенный пейзаж, изображенный внизу аллегорической композиции. Он стал образцом для подражания. После опустошительных эпидемий чумы он вдохновлял художников Ломбардии. Впоследствии перенесенный из Милана в Париж, он позволил братьям Лимбург, наследникам реалистического, пусть фрагментарного, но более чувственного восприятия рыцарской страны грез, изображать природу во всей ее правдивости. Природа перестала быть лабиринтом, узким просветом, куда можно проскользнуть, где можно раствориться в тайне, идя от завоевания к завоеванию, от неожиданности к неожиданности, чтобы наконец наткнуться на подобие неба, закрывавшего его словно занавес. Прорвавшись сквозь толщу атмосферы, свет глубоко пронизывал театральный задник. Он объединил отрывистые взгляды, бросаемые на вещи, в единое целое, которое, впрочем, не имеет границ.
На пороге эпохи, которую историки европейской культуры назвали Возрождением, Париж, а вслед за ним Авиньон и Рим, утратили свое значение. Авангард нового искусства утвердился во Флоренции и Фландрии. Превратности политического развития привели к тому, что Папский Престол ослабел в хаосе раскола, а семейные разногласия, мятежи и война разобщили и разметали двор Валуа. Тем не менее эти случайные перипетии не лишили художественное творчество покровительства со стороны государей-меценатов, которые на протяжении всего XIV века диктовали ему свои условия. Безусловно, самые процветающие города мира находились в Тоскане и во Фландрии. Однако Париж, Авиньон, Милан, где некогда расцвело куртуазное искусство, были в свое время главными перекрестками торговых путей и наиболее населенными городами метрополий. Как и братья Лимбург, Ян ван Эйк был придворным живописцем, служившим герцогу. Ему, конечно, случалось выполнять заказы купцов, однако они также состояли на службе у государя и гордились тем, что принадлежали к его дому. Они следовали вкусам своего хозяина. То, что фламандское искусство, до сих пор провинциальное, внезапно вышло на передовые рубежи в живописи, было связано с политическими событиями: герцоги Бургундские, принцы цветов лилии, унаследовавшие славу и состояние королей Франции, перенесли свое могущество и двор во Фландрию и призвали к себе лучших художников, которым в Париже более нечего было делать. А великий флорентийский век начался тогда, когда утихла смута, посеянная в рядах городской аристократии смертоносными эпидемиями, когда патрицианская элита вновь стала безупречным обществом, воспитанным в уважении к культуре, причем к культуре рыцарского вдохновения. Флоренция превратилась в блистательный очаг нового искусства в тот момент, когда республика незаметно трансформировалась в княжество, когда сеньория переходила под власть тирана, которого позднее сыновья постарались представить как самого щедрого из меценатов. В 1420 году в Брюгге и в Тоскане духовенство обладало ни меньшей, ни большей властью, чем ранее. Искусство оставалось отражением идеалов государя. Смена географических координат не означала разрыва. Она только прервала синтез готики и породила две тенденции, которые вскоре вступили друг с другом в откровенное противоречие.
При дворе герцогов Бургундских в Дижоне, а затем в Нидерландах скульпторы опережали живописцев в смелости. То же самое происходило и во Флоренции. Немногим более ста лет тому назад Никколо Пизано проложил дорогу Джотто. Все поиски неизбежно заканчивались живописью: живописью Ван Эйка и Мазаччо. Ван Эйк довел до совершенства аналитическое видение оккамизма, уделявшего пристальное внимание своеобразию каждого предмета. После братьев Лимбург ему удалось собрать воедино свои многочисленные наблюдения, соединить разнообразие видимых обликов во вселенной, ставшей целостной благодаря светлым принципам богословов Оксфорда. Этот свет, который представляет собой дыхание Разума, свет мистиков Грунендааля, который уже пытались воспроизвести художники Кёльна в закрытом саду Девы Марии, разгоняет туман рыцарской страны грёз[192]. Игра обволакивающих теней, отражение отблесков зеркалами и драгоценными камнями в пространстве запертых комнат, иризация, рождающаяся на открытом воздухе от проникновения лучей света в атмосферу, дают правдивую и целостную картину реальности. А вот Мазаччо вернулся к джоттовскому величию, чтобы изобразить христианство стоиков, которое не довольствовалось ни мечтами, ни мистическим просветлением, христианство суровости, равновесия и самообладания. Он отказался от излишеств орнамента и не задерживал внимания ни на непредвиденных феноменах, ни на модуляции света. У себя на родине архитекторы, неравнодушные к строгости глыб и очарованию гладких камней, измеряли не только предметы, но и пространство, то есть пустоту, и упорядочивали его в геометрической строгости. Так же, как и они и как Донателло, исказивший лица своих пророков человеческой болью, Мазаччо изображает мужество, смысл которого гуманисты постигли благодаря римским надписям на монументальных статуях империи. Для него живопись была уже «интеллектуальной вещью». Реальность, которую он писал, противостояла видению Ван Эйка и была реальностью абстракции, реальностью концепций Аристотеля. Он показывал логическую Вселенную, которую его искусство освещало светом разума и которая была также единицей измерения и исчисления.
Однако оккамизм Ван Эйка и перипатетизм Мазаччо все-таки нашли точку соприкосновения: величие человека. И тот и другой поместили человека в центр своего творчества. Причем нового человека — Адама и Еву. В теле Евы Ван Эйк увидел и открыл взору прелести чувственной природы. Из ее холмов, теней, их ласкающих, растительности он создал чудесный пейзаж, еще более убедительный, чем пейзаж «Поклонения агнцу». А страдающая пара Мазаччо заставляет задуматься не о муках Христа, распятого на кресте, а о человеке, распятом на собственной судьбе.
Тем не менее в этот момент развития искусства настоящая новизна заключалась совсем в другом. Ян ван Эйк работал на заказ. Он писал портреты каноников, прелатов, финансовых магнатов, возглавлявших в Брюгге филиалы больших флорентийских компаний. Но однажды он решил написать портрет своей жены. Не в облике королевы, Евы или Богоматери, а в жизненной простоте. Эта женщина не была принцессой. Ее изображение имело ценность только для автора. В тот день придворный художник обрел независимость. Он завоевал право созидать ради собственного удовольствия, творить свободно. В тот самый момент, когда во Флоренции Гиберти готовился воспеть свои произведения в «Комментариях», как воспел одержанные победы Цезарь, Мазаччо поместил изображение своего лица среди лиц апостолов «Притчи о денарии». Лицо человека. А теперь еще и лицо свободного художника.
Образы
1
Рауль Глабер писал незадолго до середины XI века. Он чувствовал, что вокруг начинают происходить изменения. Он был монахом — и эти изменения, так, как он их понимал, касались духовной жизни общества. Здания, которые только что построили в то время, здания, которые поднялись над землей, он видел и описывал, словно ткал непорочные одежды, в которые наконец могло облачиться христианство, примирившееся со своим Богом. Мы воспринимаем этот расцвет как одно из наиболее очевидных следствий крестовых походов. Стены новых строений были возведены армиями камнеломов, каменотесов, каменщиков. Это стоило денег. Огромные массы материала, из которых создавались дома Божий, были приведены в движение не крестьянами, отбывавшими повинность, и не меценатами, жертвующими средства на богоугодное дело, — это сделали профессионалы, наемные рабочие. Прекрасно знали это и хронисты, сообщавшие о том, что строительство того или иного собора начиналось со случайной и, следовательно, чудесной находки клада. Епископ Арнульф Орлеанский хотел очень быстро построить свою новую церковь. «Однажды когда каменщики, выбирая место для строительства новой базилики, обследовали почву, они обнаружили большое количество золота». Это золото они передали епископу. Говорили, что предыдущий настоятель при строительстве первого собора спрятал этот клад, предвидя грядущую реконструкцию храма. В действительности это означало, что религиозные общины пускали тогда в оборот часть золота и серебра, накопленного в казне или привезенного рыцарями из экспедиций в страны исламского мира. Большая часть денег, потраченных на строительство Клюни, как известно, была получена из Испании. Шедевры романского искусства появились благодаря первым финансовым операциям новой Европы.
Богатства стекались прежде всего в монастыри. Именно там шло самое интенсивное строительство. В первую очередь строили пристанище, которое должно было принять большую, процветавшую семью с крепкими внутренними связями, владевшую обширными земельными угодьями и с большим количеством прислуги. Семью, которую представляла собой любая бенедиктинская община. Эта община поддерживала связь с внешним миром. У врат монастыря находились дома для паломников, близ гостиничных корпусов размещалась прислуга. Именно сюда арендаторы несли дань и десятину, заполняя погреба снедью. Немногие монахи приближались к этой части монастыря, где осуществлялся контакт с мирской жизнью и ее гибельными искушениями. Большинство монахов жили изолированно, отделившись от мира стеной, за которую они отказывались выходить. Основное пространство монастыря замкнуто и сосредоточено внутри его стен.
Окруженный со всех сторон общими помещениями — залом для собраний всей братии, столовой, дортуарами, — клуатр был центром этого закрытого мира. Островок природы, но природы исправленной, огражденной от несовершенного мира, место, где воздух, солнце, деревья, птицы, проточная вода обретали свежесть и чистоту первых дней Творения. Пропорции клуатра символизировали, что он принадлежит к тому совершенному миру, которого земля не знает со времени грехопадения Адама. Квадратный, ориентированный по четырем сторонам света и четырем основным стихиям, из которых создан материальный мир, двор вырывал часть вселенной из хаоса, в который она погрузилась. Он восстанавливал ее гармоничные пропорции. С теми, кто решил провести здесь жизнь, он говорил на совершенном языке иного мира.
Посреди общего жилища это уединенный уголок, где даже сам покровитель монастыря появлялся редко, единственное место, не предназначенное для каких-то определенных целей, стало убежищем для размышления о таинствах Божиих, отсюда начиналось устремление к знанию. Глава общины по вечерам собирал здесь братьев на проповедь. Здесь проходили настоящие школьные занятия: чтение, размеренное изучение текстов, прерываемое пением псалмов. То, что заключалось в архитектуре и декоре, было повторено в изображении. Помещенные на страницах книг, которые каждый монах получал с наступлением Великого поста, чтобы в течение года читать и перечитывать их вслух, иллюстрации привязывались в сознании к словам. Живопись также несла знания. Связанная с текстами, она предлагала видимые образы каждого слова, стиха, отрывка, помогая понимать их смысл, постепенно идти от одного из множества открывавшихся смыслов к другому, постигать волнующие связи, существовавшие между Писанием и видимым миром.
Скульптурные изображения на капителях в клуатре монастыря выполняли иную функцию. Они были помещены здесь для защиты. Напоминали о существовании недобрых сил, подстерегавших человека, расставлявших ему ловушки и преграждавших дорогу, стремившихся сбить с пути и помешать спасению. Душе не следовало погружаться в дремоту — монастырь не был неприступным убежищем. Обитель должна была бдеть, ожидая приближения опасности. Всемогущий Бог борется с противостоящим ему противником, Сатаной, демоном, врагом. Имперское, классическое искусство не изображало дьявола. Монастырское искусство выдвигало его на авансцену. Не отвергая верований, которые пыталось отмести каролингское духовенство, монашеское христианство приняло весь комплекс погребального фольклора. Его захватила ночная стихия. Известно, что демоны могут проникнуть даже внутрь монастырских стен. Чтобы разрушить их козни, клюнийский устав предписывал никогда не гасить светильники в дортуарах. Однако даже свет не мешал демонам появляться там «ночью, в час, когда звонят к утренней службе». Рауль Глабер трижды видел Сатану. А этот монах был выдающимся интеллектуалом и не отличался легковерием. Был ли среди клюнийских монахов хоть один, избежавший подобной встречи?
Монахам, попытавшимся преодолеть страх и описатьувиденное, дьявол представал не в соблазнительном образе, который соответствовал бы менее грубой психологии XIII века. Он не прельщал, напротив, ужасал и преследовал жертву. Это было чудовище из кошмарного сна. У демонов, которых видел Рауль Глабер, и когтистых, растрепанных бесов на капителях в Сен-Бенуа-сюр-Луар или в Солье существует много общих черт, внимание от которых отвлекают соблазнительные образы. Чаще всего это женские фигуры. Изображая врага, скульпторы и художники обращались к двум стилям. Первый, использующий извилистые линии, прямо заимствованный из варварских орнаментов, был более распространен у народов, живших на побережье западных морей — в Ирландии, Англии, Скандинавии. В этих областях нет ни одного оплота романского искусства, который бы не подвергся влиянию возрожденного классицизма, навязанного императорами. Христианство безболезненно слилось с мифами и художественными формами культуры коренного населения. На порталах деревянных норвежских церквей, так же как на миниатюрах из винчестерских мастерских, Сатана обычно появлялся вокружении лесных духов из легенд и преданий. В монастырях Каталонии, Кастилии или Руерга[193] картина зла включалась в стройные формы античного рассказа. Сцены охоты, изображение которых выполнено в совершенно ином духе, покрывали внешние стенки гробниц поздней Империи, символизировали борьбу, разворачивавшуюся в душе человека. Кентавры и химеры преследовали друг друга среди строго растительного орнамента. В этих областях художники стремились также дать полную свободу воображению, создавали самых странных существ. Так появлялись пришедшие из восточных легенд крылатые твари, которых художники могли увидеть на вышивках, покрывавших роскошные ткани, в которые были завернуты святыни. Возникали обольстительные сирены, сочетавшие в себе два неразрывно соединенных порочных существа — женщину и одно из тех чудовищ, которые кишат в болотных топях.
На той стороне клуатра, которая примыкает к дортуарам, возвышается последнее убежище, где можно укрыться от искушений, — церковь. Ее расположение объясняется тем, что монахи должны совершать службы и посреди ночи. Это главное место монастыря, предназначенное для выполнения основной задачи монашеской жизни — молитвы, общей и индивидуальной.
Устав святого Бенедикта предписывает, чтобы по завершении богослужения все братья вышли из церкви, сохраняя глубокое молчание и должное благоговение перед Богом. Таким образом, если кто-то из братьев пожелает помолиться отдельно, ничто ему не воспрепятствует. Кроме того, если в любое другое время какой-нибудь монах пожелает помолиться в уединении, ему достаточно будет войти сюда и приступить к молитве.
В наше время сохранилось не так много монастырских зданий, построенных в XI веке. Они были столь же непрочны, как дворцы сильных мира сего. Церковь же устояла.
Действительно, выстроить церковь, возвести прочный, прекрасный храм из точно подогнанных друг к другу каменных блоков было первой и главной задачей. Это было необходимо для того, чтобы литургия могла совершаться в полном блеске. Для того, чтобы церковь на самих своих стенах несла отпечаток главных знаков, которыми архитектура, шедшая рука об руку с музыкой, могла передать принципы устройства Вселенной. Средствами живописи и скульптуры можно было выразить лишь отражение невидимого мира. Церковь же стремилась найти как можно более полное его выражение. Здание церкви могло быть откровением божественного так же, как литургические секвенции или изучение Священного текста. В нем должен быть выражен набор символов, незаметно проникающих в сердца тех, кто молится в его стенах. Следовательно, церковь как всеобъемлющее изображение космоса и микрокосма, который представляет собой человек, иными словами — всего тварного мира, являет самого Бога, который не пожелал отличаться от Своего творения.
Церковь символизирует это и своим расположением. Она ориентирована, обращена к восходу, к первым лучам солнца, рассеивающим ночные страхи, к свету, который каждый день в предрассветной прохладе приветствуют возносимые на литургии хвалы Создателю. Таким образом, церковь обращена к надежде и воскресению и благодаря положению, которое ее здание занимает по отношению к четырем сторонам света, направляет движение людей к сияющей славе Второго пришествия. План здания также имеет символическое значение. Безусловно, он в значительной степени определен самим богослужением. Параллельные проходы, лестницы, полукружия галереи, окружающей хоры, свободные пространства трансептов[194] должны способствовать чинному ходу службы, не мешать движению паломников к святыням, переходу монахов из монастырских помещений в место, отведенное для молитвы. Церковь прежде всего должна быть функциональна. Ее структура соответствует внутренней динамике общей молитвенной жизни, которая идет в ее стенах. Но, кроме того, она несет и символическую нагрузку. Перекрестье, образованное конструкциями базилики и изгибами внешней части хоров, напоминает о кресте. Если подвергнуть этот символ более глубокому анализу, то в нем можно найти образ человека — человека из плоти и крови. Образ Бога, создавшего его по своему образу и подобию. Распятого Сына Человеческого, в котором слились два естества. Человека смертного и в то же время имеющего духовную природу, руки которого раскинулись вдоль трансепта, голову укрывает апсида, а сердце расположено в центре здания. Центральное пространство средокрестия квадратно, оно повторяет форму клуатра и символизирует четыре стихии, из которых состоит земная вселенная. В то же время этот квадрат — начальная ступень восхождения, как, например, баптистерии и палатинские часовни. Инструментом этого восхождения служит Слово Божие. Нередко на элементах, поддерживающих свод в средокрестии трансепта, размещают скульптурные изображения четырех евангелистов. Их венчает купол, круг, образ небесного совершенства.
Наконец, здание церкви символизирует Божественныйпорядок арифметическими соотношениями, связывающими между собой все элементы. Основополагающие понятия человеческих знаний запечатлены в числах. Для посвященных, высшего духовенства, четыре есть число вселенной, пять означает человека. Десять, сумма всех чисел, по Пифагору, — выражение совершенства и символ Бога. Самые сложные монастырские базилики, Турню или Сен-Бенуа-сюр-Луар, как и самые простые сельские церкви, были построены со строгим соблюдением математических сочетаний. Их строители стремились к тому, чтобы они, подобно григорианским песнопениям, были пророческим изображением гармонии божественного.
Принципиальное архитектурное новшество, получившее широкое распространение на юге Галлии, в клюнийской империи, в области, где торжествующий феодализм постепенно уничтожал последние следы каролингской культуры, заключалось в использовании цельного свода. Этот прием применялся и прежде, например в строениях, которые с развитием в VIII веке литургии и поклонения святыням были присоединены к франкским базиликам. Паперть и апсида превращались в двухэтажную конструкцию. На верхнем этаже проходили церемонии, имевшие особое значение. Следовательно, было необходимо, чтобыпри входе в церковь и крипту колонна была заменена опорой, а деревянная потолочная конструкция — сводом. Тем не менее потолок нефа в базилике на протяжении всего XI века оставался деревянным в тех областях, которые сохранили верность имперской традиции, — в Германии, Лотарингии, области Иль-де-Франс, нормандской части Нейстрии, а также в Италии, где этот стиль продержался дольше всего. Возможно, желание перекрыть церковь общим сводом возникло в монастырях Каталонии. Таким образом, обретает значение культурный вклад провинции, в которой взошли семена, посеянные христианством, испытавшим арабское влияние. На пороге 1000 года в эту область широким потоком текло золото, а каролингские традиции укоренялись в сердце живой латинской культуры. Олиба, аббат Риполя и Куксы, бесспорно, стоял у истока поисков, приведших к появлению церкви Сен-Мартен-де-Канигу, строительство которой началось в 1001 году, а также великолепного комплекса Сан-Педро-де-Рода, освященного в 1022 году. Подобные эксперименты проводились и в Бургундии — в Турню, в дижонской церкви Сен-Бенин и особенно в Клюни. С 955 года началось строительство церкви, которая должна была заменить первую молельню клюнийской общины. В этом здании, освященном в 981 году, был затем построен сплошной свод.
Хроники сообщают, что в Везле свод нового нефа был завершен около 1135 года и заменил деревянную кровлю, уничтоженную пожаром. Не следует недооценивать создателей романской эстетики, объясняя простой заботой о безопасности постройки то длительное и трудное предприятие, каким стали поиски, поражения, все те усилия, которые были предприняты, чтобы создать цилиндрические своды над центральным нефом, чтобы выровнять давление, перекрыв гребнем кровли боковые проходы, развить хоры, уравновесить купола. Свод следует рассматривать как один из основных элементов языка, который в то время создавали монахи Западной Европы. Языка, который стремился стать средством выражения как реального, так и нереального мира, который в одно и то же время был поиском, путем озарения, дорогой, ведущей к более глубокому пониманию невидимой реальности. Возможно, в то время, когда духовенство расширяло область своего влияния на все, что было связано с погребальным культом и тем самым завоевывало народное признание, бенедиктинцы стремились создать мрачную, гнетущую атмосферу во всей церкви, где под сводами крипт и на паперти совершались похоронные обряды, предвещавшие грядущее воскресение из мертвых. Во всяком случае, не приходится сомневаться, что в замене дерева камнем при строительстве сводов воплотилось стремление выразить в самом материале субстанциональное единство, позволявшее полнее обозначить вселенную, которая, в свою очередь, была символом воли Божией. Кроме того, свод улучшал акустику в здании, в котором в силу самого его предназначения должны звучать песнопения. Наконец, свод вносил круг в архитектурный ритм, вводил идею цикличности времени, понятие совершенной, бесконечной линии, а следовательно, и наиболее ясный символ вечности, небес, преддверием которых считалась церковь.
Наиболее полным выражением монастырской архитектуры, то есть высочайшего искусства того времени на заре XII века, стала новая церковь аббатства Клюни. В наше время от нее практически ничего не сохранилось. Это огромное строение должно было вмещать большую семью — центральная община насчитывала более трехсот монахов в то время, когда в 1088 году аббат Гуго начал работы по строительству новой церкви. Он желал, чтобы литургия совершалась с еще большей пышностью, и считал, что другая, великолепная церковь, построенная Одилоном, не подходит для этих целей.
Аббат Гуго замахивался на большее — здание длиной более ста восьмидесяти метров, с высокими колоннами. Он хотел, чтобы монахи, как бы вырвавшись из-под власти дисциплины, царившей в клуатре, могли шире распахнуть двери своей души и достичь понимания величия божественного, участвуя в обрядах, совершавшихся на хорах. Базилика, символ небес, была перекрыта сводом. В то же время она должна была стать такой же светлой, как церкви, строившиеся в традициях Империи.
О монахе Гунзо, вдохновленном святыми Петром, Павлом и Стефаном на создание плана новой церкви, известно, что он был «чудесным псалмопевцем». Действительно, он выстроил церковь подобно тому, как позднее полифонисты составляли мотеты и фуги. Один модуль измерения, равный пяти романским футам, лег в основу сложных математических расчетов. Эти отношения чисел символизировали то, что невозможно было выразить словами. Семерка определяла пропорции апсиды. Главный портал строился в соответствии со следующими числами: единица, три, девять и двадцать семь. Использовался также ряд совершенных чисел Исидора Севильского и пифагорейский ряд гармоничных чисел, исключительно музыкальное понятие, символизировавшее универсальный порядок, в соответствии с которым высчитывалось равновесие любого сооружения. Эти цепочки чисел должны были уловить разум и обратить его к Богу: аббатство было посвящено святому Петру, «ловцу человеков», и аббат Гуго, составивший его жизнеописание, представлял себе монастырскую церковь как огромную сеть, которой можно ловить души. Прежде всего он желал, чтобы в этом доме «обитала слава Божия», чтобы он был «местом, постоянно населенным ангелами».
Итак, церковь следовало роскошно украсить. Нам нравятся пустые стены романских церквей. Однако не стоит забывать, что прежде они были покрыты фресками. Какправило, это были картины на исторические темы. Вся торговля Амальфи основывалась в XI веке на ввозе восточных шелковых тканей. Лишь короли и самые высокие представители духовенства облачались в них по праздникам, во время которых они являли собравшемуся народу воплощение мифа о своем сверхъестественном происхождении. Эти ткани служили для драпировки стен. Внутри монастырской церкви самое пышное убранство концентрировалось вокруг того места, где совершалась литургия, — вокруг алтаря или реликвий, если они находились в базилике.
Когда императоры повсюду насадили обычаи романской церкви, это вызвало распространение архитектурных традиций, в результате которых сложилась структура романского кровельного гребня. Он возник при строительстве двухэтажной церкви, которую Папа Григорий Великий велел возвести над могилой святого Петра. Два алтаря находились точно один над другим: в базилике — алтарь-реликварий, воздвигнутый над гробницей; прямо над ним, в пространстве, омытом светом, проникающим сквозь окна, — главный алтарь, где совершались богослужения для всех прихожан. В соответствии с этой моделью хоры церквей, построенных в местах массовых паломничеств, возвышаются над криптами. В Турню, в Сан-Сальвадор-де-Лейр церкви соответствуют плану базилики. Дижонская церковь Сен-Бенин, возведенная во времена аббата Гийома де Вольпиано, повторяет круглую форму martyria. Ее посещают толпы паломников, сопровождаемых монахами. В некоторые дни паломники проникают в это таинственное подземелье, чтобы увидеть тела святых, прикоснуться к ним, испытав на себе их целительную силу, и укрепиться в надежде — для большинства верующих святые были истинными божествами, быть может единственными, в которых они верили. Иногда, когда наступали тяжелые времена, мощи выносили из подземелий, где они покоились, подняв их на плечи, обходили край, пораженный бедствием, выносили навстречу врагам, надеясь обезоружить их. Но большую часть времени святыни проводили под землей. В тусклом свете масляных светильников они лежали, окруженные сокровищами. Все богатства мира — серебро, позолота, монеты из дальних стран, подвески, старинные украшения, некогда пожертвованные королями, наконец, золото — копились здесь. В самом центре религиозной жизни и тревог XI века, в сердце романского искусства, возникает произведение ювелирного искусства — рака, в которой хранятся мощи. Само здание церкви представляет собой как бы ларец, в котором она хранится. Раку чаще всего изготавливали в форме саркофага, стенки которого покрывали изображениями, скрытыми от постороннего взгляда, выполненными в традициях имперского искусства. Нередко рака принимала форму того фрагмента тела, который был в ней заключен. На юге Галлии она приобрела форму статуи.
Паломники, прибывавшие в Конк, благоговейно приближались к удивительному фетишу — святой Фуа, восседавшей во славе, облаченной в золото и драгоценности. В подобных изображениях оживали антропоморфные божества, которым продолжали поклоняться поколения крестьян, из глубины своего ничтожества по-прежнему возлагая на них надежду. Эти «идолы» вызвали возмущение учителя анжерских епископских школ, который увидел их в 1013 году. Воспитанный на имперской культуре, он попал в другой христианский мир, отказавшийся от всего, чему учили науки, преподававшиеся в школах. Литургии здесь легко сочетались с народными верованиями. Декор крипт показался ему «продолжением обрядов, в которых прежде выражалось почитание языческих божеств, или скорее демонов». Он писал:
Сколь ни мало я знаю, впервые увидев статую святого Геро, водруженную на алтарь, и его лицо, вылепленное в точности по человеческому подобию, я почувствовал всю греховность этого изображения, противного христианской вере; многим крестьянам, созерцавшим статую, казалось, что она пристально смотрит на них, и они ловили отражение в ее глазах, которое должно было означать, что святой благосклонно отвечает на их молитвы.
Однако рассказчика успокоили чудеса, совершаемые святой Фуа, и постепенно он, как и многие другие, привык к поклонению статуям. Чтобы привлечь народ к религиозной жизни, монастыри приняли статуи в свои стены. В первое время их, как драгоценности слишком крупных размеров, помещали в полумрак подземелий.
2
Фасады Сен-Дени и построенных позднее соборов свидетельствуют о величии Предвечного. Град Божий — это убежище, безопасное место, охраняемое победоносным небесным воинством. Это неприступная крепость — силы зла, семена погибели, которой она противостоит, не могут повергнуть ее. Очертаниями она напоминает замок с каменными башнями, подобный тем, какие строили бароны в конце XI века в прибрежных областях Луары и Сены. Массивный, квадратный, устойчивый фасад церкви занимает главенствующее положение. Подобно тому как в крестовых походах выразилось военное призвание феодального общества, церковный фасад призывал встать на путь спасения. Когорта царей иудейских, земную власть которых унаследовал Христос, встречает верующих на пороге крепости.
В Нейстрии древние архитектурные традиции использовали элементы символики власти. При строительстве базилики Сугерий взял за образец надвратные колокольни области Иль-де-Франс и в первую очередь фасады нормандских аббатств, настоятели которых служили Вильгельму Завоевателю. В 1080 году в Нормандии, закованные в кольчуги воины которой принимали участие во всех военных кампаниях, две башни обрамляли вход в церкви, которым покровительствовали герцоги, находившие здесь священнослужителей, способных реформировать английскую Церковь и держать ее в своей власти. Высокие стены, возведенные вокруг дома Божия в Или и Уэллсе[195], в покоренной Англии, имеют те же корни.
Включив в западный массив Сен-Дени такие же башни, какие возвышались над канскими монастырями, Сугерий ввел принцип вертикальности, который до конца Средне вековья заставлял тянуться ввысь все новые епископские церкви. Однако структура задуманной им новой церкви, сочетание трех порталов, этаж, на котором находилась верхняя часовня, освещавшая ее роза возвращали зданию церкви горизонтальность. Отныне фантазия архитектора определялась двумя направлениями, организовывавшими структуру фасада: одно из них поднималось вслед за движением контрфорсов и пилястров, другое было обозначено галереями и фризами. Фасад никогда не терял смысловой нагрузки и оставался символом силы и победы.
Сен-Дени, пример готического храма, был монастырской церковью, зданием, предназначенным для богослужений; он был связан с монастырскими строениями поперечной галереей трансепта. Это была уединенная молельня общины, удалившейся от мира. Иногда туда пускали мирян, но они оказывались здесь непрошеными гостями. Напротив, собор представлял собой городскую церковь, открытую как духовенству, так и народу. Епископ был избранным, уполномоченным представителем Церкви, пастырем. Собор, открытая церковь, в равной степени принадлежал обеим составляющим христианского общества — clems et populus[196]. В действительности церковная реформа в XI веке увеличила пропасть, разделявшую духовенство и мирян, подчеркнула превосходство первых над вторыми. Этим объяснялось то, что в самом соборе лучшие места были отведены клиру и формы здания изменялись таким образом, чтобы соответствовать задаче, стоявшей перед духовенством. Задача эта была сходна с той, которая стояла перед монашеством. Соборное духовенство прежде всего должно было сообща воспевать славу Божию. В епископской церкви, так же как в монастырской, внутреннее пространство было организовано вокруг хоров, появились проходы, по которым могли двигаться религиозные процессии. Что касается народа, он по-прежнему стоял у самых дверей, или же, как в монастырских базиликах, возникших в местах массового паломничества, верующие занимали боковые галереи над центральным нефом. Миряне присутствовали на службе, но не принимали в ней участия.
Тем не менее интерьер собора отличался от внутреннего убранства монастырской базилики. Это объясняется двумя причинами. Во-первых, соборное духовенство не было отрезано от мира. Во французских областях духовенство даже после проведения церковной реформы не придерживалось строгих правил общежития, следовать которым требовалось в соответствии с канонами каролингской эпохи. Каноники объединились в единое, но подвижное целое. Они не жили одной замкнутой общиной. В городах Франции клуатром назывался район, окружавший собор; здесь находились дома членов капитула. Была принята полная свобода перемещения — раз не было общинной жизни, отпадала нужда в трансепте. Пространство, перерезавшее центральный неф, отмерло, утратив свои основные функции. Оно сохранилось в соборе Парижской Богоматери, но уже не обозначено наружными выступами. Внутреннее пространство собора также стремится к единству.
Кроме того, и это было одним из определяющих факторов, новое богословие света требовало структурного единства. Свет, появлявшийся внезапно, как сам ГосподьБог, как звено, соединяющее человеческую душу с Создателем, должен был озарить все Царство, границы которого символически обозначались стенами собора. Перегородки, разделявшие церковь внутри, были сведены к минимуму. При строительстве старались избежать всего, что могло бы нарушить чередование рядов. Пришлось отказаться от перемежавшихся колонн и пилястров. Исчезли верхние галереи, препятствовавшие расширению витражей. В часовне Сент-Шапель, выполнявшей функции реликвария, единство внутреннего пространства достигло совершенства. Такого же эффекта удалось добиться и в каждом из пяти нефов Буржского собора.
«Господь, сказавший: "Я есмь врата, кто ими войдет, тот спасется", укажи нам, в какую обитель ведут эти врата, когда и кому Ты их отворишь... Обитель эта — небеса, где находится Бог Отец». Собор представляет собой ответ на вопрос цистерцианца Гийома из Сен-Тьерри. Иисус естьпуть, а собор, тело Христово, со всех сторон окружен порталами. У трансепта осталась только одна функция — открываться на юге и севере здания двумя столь же внушительными порталами, как тот, который обращен к заходящему солнцу. Порталы становятся все шире, превращаются в сложные, почти самостоятельные архитектурные конструкции. Взгляд человека, которого нагромождение домов и отсутствие площадей лишило возможности смотреть издали и оценить красоту декора, покрывающего стены снизу доверху, задерживается только на порталах. Порталами же собор со всех сторон открывается городу, неся знания горожанам. Порталы стали своеобразными школами. Они обращались к народу не на латыни, они популяризировали науку университетских преподавателей, и эта образовательная функция оправдывала любые затраты, расход материалов и рабочей силы, поглощавший сборы и налоги, богатства, выуженные епископами и канониками у городских торговцев и крестьян из близлежащих деревень. В порталах реализовывалась наставническая роль соборов. Городская церковь распространяла и укрепляла истинную веру, разъясняла ее догматы в находившемся при ней образовательном центре.
В церквах, которые строились прежде, задняя часть отводилась для совершения погребальных обрядов. Там помещалось изображение Страшного суда. В готическом соборе эта сцена также занимает центр портала, однако композиция изменяется и приобретает новое значение. Христос-Судия восседает на портале Славы, созданном мастером Матео в 1188 году для собора Сантьяго-де-Компостела. Это изображение лишено магической нереальности, присущей всем скульптурам Христа, появившимся в клюнийских монастырях Аквитании. Оно стало объемным и полным жизни. Однако Христос, окруженный хором небесных музыкантов, еще не спустился на землю к народу. Он предстает как священник, совершающий Божественную литургию, как царь, который, готовясь к коронации, собрал у трона все свои сокровища. У престола Христа собраны орудия Его Страстей. Они обернуты в очищающие покровы; когорты ангелов, служащих Христу, показывают верующим орудия Страстей словно земное оружие, которым Бог добился победы, словно орудия спасения всего человечества.
В королевской Франции на порталах соборов собрано значительно большее число участников Священной истории. Они составляют назидательную композицию, в которой видна попытка представить все нюансы католической доктрины. Театральные приемы издавна использовались для того, чтобы объяснить народу смысл совершавшегося в соборе богослужения. Сцены из этих представлений и запечатлены в скульптурных композициях порталов. На Рождество ставились представления, во время которых участники по очереди читали зрителям отрывки из Писания, предвещавшие воплощения Бога в человеческом образе.Актеры изображали Исайю, Иеремию, Давида, Моисея. Благодаря этим представлениям, в чем-то сходным с литургией, появились скульптуры пророков, Иоанна Крестителя, Симеона, Елизаветы, архангела Гавриила, тех лиц Священной истории, которые считались предшественниками Христа, — речь идет об Адаме, прообразе Сына Человеческого, пастухе Авеле, Ное, Мельхиседеке, принесшем в жертву хлеб и вино. Желая достичь наибольшей правдоподобности и убедительности, создатели принципов иконографии разрушили архитектурные рамки, первоначально окружавшие сцены, изображавшие события Писания. Прежде их удерживала стена. Теперь скульптуры оторвались от нее, сделали шаг навстречу зрителю. Тимпан стал выше, чтобы разворачивавшиеся на нем события располагались на нескольких уровнях. Действующие лица этих композиций ожили, число их увеличилось. На порталах Шартра скульптурные композиции изображают все события Ветхого и Нового Заветов, повествуют о Сотворении мира. Появляются скульптурные портреты святых заступников, мощи которых хранятся в церквах, а добродетели служат примером для грешников, стремящихся к праведной жизни.
Из сокровищ, собранных в Сен-Дени, до наших дней дошло немногое. Из скульптур монастыря почти ничего не сохранилось. Но есть Шартр, куда около 1150 года перебралась группа мастеров, собранных Сугерием. Шартр великолепно сохранился — на королевском портале сияет новое искусство Франции, возникшее в результате потрясения, произошедшего в умах духовенства на пороге XII века. В школах Шартра, Лана и Парижа клирики слушали самых смелых учителей Запада, эти уроки постепенно освобождали их от нереальных представлений о мире, которыми руководствовались их предшественники. В произведениях Цицерона, Овидия и Сенеки человек представал как существо, способное любить, страдать и сопротивляться насилию. Они исследовали движения души, описания которых одновременно с началом строительства Шартрского собора проникают в произведения, служившие для развлечения дам и кавалеров и написанные на основе древних сюжетов — истории Энея или Троянской войны. И наконец, комментарий к Священному Писанию давал им новое представление о Боге.
Для духовенства и художников, создававших материальное воплощение их идей, красота — это то, что имеет сходство с Богом. Ослепленные сошествием Бога Моисея, Исаака и Иакова — огня пожирающего, сияния лица которого человек не может вынести и которого не видел никто и никогда, — монахи в 1100 году стремились не только узнать, какой будет грядущая жизнь, но и постичь мирсимволических аналогий. Для новых епископов, каноников и магистров области Иль-де-Франс Бог Творец не был Богом Отцом, тайной, мыслью, которую не может понять человеческий разум. Мир был сотворен in principio, то есть in verbo, сотворен Словом, Сыном, Богом, воплотившимся во веки веков. «Каждое творение, — говорит Гонорий Августодунский, — это тень Истины и Жизни», то есть Христа. Христос существует и в первый день Творения; будучи Творцом всего сущего, Он пожелал стать человеком, поэтому мир, вырванный Его волей из небытия, создан в соответствии с человеческим образом и подобием.
Изображенный на сводах Шартрского собора создающий Адама Бог и Его Творение похожи как братья. Это действительно человек. Ответ на вопрос, который задавали себе христиане, простираясь ниц перед тайнами мира и собственными тревогами, — на вопрос «каково лицо Бога?» — находится в трудах французских богословов. Это лицо человека. Стремясь передать совершенство Божие, художник теперь не должен ограничиваться символами. Всё, что нужно, — открыть глаза.
На королевском портале Шартрского собора, в Мане, Сен-Лу-де-Но и Бурже статуи ветхозаветных царей и апостолов, стоящих рядом с ними, чтобы нагляднее передать союз Ветхого и Нового Заветов, — всё еще пленники стены.Их пропорции сходны с пропорциями колонн, из которых они вышли. Не заметно никаких признаков жизни, ни единого намека на движение их напоминающих цилиндры тел, узких, скованных, негнущихся тел, облаченных в рясы, складки которых напоминают морщины. Однако лица статуй уже живые. Лица утратили симметрию, помещавшую их в абстрактную вселенную григорианской секвенции. Изображая в 1185 году ангелов, столпившихся вокруг спящей Мадонны, мастер из Санлиса не стал копировать рисунки осьмигласника, он просто передал полет птиц. А затем жизнь открыто заявила о своих правах. Она освободила скульптуры от оков колонны. Она придала им гибкость человеческого тела, спрятанного под складками суконных одеяний, в которые наряжались сеньоры Фландрии.
С резким возрастанием числа персонажей литургической драмы, разыгрываемой на театральных подмостках, возведенных у папертей соборов, появилась насущная необходимость наделить каждого из них индивидуальностью. Вне всякого сомнения, у них имелись отличительные признаки, особенные свойства, которые христианская иконография придавала каждому пророку, каждому предвестнику, каждому апостолу. Зародилось также желание одарить их лицами, способными передать своеобразную психологию. Литературные произведения, написанные в XII веке специально для рыцарей, отличаются очень бедным словарным запасом. Жуанвиль блестяще описывает суматоху сражений и веселое оживление куртуазных ассамблей. Однако он начинает запинаться, как только требуется изобразить характер. Тем не менее в реальной жизни при составлении документов, в которых уточнялось разделение феодальных прав или фиксировались положения обычного права, а порой и в исповедях большие и маленькие сеньоры понемногу оттачивали свои аналитические способности. Что касается представителей школ, то они привыкли заниматься самонаблюдением, на чем, собственно говоря, зиждилась мораль Абеляра. Теология неуклонно приводила к этике. Она предполагала тщательное изучение души, классификацию ее способностей и добродетелей. А поскольку научные доктрины докторов основывались на принципе единства вселенной и настаивали на тесной связи трех составляющих человеческого существа — духа, души и тела, — то они, разумеется, полагали, что черты лица верно отражают индивидуальные особенности. Тем не менее схоластика намеревалась поместить индивидуальные особенности в рамки, общие для человеческого рода. Она стремилась выделить типы. Если говорить более конкретно, то лица статуй выражают типы людей.
Даже в очень быстро возводившихся соборах было не- мастерские обходимо установить такое множество фигур, что работа распределялась между различными мастерскими. До нас дошли скупые сведения о структуре подобных бригад, и историки искусства с великим трудом могут сказать, какие скульптуры созданы в тех или иных мастерских. Одни мастерские возглавляли искусные мастера, другие — ничего из себя не представляющие. Самые выдающиеся скульптурные ансамбли были, вероятно, возведены величайшими творцами, отвечавшими за все строительство и умевшими гармонично соотносить все элементы конструкции. Можно предполагать, что около 1250 года Жан де Шелль лично следил за тем, как создавалась композиция «Введение во храм» портала северного трансепта собора Парижской Богоматери. Мы можем также приписать мастерской Жана д'Орбэ, первой мастерской архитекторов Реймсского собора, создание большинства статуй святых, апостолов и пророков, которых мэтр Гоше поместил в большой портал между 1244 и 1252 годами. Они чем-то напоминают статуи северного портала Шартрского собора, но в гораздо большей степени похожи на фигуры, которые золотых и серебряных дел мастер Николай Верденский установил между 1180 и 1205 годами в раке волхвов соборов Клостернейбурга и Кёльна и в раке Мадонны собора Турне. Однако из ансамбля выделяются Мария и Елизавета, входящие в группу под названием «Посещение», архангел Гавриил и некоторые пророки. Их одежды собраны в складки, как покрывала, которыми в Древней Греции укрывали себя богини. Правомерно ли представлять себе, что после крестового похода 1204 года греческое влияние немедленно усилилось? На самом деле новизна состояла в изображении движения, которое оживляло тело, выделяло его из стены и выдвигало вперед, как, например, статуи Победы. Между 1228 и 1233 годами в мастерской Жана Ле Лу были созданы статуи Девы Марии Благовещения и Введения во храм, Соломона, царицы Савской, Филиппа Августа. Они очень близки к статуям Амьена. Однако эти творения исполнены выразительности, изящества и грации; необыкновенно утонченные лица выражают целую гамму настроений, которая до сих пор нигде не встречалась.
Около 1237 года все украшения Реймса были перевезены в собор Бамберга, строительство которого начал епископ Эгберт, шурин короля Филиппа Французского. Хоры здесь были посвящены святому Георгию, покровителю рыцарства. В первой половине XIII века успехи западной цивилизации привели феодальное общество к процветанию. Оба господствующих в нем ордена — орден людей Церкви и орден людей войны — группировались вокруг короля, который соединял в себе священство и рыцарство. Вдохновляемое прелатами высочайшей культуры искусство королевских литургий устанавливает в соборах конную статую. Рыцарь Бамберга достиг совершеннолетия, возраста, когда глава дома берет в свои руки бразды правления сеньорией, вступает в наследство, оставленное предками, взваливает на плечи ответственность за потомков, возраста всех мужчин и женщин, воскресших из мертвых. Этот мужественный знаменосец служит олицетворением всего мужского общества. Как и майский рыцарь, чей весенний галоп знаменует собой обновление природы, он отправляется завоевывать мир. Он похож на Людовика Святого, иными словами, на Христа.
История точно не знает, под влиянием каких подспудных сил Богоматери удалось вытеснить мучеников и первых христиан, которым изначально посвящались соборы Франции, и стать единственной всеобщей покровительницей. Можно предположить, что вторжение культа Девы Марии в готическое искусство, как и предшествующая ему апостольская направленность духовности, как и повышенное возбуждение картезианцев, как и аскетизм цистерцианцев, а также другие примеры, которые видоизменили в конце XI века религиозные представления, вытекали из продвижения на Восток западноевропейского христианства. Религия Византии владела гораздо большим богатством и творческими ресурсами, чем религии монахов Галлии или Германии. На Востоке находились великие святилища Девы Марии. Оттолкнувшись от немногочисленных страниц Евангелия и Деяний, где о Богоматери говорится вскользь, византийские монастыри придумали собственные истории и создали целую иконографию, которая поведала народу о Ее жизни. В монастырях родилась тема Успения, блестяще разработанная скульпторами Санлиса и Парижа и предоставившая еще один аргумент для проповедей, подававших надежду. Богоматерь, живущая среди тронов и владык, помогала уверовать в воскресение.
Нам ничего не известно о том, как умирали крестьяне. Но мы вправе предположить, что благородное общество, ставившее на первое место среди всех добродетелей смелость, на самом деле находилось под властью страха. Рыцари вновь обретали уверенность, когда, собравшись в огромном зале, слушали о подвигах Роланда и Гийома Оранжского[197]. Они дрожали на кораблях, которые везли их в Святую землю, дрожали перед сражениями, дрожали на турнирах. Усовершенствование доспехов и фортификационных сооружений непосредственно проистекало из этого страха. Страх полновластно господствовал в религии мирян. Для скольких людей прийти в церковь, опуститься на колени перед крестом, дотронуться до реликвий, прочитать молитвы, сделать ритуальные движения означало не что иное, как победить страх перед смертью?
Религия, наглядным выражением которой стало искусство соборов, была не религией народа, а религией малочисленных избранных интеллектуалов. И те не уставали повторять, что Христос поборол смерть. Они просто отрицали смерть. Заря каждого пасхального утра освещала, по их представлениям, святыню, а на тимпанах спасенное человечество выходило из гробниц, словно пробуждаясь от дурного сна. С лиц воскресших исчезали ночные тени, их глаза широко раскрывались. Они отбрасывали саван, подставляли солнечным лучам совершенное тело и входили в настоящую жизнь.
Когда стали украшать стоящие внутри церквей гробницы прелатов и правителей и помещать на них изображение усопшего, священнослужители соборов потребовали, чтобы оно было стилизованным. Надгробные изображения епископа Эврара де Фуйе в Амьене, герцога-гвельфа Генриха Льва в Брауншвейге, изображения, которые король Людовик Святой приказал изваять в Сен-Дени, могли бы занять почетное место в соборах рядом со статуями пророков. Действительно, перед нами вовсе не покрытый саваном труп, лежащий на смертном одре. Складки одежды свободно спадают вдоль тела человека, стоящего во весь рост и уже устремившегося навстречу лучам потустороннего мира. Их лица, как и лица царя Давида или Соломона, вызывают доверие и выражают удовлетворение. Они спокойны, на них нет ни морщин, ни складок. У святого Августина мы читаем: «Бог создал человека для того, чтобы мы, люди, превратились в богов». Поскольку Христос Воплощения и Воскресения увлекает за собой к Отцу всех смертных, поскольку смерть носит преходящий характер, а могила представляет собой место зарождения новой жизни, где каждое телесное существо готовится расцвести во славе, именно поэтому искусство соборов придает телам умерших совершенную, вневременную, нематериальную форму, которую они уже приобрели благодаря вере.
Внутри соборов витражи подхватывают тон, заданный папертью. Верующий переступил порог. Он на один шаг приблизился к созерцанию. Став сыном Бога благодаря воплощению Христа, он получает свою долю наследия, то есть озарение. Он проник в промежуточное пространство, которое, как говорил Сугерий, не существует ни на грязной земле, ни в чистом небе. Среди сверхъестественной чистоты с ним уже говорит Бог. Сплести причудливый декор витражей среди многочисленных окон было сложнейшей задачей. Ее решали в мастерских, причем уровень исполнения не всегда был одинаковым. Часто композиция теряла строгость, незыблемость рисунка: так произошло с витражами часовни Сент-Шапель. Тем не менее эти недостатки становились практически незаметными среди яркой феерии, которая рассеивала внимание и вызывала пленительное волнение. Здесь нашла свое воплощение эстетика Гийома Оверньского: «Невидимая красота определяется либо фигурой, либо положением частей целого, либо цветом, либо двумя соединившимися символами, когда их подгоняют друг к другу или учитывают гармоничные признаки, передающиеся от одного к другому». Изысканные цвета использовались не для того, чтобы верно передать облик, а для установления необходимых связей, которые они сообща поддерживали в лучезарном витраже. Как и в полифоничном Перотене Великом, в витраже воплотилась гармоничность бесконечных ритмов и бесчисленных несогласованных модуляций. Он восхваляет Вселенную. Он перевоплощает видимое.
Нижние витражи представляют собой повествование, которое очень напоминает стройный рассказ учителя. Основной текст — ядро сентенции — поясняется в центральном медальоне. Его окружают и дополняют второстепенные персонажи Священного Писания, которые вторят ему и позволяют благодаря игре дополнительных намеков уяснить суть, перейти от прямого смысла к мистическому. Созданное в соответствии со строгими законами схоластической логики изображение наглядно свидетельствует о крепкой монолитности догмы.
На витражах хоров Сен-Дени Сугерий изобразил аллегорические сцены, значение которых можно постичь лишь с помощью долгой мистической медитации. Тем не менее он сопроводил эти сцены красноречивыми эпизодами из жизни Христа. В интерьерах соборов XII века евангельская иконография присутствует на витражах гораздо чаще, чем на вратах и порталах. Она очень мало повествует о мирской жизни Христа и никогда не говорит о чудесах, совершенных Им. Она черпает вдохновение в рассказах о Егодетстве и страданиях, в рождественских и пасхальных литургических текстах.
В Бурже на десяти нижних окнах изображены двойныеапологетические сцены, демонстрирующие основные сюжеты. Здесь, сотканные из множества разноцветных пластинок, сходятся Страсти и Апокалипсис, Новый Завет и Судный день. А в проемах высокого свода собора стоят одиночные огромные фигуры. Вереница пророков в северной части и апостолов в южной обрамляет на галерее хоров изображение Богоматери-Церкви, утверждая в монументальной простоте единство истории, догмы и преемственность Ветхого и Нового Заветов. В Шартре те же пророки, изображенные среди святых, несут на своих плечах апостолов. Первые отблески утренней зари освещают этих часовых, попирающих телесную ночь. Здесь тускнеют яркие краски, расцвечивающие на нижних ярусах здания эпизоды из Евангелия и сложные аллегорические фигуры. Цветное стекло вызывает к жизни фигуры людей.
Эти люди жили на земле. В основном это святые, мощи которых покоились в ковчегах собора. Богатства, награбленные на Востоке, пополняли коллекцию священных останков. В 1206 году Амьен получил часть черепа святого Иоанна Крестителя и посвятил ему целый витраж. Витраж, ему же посвященный, находился и в часовне Сент-Шапель, где почитали заднюю часть его черепа. В Шартре находился витраж в честь святой Анны, а в Сансе — святого Фомы Бекета. Государи из своих денег оплачивали тот или иной орнамент. Фердинанд Кастильский преподнес Шартру витраж, изображавший святого Иакова, а Людовик Святой — витраж с изображением святого Дионисия. Эти дары помечены гербами государей. А среди пророков мы уже встречаем изображения дарителей. Архиепископ Анри де Брен захотел, чтобы на окнах Реймсского собора под изображениями Христа, Девы Марии и апостолов появились изображения его архиепископского собора и семи провинциальных соборов. Символические эмблемы отождествляли эти храмы с семью церквами Малой Азии и с семью ангелами, которые в Апокалипсисе принимают послание от Христа. Прелат приказал также изобразить собственную персону: его, словно вассалы — сеньора, окружают викарные епископы. Во второй половине XIII века на высоких соборных витражах, на фасаде и королевских хорах человек начинает завоевывать небесное пространство.
В структуре готических соборов кругу отводится меньше места, чем в романских церквах. Здесь хозяйничает прямая линия, выразительница истории, непосредственное воплощение светового луча, олицетворявшего Сотворение мира и благодать Божию, порыв рациональной динамики, схоластических изысканий и всех достижений этого времени, ведущих прямо к цели. Только розы, символы Сотворения, когда свет вырвался из своего невыразимого очага, а затем, вернувшись, слился с ним и превратился в первопричину, прилегают к замкнутой окружности, по которой движутся звезды на небосклоне.
Витражное искусство логически заканчивается этими розами. Они символизируют собой одновременно и космические циклы, и время, сведенное к вечности, и тайну Бога — Бога-Светоча, Христа-Солнца. Бог появляется на южной розе собора Парижской Богоматери в кругу пророков, апостолов и святых. Он сияет на розе часовни Сент-Шапель среди музицирующих стариков апокалиптических видений. На розах изображается также Дева Мария, то есть Церковь. Среди водоворотов сфер они доказывают идентичность концентрической вселенной Аристотеля и искрящихся излияний Роберта Гроссетеста. Наконец, это символ любви. Она олицетворяет собой неиссякаемый источник божественной любви, в котором растворяются все желания. Однако ее можно рассматривать и как символ душевных порывов, не прекращающихся в потаенных уголках благочестия, которые сохранились вопреки католическому самобичеванию. Или как лабиринт, где светская любовь, неуклонно преодолевая все испытания, идет к своей цели.
Когда около 1225 года Гийом де Лоррис придал стихотворную форму куртуазной этике, «вобравшей в себя все искусство любви», он назвал свою поэму «Романом о Розе». Здесь роза олицетворяет собой идеал, к которому страстно стремится совершенный рыцарь. В очень длинном продолжении «Романа», написанном почти сорок лет спустя Жаном де Мёном, аллегории, лишившись светского жеманства, обрели естественность. Любовь мужчины к женщине, желание, возбуждаемое розой, выходят из мифов и куртуазных игр. Они покидают те места, где царит бесстыдство. Роза превращается в символ победы над смертью. Победы Природы, то есть Бога. Или людей: они содействуют творчеству. В сердцевине готической витражной розы нужно усматривать искрящуюся радость и волю к жизни.
Искусство Франции XIII века проникло и в Италию. Пособниками этого вторжения были и Папство, усматривавшее в эстетике университета наглядное изображение католической теологии, и религиозные ордена, служившие ему, в первую очередь цистерцианцы, а затем и нищенствующие ордена. Французское влияние оставалось стабильным. Однако оно сталкивалось с двумя столпами культуры, двумя мощными слоями, оставленными на протяжении многих веков императорским Римом и Византией.
Германское влияние распространилось на всю итальянскую территорию. Оно попирало образные традиции, навязывало граверное искусство и искусство ювелирных изделий, своих чудовищ и варварскую геометрию поясных пряжек. Однако значительная часть Италии никогда не покорялась империи Карла Великого и никогда не входила в нее. Лацио был всего лишь охраняемой территорией, а Венеция и Юг ускользнули от Карла Великого. Эти районы оставались связанными с Востоком морем и узами, которые в X веке окрепли из-за ослабления пиратства варваров. Вот почему в то время, когда строился собор Парижской Богоматери, венецианские дожи украсили собор Святого Марка греческим орнаментом, а их примеру последовали нормандские короли Сицилии, повторявшие этот орнамент на стенах своих дворцов, часовен и соборов.
Византийская церковь представляла собой обитель Бога. Она не украшала свои фасады. Творческая фантазия была обращена к интерьеру, где в полумраке мерцали мозаичные пластинки, преображавшие вокруг себя пространство и придававшие ему черты невидимого. Мозаики Палермо, Монреале, Венето — как и та мозаика, которая еще в 1250 году украшала баптистерии Флоренции и монастыря Четырех Увенчанных в Риме, — вели свой рассказ, передавая новые акценты, которыми на Востоке была отмечена иконография. Они передавали содержание Евангелия и апокрифических притч.
Мозаика представляла собой весьма дорогостоящее искусство. Именно поэтому она не прижилась на латинском Западе, остававшемся бедным и диким. Живопись, украшавшая не книги, а стены и алтари, стала суррогатом этого величественного искусства. В Италии живопись носила повествовательный характер, следовательно, она вышла из византийской школы. Она изображала эпизоды из жизни Христа. Искусство схоластов, искусство соборовпридавало Христу умное и рассудительное лицо. Народ,наделенный грубоватым умом, не в силах был медитировать вместе со своими хозяевами, а его древние литургические ритуалы не могли больше унять растущее беспокойство. Вот почему народ создал себе другое искусство, менее далекое, более родное, — искусство, которое Пьер Вальдо нашел в переводе Евангелия, искусство, которое показывало клятву инакомыслящих проповедников, искусство, приоткрывшееся крестоносцам на Востоке. В Византии подобное желание охватило толпы христиан гораздо раньше. К тому же восточная Церковь никогда не была наглухо отгорожена от мирян. Женатые священники поддерживали самый тесный контакт со своей паствой. Восточная Церковь признавала, что святой дух нисходит на всех верующих, и поэтому она принимала духовные формы, спонтанно рождавшиеся в народной среде. Поэтому она сумела задолго до латинского христианства приобщить своих последователей к простым евангельским притчам, рассказанным в картинках. Наверное, она помещала в абсидах своих соборов подавляющую окружающих фигуру Вседержителя. На фресках монастыря Милешевы в Сербии, расписанных около 1230 года, Приснодева Благовещения, чистая, прямая, одинокая, подобно Мадонне из Торчелло, еще вполне обладает совершенной формой, в которую Бог проникает, чтобы воплотиться. Однако в другой части декоративного ансамбля живописцы изобразили страдающую Деву Марию, плачущую на израненных руках Своего Сына. Как и пятьдесят лет тому назад в Нереци на первой Пьете.
Запад узнал об этих картинах, приближавших сущность Божию к человеческому существованию, не только благодаря захвату Константинополя и его сокровищам, разграбленным завоевателями. Вдоль Дуная пролегали многочисленные торговые пути, и вели они в Южную Германию. Германские торговцы устремились на Восток, а германский король, в отличие от всех других правителей Европы, сохранял тесные связи с византийским двором. На швабских Псалтирях и миссалах[198], на рельефах Наумбурга патетические сцены Страстей отражают тревожное возбуждение восточных «Шествий на Голгофу». Однако самое сильное влияние византийская иконография оказалана Италию, потрясенную проповедями святого Франциска. В Пизе и некоторых других тосканских городах художники расписывали огромные деревянные кресты, которые затем устанавливали в церквах над образчиками торжествующего искусства. Место было выбрано не случайно. Кресты должны были символизировать победу Христа, а значит, и Церкви, образ которой, похожий на образ Девы Марии, был запечатлен в медальоне на правом краю перекладины. Однако вера бедняков наделила этот символ совсем другим значением. Они созерцали тело человека. Они искали на нем следы страданий, освободивших их от всехгрехов. Однажды святой Франциск увидел, как распятый Христос повернул к нему свое лицо. А затем услышал, что Христос настоятельно призывает его самыми доступными словами объяснить народу, чем стало его самопожертвование и какова его искупительная цена. Когда широко распространились слухи, что на теле Франциска выступили стигматы Христовых Страстей, тосканское распятие превратилось в символ телесного страдания.
Около 1200 года художники изображали по обе стороны от тела Спасителя сцены Снятия с креста, Положения во гроб, Прихода жен-мироносиц к могиле и Воскресения. Джунта Пизано, работавший между 1236 и 1254 годами, и Коппо ди Марковальдо, известный между 1260 и 1276 годами, все свои творческие усилия сосредоточили на выписывании тела Христа. Они были предшественниками Чимабуэ, который превратил Распятие в трагедию смерти Бога. Тем не менее живопись продолжала оставаться второстепенным искусством. А в Италии к тому же и чужеродным. По сути, Италия была романской страной. Она прославила себя в камне — скульптурах или зданиях. Попытки готического искусства проникнуть в эту страну пресекались скульптурной пластикой Рима.
Если в процветавшей Италии XIII века на волне благополучия, которое вскоре охватит всю европейскую экономику, не было создано ни одного произведения искусства, сравнимого с Шартром, Реймсом или Бамбергом, то только потому, что эта часть Европы не представляла собой единого государства. Она оставалась раздробленной на многочисленные политические сообщества. Ни один правитель не обладал всей полнотой власти, чтобы извлекать выгоду из богатств, ни один двор не мог соперничать с двором короля Франции и даже с двором короля Германии. Могущество, обеспечивавшее некогда монарху возможность контролировать и защищать соборы и монастыри, измельчало. Папа прочно основался в Риме. Он стремился установить господство над всем христианским миром. Однако его влияние по-прежнему носило исключительно духовный характер. Он еще не овладел фискальными инструментами, которые могли бы существенно пополнить его сундуки и помочь ему поддерживать столь же амбициозные художественные начинания, как затеи Людовика Святого. Вне всякого сомнения, Папе непосредственно подчинялась центральная часть полуострова, однако папским агентам оказывали там противодействие свободные города и феодалы, не испытывавшие перед ними страха в своих замках. Что касается власти ломбардских правителей, то она затерялась в запутанном лабиринте прав, которых напрасно добивались в Тоскане и в долине По германские короли. Последние вместе со своими рыцарями порой спускались с Альп. Однако им удавалось вырвать у городов-государств лишь видимость могущества, Города уступали только временно. Они дожидались, когда чума и лихорадка уничтожат тевтонскую армию, а ее предводитель будет вынужден вернуться обратно пристыженный, с пустыми руками. В Ломбардии, в долине Арно, пышным цветом расцвела коммунальная независимость, однако она раздробила королевские прерогативы и богатства, которые они обеспечивали, на мелкие части. Их оспаривала сотня враждебных друг другу республик. В Италии существовало только одно прочное государство, королевство — вотчина палермских князей. Князья владели несметными запасами золота, которое шло на великолепные украшения дворцов и церквей. Однако провинции, над которыми властвовали палермские князья, на самом деле принадлежали Востоку. Именно греческие художники расстелили вокруг княжеских покоев и часовен сверкающие мозаичные ковры.
Положение в Южной Италии изменилось, когда Сицилия перешла под власть Штауфенов, а Фридрих II, возмужав, захотел считать себя настоящим преемником Цезарей. Это политическое событие вызвало при итальянском дворе, где только и могло проявиться в полной мере щедрое великодушие князя, пересмотр основополагающих эстетических понятий, решительный возврат к римским истокам, археологическое восстановление классического искусства. На протяжении всего XII века в Кампании фантастические животные, драконы, морские коньки, сошедшие с орнаментов византийских тканей, кружили на амвонах соборов. Новое искусство не прогоняло их. Оно само не вошло в церкви. Оно начало воплощаться в памятниках гражданской архитектуры. Безусловно, в ломбардских провинциях римская эстетика пустила глубокие корни и проросла до самого нижнего слоя — до древнеримской античности. Ее религиозные здания отказывались от мироощущения и устремленности ввысь французских соборов. Как и античные храмы, они замыкались на самих себе в кольце аркатур. Здесь преобладали ценности равномерности. Пармский баптистерий устремляется в небо, однако похож он на цилиндр, а не на стрелу, а его скульптуры напоминают изображения богов и приравненных к героям умерших, статуи которых украшали врата латинских городов. Фридрих Π совершенно сознательно приказал восстановить статую Рима.
Замок Капуи, возведенный между 1234 и 1240 годами, когда переживали свой расцвет статуи Реймса и Бамберга, когда античность предстала во всей первозданной красоте, избавившись от литургических форм римского искусства, украсился удивительными бюстами. Изображения императора, его советников и гражданских добродетелей словно только что были найдены при археологических раскопках.Вскоре им стали подражать художники, украшавшие религиозные здания. В 1272 году Никколо ди Бартоломео да Фоджа, отец которого служил Фридриху, вылепил лицо женщины, украсившее затем кафедру собора Равелло. Был ли это портрет Сиджильгайды Руфоло? Или аллегория Церкви? Так или иначе, но это было воскрешенное изображение Рима.
В ту эпоху большие города Тосканы накопили богатства, сравнимые с богатствами великих правителей. Однако народ боролся против аристократии и постепенно оттеснял ее от власти. Руководители коммуны, управляющие общественными финансами, вышли из неустойчивой среды деловых людей, совсем недавно еще прозябавших в посредственности и не имевших достаточно глубоких культурных корней. Некоторые из этих выскочек уже приобрели вкус покупать в далеких краях — как в 1900 году нью-йоркские банкиры и московские купцы — шедевры изящных искусств. Этими шедеврами были византийские украшения или французские книги. В родных городах выскочек еще не существовало достаточно смелых, достаточно образованных художников, которые были бы способны создать произведения, отвечавшие их новым вкусам. И вот пришел Никколо Пизано. Что нам известно о нем? То, как его звали, что он родился около 1210 года и умер в 1278 году. Посещал ли он Кампанию или Романию? Он высек в камне многочисленные изображения Моисея, спустившегося не с горы Синай, а с Капитолия. В 1260 году, когда заканчивалось строительство Реймсского собора, когда, согласно предсказаниям Иоахима Флорского, должна была начаться третья мировая эра, кафедра баптистерия Пизы, сотворенная Никколо, вознеслась ввысь, словно стела. На рубеже Возрождения.
3
Как вселенная соборов, так и вселенная рыцарства была вселенной ритуалов и литургий. Ценности отваги, широты души и куртуазности нашли свое воплощение в легендарных подвигах короля Артура, Карла Великого, Готфрида Бульонского. Эти персонажи, наделенные образцовыми добродетелями, вышли не из мечты. Давным-давно они жили среди людей. И тем не менее они принадлежали уже не истории, а легенде, и воспоминания об их деяниях не стремились следовать хронологии. Они жили вне времени. Периодически церемониал придворной жизни, праздники коронации, состязания на копьях, игры в куртуазную любовь развивали предписанные ритуалы, которые благодаря символическим представлениям вводили их на какой-то момент во временные рамки. Эти забавы переносили их в такое же вымышленное пространство, не имевшее ни твердых размеров, ни границ. В центре мифа было опасное приключение, непрекращающийся поиск. И приключение и поиск забрасывали героев-рыцарей и живых действующих лиц, временно игравших их роль, в дремучий лес.
Среди всех видов созданной природы лес представлял собой самое подходящее место как для романтических вымыслов, так и для тайных забав влюбленных. При помощи лужаек неопределенных форм, бесконечной глубины, бесчисленных обходных тропинок лес позволял постепенно проникать в тайну. Он уничтожал грань между реальностью и волшебством. В XIV веке гобелены превращали залы поместий сеньоров в дремучие чащи. А податливые формы лесных узоров породнились со стенами зданий и книжными пергаментами, чтобы создать там абстрактное пространство мифа.
Около 1300 года закончились работы по внешней отделке больших соборов. Эти работы велись на деньги, дарованные прелатами и правителями. Принципы рыцарской культуры восторжествовали над логикой строителей. Логика исчезла под замаскировавшим ее орнаментом, который заменил эту самую логику на бессмысленные рыцарские ритуалы. Так, на центральном портале Реймсского собора традиционная сцена коронования Девы Марии резко выделяется, тем самым нарушая незыблемость стен. Нисходящее движение готических структур освобождается от измеримых объемов. Оно устремляется вперед и теряется в буйстве цветущих кустарников, ветви которых взбираются на гребень стрельчатого фронтона. На самой вершине подъема, отмеченной крыльями ангелов, само Солнце превращается в цветок. Так сияет самое высокое дерево в лесу. Так сияет свет, согласно францисканской космологии оксфордских школ. Именно это сияние уничтожило на сводах Тьюксбери, на центральной башенке купола собора Или и капитульного зала Уэллса разгороженную строгость полного пространства, принципы которого были найдены в XIII веке в физике Аристотеля.
Непоследовательное пространство леса, бегство рыцарей в воображаемый мир, безрассудные авантюры молодых людей знатного происхождения, отправлявшихся на поиски любовных приключений, супруги, владений или просто-напросто славы, заполняли страницы книг, украшенных миниатюрами. Художники Англии без особого труда освоили фантастический язык кельтских и саксонских миниатюр. В «изгороди», окружавшей текст, свободная фантазия проявлялась сполна. Внутри замысловатой паутины, смешивавшей растительные узоры с причудливыми геометрическими фигурами, она являла взору точно подмеченные эпизоды животной жизни. Ведь в лесу рыцари порой встречались с драконами. Однако гораздо чаще они преследовали ланей и оленей.
В Париже логика братьев доминиканцев из университета превалировала во всех сферах жизни, и поэтому иллюстраторы книг не могли заходить слишком далеко. На полях составленного около 1325 года под влиянием доминиканцев для семьи Бельвиль бревиария[199], который украшали в мастерской Жана Пюселя, была изображена более упорядоченная растительность. Художники ограничились модуляциями орнамента и воспроизвели точные формы садовых и лесных растений. В буквицах нашло воплощение отвлеченное понятие о буквах. Главное здесь — декорации. Они вписываются в рамки строгой композиции, где движется воздух. Это пространство представляет собой пространство великого театра Джотто. В Париж благодаря торговле произведениями искусства уже проникли отголоски итальянских экспериментов.
А тем временем патриции городов Италии, в том числе и Флоренции, демонстрировали любовь к изяществу, украшениям, рыцарской и куртуазной изысканности. Им пришлась по вкусу готическая каллиграфия Лоренцо Монако, камальдульского монаха. Монах умел придать благочестию и христианской драме приятную сладость и экзотику. Его одержимые волхвы бредут среди ощетинившихся башен и гротов в волшебную страну грез.
В 1310 году придворный поэт Жак де Лонгийон сочи- праздники нил «Обеты Павлина». В этих манерных стихах он описывал кортеж из Девяти доблестных ратников. Отныне каждый сеньор, каждый молодой рыцарь, стремившийся, как утверждает Фруассар, овладеть в совершенстве оружием, стал поступать так же, как и они. Герцог Иоанн Беррийский захотел, чтобы портреты героев, уже украшавшие один из каминов дворца Буржа, были воспроизведены и на гобеленах. На них красуются причудливые узоры, переплетенные ветви ловко образуют ступенчатые альковы, в которых поочередно помещаются песни и праздничные речи. Юлий Цезарь, один из трех языческих ратников, восседаетздесь на троне империи. Каролингская борода, корона, доспехи из пластинок помещают его в вечное настоящее куртуазных парадов.
Сама история превращается в череду праздников. Военные торжества, сражения, похожие на турниры, и турниры, заканчивающиеся сражениями, после которых победители прислуживают за столом побежденным, захваченным ими в плен. Язык придворного искусства без труда связывает картину реальной действительности с вымышленными представлениями. Все его сюжеты, иллюстрация коронаций, романов или любовных песен, сцены Благовещения, Поклонения Волхвов и даже Смирения Богородицы или Распятия являются поводом для описания нарядов. Рыцарская культура одевает Марию, святых и всех героев своихмифов в роскошные одежды, которые раньше использовались лишь во время богослужений и отправления королевских ритуалов. Праздник прежде всего давал радостный повод украсить себя, сбросить привычные одежды и облечься в вымышленные наряды. С конца XIII века искусство скульптуры соборов начинает подчиняться правиламигры. В Страсбурге Искуситель и девы, которых он собирается развратить, не прочь вкусить мирские удовольствия. Художник осуждает их. На плаще Искусителя извиваются рептилии. Художник не одобряет изысканность дев, обуреваемых порочными чувствами. Однако он показывает их такими, какие они есть: блистательными и исполненными соблазнов.
Пройдет сто лет, и во Франции времен Карла VI искусство королевского благочестия повернется лицом к вымыслу, мечте и роскоши куртуазной культуры. Оно унаследует от праздника изящество украшений, а от спектакля — мизансцены. Подобный ковчег унесет ввысь в сверкании золота, бархата и драгоценных камней всех собравшихся вместе персонажей — Бога Отца, Мадонну Царицу, Иисуса — Спасителя мира, апостолов и святых покровителей.
Сеньоры французского двора, дворов Никозии, Виндзора или Неаполя танцевали на вулкане, который они называли адом. Они старались забыться. Они носили платья, прошитые золотыми нитями, скакали на великолепных лошадях, ласкали стройных дев, но при этом дрожали. Ведь они понимали, что этот мир, которым они наслаждались, скрывал в себе ночь, ужас, чуму, страдания, безумство, которое превращает королей в животных, смерть и неведомую вселенную. Эта опасность заставляла их предаваться утонченным удовольствиям, а также приводила их к утонченному же аскетизму. Изящное искусство 1400 года плохо скрывает глубинное беспокойство. Беспокойство, повествующее на заалтарных картинах о жизни святых, вынуждает безмерно кривляться палачей мучеников. Именно оно подвигло в Барселоне Бернардо Мартореля растянуть по трагической диагонали истерзанное тело святого Георгия. Именно оно служит причиной того, что на всех картинах, изображающих Снятие с креста, святые женщины заламывают руки при виде ран Христа. Именно оно объясняет, почему сцены Апокалипсиса имеют столь магическое влияние на государей: эти сцены показывают уязвимые места Творения. После 1373 года Никола Батай, самый известный парижский ткач, специально для герцога Людовика Анжуйского создавал гобелены, по-своему пересказывавшие образным языком Апокалипсис Иоанна. Элегантная каллиграфия и совершенным образом подобранные краски освободили тему от влияния беспокойства; похожий на единорога зверь, доблестный Гектор и доблестный Карл Великий, соблюдающие ритуалы куртуазности. А еще совсем недавно на стенах часовни Богородицы в Карлштейне неизвестный художник сумел изобразить специально для императора Карла IV символ ужаса, крушения всего сущего — огромного паука — и бледные лица, хороводом кружащиеся от кошмарного наваждения.
Распятие господствует над всей вымышленной вселенной благочестия. Оно подавляет ее. Ведя борьбу с еретическими верованиями, которые распространялись в том числе и с помощью францисканских спиритуалов и которые предсказывали скорое наступление царствования Святого Духа, Церковь сконцентрировала свое догматическое учение на тайне единства Бога в трех ипостасях. Она всюду помещала изображение Троицы, однако при этом смешивала его с изображением крестного пути: Бог Отец торжественно восседал на «престоле спасения», а голубь Святого Духа соединял Его лицо с лицом Сына, крест которого он поддерживал своими собственными руками. Такова центральная тема творчества Мазаччо. В 1427 году он воплотил ее на одной из стен Санта-Мария-Новеллы, создав восхитительный образ умирающего человека. Здесь центральная фигура композиции — распятый Христос. По бокам в отдалении стоят на коленях два дарителя. Выражения лиц выводят их за пределы вселенной вечности, где живут застывшие божественные персонажи — Мадонна и святой Иоанн. Однако все они одинакового роста. Наделенные одной и той же монументальной и статичной осанкой, они лишены человеческой приниженности и, морально укрепленные милостью Божией, перенесены в трансцендентное пространство.
Тем не менее торжествующий Христос выходит измогилы. Для того чтобы как можно полнее выразить динамическое могущество Воскресения, художникам приходилось проявлять силу, к которой, похоже, их крайне редко призывали покровители. Древнее литургическое искусство сводило порывы к небесным радостям. Всеобщей набожности XIV века никак не удавалось подняться над пропастью телесной смерти. Искусство часовен знало, как выразить нежность, оно превосходно научилось изображать тревогу человека. В совершенстве овладев мастерством воплощать мечты, оно воссоздавало картины Апокалипсиса. Однако совершенно не умело описывать небеса: в большинстве случаев его рай выглядит смешным.
Однако одному художнику удалось наделить воскресшего Христа неодолимой силой, показать его как героя, одержавшего победу над силами ночи: речь идет о неизвестном художнике из Чехии, создавшем заалтарные картины Тршебоня. Сравним с этой фигурой, принадлежащей пылкому, яростному христианству, которое вскореприведет в движение гуситские общества, другого воскресшего, Лазаря из «Роскошного Часослова». Лазарь — это человек. Он, подобно античным бронзовым статуям, наделен восхитительными, чистыми и цельными лицом и телом. Братья Лимбург дали стареющему Иоанну Беррийскому надежду, соединившую в себе древний рыцарский оптимизм и зачатки гуманизма, уже проникавшие из Италии. И рыцарство и гуманизм спускали эту надежду с небес на землю.
Такое изображение могло появиться лишь на исходе утонченной цивилизации 1400 года при необычайном соединении роскоши и здравого смысла, любопытства и изысканности, которого удалось достичь парижскому двору до того, как его разметали превратности войны. Перед тайной смерти все без исключения — и проповедники, и народ, который они заставляли дрожать, и стоические и суровые христиане, на которых работал Мазаччо, — проникались ужасом или же значительностью происходящего. Похоронная церемония не подготавливала возвращение к мирским радостям, она устраивала последний праздник вокруг тела, которому суждено было сгнить. Наступал миг прощания.
Этот праздник имел целью по меньшей мере увековечить память покойного и проводился для того, чтобы обессмертить черты его лица, и завершался возведением памятника, монумента. Иными словами, создавался портрет,который представлял собой способ продолжать жить.
Искусство изображать лица на надгробных памятниках XIII века расширило пределы жизни вплоть до границ потустороннего мира, до славы воскресения. Люди XIV века надеялись, что каким-то образом останутся на земле, если их лица будут запечатлены на надгробных памятниках. Если они возводили гробницы при жизни, то охотно позировали скульпторам. А когда скульпторам предстояло создать образ уже почившего человека, то они старались уловить сходство при помощи посмертных масок, снятых с лица во время похоронных торжеств. Художники Неаполя, получившие заказ изобразить живым Роберта I Мудрого, восседающего на троне, ограничились тем, что взяли его посмертную маску и раскрыли у нее глаза. Поступив подобным образом, они создали ввергавший в ужас портрет правителя в расцвете славы с блуждающим взглядом, внезапно возникший из тьмы ночи, из мрака суровой вечности первых римских скульптур. Необычайно выразительное искусство посмертных изображений сумело в кратчайшие сроки добиться пронзительной достоверности. Этому служат свидетельством суровые надгробные портреты умерших рыцарей, закованных в доспехи, епископов, всех этих хищников, которые вошли в потусторонний мир, не выпуская из рук своих привилегий. Художникам приходилось также создавать скульптурные портреты усопших. И тогда они призывали на помощь всю свою творческую фантазию. Ангелочки, несущие в руках гирлянды, окружают тело Иларии, молодой супруги тирана Лукки. Стараниями Якопо делла Кверча она безмятежно покоится среди совершенной красоты.
В XIV веке феодальной независимости пришел конец.Правители решительно обуздали ее. Мир стал более тесным, ведь прекращение крестовых походов вынудило рыцарей искать военные приключения в пределах Европы. За сто лет до описываемых нами событий молодой Эдуард III Английский, как и его предок Ричард Львиное Сердце, отправился на Восток в поисках славы: он вторгся во Францию и разграбил ее. Отныне жажда подвигов утолялась при помощи политических авантюр. И в самом деле, христианский мир распался на государства: не только на королевства, но и на незначительные княжества, а также на завистливые республики, образованные в Италии и Германии городскими коммунами. Престолы и муниципальные магистратуры потворствовали распрям, ненависти семей и соперничеству кланов. На протяжении всего века, познавшего пышный расцвет искусства ведения войны и возведения фортификационных укреплений, Запад оглашался звуками шагов вооруженных людей. И правители, и города жили под защитой крепостных стен.
Восхитительный замок в Меюн-сюр-Иевр, служивший герцогу Иоанну Беррийскому одной из многочисленных увеселительных резиденций, остроконечные шпили церквей, неожиданно открывавшиеся взору при въезде в германские города, дивный пейзаж, сотворенный АмброджоЛоренцетти, стройные башни дворцов коммун, патрициев или сеньоров с помощью поразительного контраста выражают умонастроение, которое в Европе XIV века определяло эволюцию военной архитектуры, где воплощалась воля аристократии к могуществу.
Два языка. Здесь находятся ирреальное пространство куртуазных мифов, вертикальное мистическое восхождение, направленная в одну сторону кривая, определяющая композицию изысканных поэтических мечтаний. Там — строгая мозаика, представляющая на обозрение компактную, основательную и глубокую вселенную. Но также и две культуры. Башня французского государя и колокольни коллегиальных церквей заканчивались игровыми символами. На своих макушках под роскошным праздничным одеянием они прятали оборонительный механизм. Они готовились к сказочным приключениям, во время которых рыцари Круглого стола терялись в воображаемых лесах. Или же они были увенчаны пышными украшениями, призванными доказать верующим щедрость Господа, присутствующего всюду и везде. Будучи символом рыцарской расточительности, они излучали вокруг себя блеск несметных сокровищ. Эти сокровища ревностно оберегались от завистливой ненависти соседей в башнях патрицианских семей Сан-Джиминьяно, в башне коммуны Губбио, за крепостными стенами, окружающими резиденции тиранов в городах Северной Италии. Они мощные, приземистые, недоверчивые. Некоторые переходы были открыты для радостей жизни, но в целом башни призывали семейный клан, городскую коммуну или вооруженное войско владельца сеньории к коллективному экономическому или военному наступлению и поддерживали у них неистребимый дух соперничества. Они стремились превзойти богатство соперников.
В городах Италии деньги и существовавшее благодаря им художественное творчество медленно отворачивалисьот религиозных сооружений, чтобы приступить к созданию собственно городского и гражданского пространства, где впоследствии воссияла слава коммун. В 1334 году Флоренция наделила Джотто обширными полномочиями и поручила ему надзирать за строительством купола, заботиться о муниципальном палаццо, мостах и крепостных стенах. Задуманная им колокольня принадлежала скорее коммуне, чем Церкви. Джотто прославлял ею добродетели и труд граждан. У этого возрожденного градостроительства существовали как бы два центральных элемента: замок и площадь. Члены городского совета, как и король, действительно заседали в башне. Башня господствовала над открытым пространством, где собирались городские ополченцы и простые горожане, пришедшие послушать торжественные речи. Народ Губбио поместил своих консулов в величавую крепость. Ценой невероятных усилий по бокам крепости были возведены открытые галереи, которые были предназначены отнюдь не для торговли: под высоким небом Умбрии на этих эспланадах совершались ритуалы гражданской доблести. Что касается жителей Сиены, то они приняли решение уменьшить размеры огромного собора, о котором мечтали их отцы. Однако на полукруглой площади Кампо они возвели монументальный ансамбль, представляющий собой самый древний пример городской архитектуры христианской Европы. Ансамбль примыкает к ратуше, строительство которой началось в 1298 году и которая возвышается над Манджио. Необычайно элегантная, стройная башня имеет тем не менее военное значение: она служит воинственным символом суверенитета города.
В период треченто практически все коммуны Италии попали под гнет тиранов. Тираны приходили к власти либо силой, либо принимали под покровительство «сеньории» патрицианских кланов, уставших от мести, заговоров, мятежей и надеявшихся, что господство одного человека поможет возродить мир, столь благоприятный для ведениядел. Эти большие или маленькие властелины чаще всегобыли обязаны успехами своей condotte, банде наемников,находившихся у них на содержании. Однако они любили представлять себя в образе диктатора античных времен и считали, что слава об их добродетелях переживет столетия. Гуманисты, уподобившиеся поэтам Древнего Рима, пели им хвалебные гимны. В ту эпоху нигде более не говорили так громко о славе. Только в Вероне, Милане, там, где царствовали амбициозные вожди древних родов. Они во всем подражали правителям, упивались своим всемогуществом, были жестокими и коварными. Они часто охотились. Мужество, проявленное в рыцарских боях, делало им честь. Они любили надевать на военные смотры или на турниры, где вставали во главе молодежи, доспехи Роланда или Ланселота и старались узаконить свою власть, подражая подвигам доблестных ратников. Однако им ни в коем случае нельзя было умирать. Их место могли занять другие. Чтобы забыть об узурпации, недостаточно смены одного поколения. Мертвый тиран непременно должен превратиться в героя. Когда умер Скалигер, его сыновья некоторое время скрывали это печальное событие, а затем прилюдно приказали построить саркофаг в самом центре покоренной Вероны. Над гробницей возвышается конная статуя — это символ политического триумфа. Сменяющие друг друга состязания на копьях и череда победоносных вечеров уносят в вечность signor города.
В Милане позади главного алтаря Сан-Джованни-ин-Конка Бернабо Висконти неподвижно восседает на коне в окружении одних только своих добродетелей. Он превозмог смерть вовсе не для того, чтобы раболепствовать в раю. Он это сделал для того, чтобы продолжать сражаться и оставаться полновластным хозяином в своем городе.
Когда в Италии зародилось настоящее политическоезодчество, надгробные изображения государей пересталивозвышаться над трупами: отныне им воздавали высшие почести. Первые надгробные изображения — они появились в Капуе — носили абстрактный характер. Во второй половине XIV века все без исключения властелины Европы изъявили желание запечатлеть при жизни свои черты в цветном камне, как это уже сделали Фридрих Гогенштауфен или Папа Бонифаций VIII. Они хотели предстать перед потомками как незыблемые правители своих могущественных империй. Однако в то же самое время они хотели, чтобы каждый смог их узнать. Для подобных целей художники приспособили скульптуру соборов. С незапамятных времен они уже изображали Христа как короля. Художественные каноны побуждали изображать Бога и апостолов в нарядах светского праздника, привносить в них жизнь, придавать обыденную позу, приближать к повседневному существованию людей. Поэтому резчикам по камню достаточно было заменить лицо господина загробного мира на лицо своего хозяина. Подобные изображения служили украшением дворцов. Многие из них располагались на фасадах церквей. Филипп Храбрый заказал Клаусу Слютеру статую, изображавшую его молящимся, для портала Шаммоля. Статуя герцога Альберта Габсбурга, созданная между 1360 и 1380 годами, установлена на треугольной дарохранительнице на одной из башен собора Святого Стефана в Вене.
Новые традиции зодчества без труда разрешали помещать каменных правителей поблизости от пророков: они более не принадлежали к разряду святых. Однако даже коленопреклоненных супруг государей нельзя было спутать с женщинами, причисленными к лику святых. Духовный подъем, поставивший в центр образ Девы Марии, сохранил огромную дистанцию, отделявшую изображения Мадонны от изображения всех прочих представительниц женского пола. Однако процесс освобождения от церковного влияния неумолимо продвигался вперед. На пороге XV века, когда восторжествовали светские ценности, женские изображения воссияли во всей красе и сумели занять почетное место рядом с изображениями Богоматери, ставшими гораздо более симпатичными. Скульптор, изваявший статую Изабеллы Баварской, королевы Франции, лишил нежное, соблазнительное тело всякого намека на сверхъестественное. Совершенство, которого он достиг, принадлежит исключительно мирской плоти и мирскому счастью. Он посвятил свою статую женственности.
Воскресшие из царства мертвых, изображенные на буржском тимпане, который был вылеплен в 1275 году, охвачены весенним освободительным порывом. Они появляются, словно первоцветы, между пластин своих гробниц. Скульпторы уже осмелились изобразить не только духовную целеустремленность, но и подчеркнуть элегантную стать и гибкие формы тела. Это было первым решительным открытием. Радость, излучаемая нежными, гладкими и торжествующими телами, чиста. Она исходит от них, славных, освободившихся от зла и пыла земной любви.
Тем не менее это нельзя назвать открытием. Просто художники вспомнили о греко-римской пластике, которая развеяла то, что внушало беспокойство из-за религиозных и социальных запретов: отвращение к обнаженной плоти, навязчивый страх перед грехом, угрызения совести. В последние годы XIII века мотивы античных инталий, изображавших Геркулеса и Эрота спящими под деревом, были воспроизведены на цоколе портала собора Осера. Там нашла свое воплощение физическая красота, полностью лишенная христианской недоверчивости. Постепенно новое видение утверждалось в Центральной Италии. В этом регионе скульпторы и художники в течение всего периода треченто испытывали на себе влияние французской моды. Однако они прекрасно уживались с немыми свидетельствами античного искусства. Мадонны Арнольфо ди Камбио позаимствовали у римских матрон пышные формы, скрыв их под просторными одеждами. К концу XIV века в некоторых рисунках нашли отражение любопытство и более конкретные пути творческого поиска. На одном из таких рисунков, хранящихся в Лувре и приписываемых Джентиле да Фабриано, мы видим списанную с саркофага классическую фигуру Венеры. Итак, утверждаются новые каноны изображения женского тела. Более гибкие и грациозные, чем каноны римских мраморных скульптур, они тем не менее существенно отдаляются от форм, породивших эстетику трубадуров и отточенных при парижском дворе. Менее податливые, более плотские, они пренебрегают душевными сомнениями. Эти каноны утверждаются на пороге соборов при воспроизведении сцены создания Евы. Скульптор, украшавший в первой трети XIV века купол Орвието под руководством Лоренцо Маитани, возможно, посещал великие стройки Франции. Он окунул свою рождающуюся Еву в радость французских садов и в то же время придал ей полноту и силу античных рельефов.
Около 1400 года благодаря художникам, рукой которых водил герцог Иоанн Беррийский, прелести классического вдохновения, исходившего из Италии, соединились с линейным изяществом. Так, в «Райском саду» «Роскошного Часослова» братья Лимбург через обнаженных Адама и Еву безудержно восхваляют радость быть свободным в жизни и наслаждаться ею. Герцог хранил у себя медаль, прославляющую императора Константина, на оборотной стороне которой была аллегория Язычества в образе молодой женщины у подножия увенчанного крестом Источника жизни. Ее тело лишено обманчивых покровов светских украшений. Однако хрупкие члены, маленькие груди, соблазнительный живот придают ему манерную изысканность готических дворов, где куртуазные ритуалы требовали от женского тела прихотливости арабески. И все-таки для Якопо делла Кверча Ева Искушения излучает могущество, а не грациозность. Он прославляет в ее теле первородную мощь матерей-богинь.
В те времена Гиберти задумал создать во Флоренциидверь баптистерия. На этой двери изображено сотворение женщины. Те же ангелы, которые до сих пор возносили к небу одно-единственное тело — тело Богоматери, поддерживают здесь тело внезапно появляющейся Евы. Она наконец спасена, включена в число праведников. Она утверждается. Отныне она принадлежит чистоте и славе. Ее красота взмывает к божественному свету, побеждающему все угрызения совести.
Иллюстрации
1. Бытие, Бронзовые врата епископа Бернварда. Верхняя левая часть. 1015 г. Собор в Хильдесхейме.
2. Жюмьеж, церковь бенедиктинского аббатства. 1040-1067 гг.
3. Сен Бенуа сюр Луар, Грехопадение Адама. Капитель. XI в.
4.Дижон, крипта собора Сен-Бенин. Начало XI в.
5,Муассак, клуатр церкви Сен-Пьер, строительство которой было завершено в 1100 г.
6. Пайерн,монастырская церковь. X-XII вв.
7. Жерона, капитель колонны из монастыря Сан Педро де Галлиган. XII в.
8.Жеронский гобелен: Сотворение мира, деталь. Около 1100 г. Хранится и соборе Жероны (Испания).
9. Христос Вседержитель. Фрески из церкви Сан-Клементе-де-Тауль. 1123 Барселона. Музей каталонского искусства.
10. Беат Лиебанский, комментарий к Апокалипсису: Всадники. 1086 г. Собор Бурго-де-Осма (г. Сория, Испания).
11. Перикоиы Генриха II:Прощание в Страстной четверг, Рейхенау, около 1010 г. Мюнхен. Государственная библиотека.
12. Христос, фрагмент портала нефа. ()коло 1120-1150 гг. Везле, церковь Св. Марии Магдалины.
13. Королевский (или западный) портал собора Богоматери в Шартре. 1145-1150 гг
14. Уэльский собор (Сомерсетшир). 1220-1239 гг.
15. Внутренний вид нефав построенном во второй половине, XII в. соборе Богоматери г. Лан.
16. Внутренний вид нефа в основанном в 1147 г. аббатстве Сильвакан (Буш-дю-Рон)
17,Волхвы и Бегство в Египет, витраж и апсиде. Около 1215 г. Лан, собор
18.Царь Иудейский, фрагмент скульптуры королевского портала. 1145-1150 гг. Шартр, собор Богоматери.
19. Бюст Фридриха II, Середина XIII в. Барлетга. Национальный музей.
20. Внешний вид южной розы трансепта, около 1270 г. Собор Парижской Богоматери.
21. Бамбергский всадник. Около 1235 г. Собор в Бамберге.
22. Бонавентура Берлингьери (ок. 1228-1274). Св. Франциск и сцены из его жизни. 1235 г. Пескиа, церковь Св. Франциска,
23. Лоренцо Монако (ок. 1370-1424). Путешествие Волхвов (рисунок). Берлин-Далем, Государственный музей.
24. Амброджо Лоренцетти (расцвет в 1324-1348). Результаты доброго правления, фрагмент фрески. 1337-1339 гг. Сиена. Государственный дворец.
25. Маттео Джиованетте да Витербю (сер. XIV в). Видение св. Иоанна на Патмосе, фрагмент. Фреска 1346-1348 гг. Авиньон, папский дворец, часовня Си. Иоанна.
26. Вышебродский мастер (сер, XIV в.). Воскресение. Около 1350 г. Прага, Национальная галерея.
27. Антонио Пизанелло (1395-ок. 1455). Легенда о св. Георгии и принцессе, фрагмент. Фреска. Около 1345 г. Верона, церковь Сант-Анастасия.
28, Мазаччо (1401-1429). Святая Троица (нижняя часть изображает скелет, лежащий на гробнице). Фреска. 1427 г. Флоренция, Санта-Мария-Новелла.
29. Бовино ди Кампионе (расцвет 1357 -1388). Мраморная гробница Бернабо Висконти. 1370 г. Милан, Дворец Сфорцеско, Археологический музей.
30, Никола Батай (?), Юлий Цезарь, один из яаыческих героев, изображенных на Гобелене Девяти доблестных ратников. Около 1385 г. Ньо-Иорк, Музей искусств Метрополитен, Аркады.
31. Лоренцо Гиберти (1378-1455). Сотворение Евы, фрагмент панно на Райских вратах. 1425-1447 гг. Баптистерий во Флоренции.
32. Братья Лимбург: Декабрь, миниатюра из календаря "Роскошного Часослова" герцога Беррийского. Около 1415 г. Шантийи, Музей Конде.
33. Джотто(ок. l266-1337). Иоаким среди пастухов, Фреска, 1305-1306 гг. Падуя, Канелла дель Арена (часовня Скровеньи).
34. Реликварий часовни ордена Святого Духа. Франция, начало XV в. Париж, Лувр.
35. Искуситель, две неразумные девы и дева Благоразумная. Статуи, снятые» с фасада собора. Около 1280 г. Страсбург, Музей сокровищ собора Богоматери.