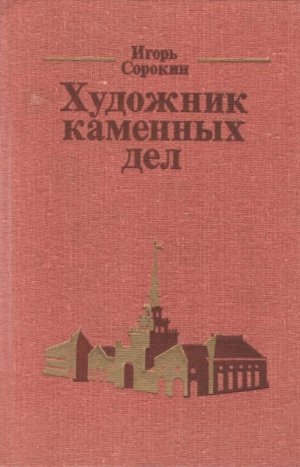
Рецензенты: член Союза архитекторов СССР, лауреат премии Совета Министров СССР О. К. ИВАНОВ; член Союза писателей СССР И. А. МИНУТКО
Глава I
Легенды рода
За городом на выгоне, где начинается Баюканский спуск, лежали, превращаясь в прах, обломки саманных стен. Говорили, что здесь в старые времена стояла целая череда глиняных бараков, которые слепили для себя пленные турки.
Сюда под одинокое ореховое дерево, закрывающее полнеба, большой седовласый господин приводил трех худеньких гимназистов, усаживал их на траву, а сам стелил платок и садился на истертую годами могильную плиту, на которой тогда еще можно было разглядеть османские символы.
Грузный старик рассказывал — каждый раз с новыми подробностями — об одном и том же, чему ни он сам, ни даже его отец не могли быть свидетелями.
Гарнизон генерала Каменского четвертый год стоял в Кишиневе с одной миссией: внушить туркам уважение к новому соседству на новой границе по Кючук-Кайнарджийскому соглашению о мире.
Не только штабным офицерам, но и каждому русскому солдату, казаку и молдавскому арнауту загодя было известно, что мир этот всего лишь передышка перед новой большой войной, и, чем дольше длилась тишина, тем ужаснее становилось от одного лишь запаха пороха, который уже чувствовался в воздухе. Он сгущался до той поры, пока от него стало совсем уж некуда деться.
В штаб генерала Каменского шли нетерпеливые и какие-то жалобные денеши из Фокшан, где изнывал, тоскуя по делу, корпусной генерал Александр Васильевич Суворов, наказанный за нарушение субординации, выразившееся в самовольной атаке на турок, которые решились на отчаянную вылазку из осажденной крепости Очаков. Этот маневр, сохранивший тысячи жизней русских солдат и принесший половину победы, был предпринят без ведома да еще прямо на глазах верховного главнокомандующего князя Потемкина.
Даже победа не смогла остудить гнева светлейшего. Большой и сильный, он в присутствии всей своей свиты «казнил» щуплого, как подросток, маленького, но великого генерала, а Суворов с любовью и преданностью смотрел на главнокомандующего и, казалось, совсем не вникал в смысл сотрясающих округу громогласных слов.
Кончилось тем, что князь огромными своими лапами взял Суворова за плечи, приблизил к себе, зорко посверлил единственным глазом, поцеловал в лоб и сказал:
— Сделай себе из моих слов науку: не суйся поперед батьки в пекло! Знай и помни, что я люблю тебя и мне твои такие подвиги огорчительны. Ступай.
Более трех лет ждал Александр Васильевич Суворов подтверждения любви светлейшего и наконец дождался.
Поручик князь Барятинский явился к Суворову с эстафетом не от князя Потемкина Таврического, а от Григория Александровича Потемкина. И эстафет-то был не эстафет, а как бы частное письмо с просьбой дать главнокомандующему совет: можем ли мы, русские воины, сокрушить Измаил — дунайские ворота в Черное море?
От пространных рассуждений Григория Потемкина, предержащего ныне всю российскую славу и власть, у Александра Васильевича Суворова радостно всколыхнулось сердце.
Послание как начиналось, так и заканчивалось просьбой: если генерал Суворов знает, «как совершить сие невозможное деяние», то пусть отправляется под измаильские стены и по прибытии берет на себя всю команду и ответственность за предстоящую кампанию.
Путь из Фокшан до Кишинева Суворов проскакал на своем донском жеребце одним прогоном и, несмотря на возраст, не почуял усталости. Генерал Каменский, видно, уже что-то знал о потемкинском эстафете, поэтому ничуть не удивился визиту Суворова, которому прежде распоряжением светлейшего путь в Кишинев был заказан.
Каменский не любил Суворова за «отчаянность и рисковость», да и личные качества, такие, как строптивость и полное отсутствие дипломатии, были ему не по душе.
Благодаря новому назначению Суворов выходил из подчинения Каменскому и, более того, становился как бы над ним, во всяком случае, мог требовать от своего вчерашнего командира того, что ему нужно было, и не замедлил воспользоваться своим новым правом.
Лучшие гренадерские полки из бывшей армии Румянцева, которые Александр Васильевич Суворов не раз водил в бой, Каменский отдал безропотно, но когда Суворов потребовал арнаутский полк, полки казаков Головатого и Ничипоренко — тут генерал попытался дать отпор:
— Помилуйте, Александр Васильевич, зачем вам эта разбойничья ватага? Я их за три года регулярному строю обучить не могу.
— А их этому учить не следует, генерал! — взвизгнул Суворов. — Их дело — сабля и пика, а не гренадерский штык! Вы бы лучше научили своих драгун сабельному удару, коим запорожцы коня надвое разваливают!
— Не время ссориться, Александр Васильевич, — примирительно сказал Каменский. — Раз вы считаете, что так должно для дела... что ж, забирайте с богом! Я уж как-нибудь здесь с резервистами управлюсь. А вам, поверьте, от души желаю удачи!
Суворов первым протянул свою узкую ладонь и победно улыбнулся.
...Вторые сутки флотилия бывшего испанского корсара, а ныне адмирала российского флота де Рибаса долбила по просьбе Суворова измаильские стены с дунайской воды. Ядра высекали искры и мелкие каменные брызги, а стены стояли незыблемо. Видимо, недаром комендант крепости серкасир Айдозла призвал французских фортификаторов для укрепления измаильской твердыни. Инженерные работы велись до той поры, пока сам султан Абдул-Хамид не убедился, что крепость неприступна.
Безвредным горохом бились ядра о гранитную твердь, вызывая лишь насмешки турок. Но им было бы не до смеха, знай они истинную цель суворовского маневра. Ночью под грохот канонады казаки кошевого Ничипоренко забрались на высокую восточную стену и просидели на ней до рассвета, до той самой поры, пока не была сделана детальная опись и не снят план фортификакионных сооружений крепости.
Со страшными сабельными отметинами вернулись казаки в стан, но голландского инженера доставили без единой царапины. И сразу умолкла канонада дерибасовых пушек.
По добытым ценою десятка казачьих жизней чертежам Суворов велел соорудить в восемнадцати верстах от измаильских стен другой «Измаил» со рвами, затопленными водой, с узкой кромкой земли у стен.
Началась репетиция штурма. На стенах засели солдаты с длинными шестами, с помощью которых они отталкивали осадные лестницы, и гроздья людей, ползущих по ступеням вверх, плюхались в воду. Проклиная день, когда родились на свет, солдаты выуживали лестницы и снова тащили их к стене.
Если «штурм» удавался, то защитники крепости менялись местами с нападавшими. Череда длилась и длилась: не успевшие обсохнуть солдаты поднимались по тревоге — случалось и ночью, — чтобы снова «грызть каменные стены».
К концу седьмого дня учебного штурма Суворов признал безнадежным гнать на стены запорожские полки.
Сам полковник Головатый мучительно морщился, высасывая воду из мокрых усов:
— Уперед, бисовы диты! От зараз усих за хохол визьму тай на сю стеночку кыну!
Дюжие казаки, свесив могучие плечи, топтались вокруг полковника и жаловались на солдата, что, скалясь, сидел на стене:
— Тай чего вин лестничку пихае!
— Ото турок туточки будет — чего з им зробышь? — наседал полковник.
— Буде турок, я его и визьму! — задиристо отвечал казак по имени Константин, а по прозвищу Щусь и погрозил солдату на стене.
Подскакал вестовой с приказом играть отбой, сушиться, есть, спать.
К Головатому подъехал сотник казачьих егерей Нехлюдов, спешился и что-то зашептал на ухо. Полковник велел говорить вслух.
— Слухаю, вельможный панэ! — ответил Нехлюдов, но больше не вымолвил ни слова.
— Тай нэ журысь!
— Велено передать, — сказал сотник на чистом русском языке, — что на приступ идем завтра. О часе будет объявлено особо. В два часа пополуночи полковым командирам явиться к генералу Суворову.
Нехлюдов отъехал, а Головатый, глядя ему вслед, произнес:
— Ото и мы зараз украиньску мову забудымо. Вин соби имя Нехлюда зменыв — Нехлюдов зробився, по-кацапськы як сорока стрэкае...
На военном совете Головатый чувствовал себя неловко. Суворовские полковники не то чтобы глядели на него свысока и не то чтобы не замечали его, а старательно подчеркивали свое равенство с ним, невзирая на его совершенно невоенный вид и обличье.
Один лишь раз Головатому почудилось, что запахло чем-то похожим на невозвратимый теперь казацкий круг, когда все ратное население Хортицы решалось на отчаянный набег. Духом воинского братства повеяло, когда Александр Васильевич Суворов, приковав к себе взоры поднятой кверху рукой, сказал:
— Господа офицеры, Измаил — это вам не Очаков! Турок в нем сидит — храбрый и умный генерал Айдозла. Драться он умеет и не раз уже это доказал... Из наших войсковых учений увидел я, что брать Измаил мы не готовы... и не брать не можем. А посему полагаюсь я на ваш совет, как скажете сейчас, так оно и будет...
И стали подниматься командиры один за другим и кто твердо, а кто почти шепотом произносили одно лишь слово: «Штурм!»
Это же слово написал Суворов в ультиматуме серкасиру Айдозле: «Предлагаю сдать крепость без боя. Обещаю свободный выход гарнизону со знаменами и оружием. Два часа на размышление. Затем — штурм».
Ответ был злой, ругательный.
Затрещали полковые барабаны, пропели атаку боевые рожки и трубы. Первый же артиллерийский залп поглотил всю эту музыку.
С высоты измаильского бастиона и полковая музыка, и пушечная пальба казались чем-то несерьезным, наивным. С полудня до сумерек потешались турки над тщетными попытками суворовских солдат оседлать крепостную стену.
Как соломинка, облепленная муравьями, падала очередная лестница в глубокий ров. А солдаты, словно заведенные, снова тащили ее из воды, перешагивая через тела своих товарищей. Один только раз за все время гибельного боя удалось зацепиться за стену, но турки все-таки сумели сбросить осаждавших вниз с высоты четырех сажен.
Волнами набегали солдатские цепи на крепостную стену и умирали под ней. Стена гасила волну за волной, и этому, казалось, не будет конца. Но вот корабельным пушкам де Рибаса удалось поджечь город, и турки стали с опаской поглядывать за спину. В дело вступили запорожские полки, но и им не было удачи.
На штурм пошла казачья сотня егерей майора Нехлюдова, собирая по дороге откатившихся было от стены запорожцев и увлекая их за собой. Казачьи егеря, приблизившись ко рву, побросали фашины, с помощью которых одолевали водную преграду гренадеры, и налегке бросились вплавь, толкая перед собой связанные из ивовых лозин лестницы. Под тяжестью казачьих тел такие лестницы липли к стене, их невозможно было оттолкнуть никакими силами.
Зажав саблю в зубах, карабкается по стене казак, зло сверкая единственным глазом из-под черной брови. Над ним — двое его товарищей. Верхний еще не успел пустить в ход оружия, как тяжелый камень отбросил его от стены, второму удалось лишь рассечь лезвием воздух, и он уж летит, раскинув руки, задевая тех, кому суждено разделить его участь.
Турок с оскаленными в дикой улыбке зубами свесился над новой жертвой и чиркает воздух кривым ятаганом. Майор Нехлюдов, высунувшись из-за плеча казака, точно стреляет в оскаленный рот. Еще миг — и двое на стене. Не успевает третий занести ногу, как лестница обламывается под тяжестью тел — слишком много народу, жадного до погибели в бою, взгромоздилось на нее.
Напрасно майор кричит вниз:
— За мной, хлопци!
Вместо хлопцев с обеих сторон бегут к ним турки по крепостному валу. Нехлюдов разряжает еще один пистолет и берется за свой палаш.
— Станем спина к спине, — спокойно говорит он казаку, — так дольше продержимся.
И начинается рубка. Турки кружат вокруг, согнув колени, пластаясь по земле. Наскакивают стремглав и вылетают из-под ответного удара. И если уж жала ятагана не миновать, то казак подставляет под него левое плечо. Турки все набегают, мешая друг другу. Палаш Нехлюдова вязнет в горячей плоти. Он слышит, как за его спиной гремит сталь о сталь, значит, можно еще хвилыночку выиграть.
Казак ткнулся лопатками в спину майора, но устоял, выпрямился, и снова заработала сабля, высекая предсмертный ужас из черных, сведенных яростью глаз.
Слепая ярость — плохой советчик в бою. В сознании турка огнем выжжено его превосходство в сабельной схватке, а эти две глыбы белого мяса хоть и скользят саногами в собственной крови, но все достают и достают турок своими ударами. Новые воины Порты спешат своим на помощь, оставляя свой пост на гребне.
Этой вот секунды и жаждали суворовские солдаты, за эту секунду платили неимоверно высокую цену, устилая шесть часов кряду поле, ров и полосу под стеной своими телами.
Зияющая пустота выметывала солдат в зеленых мундирах на крепостную стену одного за другим, будто бы они выпрыгивали из глубокого окопа.
По всей стене заработал гренадерский штык. Но турок было слишком много, а прорыв слишком узок. Оправившись от замешательства, защитники Измаила открыли прицельный огонь, окружив русских полукольцом. Это было похоже на расстрел над бездной. Положение было настолько отчаянным, что гренадеры обреченно пошли в штыки.
Страшнее смерти казалось начинать все сначала. Взобравшийся на вал молодой генерал Михаил Кутузов оценил положение русских как совершенно безнадежное, но сам остался на стене, лишь послал донесение в суворовский штаб, что прорыв сужается и нет никаких сил удержаться. Генерал просил прислать новые силы взамен тех, кто уже седьмой час не выходит из-под огня.
Позицию удерживали, пока не дождались ответной депеши. На клочке бумаги Суворов писал, что назначает генерала Кутузова комендантом крепости Измаил и поручает сию крепость взять. А о помощи — ни слова.
До сих пор историки теряются в догадках, каким образом это странное распоряжение могло повлиять на развитие военных событий, но то, что оно было решающим в сражении, признают все.
Кутузов увлек солдат в новый штыковой натиск, отторгнув турок от стены. Кто возьмет — штык или изогнутая полумесяцем сабля?
Победил суворовский штык.
За участие в штурме Измаила хорунжий Запорожского войска Константин Щусь был произведен в чин есаула Ольвеопольского полка, жалован дворянской грамотой и земельным наделом в три тысячи десятин с селами и хуторами.
Жалованная грамота нагнала его в Кишиневе, куда препроводил он колонну пленных турок на поселение для принудительных работ. В грамоте его украинскую фамилию перекроили на русский лад, да и то неправильно. Щусь — болотная птица, которая любит селиться в плавнях. На Руси ее зовут кулик, и Щусь на русский лад должен был зваться Кулик или Куликов, а он стал Щусевым. Так появилась русская фамилия с украинским корнем, уходящим в глубины старинного казачьего рода Запорожской Сечи.
Внук Константина Щуся — Виктор Петрович Щусев — надворный советник по званию и смотритель богоугодных заведений по должности — часто приводил своих сыновей на раздольный выгон, что начинался сразу за территорией земской кишиневской больницы. У развалин бараков, где в пору второй русско-турецкой войны жили пленные турки, он предавался военным воспоминаниям рода, хотя сам никогда винтовки в руках не держал.
Виктор Петрович был человек сугубо штатский и мирный. Отличительной чертой его была какая-то вселенская, ничем не победимая доброта, которая очень мешала службе. Большой и грозный с виду, он пытался спрятать за показной суровостью открытую и доверчивую душу.
В молодые годы благодаря бурной энергии и смекалке Виктор Петрович выдвинулся на поприще строительных работ по благоустройству Кишинева, но, получив ранг надворного советника, как-то сразу успокоился, решив, что все, чего он может достичь в жизни, он уже достиг. На свое служебное положение и чиновный ранг он смотрел как на пожизненную ренту, старался радоваться жизни и любить весь мир.
Такой жизненной установке немало способствовало преклонение перед ним и даже обожание, которое испытывала к нему молодая жена. Безоглядная ее любовь заставляла его мириться со многим. Он содержал целую толпу жениных родственников, почитал за обязанность пристраивать кого-то из них к должности, оплачивать чьи-то долги.
Виктор Петрович не очень сокрушался, что земельный надел, доставшийся ему от славного деда, худеет из года в год. Он хорошо помнил, как радовался дед, когда кому-то из его прежних товарищей по оружию удавалось купить землю, даже если покупали и у него. Помнил, как дед, наезжая в бывшие свои левады, пировал с их новыми владельцами, предаваясь вместе с ними счастливым воспоминаниям. Дед и помыслить не мог сделаться помещиком на русский манер — с барщиной и кнутом.
Еще беспечней относился к наследству Виктор Петрович: он попросту проживал и проедал свою землю до той поры, пока не истаял последний ее клочок.
В пыльном и знойном, подверженном вечным эпидемиям Кишиневе с годами все труднее становилось исправно нести службу. Иллюзии молодости рассеялись. Действительность была такова, что даже о снабжении города чистой питьевой водой приходилось только мечтать. Содержание больниц и сиротских приютов по официальной смете расходов было просто нищенским, но именно из этой статьи расходов земство оплачивало свои затеи и праздные общественные нужды. Виктор Петрович пробовал было протестовать, но каждый раз позволял уговорить себя.
В середине жаркого лета эпидемия дизентерии ворвалась в его семью — разом заболели жена и дочь. Он метался от одной постели к другой, бегал от одного врача к другому. Маленькая Марийка шла на поправку, а мать ее таяла, как льдинка на солнце. Вскоре надворный советник Щусев овдовел. Последние сбережения ушли на врачей, на похороны одолжили друзья.
Удрученный семейными невзгодами, он запустил свои служебные дела. Пришлось проглотить горькую пилюлю — резкое понижение по службе. Из важного земского чиновника Виктор Петрович превратился в смотрителя городской больницы и приютов.
Содержать большой дом с целой толпой домочадцев не было никакого смысла, и он без сожаления оставил его родственникам умершей жепы. Снял внаем скромную квартиру поближе к земской больнице, нанял прислугу присматривать за дочерью и зажил одиноко и скучно. Горе прижало его к земле. Непонятно было, куда подевался шумный круглолицый шатен, с которым так любили танцевать на балах дамы и барышни.
Лишь в воскресные погожие дни он оживал и становился похожим на себя прежнего. Тогда он отправлялся в казенной коляске в Дурлешты, где от его земельных наделов сохранился небольшой, но ухоженный и красивый сад. Сколько бодрости и сил давал ему этот уголок на южном склоне отрогов Карпат! Сливовые деревья, черешня, виноградник требовали ухода, заботы, и он самозабвенно работал в саду. Больше всего он любил ухаживать за цветами, особенно за розами, которыми всегда гордился. Когда они расцветали, он вносил их охапками в дом — в дом, из которого ушло счастье.
Марийка взрослела и все дальше отходила от него. Теперь она не бежала, как прежде, с радостным криком ему навстречу, когда он возвращался из должности. Он очень горевал, что не в состоянии заменить дочери мать, даже отдавая ей все тепло своей души. Сыну без матери тяжело, а дочери просто невозможно. Когда друзья говорили ему об этом, он сердился и просил не трогать этой темы. С течением времени боль утраты чуть стихла, затаилась в глубине сердца.
Затевалось строительство нового корпуса земской больницы, и Виктор Петрович стал оживать, почувствовав себя в родной стихии. Как в молодые годы, он поторопился взвалить все заботы о стройке на свои плечи: вновь нужно было куда-то торопиться, ехать, организовывать, уговаривать подрядчиков, артельщиков, добывать камень, известь, лес. Он приходил домой только затем, чтобы как следует отоспаться, случалось, и ночевал в своем кабинете при больнице.
Виктор Петрович был душою стройки, а сам считал себя ее крестным отцом. Однажды на земском совете он вспомнил об утвержденном еще в 1834 году плане нового Кишинева, который даже на десятую часть не был выполнен. Город рос в основном за счет глинобитных саманных мазанок, крытых сухими стеблями кукурузы или камышом. Никакому мало-мальски разумному порядку, не говоря уж о регулярном плане, застройка не поддавалась.
Очистить город от грязи, особенно в нижней его части, власти считали утопией. Улицы здесь были до такой степени запутаны, «что человек, мало знакомый с местностью‚ нескоро выберется из этого лабиринта», — писала газета «Новороссийский телеграф». Вместо контроля за строительством и помощи застройщикам земская управа принялась строить большой больничный корпус, справедливо полагая, что ему не придется пустовать.
Сподвижником Виктора Петровича Щусева в строительных хлопотах стал известный кишиневский педагог Василий Корнеевич Зазулин, которому в своем «Дневнике писателя» Федор Михайлович Достоевский посвятил немало добрых слов. Молодой директор Кишиневского реального училища постарался приложить все свои силы к тому, чтобы вслед за больницей выстроить здание новой городской прогимназии, где могли бы учиться дети из среднего сословия.
Виктор Петрович горячо поддерживал Зазулина, помогая ему и советом и делом. Вечерами он часто бывал в доме Зазулиных, подолгу с наслаждением пил чай, греясь у семейного очага. Как когда-то прежде, становился веселым его раскатистый голос. Особенно оживлялся он, когда к столу выходила сероокая сестра Зазулина Мария Корнеевна. Девушке тоже нравился этот внешне беззаботный, бесконечно добрый человек, который вдруг становился таким трогательно-беспомощным, едва речь заходила о его дочери.
Однажды Мария Корнеевна попросила разрешения навестить Марийку. Просьба эта неожиданно смутила Виктора Петровича, он потерялся совершенно. Знакомство вскоре состоялось, и Виктор Петрович искренне поражался, как быстро чужая женщина нашла путь к сердцу его дочери. Две Марии — большая и маленькая — с первого взгляда потянулись навстречу друг другу.
Вскоре Щусев получил от Марии Корнеевны выговор: дочь его, при прекрасных природных данных и добром сердце, ужасно запущена — настоящий дичок. Слушая девушку, Виктор Петрович краснел и отводил в сторону глаза. Мария Корнеевна, с ее двадцатилетней красотой, с высоты своего воспитания, полученного в женском пансионе мадам Флери, больно укоряла его, а он не знал, что возразить ей. Ему казалось, что она слишком строга и к нему, и к Марийке. Придет пора — он отдаст дочь в тот же пансион, и там ее выучат всему, что положено, — так думал он, полагая, что время само все исправит и поставит на места.
Не прошло и недели со дня встречи двух Марий, как мечты закружились в его голове. Он с удивлением обнаружил, что в нем опять затеплилась потребность любить и жертвовать, оберегать и заботиться. Предметом его мечтаний было совсем юное создание — он был старше Марии Корнеевны более чем на двадцать лет.
Горячее участие Марии Корнеевны в судьбе его дочери вылилось в чуть ли не ежедневные встречи двух Марий, в их тайные дела, разговоры, перешептывания и многозначительные взгляды, смысл которых долго оставался для Виктора Петровича загадкой.
Однажды, вернувшись из должности, — день был утомительно суматошный и даже для Кишинева слишком жаркий — Виктор Петрович застал свой дом пустым. Одна лишь кухарка Аница дремала на кухне над остывшим ужином. Встрепенувшись, Аница спросила:
— Будет ли господарь ужинать? Если не будет, то незачем и кухарку содержать...
— Подавай! — велел Виктор Петрович, хотя есть совсем не хотелось. — А я переоденусь да лицо обмою. Где же Марийка подевалась?
— Так ведь барышня с утра ее к себе забрала. Там, видно, и ужинают.
Было грустно, что приходится есть в одиночку. Даже большая рюмка цуйки — крепкой сливовой водки — не разожгла аппетита. Он лениво ковырял в большой тарелке большой серебряной вилкой свои любимые жареные синенькие, то есть баклажаны, а Аница стояла у стола и с укором смотрела на него:
— Господарю не по вкусу стряпня?
— Бог с тобой, Аница, просто устал я, и жарко очень.
— Вот уйду я от вас, так вспомните Аницу. Мне родители жениха нашли. Уж как я его кормить буду... Он толще вас будет — во какой!
— Не такой уж я толстый, — виновато сказал Виктор Петрович и отодвинул тарелку.
— Ну, не толстый, а в теле, как и положено видному мужчине... Я вот давно уж смотрю и никак понять не умею: такая барышня пригожая сколько уж времени ходит к вам, как нищенка, ласки вашей просит, а вы ее обижаете.
Виктор Петрович возмутился:
— Да чем же я мог ее обидеть? Полно тебе вздор-то молоть!
Аница разволновалась, лицо пошло красными пятнами, глаза заблестели:
— Да куда ж мужчины только смотрят! Она ж вас давно для себя выбрала, а вы! Эх, господарь! О Марийке бы подумали, раз вам самому счастья неохота. А какая бы она вам верная и хорошая была бы! И хорошая и верная — лучше все равно не найти! — убежденно повторила она.
Виктор Петрович развеселился и с усмешкой спросил:
— Да пойдет ли такая-то красавица за меня! Что толку в сивом-то!
— Отчего ж не пойдет! Какой же девушке за готового мужчину замуж не хочется? Мужа-то ведь еще слепить надо, к семейной упряжке приучить, дурь и мечты всякие из него выбить, да удальство ненужное, да глупости разные. Это сколько ж работы!
— Ну, коли ты так уверена, то сама меня и сватай, а мне в мои годы по носу получать стыдно, — сказал Виктор Петрович и вдруг заметил, что Аница остолбенела, открывши рот.
На пороге стояли обе Марии, тесно прижавшись друг к другу, и с недоумением взглядывали то на Аницу, то на Виктора Петровича.
Первой нашлась Аница. Ни секунды не сомневаясь, что Мария Корнеевна поняла как нельзя лучше смысл их разговора, она серьезно и необычно твердо сказала, не сводя с нее прямого взгляда:
— А вот я сейчас же и спрошу, и нечего откладывать. Или я вам, господарь, счастья не хочу! Он ведь вашей руки, барышня милая, всерьез спросить хочет. Только у мужчин храбрости на такие слова нет. Хотели бы вы, красавица наша, Марийке мать заменить, а господаря своей любовью осчастливить?
Мария Корнеевна растерялась совершенно. Наконец она смогла взять себя в руки и, легонько отстранив девочку, шагнула к Виктору Петровичу:
— Скажите... признайтесь, вы же шутите?
— Да нешто такими делами шутить возможно! — в сердцах воскликнула Аница.
— Я ведь не вас, голубушка, спрашиваю! — сурово оборвала Аницу Мария Корнеевна и, побледнев, сказала Виктору Петровичу: — Мне казалось, что я не давала повода. Если вам таким образом угодно развлекаться, то я бы осмелилась заметить, что вы выбрали неудачный объект для шуток. Мне стыдно за вас...
Виктор Петрович растерянно глядел по сторонам и не находил слов. Он только махал руками то на Аницу, то на Марию Корнеевну и твердил одно и то же:
— Да полно, да будет вам! Не, нельзя же так, право!
— Встаньте да ручку барышне поцелуйте, — громко приказала ему Аница, и Виктор Петрович, как послушный ребенок, потянулся к руке Марии Корнеевны.
— Ноги моей больше здесь не будет! Это бог знает что! — пробормотала девушка и без сил опустилась в кресло.
Тут в дело вмешалась Марийка. Она тихонько подошла к Марии Корнеевне, положила ладони ей на колени и тонким голоском спросила:
— Как же вы будете жениться, если ты уйдешь?
— Сколько раз можно повторять, что взрослым нельзя говорить «ты»? — устало сказала Мария Корнеевна и вдруг заплакала.
Виктор Петрович встал и осторожно погладил вздрагивающие плечи, вытащил из кармана свой большой платок, и Мария Корнеевна спрятала в него мокрое от слез лицо.
Свадьбу назначили на осень. В доме Зазулиных воцарилась суетная атмосфера предсвадебных приготовлений по всем правилам провинциального чиновничьего уклада жизни. По количеству сундуков с приданым определялся престиж свадьбы, и было в этих сундуках все, что предполагалось сносить за целую жизнь, как будто ни вкусы людей, ни мода никогда уж не изменятся.
Наблюдая вечерами за этими приготовлениями, Виктор Петрович тихо ужасался, замечая, как неотвратимо растет количество белья, одежды, вещей. Он беззлобно подшучивал над невестой, но Мария Корнеевна всякую иронию по поводу приготовлений к новой жизни отвергала. Казалось, что она спокойно собирается в бесконечно трудную и долгую дорогу, что у нее во всей предстоящей жизни не будет ни досуга, ни средств на то, что она делает сейчас. Она готовилась к неведомому большому делу, которое, она знала, поглотит ее всю без остатка. Одно тревожило ее: где жить?
— Придет пора, — отвечал Виктор Петрович, — подыщу что-нибудь.
Однажды Василий Корнеевич Зазулин сообщил ему, что земли у подножия Боюканского холма земство в скором времени намерено отдавать под застройку бесплатно. Эта новость насторожила Виктора Петровича: бесплатно еще никому ничего хорошего не доставалось. Однако Василий Корнеевич убедил его поехать на место и посмотреть, а уж после решать. С сомнением отправлялся Виктор Петрович в путь. Но чем выше поднималась коляска, тем светлее становился воздух, тем свободнее дышалось. В глубине небесной чаши светило очищенное от кишиневской пыли солнце.
Начало Леовской улицы, что вела к Боюканам, уже застраивалось, хотя земство еще не обнародовало своего распоряжения. Вскоре дорога уперлась в узкую тропу, по обеим сторонам которой поднимался густой подлесок. Лошадь встала. Дальше отправились пешком. Подлесок перешел в молодые буковые кодры. Они шли и все продолжали натыкаться на столбики с фамилиями владельцев даровых участков.
Стало казаться, что они сбились с дороги, когда неожиданно открылась светлая поляна, откуда хорошо были видны Боюканский спуск и озеро в долине. За озером — плавни и камыши, в которых гуляли аисты. Дальше, у самого горизонта, гривой вздымались сине-зеленые холмы. От всей этой благодати веяло чистотой и свободой. О том, чтобы жить здесь, можно было только мечтать.
Виктор Петрович встал, широко расставив ноги, и застыл неподвижно. Не было, казалось, сил, какие могли бы сдвинуть его с места. Наконец он завертел головой и решительно шагнул в заросли, выломал крепкий сук, валуном вбил в землю и засунул в расщеп свою визитную карточку, приписав сверху: «Не трогать!»
В земстве на его прошение выделить ему облюбованный участок взглянули благосклонно, и на первом же заседании земской коллегии он получил разрешение строить дом.
Уговорив будущего шурина держать в секрете новое предприятие, Виктор Петрович засучил рукава. Вместе с рабочими он расширял просеку, возил бут и бревна, доски и черепицу, скобы, гвозди, известь. Он готов был вместе с каменщиками выкладывать стены, согласен был сам настилать полы, лишь бы быстрей шла работа.
Василию Корнеевичу пришлось применить все свое влияние, чтобы сбить с Виктора Петровича эту вредную, по его разумению, ажитацию, ибо план дома — размещение комнат, окон, дверей — и разбивку сада надлежит производить расчетливо, «умственно», со вкусом.
Виктор же Петрович решил во всем полагаться на свой строительный опыт. Разговоры об архитектуре он в данном случае не воспринимал всерьез: ведь не дворец же он собрался строить. К тому же надо было поторапливаться: близилась осень. Правда, в Кишиневе она всегда отличалась обилием погожих дней.
Напористый Василий Корнеевич заставил-таки заняться планом постройки, и тут сами собой стали расти не поддающиеся с наскоку препятствия: дом то расползался от обилия пристроек, то вдруг выходил узким, как скала.
— Сколько у вас будет еще детей? — спрашивал Василий Корнеевич Виктора Петровича.
— Один. Ну, от силы двое, если первой девочка появится.
— Ты думаешь, Мария на этом остановится? У нее, насколько я могу судить, более широкие виды.
— Там видно будет, — отвечал Виктор Петрович.
— Э, нет, братец, дом не гармошка, его потом не растянешь. Давай-ка мы лучше хозяйку спросим.
— Да что ж ее спрашивать? И как же тогда наш сюрприз?
— Маша уже давно обо всем догадалась. На тебя достаточно посмотреть: сюртук в известке, руки в ссадинах. Бог с ним, с сюрпризом!
Вместе принесли они проект на суд Марии Корнеевны. Виктор Петрович разгладил перед ней чертеж и стал объяснять принцип планировки, а она как будто не слушала, думая о своем.
— А вам, Виктор Петрович, хотелось бы в этом доме жить? — спросила она.
— Натурально.
— В таком случае стройте, как решили.
Тут вступил Василий Корнеевич.
— Так тебе, сестра, решительно все здесь нравится? — напирая на слово «все», спросил он. — Пойми, это ведь не просто лист бумаги, здесь во многом счастье или несчастье жизни вашей!
— Я не уверена в своем праве вмешиваться, но если Виктор Петрович разрешит, то я бы хотела, чтобы ты, брат, оставил нас на время, а мы вместе с ним как следует подумали бы. Не обижайся, и спасибо тебе за все, мой милый, мой добрый брат, — сказала она, провожая Василия Корнеевича до двери.
Едва дверь затворилась, Мария Корнеевна попросила Виктора Петровича потеснее сдвинуть стулья, достала из книжного шкафа альбом и показала ему свои зарисовки. Они не знал за ней способностей к рисованию. Листая альбом, он не переставал изумляться: вот дама под кружевным зонтиком гуляет в цветущем саду, а в конце аллеи видна яркая цветочная клумба и незнакомый уютный дом с высоким крыльцом, а вот у парадного подъезда с широким раствором резных дверей стоит коляска, и выходит из нее он, Виктор Петрович, собственной персоной. Дом на рисунке выглядел удивительно милым и простым.
— Да у вас просто талант! — изумился Виктор Петрович.
Но чем дольше глядел он на рисунки, тем грустнее становилось его лицо: такой дом был ему явно не по средствам.
— Вот вы и расстроились. Я так и думала: мне не следует вмешиваться.
— Отчего же, отчего? — смущенно бормотал Виктор Петрович.
— Колонны и мезонин давайте уберем, бог с ними. А нельзя ли сделать дом повыше? Это же не так дорого! И еще мне бы очень хотелось, чтобы парадная дверь была как бы заглублена.
Она принялась быстро рисовать, и вскоре Виктор Петрович понял, чего она ждет от своей будущей обители. Высокий цоколь, белые наличники широких окон, простой портал с закруглениями, казалось, придавали дому ощущение уюта и покоя.
Решение понравилось им обоим, и тогда позвали они Василия Корнеевича и уже все втроем улучшали и прорисовывали детали, уточняя композицию и план постройки.
Споро двигалась стройка. По ночам снился Виктору Петровичу новый дом, а на заре он уже распоряжался на заваленной бутовым камнем площадке, громко, но беззлобно покрикивал на рабочих, призывая их пошевеливаться. Постройка крепла, поднимаясь в лесах. Вскоре сквозь них начал просматриваться тот образ дома, который был рожден фантазией невесты и жениха. А когда на крутой скат крыши кровельщики уложили ярко-красную чешую черепицы, дом словно бы ожил. Казалось, ему не хватает лишь дыма над трубой.
Глава II
В саду нашего детства
На свадьбе у Марии Корнеевны были ее друзья и добрые знакомые.
— Взгляните на него, — говорила она, улыбаясь жениху глазами, — не правда ли, настоящий запорожский казак, на которого надели фрак и белые перчатки?
Все с нею соглашались, один только старший брат, Александр Корнеевич (он тайно пробовал силы в литературе, что не мешало ему, однако, преуспевать на службе в земской управе), возражал ей:
— Казаки — железо, сталь, а твой муженек мягче воска. И тебе, матушка моя, придется весь дом на себе тащить, помяни мое слово.
Предсказание Александра Корнеевича стало пророческим: казалось, в постройку дома ушла вся энергия Виктора Петровича. Дом и вправду вышел хорош: несмотря па небольшие размеры, он был так уютен, мил, так дорог душе Марии Корнеевны, что она с веселым сердцем принялась его благоустраивать, обставлять и обряжать, упиваясь своим счастьем. Виктор Петрович помогал ей, радуясь ее радости и надеясь навсегда эту радость удержать.
Когда она пыталась спросить у него совета, он лишь счастливо улыбался и отвечал:
— Делай, Манечка, как знаешь. Если нужен буду, ты только крикни. — И шел во двор или чаще в сад.
Но она теперь все реже обращалась к нему, полагая, что с помощью Марийки сумеет со всем управиться. Дела по дому и кухне были на ней, зато сад...
Все свободное от службы время Виктор Петрович отдавал саду. В циркуляре, согласно которому он получил землю для застройки, указывалось: переданная застройщику во владение территория должна быть окультурена, владелец обязан беречь ее от запустения.
Не прошло и года, как Виктор Петрович начал сожалеть, что огородил под сад малую толику земли, да уж поздно было — и справа и слева обступили его дом владения новых застройщиков. Он лишь успел протянуть сад на добрую сотню шагов вниз по склону. Сад стал глубоким и узким. Забот здесь хватало от зари до зари.
Весной Мария Корнеевна сказала ему, чтобы он готовил в саду детскую площадку. Виктор Петрович и обрадовался и растерялся:
— Зачем же, Маня, целую-то площадку? Не дюжиной же ты намерена разрешиться?
Мария Корнеевна вдруг весело улыбнулась и задорно ответила:
— А почему бы и нет?
Под старым высоким ореховым деревом, которое раньше он собирался выкорчевать, разбил он зеленую лужайку, засеяв ее английской травой. Трава оказалась на редкость капризной, и если он забывал вечером полить ее, то под утренним солнцем она на глазах теряла изумрудную свежесть.
— От щоб ты пропала! — сердился Виктор Петрович, умываясь утром во дворе. — Неси кувшин сюда, Марийка, щоб трошки ей досталося.
И выливал на траву остатки воды из кувшина.
Но когда трава укрепила корни, то образовался под орехом славный зеленый газон, который только изредка приходилось подравнивать и стричь. Здесь любила читать свои книжки Марийка, часто отдыхала здесь и Мария Корнеевна, и траве суждена была бы вечная жизнь, если бы не топтали ее из года в год все новые и новые, сначала слабые, а потом все более крепкие и шустрые мальчишеские ноги. Когда у Марии Корнеевны родился третий сын, от английского газона остались лишь жалкие, похожие на кочки островки.
Первые двое сыновей — Сергей и Петр — были погодки. Крепкие, калмыковатые, они были точно маленькими копиями отца. Глядя на их игры, слушая их воинственпые вопли и пронзительный свист, целый день доносящийся из глубины сада, Мария Корнеевна втайне мечтала о маленькой дочери. Она часто вспоминала, сколько тихой радости приносила ей когда-то Марийка.
У Маши теперь была своя жизнь, свои думы и мечты, и Мария Корнеевна стала ей уже не матерью, а, скорее, старшей сестрой. И к братьям Маша относилась больше как вторая мать, а они воспринимали ее как взрослую. Временами чувствовалось даже некоторое отчуждение, которое шло еще и оттого, что в свою комнатку сестра братьев не пускала. Когда к ней приходили подруги, они запирались у нее и вели там свои тайные беседы. Одна лишь Мария Корнеевна владела правом свободно входить в комнату номер пять (так именовалась Машина уютная каморка с маленьким окошком в сад).
Весной 1873 года Мария Корнеевна, закончив традиционное ежегодное перетряхивание штор и занавесок и смену их на летние, зачастила на тайные посиделки в комнату падчерицы.
Вместе они что-то шили, о чем-то бесконечно шептались. Виктор Петрович узнал тайну, случайно увидев крохотный кружевной чепчик-капор.
— Зря стрекочете, сороки, — смеялся Виктор Петрович, — не будет вам девчонки — живой куклы. Ты, Марийка, не верь Манечке — у ней и зараз хлопец будет.
— Довольно я тебе потакала. Теперь-то будет непременно дочка, Оленька. Мне и повитуха сказала, и доктор. Все так говорят.
— А ты никого не слухай, ты меня слухай. (В последние годы Виктор Петрович все больше сбивался на русско-украинский диалект, так называемый суржик, каким говорили жители городских окраин Бессарабии и Украины.) — Вот выйду на полный пенсион и зроблю из новой детыны гарного казака, краше его братиев. Коня купляю. Будымо на земле хозяеваты.
Вскоре Виктор Петрович действительно подал в отставку, сменив тесный вицмундир на стального цвета халат из английского теплого сукна, с которым почти не расставался.
А 26 сентября 1873 года у Марии Корнеевны родился сын Алексей. Мальчик вышел весь в мать: те же большие серые глаза, в которых застыло то ли любопытство, то ли удивление, те же черные стрельчатые брови, та же привычка упрямо закусывать нижнюю губу.
За истоптанной лужайкой между каменным забором и старым корявым орехом долгое время лежали штабеля бутового камня, купленного в тот год, когда отец вышел в отставку. Каждый год по каждой весне отец принимался за пристройку к дому, но то ли весенняя немощь, то ли дела по саду не давали ему взяться за нее как следует.
Ореховое дерево начало сохнуть — корни его никак не могли распрямиться под каменным прессом. Наконец подвернулся случай, и Виктор Петрович продал запасы бута одному из соседей. Лишь разбитые и потрескавшиеся камни остались на прежнем месте. Из этих камней старшие братья Сережа и Петя сложили прекрасную крепость с островерхой башней, бойницами и дозорными площадками.
В крепости засели турки — соседские мальчишки-молдаване. А командовал крепостью пятилетний Алеша. Сережа и Петя по очереди были то майором Нехлюдовым, то Константином Щусем и по десять раз на дню шли на штурм крепости.
Турецкий предводитель был суров и беспощаден. Его верные нукеры Ницэ и Иона стреляли в наступавших из самодельных арбалетов, а когда кончались стрелы, устраивали вылазку, делая страшные глаза и размахивая деревянными саблями.
Однажды мальчишкам надоело быть турками, и они попросились в суворовцы, ну, хотя бы только разочек. Сережа и Петя согласились на это с большой неохотой, но, согласившись, взялись за оборону всерьез: укрепили крепостную башню вывороченными близ большой дороги камнями, построили частокол из толстых палок. Жаль только, ров вырыть им не позволили. Но все равно крепость стала неприступной.
Рано утром, когда все еще спали, Алеша поднялся идти на разведку. Старший брат спросил, куда это он собрался, перевернулся на другой бок и пробормотал:
— Только ничего не ломай!
— Ладно, — согласился Алеша и, натянув штаны, выскользнул в сад.
Чистое и яркое солнце еще не грело, от мокрой травы веяло холодом, и Алеша пожалел, что вылез из теплой постели. Не спали только птицы, они уже наполнили сад буйной разноголосицей. В прозрачном воздухе птичий гомон разносился звонко и резко, как будто утренние птахи задались целью перекричать друг друга. Алеша швырнул палку в крону высокой яблони — стая мухоловок вспорхнула над ней и, прочертя дугу над головой, унеслась в глубь сада.
Осмотр крепости ничего не дал. Мальчик решил пролезть сквозь частокол и чуть было не разорвал штаны. Тогда он попытался сделать проход и замаскировать его тонкими ветками, но братья так крепко вбили в землю толстые сучья, что оказалось не под силу выдернуть хотя бы один. Пришлось пробираться в обход вдоль забора, и тут Алеша увидел злобные и острые, как у старого гнома, бусинки глаз, что глядели на него из черной норки. Это тарантул вышел на раннюю охоту. Ядовитых пауков с замшелыми лапами боялись не только дети, но и взрослые. Один лишь приятель Алеши — маленький Ницэ умел расправляться с этими страшными тварями. Тарантул грозно стриг лапами, готовясь к нападению. Алеша осторожно отодвинулся и подобрал лежавшую на земле деревянную саблю. Он сделал боевой выпад, и тарантул скрылся в своей норе.
Мальчика осенила мысль: он побежал домой, отколупнул из чашечки подсвечника кусок воска, разогрел его в ладони, скатал шарик, нанизал его на длинную нитку и побежал в сад. Тарантул попался упрямый. На все попытки выманить его из норки он лишь сжимался в клубок. Наконец он все же вцепился в пахнущий человеком воск и прилип к нему. Этого-то Алеша и добивался. Он осторожно выудил паука из норки и опустил в коробочку из-под маминой пудры.
Перед завтраком Алеша тайком показал свою добычу братьям. Оба посмотрели на него с уважением.
— Прогрызет он твою коробку и тебя же первого ужалит, — сказал Петя, когда дети встали из-за стола. — Оп очень опасный, с ним шутить нельзя. Отдай-ка ты его лучше мне, тебе-то он на что?
— А тебе?
— Я проткну его булавкой и помещу в свою коллекцию вместе с жуками.
— Старший брат просит — надо уступить, — вмешался в разговор Сережа и протянул руку: — Давай коробку сюда!
Алеша на секунду задумался и вдруг прошмыгнул мимо братьев в сад. Здесь его уже поджидали Иона и Ницэ. Он хотел было похвастать перед ними своею добычей, но удержался. Незаметно спрятал коробочку под камень у ограды, затем подбежал к ребятам и велел им встать в строй по правую руку от себя. Проверив у «солдат» оружие, Алеша нашел, что оно для штурма крепости слабовато — у Ницэ лопнула пружина в арбалете.
Когда в сад явились Сережа и Петя, малыши встретили их самодовольными улыбками: у каждого было по казачьему копью из выдернутых из частокола палок, карманы штанов подозрительно оттопыривались.
— Мы так не играем...— сказал Петя.
— Да бог с ними, — заметил Сережа, — все равно им крепости ни за что не одолеть.
— А это мы еще посмотрим! Занимайте позицию. Мы к штурму готовы!
Сережа с Петей лениво перелезли через крепостной вал и приготовились к отражению атаки. Укрепив на башне турецкий флаг, мальчики снисходительно поглядывали на малышей, которые бурно о чем-то совещались.
— Ну, что же вы? Начинайте! — крикнул Петя, взобравшись на вал.
В него полетели зеленые грецкие орехи. Когда снаряды кончились, не причинив защитникам крепости серьезного урона, Ницэ ловко вскарабкался на ореховое дерево и начал трясти сук, который свешивался над крепостью. На голову Сереже и Пете градом посыпались зеленые бомбы. Из крепости понеслись вопли. Алеша приказал начинать штурм, и Ницэ, спрыгнув на землю, пошел вслед за командиром на приступ.
Сережа подбирал орехи и швырял ими в малышей, стараясь не попасть в лицо. Наступавшим пришлось вооружиться щитами. Сражение стало принимать позиционный характер.
Когда орехов не осталось ни у той, ни у другой стороны, защитники крепости предприняли боевую вылазку. Размахивая саблями, они загнали троицу во главе с Алешей в угол сада, прижали ее к ограде и велели сдаваться. Выставив копья, малыши сдерживали натиск. Алеша отступил к стене и, подняв над головой коробочку с тарантулом, закричал что было мочи:
— Бомба!
Сережа с Петей побросали сабли и пустились наутек, а Алеша с громким «ура!» преследовал их, размахивая страшной «бомбой». Храбрые арнауты Ницэ и Иона бросились вдогонку за командиром, не понимая, чем это он так напугал своих братьев. Через минуту они забрались на крепостной вал, и турецкое знамя было повержено. Теперь суворовский стяг развевался над крепостью. Алеша переводил дух и счастливо улыбался. А когда подошли смущенные братья, он милостиво подарил Пете тарантула для его коллекции.
Стоило Виктору Петровичу Щусеву отстраниться от должности, как неведомые прежде болезни навалились на него. Особенно пугало сердце. После отчетливых и гулких ударов — будто оно настойчиво просилось из грудной клетки наружу — сердце затем вдруг затихало, и Виктор Петрович весь обращался в слух, с испариной на лбу ожидая, когда же кончится затянувшаяся пауза. Каждый раз один и тот же вопрос возникал в мозгу: а вдруг больше не стукнет? По спине пробегал холодок, а он все прислушивался, хотя сердце снова двигалось, торопилось. Оно словно задумывалось на минуту, а потом наверстывало упущенное. В такие минуты Виктор Петрович с испуганным лицом сидел на своем огромном кожаном диване и гладил ладонью грудь под халатом.
Во время одного из приступов в кабинет тихо вошла Мария Корнеевна.
— Отец, к тебе можно? Что, опять? — участливо спросила она.
Виктор Петрович поморщился и ничего не ответил, пытаясь скрыть свою слабость. Он потянулся к столику, пододвинул чайник в виде стеклянного клоуна — подарок местного стеклодува. Крышка-колпачок снималась, рукав изогнутой руки клоуна служил носиком чайника. В этот чайник Виктор Петрович сливал оставшийся от завтрака сладкий чай и пил его глоточками целый день. Он пососал «из рукава» и от слабости чуть было не выронил клоуна. Мария Корнеевна едва успела подхватить его.
— Совсем ты плохой стал, отец, доктору бы тебя показать.
Этого было достаточно, чтобы Виктор Петрович моментально приободрился и торопливо ответил:
— Нэ трэба.
Докторов он боялся панически, больше, чем болезней. Смотрителю больниц и приютов врачи не надобны — таково было его убеждение.
— Говори, с чем пришла, — улыбнулся он.
— Да я уж теперь и не знаю, как сказать.
— Как пришла, так и скажи.
Мария Корнеевна сложила руки на коленях и замолчала. Виктор Петрович спросил:
— Да ты никак, Марьюшка, снова парубка мне подарить собралась?
— Мальчик или девочка, теперь мне все равно.
— Ох, лукавишь, мать, все дивчину ждешь. Знаю. Только ведь снова выйдет по-моему.
Когда родился четвертый сын Щусевых — Павел, отец выглядел уже глубоким стариком. Большой и широкий, с одутловатым лицом, с буграми тяжелых плеч, он напоминал осыпающийся курган.
Павлик занял в семье совсем незаметное место: роль младшего, которого все обожают и балуют, которому прощают все шалости, уже прочно закрепилась за Алешей — на него Мария Корнеевна, казалось, излила всю силу своей любви, уготованной для дочери.
В это время Маша уже училась в Петербурге на высших медицинских курсах, а Сережа и Петя были в той поре, когда дети начинают постепенно отрываться от родителей, ревниво оберегая свой внутренний мир. Рождение Павлика никак не отозвалось на них. Из братьев лишь Алеша активно воспринял его появление на свет: он постарался сбросить с себя хотя бы часть того внимания, которое домашние уделяли ему как младшему. Он как бы милостиво отодвигал от себя это внимание, как правило достигая обратного: Марийка, приезжая домой, еще больше ласкала его, а Сережа и Петя еще сильнее интересовались его занятиями.
Мальчик был необычайно способен ко всякому делу, а особенно к рисованию. В чем в чем, а уж в рисовании он превосходил старших братьев. В Петин энтомологический альбом, в который хозяин многим не разрешал даже заглянуть, Алеша с дозволения брата вклеивал свои рисунки с изображением зверей и птиц и каждый раз получал в награду леденец или даже полкопейки, ежедневно выделяемые брату на карманные расходы.
У Алеши пока средств на карманные расходы не было, зато у него был свой собственный зеленый сундучок с ключиком — его подарила ему старшая сестра, когда приезжала на летние каникулы. Раньше Марийка хранила в этом сундучке документы, фотографии, письма, деньги. Собственно, это был даже не подарок: Марийка убедила Алешу, что сундучок он честно заработал, раскрашивая ее альбомы по анатомии и гистологии. Вся семья гордилась Алешиным талантом, лишь старший сын, Сергей, делал вид, что все это пустяки: вырастет Алешка и забудет думать о глупостях.
Когда Павлик встал на ножки и начал лепетать, Алеша вдруг потянулся к малышу со всей искренностью детского сердца. Он рисовал для него забавных разноцветных человечков, срисовывал слонов и верблюдов. Братья с удивлением обсуждали привязанность Алеши к Павлику. В один голос они решили, что Алеша, в сущности, сам еще малыш и нечего принимать его всерьез.
Однако завоеванных позиций Алексей сдавать не собирался. По-прежнему он участвовал во всех мальчишеских играх и проказах, в налетах на чужие сады и огороды, а когда по их Леовской улице проезжала длинная скрипучая телега-каруца, запряженная сонными волами, он не упускал случая прицепиться к ней и утащить с воза гроздь сладкого пома — винограда или диск подсолнуха. Помогали ему в этих дерзостных затеях его верные друзья Ницэ и Иона, и всем нередко доставалось от ременной плетки, предназначавшейся для понукания неторопливых волов.
Особенно любили ребята взымать «пошлину» с каруцы, если она везла мери-мурат, то есть моченые ананасные яблоки. Алеша с серьезным видом останавливал возницу, дергал его за овчинную кацавейку, начинал объяснять, что хочет купить мери-мурат, показывал деньги и сокрушался, что некуда яблоки положить. А в это время Ницо потихоньку взбирался на воз и сбрасывал Ионе яблоки. Путаясь в необъятных голубых шароварах, возница начинал бегать вокруг каруцы, норовя достать бичом шустрого, как мартышка, Ницэ. А Алеша не торопясь уходил в ближайший проулок, словно раздумал покупать мери-мурат.
Как-то раз, когда Ницэ уже был на возу, хозяин каруцы крепко взял Алешу за руку и хотел вести к отцу. Но мальчик стоял столбом и со всею убедительностью, на какую был способен, твердил, что у него не было других намерений, кроме покупки моченых яблок.
— Позвольте, господарь, — вежливо говорил он, — неужели вы не можете отличить благородного человека от какого-то жулика?
— Ну, ловкач! Скажи-ка дружку, чтобы слез с телеги, — усмехнулся крестьянин.
— Слезь немедленно! — приказал Алеша, чувствуя, как краска стыда заливает ему лицо. — Слезь и кайся!
Ницэ с воза таращил глаза и не знал, что ему делать.
— Слезай, малец, не бойся, ничего тебе не будет, только фрукты не топчи...
На удивление ребятам крестьянин достал из бочонка с десяток яблок, вынул из плетенки гроздь винограда и протянул им:
— Угощайтесь, разбойники!
— Спасибо, господарь, но... — начал Алеша, но крестьянин остановил его:
— Э-э, перестань, лучше ешь и благодари бога за мое доброе сердце.
Он сдвинул на затылок свою остроконечную шапку, закурил трубку, и каруца, оглушая улицу пронзительным скрипом, поехала к базару.
С тех пор ребята перестали брать «пошлину» с проезжих.
Каждый раз с наступлением осени Алешу охватывала, казалось, беспричинная тоска, от которой его не спасали даже игры с маленьким Павликом. Он старался скрыть чувство зависти к старшим братьям, надевавшим форменные гимназические кители с медными лупоглазыми пуговицами. В форме братья становились неприступными, что-то взрослое появлялось в их движениях и осанке.
Осенью 1880 года в доме появилось еще трое гимназистов. Это были дети состоятельных хуторян, которых Щусевы взяли к себе на хлеба. От услуг кухарки Щусевым давно пришлось отказаться, все домашние заботы легли на плечи Марии Корнеевны. Она не жаловалась на судьбу, хотя ей год от года приходилось все туже. Постепенно из ее жизни ушло женское благотворительное общество, в котором она в первые годы супружества занимала видное место, как ушел и любительский театр Гроссмана, где прежде она нередко играла главные роли.
Но было такое, без чего она просто не мыслила своего существования. Скорее, она отказалась бы от нового платья, которое обычно шилось к зиме и к лету, чем от приобретения книг. Однажды, позднее, когда ей не удалось купить «Исповедь» Толстого, она взяла ее в земской библиотеке и начала переписывать, не пропуская ни строчки и надеясь, что смысл не понятого сейчас откроется ей потом. Застав ее за этим занятием, брат Василий Корнеевич подарил ей собственный экземпляр «Исповеди», привезенный из Петербурга, но она так увлеклась переписыванием, что долго не могла остановиться: ей казалось, что так она глубже проникнет в сокровищницу мыслей своего кумира.
Откровенно удручало Марию Корнеевну то, что в семье никто, кроме Марийки, не разделял ее увлечения высокой литературой. Сыновья, как ей казалось, поглощены чтением, которое не имеет никакого отношения к тому, что почиталось ею как истинная литература. Мальчики взахлеб читали приключенческие приложения к журналу «Нива», зачитывая их буквально до дыр, с боем отбивая друг у дружки. В книжке «Дочь Монтесумы» можно, например, было прочитать только те страницы, где речь шла о любви, потому что их мальчики пропускали. Зато они по нескольку раз возвращались к подвигам бесстрашных воинов.
Особенно удручал Марию Корнеевну Петя. Это он неведомо где добывал «пиратские» книги. И ладно, если бы дети только читали их: они жили этими книгами, грезили ими.
Один лишь Алеша радовал мать, да и то не пристрастием к серьезному чтению, до которого он просто еще не дорос, а отношением к иллюстрированным вклейкам и олеографическим копиям с полотен великих художников. Казалось, природным чутьем угадывал мальчик руку подлинного мастера. Матери не раз приводилось наблюдать, как сын часами разглядывает «Троицу» Рублева или «Давида» Микеланджело. Мария Корнеевна пыталась узнать, о чем в это время думает Алеша, но едва она подходила к нему с вопросами, как он начинал сердиться, прятал цветные иллюстрации в свой зеленый сундучок и, будто назло, принимался читать очередной замусоленный журнал с описанием приключений, торопливо глотая страницу за страницей.
Мария Корнеевна с грустью смотрела в сад, где до ночи раздавались воинственные боевые кличи, где летали самодельные дротики и стрелы. Ее, как ей казалось, уже взрослые дети вместе с постояльцами брали друг дружку в плен, связывали по рукам и ногам, казнили и миловали.
Но однажды игры закончились, чтобы уже никогда более не возобновляться. Отряд Орлиного Когтя — им был Алеша, — попал в засаду, лишь вождь вырвался из пут и спрятался за кустами барбариса. Индейцы племени чароки искали его по всему саду, предлагая сдаться.
Видно, чарокам стали надоедать поиски, а пленным могиканам наскучило лежать связанными, и совершилось гнусное предательство: сначала Ницэ, а потом и Иона перешли на сторону победителей. Все вместе стали искать Орлиного Когтя. Но последний из могикан не думал сдаваться. Он прокрался в сарай и обнаружил на полатях дробовик. Теперь он покарает врага и накажет изменников! Заранее предвкушал он, как будет карать и миловать, как снимет с поверженных боевые украшения и украсит свою голову разноцветными перьями, для которых не пожалел акварельных красок.
Из-за толстого ствола орехового дерева с копьем наперевес вышел Иона и предложил Орлиному Когтю перейти на сторону мужественных чароков.
— В плен меня не взять! — с этими словами Алеша выбил у Ионы из рук копье. — Больше ты мне не друг!
Тут кто-то набросился на него со спины. Орлиный Коготь вскрикнул, ружье выстрелило. По вечернему саду разнесся крик — заряд дроби угодил Ницэ в бедро. Мальчики с ужасом глядели, как на штанине проступает кровь. На счастье, дробь только поранила кожу, но об этом все узнали значительно позже. А вдруг Ницэ умрет? Вдруг он убил своего друга? От ужаса Алеша не мог шевельнуться. В этот вечер отец впервые жестоко выпорол его. Но еще сильнее запомнилось ему, как кричала мать Ницэ, пророча ему такую судьбу, что жить не хотелось.
Тенерь мама по целым дням не выпускала его из поля зрения. И сам он понимал: пора браться за ум, впереди его ожидало трудное испытание — поступление в гимназию. Обычно Мария Корнеевна готовила в гимназию детей сама. С Алешей дело осложнялось. Домашние заботы все возрастали, маленький Павлик часто и подолгу болел. Выкроить время было непросто.
Мария Корнеевна не растерялась: она научила Алешу умывать, кормить и одевать младшего брата, помогать ей прибираться в комнатах — перетряхивать половики и тюфяки, подметать полы и выполнять другую домашнюю работу.
Чтобы заинтересовать Алешу делом, нужны были занимательные и доверительные разговоры, именно разговоры, а не рассказы. Мать нащупала в душе мальчика струну, которая отзывалась на прикосновение чистым и сильным звучанием. Это было стремление к самостоятельному мышлению в сочетании с фантазией. Мария Корнеевна научилась будить фантазию сына, терпеливо выслушивать его мнение, тактично вести с ним диалог, отыскивать смысл в его, казалось бы, ничего не значащих словах.
Это было непростое искусство: у Алеши были очевидные задатки предводителя, он был наделен гордыней, самолюбием и отличался строптивостью. Ко всему этому он был временами сверх меры упрям. Мать ни в чем не обвиняла его. Она старалась понять, чем вызван тот или иной его протест, что заставляет его замыкаться и подолгу угрюмо молчать.
Когда причин в перемене настроения сына не отыскивалось, она поручала ему какую-нибудь работу в комнате Павлика или просила его просто поиграть с мальчиком, и это неизменно помогало. Алеша переставал хмуриться, становился способным воспринимать то, что ему говорили. Так мать исподволь готовила его к будущей жизни. Обладая бесконечным терпением, добрым и открытым характером, она умела быть и строгой, беспощадной, когда замечала у детей как будто бы безобидные, но на самом деле опасные задатки. Она безошибочно отличала фантазию от лжи, лесть от выражения доброго чувства, настойчиво преследовала любую фальшь в отношениях детей с родителями, со сверстниками, строго следила за тем, чтобы они ладили между собой, помогали друг дружке, были искренни в отношениях.
Но одна преграда оставалась для нее непреодолимой: старший сын Сергей никак не хотел приспособиться к обостренному самолюбию Алеши, он подсмеивался над ним и никаких его дел, забот или успехов не принимал всерьез. Даже то, что Алеша всего за одну зиму выучился бегло разговаривать и читать по-французски, Сергей ставил лишь в заслугу матери, как будто младший брат не старался изо всех сил приблизиться к старшим, которым в последнее время взяли за моду вести свои тайные переговоры на французском.
Что касается Пети, то тот держался с Алешей ровно, приветливо и доверительно, и Алеша платил ему за это горячей любовью, не меньшей, пожалуй, чем та, которую он испытывал к маленькому Павлику.
Однажды Мария Корнеевна заметила «плоды» отношения Сергея к Алеше: Алеша стал поддразнивать и пугать Павлика то каким-то фантастическим Босым, то Супином, которого рисовал страшным монстром, наподобие Вия. Павлик пугался до слез, но Алеша каждый раз успокаивал его, обещая, что сумеет справиться с Босым или Супином, если те вдруг объявятся.
Мама запретила пугать впечатлительного малыша, даже не разрешила до времени рассказывать ему об отчаянных Сирюзе Смите и Гедеоне Спилете, о приключениях которых Алеша начитался в журналах «Вокруг света» и «Природа и люди». Вне запрета остались сказки — о разбитом стеклышке, об оловянном солдатике, о маленьком Муке.
Дошло до того, что Павлик отказывался и есть и спать, если рядом не было Алеши.
— Что же ты будешь делать, когда Алеша пойдет в гимназию? — спрашивала мама.
— Пусть он подождет, пока я вырасту, и мы пойдем вместе.
Летом 1881 года Мария Корнеевна привела Алешу во 2-ю кишиневскую классическую гимназию, где уже учились двое ее сыновей.
Белая суконная рубашка, перехваченная черным пояском, длинные черные брюки, крепкие австрийские башмаки, которые он примерял дома, — все это казалось ему столь солидным, что теперь его просто невозможно было не принять в гимназию. Достаточно лишь посмотреть, как взросло он выглядит, как важна его осанка, строг взгляд.
Длинное одноэтажное здание гимназии, мимо которого Алеша проходил много раз, когда с ватагой сверстников направлялся на выгон к Боюканам собирать ранние съедобные ландыши-бируши, теперь предстало перед ним в совершенно новом свете. Рассказы старших братьев о строгих преподавателях, страшные слова «дисциплина», «контрольная», а того пуще «карцер» — все это вместе настроило его на торжественность, он шел впереди матери, выкатив грудь, всем своим видом стараясь показать, что ничего на свете не боится.
Он сам отворил тяжелую дубовую дверь и, пропустив мать вперед, вошел в просторный вестибюль, неожиданный для приземистого с виду здания. Мария Корнеевна повелаего прямо к директору мимо жавшихся к стенам мамаш со своими отпрысками, раскланиваясь на ходу со знакомыми.
Из-за тяжелого, занимавшего полкомнаты стола им навстречу поднялся важный бородатый господин с орденом, который, казалось, висел на самом кончике его бороды, и строго поглядел на них. Разум Алеши отказывался признать в нем Василия Корнеевича — маминого брата, который часто и запросто бывал у них дома, приезжал в их загородный сад в Дурлешты.
— Тебе здесь не место, сестра, я тебя не вызывал, — сказал Василий Корнеевич. — Ступайте в зал и ждите.
В это время в кабинет вошел человек в форменном сюртуке и сразу бросился обнимать Алешу и Марию Корнеевну:
— Рад приветствовать тебя, кузина, в наших пенатах. Не часто ты балуешь нас своим посещением. А молодец-то у тебя хорош! Славного парубка вырастила!
Это был учитель географии и истории Яков Николаевич Баскевич — другой родственник Щусевых, в которого брат Алеши Петя был просто влюблен. Под влиянием своего любимого учителя Петя грезил заморскими странами, неведомыми материками, океанскими далями. Алеше не доводилось видеть Якова Николаевича в их доме, но от него сразу повеяло чем-то родным и домашним.
— Берегись, братец, — говорил учитель, держа Алешу ва плечи, — мы тебе такую экзаменацию учиним, только держись!
— Как и для всех, — вставил свое слово Василий Корнеевич. — Пожалуй, даже построже, чем для всех. Желаю вам успеха. Ступайте. — Потом без перехода спросил: — Что у вас, Яков Николаевич?
— Педагогический совет в полном сборе. Я делегирован за вами. Кажется, пора начинать.
Алеша с матерью были уже за дверью. В зале народу заметно прибыло. И вдруг в душное, заполненное людьми пространство будто бы вошел аромат ранней весны. Его принесла с собой изысканно одетая дама невиданной красоты. Она была, как прекрасная картина. Живая картина двигалась, шелестя невесомым платьем из нежно-голубого шелка, прозрачные камни на ослепительно белой шее дамы и на ее руках несли небесный свет. Когда дама осторожно потрогала прическу, то кольца на ее руках заспорили с синим блеском ее распахнутых удивленных глаз. Встречая знакомые лица, дама кланялась как-то осторожно, будто боялась, что ее не узнают или не примут ее приветливого поклона. Если бы Алеше сейчас кто-нибудь сказал, что это английская королева, он ни на секунду не усомнился бы.
«Мадам Карчевская, мадам Карчевская», — прошуршал по залу восторженный шепот. Будто сам собою перед ней образовался живой коридор. Дама шла, увлекая за собой надутого мальчика, которого Алеше сразу захотелось поколотить за его сиреневую бархатную курточку, за бархатный бант и немыслимых размеров берет с лохматым шариком на макушке. Мальчик прямо-таки раздувался от спеси и портил всю картину: судя по платью, он был пажом королевы, не хватало только золоченой шпаги на боку, но капризные губы и насупленные брови выдавали маленького тирана, которого королева почему-то должна терпеть.
У дверей канцелярии дама остановилась и властным голосом произнесла:
— Подожди меня здесь, Мишель, я зайду поклониться Василию Корнеевичу.
— Хорошо, мама, — неожиданно робко сказал мальчик и прислонился к дверному косяку.
— Не смей прислоняться! Стой прямо! — приказала дама и скрылась за дверью.
Паж стоял как наказанный, еще больше насупившись и глядя в пол. Он был совсем близко от Алеши, тот дернул его за рукав. Мальчик обернулся и виноватым голосом сказал:
— Простите, но мама не велела мне вступать в разговоры.
— Вот это да! — удивился Алеша.— Она что ж, боится, что у тебя язык отвалится?
— Я не хочу, чтобы она была мной недовольна.
Алеша удивился еще больше и отошел.
Испытания начались. Первым, как и следовало ожидать, пригласили бархатного пажа. Он пробыл за дверью классной комнаты не более трех минут и выбежал к матери с пылающими щеками, весь светясь радостью:
— Я принят, мама! Директор сказал: я принят!
Все бросились поздравлять красивую даму.
Когда дошла очередь до Алеши, в зале ожидания уже стояла несносная духота. В углу на кушетке, обитой шинельным сукном, плакала полная белокурая женщина, время от времени произнося одно и то же: «Болван!», а болван стоял у окна и ковырял засохшую замазку. Алеша со страхом поглядел в угол, пригладил непослушные волосы и шагнул в дверной проем.
За столом, сверкая очками и орденами, сидели строгие «судьи», среди которых Алеша нашел маминого брата. Тепорь он был уже вовсе не похож на себя, даже голос у него стал какой-то скрипучий и грозный.
— Ну-тес, Алексей Викторович, чем вы нас удивите? Мы с Яковом Николаевичем наслышаны о ваших способностях, так вы уж нас не разочаровывайте, пожалуйста. Прошу.
— А что я должен сделать?
— Показать, на что вы способны.
— Этого я знать не могу, — ответил мальчик.
— А что вы можете?
— Могу... что могу? Могу прочесть отрывок из повести Николая Васильевича Гоголя «Тарас Бульба», рассказать о солнечном затмении...
Тут вмешался молодой педагог с шелковым бантом на шее:
— Позвольте мне, господа. Я слышал, вы рисуете, не так ли?
Алеша кивнул.
— Подойдите ко мне. Вот вам два эскиза: один — пейзажный, другой — портретный. Замечаете ли вы в них какие-нибудь неточности?
Алеша взглянул на листы с карандашными набросками:
— У пейзажа не прорисована перспектива, нет глубины, робко выражен передний план. Здесь, у дороги, я бы поместил заросшую кочку, а еще лучше, поломанную оглоблю, а то телега глядит слишком равнодушно.
— Ну, что же. Смело. А что скажете о портрете?
Алеша оттопырил нижнюю губу и попытался придраться к милой женской головке, изображенной на портрете. Портрет чем-то напоминал даму, которая недавно так поразила его воображение. Он с минуту задумчиво смотрел на портрет, стараясь понять, как добиться более полного сходства, потом сказал:
— Я бы посоветовал художнику испробовать полупрофиль. И пусть натура чуть-чуть прикусит нижнюю губу, тогда может открыться характер. А так... Впрочем, и так хорошо.
— Ну, спасибо, — сказал педагог с бантом, убирая рисунки. — У меня все, господа.
— Так вы удовлетворены, Николай Александрович? — спросил директор учителя рисования.
— Вполне.
— Будем слушать «Тараса Бульбу»? — Директор оглядел педагогов и сам ответил: — Не будем. Передайте отцу поклон и скажите, что вы зачислены. Ступайте.
— Как? И это все? — удивился Алеша, постоял и пошел.
— Ну, как? Ну, что? — подлетела к нему мать.
— Да принят, принят. Неужели ты сомневалась?
Казалось, с поступлением в гимназию ничто не переменилось: просто он переоделся в гимназическую форму, которую мысленно давно уже примерял на себя. В гимназии он сразу почувствовал себя в родной стихии: ведь здесь учились его братья, от которых он уже знал все подробности гимназической жизни. Помогло и заботливое внимание директора Василия Корнеевича, который после экзамена почему-то вдруг стал испытывать к племяннику особенное расположение.
Был и еще человек, который сразу выделил Алешу из числа других гимназистов. Это был тот самый Николай Александрович Голынский, что экзаменовал его,— нервный, экспансивный, но на редкость душевный и добрый человек. Недавно он закончил петербургскую Академию художеств. Положение гимназического учителя было для него тягостным и даже горьким: молодое честолюбие, мечты о собственной мастерской, о шумном успехе полотен, замыслы которых он вынашивал, еще не перегорели в нем. Угнетали роль и место его предмета в гимназической программе.
Подлинной отрадой его жизни стали такие ученики, как Алеша Щусев. Шутка ли сказать, уже в первом классе этот плотный крепыш сумел на удивление всей гимназии выполнить в карандаше почти профессионально рисунок гипсовой головы Аполлона в натуральную величину. Полупрофиль, замечанием о котором он покорил на вступительном экзамене педсовет, был проработан на рисунке четно и выпукло, беглая теневая штриховка была сделана как бы небрежно, как будто рисующий хотел размять руки перед тем, как взяться за серьезное полотно. Но именно эта беглость и незавершенность штриховки придавали рисунку притягательную силу и даже поэтичность.
А произошло все так. В то зимнее пасмурное утро урок Голынского был первым. Николай Александрович был хмур, пребывал, что называется, не в духе. Он мял ладонями заспанное лицо и сердито поглядывал на свежеумытые детские физиономии.
— Тэк-с, господа. С чего начнем?
Оглядел рисовальный класс. Глаз почему-то остановился на запыленном бюсте Аполлона, который сегодня был нужен для урока в пятом классе. Бюст стоял высоко на длинном, во всю стену, застекленном шкафу. Николай Александрович вышел в коридор за стремянкой, принес ее, долго прилаживал, устанавливая поустойчивей, потом стал подниматься наверх. Он осторожно взял бюст, чтобы не испачкать манжет, но неожиданно покачнулся на верхней ступеньке, и бюст с грохотом ударился об пол.
Голова Аполлона покатилась и стукнулась о ножку парты. Николай Александрович спрыгнул вниз, схватил, обнял гипсовую голову и долго держал ее так, горестно вздыхая. Глядя на лицо учителя, которое кривилось в жалкой гримасе, Алеша чуть ли не вслух прошептал:
— Бедный, бедный, милый мой Голынский...
Больших трудов стоило Николаю Александровичу установить пораненный бюст на тумбу. От бюста, собственно, уцелела одна голова, но и это можно было принять за чудо: от гипсовых изваяний в случае падения чаще всего остаются одни черепки.
Все мысли учителя были связаны с постигшей его утратой, а урок надо было продолжать. То, о чем он собирался говорить раньше, казалось неуклюжим, ненужным,
— Рисуйте это, — сказал он и уставился в окно.
Алеше захотелось утешить учителя, сделать ему что-то приятное, доброе, но что именно, он не знал. Мальчика вдруг поразило сходство Голынского в эту минуту с братцем Павликом, когда того обижали. Он поднял руку.
— Что вам, Щусев?
Алеша попросил лист плотной бумаги большого формата. Учитель дал ему такой лист. Возвращаясь на место, мальчик остановился, долгим пристальным взглядом оглядел гипсовую голову, потом уселся поудобнее, прижал локти к телу и решительно взялся за карандаш.
Устремляя взгляд на натуру, Алеша на миг зажмуривал глаза, точно хотел оживить образ Аполлона в своем сознании. Сжимая карандаш, он чувствовал необъяснимую, неведомую прежде дрожь во всем теле. Откуда-то появлялись такие же неведомые силы, которыми он обуздывал свое волнение. Четкие точные линии одна за другой ложились на бумагу. Казалось, вокруг образовалось пустое пространство, которое поглотило людей, стены, потолок, оставив его один на один с гипсовой натурой, даже не с ней, поломанной, с пылью под глазами, а с полным поэзии и какой-то мужественной грации образом, рождающимся от созерцания античной скульптуры.
В первый раз в жизни Алеша почувствовал, что ему удалось прикоснуться к чему-то неведомому, настоящему, к чему-то такому, что люди называют истиной, правдой искусства. Тени накладывались на рисунок легко и свободно, словно кто-то другой, в тысячу раз искусней, водил его рукой.
Прогремел звонок, и Алеша вдруг испытал неожиданную усталость. Затряслись руки и совершенно перестали его слушаться. Он попытался довести штриховку до конца, но услышал за спиной громкое:
— Не смей! Что ты делаешь? Не смей портить!
За ним давно уже стоял Голынский и, не говоря ни слова, следил, как рождается его первый успех. Рисунок свидетельствовал о природных задатках, о горячем интересе мальчика к основам художественного ремесла, о том, что ему нужна серьезная школа.
Николай Александрович пригласил Алешу в гимназическую изостудию, где занималось несколько способных учеников. Среди них Алеша был единственным первоклассником. Изостудия и домашнее рисование поглощали теперь все свободное время, и Марии Корнеевне приходилось только удивляться, каким тихим и усидчивым стал, пожалуй, самый резвый из ее сыновей.
Алеша любил присутствовать на разборах знаменитых полотен, к которым питал глубокое пристрастие его «милый Голынский». Как умел учитель поэтизировать чудо художественного действа, сколько страсти вкладывал он в свои слова! Основа искусства, говорил он, конечно же в таланте, но талант превращается в пустой звук, если нет мастерского владения основами ремесла.
Эти основы ученики Голынского постигали чаще всего методом проб и ошибок. Ни строгой методики рисования, ни способов передачи цвета гимназическая студия не давала, но она учила любви к искусству, умению видеть красоту мира.
Алеша был еще очень мал, и ему просто нравилось рисовать. Его самолюбию льстило, что он посещает студию. А когда на показательной выставке кишиневских гимназий, устроенной в земском собрании, его рисунки получили похвальный лист, то на свете не было человека счастливее, чем он. В тот день он принес домой тисненный золотом лист и большую коробку с акварельными красками — приз самому юному дарованию.
Вместе с радостью акварели принесли ему и немало слез. Нежные разводы становились еще бледнее, когда слезы отчаяния падали на картинку, которую и картинкой-то нельзя было назвать: получался какой-то хаос из блеклых пятен, упорно отказывавшихся слиться в единый образ. Рельефность контура была акварелям просто несвойственна, и, чем настойчивей он к ней стремился, тем более отдалялся от цели. Ему было стыдно показать свои опыты не только Голынскому, но даже и братьям.
Когда однажды он был готов выбросить свои краски и, устав от борьбы с ними, тупо смотрел в окно, в его сознание сначала робко постучалась, а потом смело вошла ясно простая мысль, рожденная созерцанием распластанной по небу полосы вечерней зари: как многоцветно, как прихотливо переливчатое закатное небо, сколько тайных надежд обещает оно завтрашнему дню! Но у него нет контура, как нет контура и у дымной, прикрытой облаками кромки земли. Как много умеют недосказать эти яркие небесные акварели! Успокоенный, он заснул, а ранним утром акварели чуть-чуть приоткрыли ему тайну цвета.
Постижение цветовых гамм сперва поразило, а потом безраздельно взяло в плен его воображение. Казалось, он забыл карандаш и писал теперь только акварель за акварелью, отыскивая у утра, у дня, у вечера всё новые цветовые оттенки. Алеша влюбился в цвет, как язычник. Он молился на солнце, на зарю, на луну, и не было для него высшей радости, чем передать свои настроения с помощью акварели. Живой, яркий мир, который окружал его со всех сторон, казался теперь шире, глубже, загадочнее, чем прежде.
Едва дождавшись новой весны, которая уже цвела в его воображении, Алеша задался мыслью отразить в акварелях тепло весенних лучей, пронизывающих бездонную глубину небесного купола, показать оживающую после кроткой южной зимы природу Бессарабии, написать сиреневую дымку, которая покрывает просыпающиеся от зимнего сна ветви деревьев.
Кишиневская весна славится своим многоцветием, неуемным буйством, взрывом красок. Кажется, даже камни начинают цвести. И в самом деле, затененные бока валунов на обочинах, сложенные из природных камней каплички на развилках дорог вдруг одеваются в изнеженно-фиолетовый, желтый, розовый наряд. Непонятно, кому приходит на ум блажь укрывать дорогими аксамитами придорожные камни?
Еще не окрепли дороги, а в воскресенье утром щусевское семейство уже отправлялось пешком в свой сад в Дурлешты за четыре версты от города. Отец ходил трудно, поэтому шли не спеша. Зеленые холмы и глубокие голубые долины дурлештской окраины с белыми мазанками по склонам дышали ранней свежестью. Все утопало в светлой зелени садов.
В эту благодатную пору акварели рисовались легко, словно сами собой. Вся семья следила за Алешиными успехами. Никто не осмеливался мешать ему или подшучивать над ним, когда в Дурлештах он говорил: «Иду поработать на пленэре». Братья, включая маленького Павлика, копались под надзором Виктора Петровича в саду, а Алеша, расстелив на земле кошму, рисовал. Когда пейзаж получался удачным, он сзывал вою семью, и не только братья, но и отец и мать с уважением рассматривали его работу.
Домой возвращались в сумерках. Темнели сады, густели краски ночи, ярко светились лишь окна хат да горели вечерние костры. Живое полотно окружало их со всех сторон.
У всех Щусевых были сильные и приятные голоса. Пелось им легко, охотно. Когда отец заводил старинную казацкую песню, с первых же слов ее подхватывали дружно, слаженно, и стройный хор оглашал окрестности. С песнями и ночь казалась светлее, и простор шире. Рождалось чувство какого-то нерасторжимого семейного единства, вечности красоты и бытия.
К началу нового учебного года Алеша принес в гимназию три толстые папки своих акварелей. Особенно хороши были «Фиалки на еврейском кладбище», «Весеннее озеро в Боюканской долине» и «Пушкинский холм над излучиной реки Бык». В конце лета он сделал еще несколько жанровых зарисовок карандашом. Здесь были «Заготовка турбурела в Дурлештах» (турбурел — молодое виноградное вино), «Тайка с кетменем» («тайка» по-молдавски «отец»), «Мальчики с фруктами» — на этой картинке Алеша нарисовал братьев и самого себя, когда они все вместе несли на длинных шестах корзины, полные яблок и винограда. Была на рисунке и каруца, на которой сидел молдаванин с прямой, как доска, спиной и сосредоточенно раскуривал свою пенковую трубку.
Обилие Алешиных рисунков несколько обескуражило Николая Александровича Голынского. Первой его мыслью было: раз много, значит, не может быть хорошо. В самом деле, рисунки и акварели были неровными, беглыми, но стоило приглядеться к ним попристальней, как открылось, что мальчик учится мыслить с помощью цвета. Ценен был не столько результат, сколько упрямая, даже неотвратимая потребность выражать свой собственный мир цветовыми сочетаниями и линиями.
Когда Голынский вместе с Алешей попытался разложить по какому-нибудь преобладающему признаку акварели, у них долго ничего не получалось. Наконец Николай Александрович придумал распределить их по преобладающему цвету, и мальчик с удивлением увидел, что сначала им были нарисованы все «голубые» пейзажи, потом «зеленые», затем «розовые» и, наконец, «желтые».
Голынский более или менее точно восстановил хронологическую последовательность рисунков, и оказалось, что в конце каждой серии неизменно выделяются своей экспрессией две-три акварели. Больше всего удачных акварелей было в розовой тональности. Видимо, к концу лета Алеша стал уставать, поэтому «желтые» акварели как бы несли печать утомленности. В это время мальчик и почувствовал потребность сменить кисти на карандаш.
Когда учитель раскрыл ему эти свои мысли, Алеша был поражен их простотой и той легкостью, с какой Николай Александрович проник в самую суть его сумбурной и вроде бы непонятной ему самому души. А Голынский утвердился во мнении, что Алеше необходима строгая культура художественного мышления, которая приобретается лишь в длительном и постоянном общении с художественно образованными людьми.
Ни о картинной галерее, ни о художественных выставках Кишинев в то время не ведал. У некоторых состоятельных горожан были портреты предков, писанные домашними художниками, у других было кое-что интересное из купленного на родине и за границей, но лишь в одном богатом гостеприимном доме можно было увидеть полотна хороших мастеров. Это был дом земского предводителя, тайного советника Карчевского, либерала, покровителя 2-й кишиневской гимназии.
Николай Александрович Голынский, хоть и вхож был в этот дом, не сумел коротко сойтись с семейством Карчевских и даже несколько переживал это, так как в доме собиралось кишиневское общество поклонников живописи, театра и музыки.
Как-то Голынский вызвался организовать художественные «четверги», на которые задумал приглашать владельцев интересных картин с их полотнами, устраивать публичные обзоры. Первые вечера получились удачными, но вскоре стало ясно, что такие «четверги» — утопия в самой своей основе. Дело было не в том, что в частных собраниях мало достойных полотен — их было достаточно. Но немногих владельцев удавалось упросить снять картину с гвоздя даже на короткое время. Голынский попытался делать копии, но и это ему редко кто позволял. Вскоре по городу пополз ядовитый слушок, что Голынский — художник далеко не из великих, хотя копии его в большинстве своем были удачными: просто-напросто владельцы картин не хотели повторений. У Николая Александровича опустились руки.
В доме Карчевских было восемнадцать со вкусом подобранных картин. Украшением маленькой галереи была авторская копия картины Айвазовского «Неаполитанский залив». Голынский стал придумывать, каким способом ввести Алешу Щусева в этот дом, но не знал, как подступиться к делу: ему все казалось, что только он своим профессиональным глазом видит одаренность мальчика.
Когда он поделился своими сомнениями с Алешей, тот ответил:
— Миша Карчевский сидит за соседней партой, я попрошу его пересесть ко мне. Со временем все образуется само собой.
В самом деле, не прошло и двух дней, как Миша пересел к Алеше на первую парту у окна. Вскоре мальчики, казалось, друг без друга жить не могли. Алеша нарисовал портрет своего приятеля, потом еще один, затем последовало приглашение на музыкальный вечер.
— Ты сможешь спеть что-нибудь? — спросил Миша так, как будто не верил, что есть люди, не умеющие петь.
— Вообще-то смогу. А что нужно спеть?
— Нужно петь всегда только то, что любишь.
— Я не знаю, понравится ли это твоим гостям.
— Важно, чтобы нравилось тебе. Видишь ли, по-моему, у людей гораздо больше общих черт, чем им кажется. Каждому хочется быть непохожим на других, а это ведь тоже общая черта. И у всех есть душа, которая постоянно просит любви, а любовь люди угадывают во всяком ее проявлении и каждом движении. Даже если что-то очень трудное делаешь, но делаешь с любовью, то ее печать обязательно будет видна. Может быть, я это не умею объяснить так, как моя мама, но я это понимаю.
Алеша глядел на товарища во все глаза. Ему никогда не приходилось слышать ничего подобного даже от своих старших братьев, не говоря уж о сверстниках.
На музыкальный вечер Алеша явился в голубой Петиной блузе, с шелковым бантом на шее. Он долго думал, а не взять ли с собой альбом и карандаши: вдруг придется рисовать? А может быть, стоит показать свои акварели? И он выбрал из летних папок те, что казались ему самыми удачными.
Миша встретил его в своем обычном гимназическом мундире. Про себя он удивился странному наряду товарища. Ему даже на минуту показалось, что следовало предупредить Алешу, сказать ему о скромности поведения младших на взрослых вечерах. Алеша сразу осознал нелепость своего наряда и, наверное, просидел бы весь вечер в самом дальнем углу, если бы не встретила его на пороге та самая изящная на свете женщина, которая еще в давнюю пору так поразила его воображение. На этот раз она была в голубом бархатном платье.
— Очень рада с вами познакомиться, — приветливо сказала она, идя ему навстречу с протянутой рукой. — Вы принесли свои работы? Это очень мило. Что же мы стоим? Веди, Мишель, господина Щусева в гостиную. Я думаю, что вам все будут у нас рады, — добавила она и положила свою изящную руку ему на голову, ободряя его.
Зал показался огромным от обилия света. По стенам стояли бархатные диваны, глубокие кресла и мягкие стулья. Блестела лакированная крышка рояля, за которым сидела худенькая девчонка со стрелками черных бровей. Вид у нее был такой, словно она потеряла нужную клавишу.
— Михаил, — сказала она капризно, не оборачиваясь. — Здесь у Листа диез, и здесь диез, а как перейти к этой ноте?
Брат склонился над клавиатурой и показал, как надо брать аккорд.
— Вот и вся премудрость. Маня, познакомься с моим товарищем, Это господин Щусев. Голынский находит в нем большой талант. Впрочем, ты сама сможешь в этом убедиться, если сумеешь понравиться Алексею.
Девочка, прищурив свои черные бархатные глаза, решительно, как и мать, протянула руку, и Алеша поразился, до чего крепка ее узенькая ладонь.
— У Михаила все друзья сильные. Настоящие мужчины, — сказала девочка, подражая манерам матери. Потом она стала капризно тормошить брата: — Скоро играть, а я собьюсь. Я непременно собьюсь. Давай еще раз пройдем вторую часть, Мишенька, пожалуйста!
Они сели играть в четыре руки, а Алеша, не зная, куда деваться, сел в углу и оттуда смотрел на Мишу и его сестру, завидуя их раскованности. Он бы, наверное, отдал все на свете за то, чтобы так же свободно сидеть у рояля в ослепительной гостиной, украшенной картинами и тяжелыми драпировками, сидеть безмятежно и уверенными кивками головы или гримасой недовольства направлять игру этой маленькой принцессы. Росшему в окружении мальчиков, Алеше казалось счастьем иметь маленькую сестру. В каждом движении брата и сестры чувствовалось такое доверие, такая любовь друг к другу, такая нежность, что ему безумно захотелось, чтобы и на него упал хоть лучик этой нежности.
Алеша раскрыл альбом, устроил его поудобнее на коленях и, испытывая прилив любви к этим в общем-то неблизким ему людям, стал рисовать их. Он портил лист за листом, ему пришлось несколько раз пересаживаться с места на место, пока карандаш не пошел по бумаге мягко и свободно.
За работой он не заметил, что в гостиной уже много людей. Он даже не заметил, что место детей за роялем занял какой-то человек во фраке. Образ захватил его настолько, что ушедшая из поля зрения натура уже не нужна была ему: он рисовал то, что жило в его воображении.
Только когда рисунок был закончен, до его слуха доими уверенные пассажи пианиста фон Клозе, которого Алеша видел лишь однажды на благотворительном вечере. Он очнулся, удивившись его неожиданному появлению. Высокая черная прическа пианиста растрепалась, локоны рассыпались по высокому белому лбу, он выпячивал челюсть, закатывал глаза, откидывался назад, словно напуганный звуками рояля, и робко, как слепой, снова тянулся к клавишам. Закончив этюд, он обреченно уронил голову, встал, беспомощно развел руками, как бы показывая, что это все, на что он способен. Люди, что были в зале, захлопали шумно и благодарно. Пианист выразил на лице притворное удивление, как будто не ожидал, что его игра понравится, пригладил рассыпавшиеся волосы и осторожно поклонился.
Варвара Никитична Карчевская извлекла из бархатного рукава крохотный платочек, приложила его к глазам:
— Ах, Шопен моя слабость. Из-за вас, дорогой Клозе, я опять не буду спать.
— Что вы! У меня сегодня деревянные пальцы, просто дубовые... — сказал пианист, садясь возле нее.
Задвигались стулья. Гости пропускали к роялю новых артистов. Виолончелист Губор долго устраивал свой инструмент, скрипач Каховский, казалось, никак не мог приладить свой тяжелый подбородок к хрупкой скрипке, за рояль уселся пианист Буслов.
Перед тем как начаться новой музыке, Варвара Никитична встала и со счастливым лицом произнесла:
— У нас сегодня особенный вечер, друзья! Наш дорогой, наш славный композитор Николай Андреевич Ребиков — вот он перед вами — представляет сегодня на ваш взыскательный суд свое новое произведение. Я просила, чтобы он сам сказал слово о своем сочинении, но он не хочет. Может быть, мы все вместе попросим?
— Давайте лучше слушать музыку, а не слова, — громко сказал, не вставая со своего кресла, русый господин с узким лицом.
— Ну вот видите, что я говорила!
— Вступайте, господа! — махнул рукой композитор.
Испуганно взвизгнула скрипка, запела грудным женским голосом густо и велеречиво виолончель, россыпью колокольчиков ожил рояль. Звук резвился и баловался, словно развлекал сам себя. С притворной тоской снова заныла скрипка, гулко застонали басы виолончели. Музыка поплыла, выравниваясь в своем течении.
Временами Алеше казалось, что инструменты то шумно, то кротко переговариваются между собой на одном только им понятном языке, спорят, даже ссорятся из-за чего-то, а потом долго ведут общую мирную тему, пока кому-то снова не приходит охота заговорить громче всех о себе, о своем.
Впервые он слышал музыку близко, впервые почувствовал, как она строится. И может быть, именно оттого, что она была не столь уж совершенна, самостоятельна, ему удалось вдруг увидеть в ней попытки построить складную и завершенную тему, понять, что автор пока не умеет забыть себя и целиком отдать свое «я» творчеству.
Ему снова захотелось рисовать. Он чувствовал, что штрихи и линии согласуются с тем, что он слышит. Музыкальная тема вылилась в образы Варвары Никитичны, Машеньки, самого композитора, который, казалось, со страданием слушает собственную музыку. Алеша делал быстрые наброски до той поры, пока в гостиной не установилась долгая пауза, которая длилась, однако, совсем недолго — гости усердно захлопали и дружно стали поздравлять композитора. Особенно горячо усердствовал пианист Буслов, который служил в Кишиневском музыкальном училище, где директором был Ребиков.
Алеша Щусев стал постоянным участником музыкальных вечеров у Карчевских. Здесь он самостоятельно выучился игре на их рояле и освоил основы вокала. Но это было потом, а тот первый вечер заставил его просто онеметь от счастья — он вошел в мир муз.
Одно обстоятельство смущало, заставляло ежиться, будто холодная роса капала с ветвей за воротник: ему все казалось, что он взялся играть не очень-то понятную для него самого роль, в которой участвует лишь часть его существа, а весь он как-то неуклюж, робок, скован сомнениями: в самом ли деле есть в нем то, что Голынский называет туманным словом «талант»?
Однажды, когда он перелистывал альбом с акварелями, объясняя Маше Карчевской свои замыслы, кто-то неожиданно тронул его за плечо, отобрал карандаш и сказал ломким баском:
— Отделите землю от неба, вот так, — костлявая рука с узловатыми сильными пальцами провела но акварели жирную продольную полосу. — Пусть две сферы — воздушная и земная — отразятся одна в другой, как в зеркале... По-моему, вы не владеете композицией. Так плоско рисовали только дикари на стенах каменных пещер. Впрочем, дайте-ка поглядеть ваши опыты, — и неизвестный отобрал у растерявшегося Алеши альбом.
Долговязый гимназист-старшеклассник в неряшливой форме быстро листал Алешины этюды. При этом он вытягивал губы дудочкой и отдувался, как будто ему было нестерпимо жарко.
— Это Саша Гумалик, — прошептала Машенька, словно боясь, что ее услышат.
— Ну и что? — твердо сказал Алеша.— Он сам-то рисовать умеет? Ругать легче всего.
— А это уж вы зря! Я хочу вам помочь, — ответил гимназист, не возвращая альбома. — Вы усердны, этого у вас не отнимешь, со временем вы можете выработаться в художника, хотя ваше будущее, если судить по тому, что я вижу, угадать очень трудно. Вы видели когда-нибудь настоящие полотна, хотя бы такие, как это? — гимназист указал на висящую над ними картину «Венецианский залив».
— Конечно, видел. И что?
— А то, что учиться надо на самых высоких достижениях гения и каждый свой шаг сверять с ними.
— Саша, нельзя же требовать так много, Алеша еще мальчик, — вступилась за Щусева Машенька и погладила Алешу по рукаву.
— Ах, Маша, знали бы вы, до чего искусство беспощадно. Оно не делает никаких скидок — ни на возраст, ни на власть, ни на силу. Оно само по себе: либо оно есть, либо его нет. Здесь, — сказал он, возвращая альбом, — говорить об искусстве пока не приходится.
Из альбома выпал рисунок, который Алеша сделал несколько минут назад и намеревался подарить Машеньке. Гумалик подобрал выпавший лист, поднес поближе к глазам и снова выпятил губы, но теперь Алеша заметил на его лице оттенок смущения.
Гимназист, видно, долго боролся с собой и наконец сказал:
— Вам определенно надо учиться. Ах, если бы нам с вами удалось посмотреть коллекцию генерала Воротилина! У него, говорят, уйма превосходных полотен в загородном доме, но он никого к себе не пускает, любуется ими в одиночку.
— И их никто не видел? — удивился Алеша.
— Никто, кроме его кучера и, разумеется, самого генерала. Кучер — малый темный, но живопись любит искренне, как ребенок. Он мне рассказывал: «Встану перед этакой нимфой и вкушаю образ ее запечатленный, а их превосходительство подойдет сбочку, увидит слезы у меня на лице и захлюпает тоже». Так вот вместе стоят и хлюпают. И наплевать им, что в городе нет очагов культуры, где молодые дарования получали бы развитие! Конечно, за исключением вашего милого дома, Машенька, и любительского театра, кстати больше похожего на балаган.
— Хорошенькое сравнение, — сказала, приближаясь к ним, Варвара Никитична. — А вы, Саша, насколько я знаю, больше предпочитаете посещать балаган, чем наш дом, — улыбнулась она.
— Бог с вами, Варвара Никитична, я совсем не это имел в виду. Я просто пытался объяснить молодому человеку, как трудно в нашем городе получить мало-мальски порядочное духовное развитие. Ведь даже Пушкин задыхался в нашей кишиневской пыли и за искусством бегал в табор. И еще неизвестно, был бы у нас великий поэт, если бы Земфира не прогнала его от себя!
— Оригинальное мнение! Знаю, Саша, что вы мастер уходить от прямых вопросов, но скажите ваше мнение о рисунках Алеши Щусева. Имейте в виду, что мне они очень нравятся.
— По моему скудному разумению, он не безнадежен. Но я вообще не мастер хвалить...
— Никого, кроме себя, — сердито вставила Машенька, и ее глаза сначала гневно зажглись, а потом ласково взглянули на Алешу.
— Более того, — продолжал Саша, — я готов оказать молодому человеку помощь — ввести его в круг моих друзей, снабдить серьезной литературой. Я считаю, что он должен по-настоящему заняться своим образованием, если не хочет всю жизнь глотать кишиневскую пыль.
— А я думаю, наш город не самое скверное место на земле, не правда ли, господин Щусев? — засмеялась Варвара Никитична.
Весной, когда учебный год подходил к концу и Алексей всем существом ждал нового бесконечного лета, в его душе вызрел замысел, с которым он связывал большие надежды. Ни Машеньке, ни Михаилу Карчевским, не говоря уже ни о ком из домашних, своей тайны он не доверил.
Генеральский особняк на Александровской улице жадно влек его к себе, однако неприступный забор и чугунные ворота с тяжелыми цепями на створах охлаждали его тайные мечтания.
Однажды, возвращаясь с этюдов, он глубоко задумался и вдруг почувствовал, что все должно осуществиться немедленно, сей же час. То ли оттого, что сегодня рисунок не ладился, то ли оттого, что через проулок он спустя секунду выйдет на Александровскую улицу, он решил: будь, что будет, даже если громы и молнии упадут потом на его голову. Глаза уже скользили по высокой ограде. Какая-то сила заставила его размахнуться и перебросить в генеральский сад свои рисовальные принадлежности. Отступать было некуда.
Он присмотрелся к высокому вязу, стоящему у стены, огляделся, выжидая, пока улица опустеет, и, выбрав удобный момент, взобрался на дерево. Казалось, сознание работало помимо него: глаз сразу заприметил толстый сук, свешивающийся прямо под оградой, и купы цветущей сирени, в которой можно укрыться от сторожа.
Добраться до нужного сука оказалось совсем не просто. Наконец Алеша повис на руках над оградой, увенчанной остриями железных копий. Перебирая руками, он выбирал, куда ему прыгнуть, как вдруг раздался похожий на пушечный выстрел треск, и ему показалось, что огромное дерево обрушилось на него.
Очнулся он на земле оттого, что большой шоколадный пес лизал ему глаза и лоб теплым мокрым языком. Алеша протянул руку погладить собаку. Пес отскочил и через минуту принес ему его альбом, а сам отошел в сторону и грациозно сел, держа на весу переднюю лапу. Мальчик завозился, выбираясь из-под ветвей сломанного сука, и сел на траву. Лоб страшно саднило. Вокруг была такая райская красота, такой истомчивый дух шел от махровой сирени, что захотелось плакать.
Пес вскочил и, радостно скуля, завертелся вокруг. Алеша встал, отряхнулся, а собака, выражая нетерпение, уже приглашала его следовать за собой. Сверкая на солнце длинными прядями шерсти, пес вел его между царственных кустов сирени, поминутно оглядываясь и зовя вперед. Следом за собакой Алеша подошел к крыльцу и поднялся на веранду. Здесь на широком персидском диване неподвижно лежал большой человек, укрыв лицо кисейным платком.
Провожатый Алеши сунул морду под платок и, облизав седые усы хозяина, смахнул платок.
— Поди прочь, Милорд, — проворчал генерал и, вытаращив от удивления глаза, уставился на мальчика.
Алеша понял: нельзя терять ни мгновенья.
— Здравствуйте, ваше превосходительство! — полным почтения голосом начал он. — Я ни за что не осмелился бы беспокоить вас в минуты отдыха, но ваш Милорд сам меня привел, чтобы я засвидетельствовал вам мое глубочайшее уважение как боевому герою, славой которого гордится весь наш город. Все в нашей гимназии грезят вашими военными подвигами во славу отечества. Но не только этим велик ваш дух, ваше превосходительство, но и вашей любовью к искусству, которая не имеет границ. Я лишь маленький поклонник вашего изысканного вкуса. (Фраза глупая, но, пожалуй, сойдет, решил Алеша, главное, не дать выгнать себя в первую же минуту.) Мне никогда не приходилось видеть подлинников великих мастеров, но я многих из них знаю но репродукциям и олеографиям. Любимый мой художник — Микеланджело. Его «Распятие на кресте Святого Петра» кажется мне высшим достижением мировой колористики. Если бы он не был к тому же и великим скульптором, то все равно был бы для всех ныне живущих богом. Еще я очень люблю Тициана. Его «Положение во гроб» так экспрессивно, что страдание людей само в себе уже несет надежду на радость, хотя на нее в картине нет и намека. Но это какая-то радостная скорбь, не так ли, ваше превосходительство?
Алеша на полминуты сделал паузу, чтобы передохнуть. Генерал сурово молчал и ворочал похожими на осенние кочки бровями.
— Вы, наверное, знаете, ваше превосходительство, рисунки Рубенса. Я совсем недавно познакомился с ними, и мне в первый раз открылось, как бесконечно труден путь от великого замысла к великому полотну. Античные фигуры на рисунках Рубенса, особенно его «Сенека», живее всякого живого человека. У него человек живет каждой своей жилкой. А глаза, как он умеет делать глаза! Рисунки выполнены черным мелом и сангиной, а кажется, что они цветные, во всяком случае, я почувствовал голубой цвет глаз, они словно вобрали в себя голубизну неба и излучают ее на вас. Если бы я был самым богатым человеком на свете, я все отдал бы за то, чтобы постоять перед великими творениями и поговорить со знающим человеком о Рафаэле, о Леонардо да Винчи, о непревзойденном Рембрандте...
Алеша сыпал названиями картин, страстно пересказывал сюжеты, описывал полотна, сравнивал их, оценивал. Наконец он начал замечать нетерпение генерала: что же мальчишке от него-то нужно?
Алеша скорбно вздохнул и уже без всякой бодрости пролепетал:
— Но обо всем этом я могу судить только по иллюстрированным журнальным вклейкам.
Генерал резко сел, сразу попал ногами в турецкие домашние туфли, покрутил с досадой головою, сетуя, что поспать уже не удастся, и, словно певец, разрабатывающий утром свой голос, протянул густым басом:
— Ива-а-н! Подавай одеваться!
Прибежал суетливый и какой-то пришибленный денщик с носом пуговкой, неся на вытянутых руках белый долгополый сюртук с двумя рядами золотых пуговиц.
Генерал Воротилин сбросил халат и облачился в просторный сюртук.
— Ты чей же будешь, пострел?
— Щусев, ваше превосходительство.
— Виктора Петровича сынок?
Алеша кивнул.
— Как же ты ко мне попал? Ну, да это не важно — смелость города берет! — И он снова запел, будто денщик был где-то далеко: — Ива-а-н! Лошадей!
Генерал спустился в сад, поймал собаку за загривок, прижал к колену и пальцем почесал у ней за ухом. Прогулочным шагом он двинулся к воротам и, казалось, ничуть не удивился, увидев столь быстро приготовленную коляску, запряженную парой толстобедрых караковых коней.
Алеша вовремя подставил плечо, чтобы генерал оперся. Тот привычно опустился в мягкое сиденье, специально скроенное по его заду. Он повозился, усаживаясь поплубже, и важным поворотом головы указал мальчику на место подле себя.
Дворник в офицерском замызганном мундире, видимо с чужого плеча, растворил тягучие ворота, а Иван, сидя на козлах, уже расправил кнут. Выстрелом щелкнул бич, и лошади застучали ногами. Всю дорогу генерал хранил молчание, удерживая величественную позу золоченого истукана, а Алеша вместо него отвечал на поклоны, которыми провожали коляску встречные люди.
Когда впереди показалось здание гимназии, Алеша взволновался: а не решил ли генерал отвезти его к директору, чтобы препроводить в карцер? Но коляска катила все дальше, направляясь к Секулянской рогатке. Лошади бежали свободно и слаженно. Алеша смотрел на родные склоны и радовался скорой езде.
Вскоре коляска свернула с Сорочинского тракта и поехала по незнакомой дороге. Генерал сидел все так же прямо и лишь слегка морщился, когда колесо попадало в выбоину. Ехать пришлось долго, но Алеша забыл о времени, озирая все новые и новые дали. Наконец впереди огромным зеркалом засветился на солнце днестровский плес.
На пологом берегу реки стоял барский дом, один вид которого поразил воображение мальчика: это был даже не дом, а белый замок, воздвигнутый на сером гранитном постаменте, с широкой маршевой лестницей, украшенной чугунными грифонами. Они способны были напугать своим свирепым видом кого угодно, только не Алешу: он достаточно хорошо знал мифологию и с искусствоведческим интересом принялся разглядывать грифонов.
Распрягать генерал Воротилин не велел, и мальчик понял, что визит будет недолгим. Денщик шустро семенил впереди генерала, растворяя перед ним двери.
— Ну-с, с чего же мы начнем, пострел? — спросил генерал, вступая в зал с четырьмя высокими сводами, изукрашенными лепниной и затейливой росписью, причем росписи сводов отражали четыре времени года, а стилизованные фигуры — четыре поры жизни: детство, юность, зрелость и старость.
Алеша так долго стоял, задрав голову, что у него заболела шея. Генералу, видно, надоело ждать: он сел в кресло и велел принести трубку.
Раскаленное усталое солнце светило в западные окна зала, освещая угол, где сидел хозяин замка.
— Довольно сверлить потолок, — приказал он и добавил: — Это так — деревенская мазня. Начинай смотреть от двери влево: тут старые испанские мастера, затем малые голландцы, немецкий ренессанс, ну, да сам разберешься. А что не поймешь, спросишь, — с этими словами генерал встал и оставил его одного.
Едва затворилась дверь, как Алеше показалось, будто все лица на полотнах, размещенных по стенам в несколько рядов, разом устремили на него свои взоры. Ноги приросли к полу. Он медленно поворачивал голову из стороныв сторону, смущенный столь пристальным к себе вниманием знатных дам, вельмож, мифических героев, апостолов, что глядели на него из рам.
Казавшиеся прежде такими важными представления о живописи — о колорите, рисунке, светотени, валерах — растворились и исчезли, когда он двинулся навстречу нежно-серым глазам молодой женщины и прочитал неизвестную ему фамилию художника — Ян Матейко. То ли закатный солнечный свет был тому виною, то ли волшебство художника заставило это лицо жить более полно и горячо, нежели иногда живые лица, но мальчик вдруг начал понимать, что подлинное искусство нельзя определить никакими определениями и нет в мире ничего, что можно было бы поставить в один ряд с настоящим искусством.
Искусство не сиюмоментно. Когда художник что-то выразительное у жизни подсмотрел, это не настоящее искусство. Но тот, кто способен прикоснуться к настоящему искусству, знает, что оно вечно, что оно — способ пробудить в тебе новое зрение, открыть новые чувства, проникнуть в недосягаемые сферы.
От лица на полотне веяло теплом, заботой, материнской лаской. Алеше почудился аромат сада, яркий, насыщенный солнцем простор. Лицо на полотне вдруг помутилось, расплылось, из глаз мальчика покатились необъяснимые, тяжелые слезы. Он крутил головой, кусал губы, но не удержался и заплакал навзрыд.
Когда пришел генерал, он увидел обессиленного отслез Алешу, понуро стоящего перед «Молодой женщиной».
— Э-э, пострел, да ты, оказывается, умеешь сердцемчувствовать... А в самом деле, портрет хорош. И я его, брат, люблю. Давай-ка я тебе сам свои картины покажу, а то тебе вовек отсюда не выбраться.
Угасло солнце, зажгли свечи, а генерал Воротилин все водил по залам своего замка жадно слушающего его мальчика, который с неустанным изумлением, передающимся и хозяину дома, всматривался в полотна, приседал, отбегал в сторону, подходил почти вплотную, будто сердясь, что не удается взглядом проникнуть внутрь картины.
— Ну а архитектурные пейзажи, пострел, мы с тобой посмотрим как-нибудь в другой раз, — сказал генерал, но Алеша так бурно запротестовал, что старик вместо того, чтобы рассердиться, искренне расхохотался раскатистым басом: — Ну, да бог с тобой. Все равно придется ехать с фонарями. А сейчас надобно бы нам подкрепиться.
Алеша не возражал.
За ужином он ничего не мог есть, а только перекладывал с места на место тяжелые серебряные вилки да катал хлебные шарики, и хорошо, что генерал был весь поглощен едой и совсем не замечал его, иначе бы, наверное, рассердился.
Наконец генерал встал, не глядя бросил измятую салфетку, упавшую прямо в тарелку. Следом за ним вскочил Алеша.
— Пошли, братец, не будем попусту времени тратить,— сказал генерал и повел его в свой кабинет. По стенам высокой просторной комнаты висели архитектурные пейзажи в простых рамах. Мальчик увидел уже знакомый ему контур собора святого Петра в Риме, Парфенон, Пестум.
Когда генерал рассказывал ему о них, Алеша вдруг спросил:
— Ваше превосходительство, как вы думаете, архитектору обязательно быть художником? Я имею в виду — хорошим художником, таким, как Микеланджело?
— Таких, как Микеланджело, больше нет и, я думаю, не будет. Я ведь, братец, специалист не ахти какой, просто люблю мастеров в своем деле, а художественный искус ценю всего выше. Здесь мастер через глаза стучится нам прямо в сердце. А уж если такой художник научится проектировать дома, то счастье тому городу, в котором он живет.
— А Иктин и Калликрат были художниками?
Генерал серьезно взглянул на мальчика:
— Я тебе этих имен не называл, откуда ты их знаешь?
— Не помню, читал где-то, а может быть, слышал и запомнил.
— Эти творцы Парфенона и по сей день озадачивают людей. Думаю, что они истинные художники каменных дел, а каковы они рисовальщики, этого теперь никто не узнает. Да и надо ли узнавать? Тысячи художников тщатся передать в рисунках тайну Парфенона, но от всех она ускользает: в этом афинском храме нет ни одной строго прямоугольной детали, но каждая каменная глыба не то чтобы продумана, а прочувствована зодчими. Иначе откуда было бы взяться этой каменной поэме?
Генерал устал. И сколько жадных взоров ни бросал Алеша на великие богатства, он чувствовал, что пора и честь знать. Когда генерал стал рассказывать ему о львовском Бернардинском монастыре, а потом собрался перейти к костелу бенедиктинок с его царственно-величественным аттиком, Алеша неожиданно вспомнил про свой альбом и в первую же паузу вставил:
— Ваше превосходительство, вы сделали меня самым счастливым на свете. Обещаю, что если стану вдруг художником, то самую лучшую свою работу посвящу и подарю вам. Примите мою большую благодарность и простите меня, пожалуйста...— дальше он говорить не смог, чувствуя, что снова расплачется.
Тот вал впечатлений, что обрушился на него, казалось, мог бы затопить, сломать не подготовленную для такого испытания душу: слишком долго его глаз собирал по крупицам лишь отголоски настоящего, подлинного. Искусство маленьким, но чистым родничком било в нем самом. И вдруг бедняк нежданно-негаданно стал богатым, очутился в раю, о котором прежде и мечтать не смел.
Долгое, очень долгое время Алеша не мог ни думать, ни говорить ни о чем, кроме сокровищ генерала Воротилина. Они не только тронули и даже потрясли его — они его оживили, одухотворили, заставили трепетать все его нервы. Как будто высокая волна захлестывала его всякий раз, когда он вспоминал о том или ином живописном полотне воротилинской коллекции.
Временами достаточно было закрыть глаза, чтобы снова уйти в долгое путешествие по изумившему его миру. Потом он узнал, что не все генеральские картины равноценны, не все подлинны. Но тем и сильны впечатления детства, что они не подвержены сомнениям. Они ярки и вечны, как огонь.
Глава III
Водоворот
Маятник остановился. В кабинете отца было непривычно, пугающе тихо. Алексей сидел на голом кожаном диване, с которого куда-то исчезли все бархатные подушки и подушечки. Он смотрел невидящим взором в темное окно.
Прежде, когда бы он ни заглянул сюда, здесь ощущалось присутствие веселого, жизнелюбивого человека, даже если в комнате никого и не было. Но оставалось радостное предвкушение, что сейчас войдет отец и начнутся его бесконечные рассказы: о невероятно толстом Кочубее, который мог съесть в единый присест трех зажаренных кабанов, о тщедушном семинарском учителе Сороке, которого попечитель училища, строго уставившись на него, спросил: «А це шо за птыця?» Все эти истории пересказывались в тысячный раз на разные лады и неизменно вызывали у детей приступ неудержимого смеха, причем раньше всех начинал и громче всех смеялся сам Виктор Петрович.
Когда такие люди уходят из жизни, то надолго остается не поддающаяся никакому заполнению пустота.
Отец умер три дня назад. Мать внешне удивительно спокойно восприняла его смерть, лишь попросила своих братьев не хоронить мужа прежде времени, выждать положенные три дня, несмотря на то что на дворе стояла августовская жара. Матвей Корнеевич и Василий Корнеевич согласились. Уже через день стал ясен смысл ее настойчивой просьбы: сама Мария Корнеевна лишь на сутки пережила своего мужа. Без него жизнь для нее была невозможна.
В последние годы мама болела больше и чаще, чем отец, и кончины Виктора Петровича снести не смогла. Напоследок она успела лишь сказать, чтобы схоронили их вместе в один день и чтобы было поменьше слез.
Любимица Марии Корнеевны, дочь Виктора Петровича Марийка, теперь земский врач Мария Викторовна, была безутешна. Ее рыдания разрывали окружающим сердце. Вместо того чтобы поддержать мальчиков в горе, в испытании, особенно страшном для восьмилетнего Павлика, она ушла в собственные переживания и сама нуждалась в помощи. Она не смогла оставаться в осиротевшем доме, и родственники взяли ее к себе. Братья, уставшие и растерянные, остались после похорон в родном доме одни.
Долго не зажигали огня. Когда старший, Сергей, зажег в столовой керосиновую лампу, подвешенную к потолку на цепях, то свет ее показался назойливо наглым, словно кто-то посторонний бесцеремонно вторгся в их безутешное братство.
Сергей попросил Алешу уложить младшего брата; но Павлик боялся, плакал, Алеша прилег рядом с ним не раздеваясь и не вставал, пока не услышал сонное всхлипывающее дыхание. Лишь тогда он пошел к старшим братьям в столовую.
Он сразу заметил, что Сергей и Петя чем-то возбуждены. Тягостное напряжение дня снова ожило. В комнате застыла какая-то отчужденная злоба. Не успев вникнуть в смысл разговора братьев, Алеша уже почувствовал потребность спорить, не соглашаться, утверждать свое мнение. Сергей между тем что-то строго внушал насуплениому Пете, которого Алеша привык чаще видеть невозмутимым, готовым все принять и все понять.
А Сергей говорил и говорил одно и то же на разные лады:
— Я старший и в этом никому не позволю сомневаться. Я теперь для вас и отец и мать, и я добьюсь от вас уважения.
— Хорошо, что тебя не слышит Павлик. Ему никто не заменит маму, — возразил Петя, поднимая взгляд на вошедшего Алешу, — а всех меньше ты, Сергей. Тебя он не любит и даже боится.
Собрав все свои силы, Алеша молчал, пытаясь до конца понять суть спора, хотя Сергей пробовал завести разговор о «создавшемся положении» еще на поминках, которые проходили в доме Зазулиных. Но тогда его прервал Матвей Корнеевич, сказав, что разговор о будущем не к месту, что завтра на свежую голову обо всем можно договориться, а пока братьям достаточно знать, что их дом оценен в пять тысяч рублей и покупатель уже найден.
— Так вот, — твердо сказал братьям Сергей, — из пяти тысяч две как старший я беру себе. Вам, видимо, неизвестно, каковы потребности студента Варшавского университета. Моя жизнь в столице Царства Польского при самых скромных расходах даже с этими деньгами будет нелегкой. Ты, Петр, и ты, Алексей, получите по полторы тысячи. Помолчите, сейчас объясню. Василий Корнеевич, наш дядя, согласился принять Павлика на воспитание и заботиться о нем до его совершеннолетия. Вы знаете, какой удар испытал сам Василий Корнеевич: создав своими руками нашу гимназию, он лишился ее! Что? Не знаете? Так вот, знайте: по решению земского совета его перевели директором в реальное училище.
Притихшие братья долго смотрели на Сергея.
— Давайте будем материалистами, — продолжал тот, глядя на братьев, — давайте смотреть невзгодам в глаза, тогда найдется выход.
Петя зашевелился на стуле, набычил свой крутой лоб и зло заметил:
— Я знаю, куда ты клонишь. Но не думаю, что дядя тебя поддержит. Ни мать, ни отец, ни мы с Алешей не можем тебе позволить лишить Павлика гимназического образования.
— Господи, да сколько угодно достойных людей выходит из реального училища. Не будем отворачиваться от фактов: содержать Павла в классической гимназии нам не по средствам. Давайте спасать то, что еще можно спасти.
Алеша со сведенным судорогой лицом приблизился к Сергею:
— Иными словами: спасайся, кто может. А почему при крушении первыми всегда спасают больных, слабых, детей? Почему ты, такой разумный и сильный, не откажешься от своей карьеры, чтобы поставить на ноги Павлика и помогать нам? Думаешь, мы не сумели бы оценить такой жертвы или у нас не хватило бы мужества от нее отказаться? Не делай грозных глаз, я тебя не боюсь и все тебе скажу, что не осмеливается сказать Петя.
Алеше показалось, что обрушился потолок, острый вкус крови обжег рот, в голове зазвенели и загудели колокола. Он лежал в углу, сваленный с ног крепким ударом. Попытался встать хотя бы на колени. Петя подбежал к нему, помог подняться, но едва Алексей выпрямился, как, забыв про звенящую боль в затылке, бросился на Сергея, повалил его на сундук и принялся безостановочно работать кулаками.
Напор помог лишь в первую минуту, Сергей сумел вывернуться и размахнулся с такой силой, что Алексею долго бы не прийти в себя, не отлети он прямо на диван. Обезумев, сидел он, припечатанный к диванной спинке, и высоко вскидывал голову, жадно ловя воздух разбитым ртом. Сейчас он был похож на снятого с крючка окуня, которому неумелый рыбак разворотил губу. Рот распух мгновенно, губы раздулись и вывернулись. Он хрипло дышал, слизывая и глотая соленую кровь.
Прибежал Петя с намоченным полотенцем. Алексей почувствовал, что если позволит брату пожалеть себя, то не сумеет удержать слез, которые будут равносильны поражению. А сдаваться он не хотел, просто не мог, потому что никогда еще не чувствовал себя столь правым. Он отстранил полотенце, с трудом поднялся с дивана и, едва переставляя ноги, вышел в отцовский кабинет.
— Как же тебе не стыдно, брат? Ты же мог его покалечить! Ты ведь знаешь, какой у Алеши характер.
— Пусть знает свое место! — не совсем уверенно произнес Сергей, и в тот же миг его лицо вытянулось от ужаса: Алексей появился в столовой с отцовским револьвером в руках.
Петя бросился наперерез, но Алеша властным движением приказал ему сесть. Секундной паузы было достаточно, чтобы Сергей нырнул в окно. Если бы он не задел ставню, то, наверное, все бы обошлось.
От выстрела братья оглохли, пороховой дым обволок комнату, в глазах потускнело. Петя прочитал на лице брата такую боль и такое отчаяние, какого еще никогда не видел. Алексей снова взводил курок, поворачивая дуло себе в лицо.
Петя повис на его руке и издал вопль:
— Не смей! Памятью матери заклинаю: не смей!
Но Алексей упрямо поворачивал револьвер, и Пете ничего не оставалось, как укусить его за руку. Револьвер гулко упал на пол. Отбросив его ногой под диван, Петя выскочил в окно. За ним последовал Алеша. На мостовой, распластавшись, недвижно лежал Сергей. Братья склонились над ним, не решаясь к нему прикоснуться.
Сергей застонал.
— Да помогите же мне, — спокойно и глухо сказал он, и братья, взяв его под руки, поволокли в дом.
Крови оказалось немного. Рана на спине была какая-то странная — длинная и черная. Петя принес кувшин с кипяченой водой, чистую простыню, разорвал ее на бинты и безо всякой суеты принялся колдовать над раной, как будто целую жизнь только этим и занимался. Пуля застряла в спинных мышцах, и целую жизнь Сергей носил ее в своем теле.
Долгое время Алексей оставался угрюмым и подавленным. Даже то обстоятельство, что Павлика определили-таки не в реальное училище, а в гимназию, не вывело его из этого состояния.
Тяжкий жизненный урок не прошел даром. Щусев никогда больше не брал в руки оружия. И еще: он на всю жизнь принял на себя заботы о Павле и особенно в первые годы их сиротства как мог заменял ему отца и мать.
Сиротство — самая тяжкая разновидность одиночества. Оно исполнено ощущения неприкаянности. Вдруг разом исчезает все, привычно связанное с семейным теплом, уютом и, главное, с тем, что тебя понимают дорогие тебе, слитые с тобой люди, оберегающие твое маленькое, но надежное убежище в огромном холодном мире, где ты теперь чужой.
Дом был продан, в нем поселились незнакомые люди. Больно было сознавать, что под родной черепичной крышей, под старым ореховым деревом в саду проходит чья-то чужая жизнь.
Алексей старался теперь обходить Леовскую улицу стороной, но долго еще прямо из гимназии ноги привычно вели его к отцовскому дому. И не раз он в недоумении останавливался перед родным крыльцом, не понимая, как здесь оказался. Тогда он бежал куда-нибудь подальше, успокаиваясь только на Инзовой горе или на берегу реки.
Старшие братья покинули Кишинев, младших приютили родственники. Алексей стал жить у Зазулиных, а Павлика взяли к себе Баскевичи. Тягостно жилось на чужих хлебах. В просторной комнате, которую выделил для Алеши Матвей Корнеевич, мальчику было неуютно. Все казалось, что в любую минуту может войти кто-то посторонний, спросить о чем вздумается, нарушить его тревожный покой.
На стену Алеша повесил свой первый пейзаж маслом, выполненный два года назад зимой, когда он еще учился в пятом классе. Пейзаж получился строгим и каким-то графичным, от него веяло холодной красотой. Впечатление создавалось прежде всего тем, что масляных красок у Алеши было в то время всего две — черная и белая.
В узких серебряных рамках висели любимые материнские линогравюры с видами Петербурга. В одну рамку он вставил два своих рисунка, которые сделал по памяти. На них он изобразил маму и отца лежащими в гробу. Рисунки сопровождали пушкинские строки:
Создав себе такой интерьер, Алексей пребывал в тяжелой меланхолии. Нет ничего удивительного в том, что новое свое жилище он невзлюбил, и не любил чем дальше, тем больше. Он возвращался к себе лишь поздно вечером и с утра спешил поскорее уйти. Вставал он теперь рано, чтобы забежать к Баскевичам и проводить Павлика в гимназию. Если занятия у них заканчивались в разное время, то Алексей самовольно уходил с последних уроков, чтобы погулять вместе с Павликом в Ромадинском саду или у городского фонтана. Чаще всего Павлик просился в Рышкановку — там в заброшенных каменоломнях со множеством пещерных ходов оживали чудесные и таинственные сказки, которые старший брат мог рассказывать без конца.
В каменоломнях Алексей познакомился с археологами из Одессы, которые обнаружили под неглубоким культурным слоем древнее славянское городище. Мальчики лазали по раскопам, время от времени помогали рабочим отмывать черепки. Лучшей наградой за это для них были рассказы о быте, нравах и обычаях далеких предков. Впечатление от рассказов усиливалось тем, что поблизости, на Рышкановском кладбище, стояла на пологой горе самая древняя в Кишиневе церковь. Ее неброская красота, весь ее скромный, умиротворяющий облик много раз заставляли Алексея браться за карандаш.
Когда брат работал, Павлик завороженно следил за движением его руки, заглядывая через его широкое плечо в альбом. Гордость за брата была у Павлика так велика, что и в гимназии и дома он надоел всем рассказами о своем замечательном брате Алеше.
А когда старший брат подарил ему зеленый сундучок со всеми сокровищами своего детства, даже с последним своим увлечением — коллекцией марок, Павлик заплакал, не найдя слов, чтобы выразить всю благодарность и любовь, что скопились в его сердце.
Несмотря на то что в семье Якова Николаевича Баскевича Павлика окружили заботой, никто не мог заменить ему брата. Братья чувствовали, что вместе они составляют маленький осколок семьи, и тянулись друг к другу, инстинктивно поддерживая тепло, зажженное отеческим очагом.
Шло время. Постепенно потребность в широком круге общения вернулась к Алеше. Он взрослел, становился все более независимым. Казалось, он физически не выносил опеки дяди Матвея Корнеевича. Пожалуй, это было главной причиной, заставившей его заняться репетиторством, очень распространенным в то время в среде старших гимназистов. И хоть сам Алексей не блистал гимназическими успехами, он оказался превосходным наставником: в его шестнадцать лет от него так и веяло уверенностью, а умение общаться с младшими, чувствовать и понимать детскую душу привораживало к нему учеников.
Дар изобретательного рассказчика способен был превратить самую скучную материю, какую можно одолеть только зубрежкой, в увлекательный предмет. Но случалось, и Алексей не находил подходящих слов, чтобы расшевелить воображение первоклашки, и тогда он прибегал к безотказному средству — рисовал то, о чем рассказывал. Он рисовал обезьян из знаменитой стихотворной задачи Магницкого: «На три партии разбившись, веселились обезьяны...», рисовал жуков, бабочек, исторических и библейских героев, и там, где не только у репетитора, но и у преподавателя опустились бы руки, он добивался неплохих результатов. Через три-четыре занятия ученики уже, казалось, не могли существовать без своего репетитора. На рекреациях они сбивались вокруг Алексея в кучу и теребили его расспросами.
Благодаря хлопотам Матвея Корнеевича, земство утвердило ходатайство о бесплатном обучении в гимназии сирот Щусевых. В городе не забыли, сколько сил вложил в реорганизацию прогимназии в классическую гимназию Василий Корнеевич. Не забылось и то, что именно он организовал общественный совет по оказанию помощи неимущим гимназистам.
Деятельную работу в этом совете до последних своих дней вела и Мария Корнеевна. В ее доме жили на хлебах бедные гимназисты из провинции, ее заботами они были сыты, ее руки заштопывали дыры на их одежде, она заступалась за них, когда они зачитывались литературой, которой не было в рекомендательных списках. Когда преподаватели из гимназии приходили в щусевский дом (всем им вменялось в обязанность строго следить за бытом гимназистов, живущих на наемных квартирах), Мария Корнеевна даже самых отъявленных шалунов всегда хорошо аттестовывала, а если кто-то из них во время проверки тайно сидел на галерке в театре Гроссмана, куда гимназисты вообще не имели права показываться, она неизменно говорила: «Ушел заниматься к товарищу».
Множеством нитей были связаны Щусевы и их родственники со 2-й кишиневской классической гимназией, эти связи были традиционными. Несмотря на то что теперь один лишь Яков Николаевич Баскевич оставался в числе ее преподавателей, Щусевы, Зазулины и Баскевичи считали эту гимназию своим вторым домом, созданным собственными руками.
То, что земство вносило плату за обучение братьев Щусевых, воспринималось всеми как нечто само собой разумеющееся. Одна лишь гордость Алексея не хотела мириться с этим положением. К собственным гимназическим занятиям он стал относиться как к средству, с помощью которого можно развить способности наставника. В книгах, в учебниках он выискивал мысли и факты, которые могли бы пригодиться ему в его частных уроках. Поставив себе цель превратить репетиторство в источник существования, он подчинил ей и свои вечерние размышления, и даже постоянные встречи с Павликом.
Он учился доброте, пониманию, отзывчивости, учился быть приятным в общении, интересным для окружающих. Он вырабатывал в себе умение слушать, располагать к себе. Жизненные уроки давались нелегко, порой трудно было не уронить собственного достоинства, не опуститься до сознания собственной униженности. Временами было просто не под силу справляться с собой, и тогда он как бы уходил, погружался в себя, чтобы снова обрести спокойную уверенность.
Он выработал свой стиль поведения — независимый, сдержанно-гордый, научился внимательно и придирчиво относиться к своим жестам, манерам, одежде. Заработанные средства позволяли содержать свой пусть небольшой, но более чем добротный гардероб в идеальном порядке. Ему доставляло удовольствие считаться первым франтом гимназии, служить образцом для подражания. В Одессе он заказывал французские сорочки, а форму, шинель и фуражку шил у лучших портных Киева. Особенно тешило его самолюбие то, что его изысканный костюм оплачен собственным трудом.
Долго ходили рассказы о том, как Алексей Щусев явился к директору гимназии Николаю Сергеевичу Алаеву и с вызовом попросил принять от него плату за обучение. Директору пришлось употребить весь свой такт и дипломатические способности, чтобы уговорить Алексея приберечь заработанные деньги.
— Здесь мы сможем дать вам лишь аттестат зрелости, — сказал он. — А в Петербурге или в Москве, где вам предстоит учиться в дальнейшем, вам на нашу заботу рассчитывать не придется.
Видимо, не без тайной протекции Алаева Алексею удалось проникнуть в один из самых богатых кишиневских домов — дом винопромышленника Качулкова, который мог пригласить в качестве репетитора даже профессора, а нанял скромного, вежливого и опрятного гимназиста.
Мрачный особняк из серого природного камня, в котором обитала под гнетом главы дома многочисленная семья Качулковых, в один день превратился для Алексея Щусева в дом радости и счастья. Каждый раз он торопился сюда с надеждой снова увидеть дорогое лицо.
В первый раз встретив заботливый и ласковый взгляд, он растерялся. Чувство растерянности долго не оставляло его, пока его не осенило: ведь этот взгляд, полный ласковой доброты, это лицо он уже однажды видел — в тот памятный, счастливый день детства, когда оно глядело на него с портрета из тяжелой золоченой рамы.
Ее звали Евгения. Имя сразу полюбилось ему своим благозвучием. Даже ее замысловатая фамилия — Апостолопуло — казалась ему верхом благородства. Юная женщина вся дышала свежестью. Она поражала его совершенством черт, манер, движений.
Как смело и доверчиво протянула она Алексею свою руку, как заботливо расспрашивала его о делах и увлечениях, как ободряла, когда он показывал ей свои альбомы! За чаем в гостиной у Качулковых она стала рассказывать об Италии, поминутно обращаясь к нему, словно он был единственным, кто достоин слушать и понимать ее. Свой рассказ о великих памятниках, которыми знамениты Рим, Флоренция, Венеция, Евгения прерывала возгласами: «Не правда ли? Не кажется ли вам, что это замечательно?», как будто не она, а Алексей только что прибыл оттуда. Он, стряхнув робость, торопливо соглашался с ней, с радостью сознавая, как дороги для ее памяти отзвуки прекрасного мира.
Евгения Ивановна гостила у Качулковых в ожидании своего мужа, который вскоре должен был приехать за ней, чтобы отсюда вместе отправиться в их имение в Сахарну. Весенние дни тянулись вереницей, солнце все увеличивало свой небесный круг.
Шестнадцатилетний Алексей Щусев был крепок, осанист, не по годам серьезен. Выглядел он старше своих лет, и, когда Евгения Ивановна приглашала его сопровождать ее на вечерней прогулке по Ромадинскому саду, Алексей шел рядом спокойно и уверенно, будто уже был возведен в ранг друга молодой семьи Апостолопуло.
Надо ли говорить о том, что Евгения Ивановна приняла искреннее участие в его судьбе. Она исподволь шлифовала его манеры, «чистила» его речь, изгоняя из нее мальчишеские словечки, беззлобно посмеиваясь над его суржиком — затейливой смесью русских, украинских и молдавских выражений.
Алексею так дорого было это расположение, что он готов был переродиться в угоду очаровательной даме, но она от него этого не требовала. Его альбомы заполнялись ее портретами. Появились даже стихи, которые, однако, вскоре сменились лаконичными надписями по-французски.
Евгения Ивановна стала первым человеком, которому удалось без всяких заметных усилий заставить Щусева осознать себя как личность, понять свои природные задатки, вызвать чувство самоуважения.
Она шлифовала его французский, советовала в подлинниках читать французских просветителей, подвигнула на серьезное изучение классического искусства, рассказывая о дорогой ее сердцу Италии. Она стала давать ему уроки итальянского языка, дивясь той скорости, с которой он продвигается вперед.
Незаметно пришла пора экзаменов в гимназии. До аттестата зрелости оставался всего год. Внутренне Алексей давно уже чувствовал себя взрослым человеком. Ему хотелось, чтобы последний гимназический год пролетел мгновенно, как один день. Но именно этот год помог ему сформировать надежную основу, которая позволила всю жизнь крепко стоять на ногах.
В 1890 году пасха была поздняя. Алексей вместе с Павликом отправились на праздники в городок Русешты, где вела врачебную практику их старшая сестра Мария Викторовна. Покидая затянутый пыльной дымкой Кишинев, Алексей мысленно снова и снова возвращался в дом Качулковых, который неожиданно стал для него бесконечно дорогим.
Сестра жила в большом загородном доме земского предводителя. Комнаты были просторны, окна выходили на чистый пруд. Блестела под солнцем водная рябь, чопорно плавали лебеди.
Мария Викторовна не могла не заметить перемен, которые произошли с братьями. Особенно поразил ее Алексей. Его будто подменили — небывалая прежде вежливость, предупредительность, чувство собственного достоинства...
Вместе с братьями объехала она в кабриолете окрестные деревни, навещая больных. Через день решили отправиться на крестный ход в Каприяновский монастырь, полюбоваться там каскадом проточных прудов в обрамлении плакучих ив и белых акаций.
Алексей с задумчивой серьезностью вглядывался в лица священнослужителей, крестьян, в их тяжелые скрюченные руки, сжимающие древки хоругвей, вслушивался в нестройное, похожее на жалобу, пение. Он даже не пошевелился, когда отец Паисий — седобородый поп с клочковатыми бровями — плеснул ему в лицо святой водою и, блеснув черными глазами, пошел по берегу пруда к кладбищу, увлекая за собой длинную вереницу людей.
Мария Викторовна, держа Павлика за руку, заторопилась к монастырю, чтобы занять место в церкви до возвращения крестного хода, а Алексей приотстал. Через каждые три шага он останавливался и замирал. Он словно вбирал в себя затейливую архитектуру монастырских строений, намереваясь позднее перенести на бумагу причудливое и радостное переплетение каменных кружев.
— Алеша, ты заставляешь себя ждать. Идем же!
— Не сердитесь, сестра, — ласково сказал он. — Я должен побыть один.
Пасхальная служба давно закончилась, утомленный впечатлениями дня Павлик спал в коляске. Мария Викторовна несколько раз обошла монастырский двор, когда наконец из притвора часовни появился Алексей. Он, размахивая руками, принялся горячо рассказывать, что за чудеса увидел в монастырских кельях, какой дивной живописью изукрашены патриаршие палаты, и Мария Викторовна только удивлялась: как это ему удалось попасть туда, куда простым смертным хода нет?
— Думаешь, напрасно на меня отец Паисий ушат святой воды вылил? — сказал он и захохотал. — Знаешь, он обещал мне и другие монастыри показать. Мы теперь с ним большие друзья.
Тихо сидели братья с сестрой за чаем. С грустью поглядывала она на них, терзаясь сознанием, что не может заменить им мать, что живут они теперь «в людях». Однако вид братьев, особенно уверенная осанка Алексея не вязались с ее терзаниями.
— Господи, как же вы выросли, мальчики! — время от времени повторяла она, вглядываясь в их лица.
Алексей встрепенулся, ему надоело грустить, он поднял крышку пианино, зажег свечи у пюпитра и стал по памяти подбирать свой любимый прелюд Листа. Когда пальцы приобрели уверенность, он начал сызнова, со вступления и почти без сбоев довел прелюд до конца.
Мария Викторовна, как ни крепилась, не сумела удержать слез.
— Играй еще! — велела она.
— Попробую, — сказал Алексей и начал молдавский жок. — А вас, дорогие родственники, прошу танцевать — на других условиях я играть не согласен.
Павлик, смешно вывертывая тонкие ножки, пристукивая каблучками, запрыгал вокруг сестры, а она плавно поплыла по комнате, шурша юбками и обмахиваясь кисейным платком.
Музыка гремела все жарче, лица разрумянились, Павлик все громче выкрикивал: «Гоп, гоп, цоб, цобе!», пока не послышался стук в стену. Разом заглохла музыка.
Сестра приложила палец к губам и произнесла шепотом:
— Т-сс! Мы и вправду расшалились.
Утром Мария Викторовна села шить Павлику рубашку, а Алексей, захватив альбом и карандаши, ушел к отцу Паисию и вернулся лишь затемно. Он был так радостен, так доволен проведенным днем, что у сестры недостало сил укорять его за то, что он заставил ее волноваться. Он с таким азартом рассказывал ей, какие дивные виды показал ему отец Паисий в Васиенах, какие живописные развалины старинной крепости и какую веселую, прямо-таки радостную деревенскую церковь ему удалось зарисовать.
Пролетели праздники. Мария Викторовна с деланной строгостью простилась с братьями у ворот и побежала домой, чтобы не разрыдаться у них на глазах. Помня ее наказы, Алексей по дороге домой пытался провести с Павликом воспитательную беседу, говоря о вежливости, о почтительном отношении к старшим, но братец сладко зевал, а потом, положив голову ему на колени, закрыл глаза и задремал. Алексей поглядывал по сторонам и предавался романтическим мечтам.
Каково же было его удивление, когда он не застал в доме Качулковых гостьи. Даже записки не оставила ему Евгения Ивановна. Ее поспешный отъезд, мало сказать, задел — остро ранил его. На минуту показалось, что никакой прекрасной дамы и не было вовсе — он ее выдумал.
Но не она ли выучила его брать сложные аккорды Листа, не она ли помогла овладеть итальянской грамматикой, не она ли восхищалась его рисунками? А теперь ему остались лишь ее карандашные портреты, которые он обещал подарить ей. В отчаянии он разодрал посвященный ей альбом и бросил его вместе с учебниками итальянского языка в печку.
Однако он не позволил себе надолго предаться меланхолии. Малый, но серьезный жизненный опыт помог ему восстановить душевное равновесие. Несмотря на предстоящие экзамены, он набрал новых учеников, заполнив все свои дни репетиторством.
Он осунулся, потемнел в лице, бегая из дома в дом, занятия вел скучно, но строго и требовательно. Может быть, именно тогда, преодолевая душевную муку, он и почувствовал нелюбовь к преподаванию, к натаскиванию, которая осталась с ним на всю жизнь.
Несмотря на то что на собственные гимназические уроки он почти вовсе не тратил времени, экзамены он, как ни странно, сдал вполне прилично, не получив ни одной оценки «удовлетворительно», хотя в это время сами по себе гимназические успехи его не волновали.
Он сожалел лишь о том, что мало уделял внимания Павлику, да еще иногда с грустью поглядывал на полку, где пылились его альбомы, краски, карандаши.
Наступило лето. В душном, пыльном Кишиневе летом становилось невмоготу, и Алексей, дождавшись последнего экзамена, собрался к сестре в Русешты, куда он уже отправил Павлика. В предвкушении новых встреч и прогулок с отцом Паисием он неожиданно получил письмо, не глядя на конверт, вскрыл его, в полной уверенности, что пишет сестра, и долго не мог уразуметь, глядя на неизвестный почерк: «Мой милый и славный паж, дорогой Алеша! Мой скоропалительный отъезд был вызван недомоганием мужа, но, слава богу, он теперь поправляется, и мои самые тяжкие волнения уже позади».
Евгения Ивановна прислала длинное и ласковое письмо, в котором признавалась, как она скучает по нему, как ей его недостает. Она поверяла ему свои планы на лето, писала, как много предстоит ей работы в саду, как хочется разбить новые цветники вокруг дома, иначе пропадут семена и луковицы, которые она привезла из Италии, обмолвилась, что и для него найдется интересная работа, если он согласится приехать на лето в Сахарну. Деньги на проезд она уже выслала, пусть он приезжает в любое время, запросто, она ждет и будет бесконечно ему рада. Письмо заканчивалось словами: «Муж присоединяется к моей просьбе».
Оно взволновало его не на шутку. Он сразу же простил и внезапное исчезновение Евгении Ивановны, и долгое ее молчание, но после напряженных раздумий твердо решил, что ехать в Сахарну нельзя. Действительно, в какой бы роли ему там пришлось предстать? Пажа? Защитника слабой женщины? Это при живом-то муже? Нахлебника, недоросля? Он горько ухмыльнулся и сел писать благодарственный ответ с вежливым отказом. Однако, чем убедительнее получалось письмо, тем более хотелось ехать. Он согласен на роль садовника, маляра или даже конюха, он на все согласен, лишь бы быть рядом. И тогда он придумал: он сам отвезет письмо, конечно же не воспользовавшись ее деньгами, — в первую же минуту он вернет их.
Ехать до Рыбницы, которая находилась чуть ли не в верховьях Днестра, пришлось в медлительно-тягучем почтовом экипаже, запряженном четвериком мосластых вислобрюхих кляч. Всю долгую дорогу Алексей провел на козлах подле возницы, чтобы не сидеть под душным пологом, где потели на своих корзинах сонные торговки.
Возница оказался веселым безалаберным парубком, который благодушно ругал бессарабскую пыль, дорогу, степь, почитая ее самой негодной частью Украины, а когда Алексей пытался не соглашаться с ним, беззлобно ругал и его:
— Тай ты, бачу я, кацап, чего ж с тоби взяты? Держи-ка вожжи, а я пойду сосну тай похарчусь у тетенек.
Алексей охотно брал вожжи и длинное кнутовище.
Коренного не стегай, он этого не любит. Баловать начнет, так до заутра не доедмо. Ну, бувай!
Когда возница полез под полог, Алексей удержал его за полу:
Ты, хлопец, про хорунжего Щуся слыхал? Так это мой прадед...
Малый махнул на него рукой, видимо, не поверил. Вскоре из-под полога послышались возня и женский визг.
Бескрайняя зеленая степь покачивалась из стороны в сторону, серая полоса дороги уходила за горизонт, трели цикад стригли густой воздух, а над головой, в самой глубине небесной чаши, радостно кувыркался жаворонок.
Солнце нагрело макушку, и Алексей стал клевать носом. Чтобы не заснуть, он запел:
«Хай во, хай во поли тай жиньцы жнуть...»
На звуки песни вылез возничий:
— Ну их к бису, чертовок, спать мешають. — И браво подтянул: «А по пид горою яром, долыною козакы идуть...»
Они перепели все песни, какие знали, и смолкли лишь возле самой Рыбницы. Дорога запылила нещадно, пыль забивала нос и глотку.
— Проклятая пыляка, песню испортила, — весело сказал возница и хлопнул Алексея по спине: — А ты добрый хлопец. Будешь обратно ехать, выбирай четное число, эти дни мои. А про Щуся больше не ври никому. То ж герой, нам не чета. Уразумел?
Ах, так? Алексей запустил руку в тайный карман рубахи, извлек на свет тщательно завернутую, ветхую от времени бумагу.
— Читай, только из моих рук! — грозно велел он, и хлопец зашевелил губами.
— Дана хорунжему Ольвеопольского полка... — бормотал он, не веря своим глазам.
Дочитав бумагу, он поднял на Алексея восхищенный взгляд, выражавший готовность сделать для него все, что бы тот ни пожелал.
— Подержать дай...
Алексей покачал головой и убрал драгоценную грамотку.
— А я все равно всем скажу, что держал в руках пачпорт самого хорунжего Щуся!
— Говори что угодно. Да только помни, что людям почаще верить надо, даже если сам враль.
Хлопец хотел было обидеться, но у него не получилось.
Этого Алексей никак не мог ожидать — на постоялом дворе его ждала двуколка. Едва они остановились, как с козел двуколки франтоватый казачок начал выкрикивать:
— Господин Щусев! Есть господин Щусев?
— Это меня, — сказал Алексей и протянул попутчику руку.
— Простите, вельможный панэ, — забормотал хлопец.
— Да брось ты дурака валять. Будь здоров, говорю, — и Алексей спрыгнул наземь.
Едва пара рыжих английских лошадей выехала с постоялого двора, как Алексея охватило непонятное волнение, будто он предчувствовал, что здесь, на чужой для него стороне, должна решиться его судьба, должно произойти что-то такое, чего с ним никогда не бывало.
Напряженная озабоченность не покидала его, пока дорога вдруг не вынырнула на высокую зеленую кручу. Открывшаяся перспектива заставила забыть обо всем на свете: в тенистой глубине ложбины, заполненной зеленым буйством садов, виноградников, кукурузных полей, стеклом сверкала широкая река, ровно отражая солнечный свет. Подступавшие с запада холмы наползали друг на друга и разом обрывались у берега. По правую руку поля и сады изгибались веером, освобождая просторы для речного раздолья. Река привольно текла к морю. Панорама была столь величественна, что у Алексея перехватило дыхание. Не верилось, что в такой красоте можно жить.
Дорога вильнула и стала спускаться в овраг. Над экипажем с обеих сторон нависли темно-зеленые кроны буков.
Обедали в Сахарне в пять, и Алексей застал всех за столом. На обед по заказу Николая Кирилловича Апостолопуло были приготовлены куриные щи и мамалыга с медом. За столом прислуживала тетка Занофа, которая, появляясь с новым блюдом, наполняла первым делом до краев свою тарелку, а потом уж оделяла хозяев. В разговоры она не вступала: сели есть, так надо есть. Занофа даже по сторонам не глядела — ее внимание целиком поглощала еда.
Приезд незнакомого барчука пришелся Занофе не по вкусу. Непонятно было, чего это хозяева так радуются, а молодая хозяйка просто не сводит с него сияющих глаз. Но не прошло и получаса, как тетка сама стала глядеть на Щусева влюбленными глазами.
Она даже не очень сожалела о том, что от обеда ей ничего не удастся унести домой — у барчука оказался аппетит дюжего казака, который может несколько дней поститься, но зато уж если сел за стол, то берегись! Тетка Занофа с благоговейным ужасом все подкладывала ему новые порции курицы, а уж от мамалыги, которую гость взялся сам разрезать крученой суровой ниткой, его вовсе невозможно было оттащить.
— Дюжий работник, коли так ест! — заметила тетка, для которой, как для многих женщин, высшим удовольствием было кормить.
Глава IV
Лето в Сахарне
Инженер Николай Кириллович Апостолопуло наметил на лето обширные планы. Он твердо решил навести в имении своей жены Евгении Ивановны европейский порядок — провести водопровод, сделать ремонт во флигеле. А сад... Надо было что-то делать с садом, который раскинулся чуть ли не на сотню десятин, но одичал за время, пока Николай Кириллович учился и стажировался в Бельгии, а жена его путешествовала по Европе.
Прибывший но приглашению Евгении Ивановны гимназист, о котором Николай Кириллович знал лишь, что он сирота, но сирота с талантом, спал сейчас в комнате длягостей, хотя время утреннего чая уже наступило.
— Так объясни мне, дорогая, в чем его талант? — спросил муж.
— О, Николушка, ты сам уверишься: Алеша — это целый кладезь талантов, это удивительный юноша. Только будь к нему добр.
— Уж не влюбилась ли ты в него, дражайшая моя супруга? — лукаво спросил Николай Кириллович.
— Совсем немножко, самую чуточку. Но и ты полюбишь его, когда покороче сойдешься с ним.
В дверях столовой появился, приветливо глядя на хозяев, аккуратно причесанный, румяный гость. Он одернул шелковую долгополую рубаху, ладно облегающую егокрепкую фигуру, вежливо поклонился и произнес:
— Доброе утро... Господи, до чего же у вас здесь хорошо!
На свои слова он, казалось, не ждал ответа, но была в них такая открытость, такая приветливость, что трудно было не откликнуться.
Инженер сощурил глаза. «Либо ты, братец, артист, — подумал он,— либо еще не осознал себя как личность, а остался частью природы, то есть ребенком. И в том и в другом случае Евгении будет с тобой не скучно, значит, я смогу все лето спокойно заниматься делом». Удовлетворенный таким умозаключением, он протянул Алексею руку, а хозяйка указала ему место за чайным столом.
За чаем Николай Кириллович рассказывал о своих планах на ближайшие дни, больше обращаясь к жене. Алексей помалкивал и слушал как-то слишком уж заинтересованно, а когда стали вставать из-за стола, попросил у хозяина разрешения сопровождать его в этот день, обещая не докучать ему.
— Зачем это вам? — подивился Николай Кириллович. — У меня суета сует, труд, то есть проза и скука. Идите-ка лучше с Евгенией Ивановной на реку — там купальня, лодка... День-то, воздух-то какой! Я бы и сам... да не могу, дела!
— Вот и я не могу без дела. А у вас его здесь довольно, — твердо сказал Алексей.
Инженер в некоторой растерянности взглянул на жену, словно спрашивая, как быть. Она улыбнулась.
— Хорошо. Только, чур, не мешать мне, быть на полшага сзади!
Не прошло и двух дней, как Алексей стал для семейства Апостолопуло просто необходим. С достоинством взрослого человека, знающего себе цену, он выполнял поручения Николая Кирилловича в необъятной усадьбе.
Закладывались виноградники бургундской лозы на днестровском склоне. Апостолопуло внимал советам юного помощника. Тот говорил, как лучше расположить саженцы, чтобы прикрыть их от холодных ветров, вспоминая уроки отца, которые Виктор Петрович преподавал сыновьям, ухаживая за садом в Дурлештах.
Пологий спуск от дома к реке пестрел кривыми линиями тропинок. Алексей вызвался преобразовать склон. Две недели работники возили сюда на подводах дерн, ровно укладывали его. В зеленый ковер затейливыми лентами вплетались яркие гирлянды красной садовой герани и примул.
Не расставаясь с лопатой, Алексей придирчиво следил за работой, поправлял, показывал, как будто сам не один год занимался разбивкой газонов. Работа доставила ему истинное удовольствие. Все здесь делалось по его усмотрению: и затейливая тропа, выложенная природным молдавским котельцом, и удобные скамейки из тяжелых буковых плах, и две беседки над самой водой.
Когда все было закончено, Алексей с гордостью повел по каменной тропе Евгению Ивановну, показывая ей свои достижения в садово-парковой архитектуре.
— Это, конечно, не парк князя Боргезе, — говорил он, — но...
— Ах, Алеша, здесь все так трогательно и просто! Давайте сядем. Садитесь же! Скажите, где вы этому научились? Бездна вкуса. Это же сначала а было вообразить, ведь так?
— И так и не так, — Алексей задумался. — Видите ли, Евгения Ивановна, вместо красок у меня были дерн, герани, камень, плахи. Этими средствами я хотел сделать картину, чтобы она понравилась вам, вот и все.
— Но плющ не мог же вырасти за один день и увить беседки? А они словно вечно здесь стояли... — продолжала изумляться Евгения Ивановна.
— Это совсем просто. Видите вон тот орех, — он указал на ореховое дерево, что возвышалось средь буковой рощи. — Плющ почти задушил дерево, на нем уж и орехов не росло. Я залез на него, аккуратно разобрал стебли плюща, а потом пересадил его. Знаете, они крепкие, как суровье.
Алексей вытянул руку, показывая ссадины на ладонях, но тут же опустил ее, решив, что мужчине не пристало хвастать мозолями.
Лицо Евгении Ивановны выразило тревогу:
— Вы, Алеша, испортили себе руки. А вдруг вы не сможете играть, рисовать? Я скажу Николаю Кирилловичу, чтобы он не поручал вам грубой работы.
Алексей рассмеялся.
— Разве это грубая работа? — воскликнул он, вставая и с удовлетворением оглядывая плоды своих трудов.
Вечерами в доме Апостолопуло собиралась молодежь, часто звучал венский рояль — Евгения Ивановна играла виртуозно. Рояль сменяла гитара, и тогда из открытых окон освещенного зала неслись в пространство песни цыганских таборов, кочующих по днестровским берегам. Николай Кириллович прекрасно играл на гитаре, но петь не мог. Впрочем, к вечеру он так уставал, что не до пения и было. Да и недавняя болезнь напоминала о себе, и он, побыв среди гостей с полчаса, незаметно исчезал.
Тогда гитара переходила в руки Алексея, и никому уж не хотелось ни петь, ни плясать булгуреску. Алексею казалось, что он делает все точно так, как Николай Кириллович, — чисто берет аккорды, правильно держит гриф, да не пела гитара, хоть умри. Это было вдвойне досадно, потому что, по всеобщему признанию, его голос, сильный и бархатный, будто бы произошел из табора. Сам он до страсти любил заунывный цыганский напев и, до того, как услышал игру Николая Кирилловича, считал, что владеет гитарой вполне сносно.
Кончилось тем, что Алексей поехал в Рыбницу и там у знакомых цыган купил себе гитару. Украшенная шелковым бантом, она постоянно висела у него в изголовье, и он в любую минуту мог снять ее с гвоздя.
Евгения Ивановна даже несколько расстроилась оттого, что Алексей, увлекшись гитарой, забросил рояль. Пришлось объяснить ей, что он не разлюбил ни Листа, ни Шопена, чьи вальсы они с упоением прежде играли в четыре руки.
— Милая Евгения Ивановна, — улыбаясь, говорил он, — в рояле струн целый оркестр, а здесь я с семью струнами управиться не могу. Я должен их победить.
Однажды в дождливый вечер они сидели в зале втроем. Евгения Ивановна тоскливо поглядывала в окно, покрытое рябью, с каждой минутой все больше убеждаясь, что никого из гостей уже не дождаться.
— Ну, раз никто к нам не едет, Алеша, — сказал Николай Кириллович, — давайте мы постараемся для Евгении Ивановны.
Они подпоясались шелковыми кушаками, взяли гитары и, выдержав паузу, ударили по струнам. Куда девалась тоска, куда исчезли дождливые сумерки! Свечи загорелись ярче, заблестели глаза. Гитары зазвучали на два голоса. Мелодии то разбегались, то сливались, жок заполнил зал, музыканты, приплясывая, бросали на Евгению Ивановну зажигательные взгляды, и она, не в силах устоять, застучала каблучками по паркету. Вихрем рванулось ее шелковое платье, птицами взлетели тонкие руки. Все исчезло в стремительном кружении.
Когда на столе появилось шампанское, свечи уже догорели, и в их неверном свете колокольчиками прозвучалзвон высоких бокалов. Перепели все романсы, какие знали. Даже Николай Кириллович пытался подтянуть, когда — Алексей и Евгения Ивановна выводили на два голоса: «Нелюбить — погубить значит жизнь молодую...»
Спать разошлись счастливые, а утром Евгения Ивановна со встревоженным лицом постучала к Алексею: Николай Кириллович заболел.
Он лежал на высоких подушках, дышал с трудом, ночерез силу улыбнулся. Его борода свалялась, волосы, казалось, утратили блеск, под глазами легли тени.
— Доигрался поп на скрипке, — сказал он вместо приветствия и жестом пригласил Алексея сесть в кресло возле кровати.
— Чем я могу помочь? — спросил Щусев.
— Вам, Алексей, я не буду докучать своими недугами, все Евгении Ивановне достанется, — пытался пошутить Николай Кириллович. Но тут же лицо его сделалось серьезным: — Сегодня к нам приедет строительная артель — два каменщика и три плотника. За подряд уплачено вперед, так вы уж, голубчик, займите их. Надобно привести в порядок флигель. Отделать его желательно во французском вкусе. Возьмите в моем кабинете архитектурные альбомы, выберите интерьер по своему усмотрению, а потом зайдите ко мне посоветоваться. Меня это, верно, развлечет...
— Николушка, отпустил бы ты мастеров с богом, пропади эти деньги пропадом! — вмешалась Евгения Ивановна. — Если бы я знала, что ты за этим зовешь Алешу, я бы его не привела.
— А вот этого, Евгения Ивановна, я бы вам не простил, — строго сказал Алексей.
— Вы обязательно справитесь, Алексей Викторович, — сказал Николай Кириллович. — Извините, я устал, — и он закрыл глаза.
Алексей взял Евгению Ивановну под руку и тихо вывел ее из спальни. Она была расстроена, напугана.
— Это водопровод доконал его, ведь он начал уже поправляться. Если бы он не взялся бурить эти дурацкие скважины, рыть колодцы, а просто отдыхал, набирался сил, сейчас был бы здоров, — сказала она.
— Николай Кириллович поправится, уверяю вас. Ему еще так много предстоит сделать!
— И вы, Алеша, о том же! Как мужчины скучны, однако! — сказала она и быстро пошла прочь.
Алексей проводил ее глазами, а сам направился в кабинет и просидел над проектами, пока не позвали к столу.
К вечеру прибыли каменщики — два зверообразных мужика с тяжелыми рогожными кулями на плечах. Они напугали Евгению Ивановну одним своим видом. Хозяйка поторопилась тут же расстаться с ними, сказав, что комната во флигеле, где им предстоит работать, для них приготовлена.
Алексей строго сказал:
— Сегодня получите полуштоф водки... А второй — когда закончите работу. Таковы условия. Не согласны — простимся сразу!
— Да как же так, барин? Чтоб после работы с устатку, да не моги? — заупрямился ражий детина с небесно-голубыми глазами, с вихрами, что росли, казалось, прямо из бровей.
— В таком случае мы в вас не нуждаемся!
— Погодь, Панкрат, и ты, барин хороший, погодь! — сказал другой каменщик.— Нешто нам охота домой пьяные хари приносить, чай, семью кормить надо. Ты коль нашу работу пожелаешь наградить, так сам нам водки поднесешь, давай так поладим, — рассудительно предложил он.
— Где же остальные работники? — спросил Щусев. — Подряжали-то пятерых?
— А почто всем сразу здесь толочься, хозяйский хлеб задарма кушать? Мы обсмотрим, что да как, тогда и остатних призовем, — снова ответил второй мужик, помаргивая узкими глазами.
— Тебя как звать?
— Ефаний Кормильщиков.
— Из татар?
— Ярославский я. Слыхал небось про таких, а, барин? — мужик хитро улыбнулся. — Мы с тобой поладим. Я своим молодцам шибко-то выпивать не дам. Один Панкрат со слабиной, а остатние молодые, не хлебнули горя-то, чтоб его заливать. Да я пригляжу, пригляжу...
— Приглядывай! — строго сказал Алексей. — С тебя спрос будет.
Он отвел работников во флигель и собрался уходить.
— Ты, барчук, про полуштоф-то просто так, что ли, сказал? — крикнул вдогонку Панкрат.
— Пришлю! — бросил Алексей через плечо, а про себя с досадой подумал: «Эти наработают, век не разгребешь!»
Работники поднялись чуть свет. Из флигеля доносился треск, стук топора. Из распахнутых дверей вылетали подгнившие доски. Алексей заглянул в растворенное окно — в лицо ударила волна пыли, затхлости.
— Здорово, мужики! — бодро крикнул Алексей, но ответа не получил.
Ефаний, стоя на коленях, выстукивал полы. Даже не взглянув в сторону Алексея, он пробурчал:
— Не засть свет, барин!
На козлах, которые работники невесть когда успели сколотить, трудился Панкрат — колупал острой кельмой штукатурку. Куски ее с грохотом сыпались на пол.
— У нас здесь больной, — сказал Алексей, перелезая через подоконник в комнату. — Постарайтесь работать тише.
Ефаний отложил топор.
— Так что ж ты вечор-то не упредил? — укоризненно сказал он. — Слазь, Панкрат. Негоже так по больной-то голове стучать.
— Как же мы робить-то будем? — недоуменно спросил Панкрат.
Алексей неторопливо огляделся по сторонам, заглянул в зияющие дыры в полу, окинул взором порушенную штукатурку и сказал:
— В других комнатах картина примерно такая же. Впрочем, давайте пройдем по флигелю вместе и составим план.
— Ты, барчук, работу нам давай, а планы писать не наше дело, — сказал Панкрат.
— План писать — тоже работа, — улыбнулся Алексей.
В других комнатах, обращенных к реке, со стен и с потолка глядели черно-бурые кляксы плесени.
— Вот вам и французский стиль! — протянул Алексей.
За пыльным окном мелькнула знакомая белая тень, и он, оставив работников, поторопился за Евгенией Ивановной, вышедшей на утреннюю прогулку. Она обернулась на звук шагов.
— Алеша, все меня бросили! — печально сказала она. — Муж отослал, вы куда-то запропастились...
— Евгения Ивановна, милая, зачем вам этот флигель?
— Что, как? — удивилась она.
— Представьте себе, как красиво станет смотреться дом, если снести флигель, — заговорил Алексей, жестом как бы отсекая флигель. — В доме дюжина пустующих комнат, а вы не хотите расстаться с этим ни на что не пригодным помещением...
— Я не думала об этом, — растерянно сказала она.
— Доверьтесь мне, — продолжал Алексей, указывая на флигель. — Увидите, как оживет дом!
— Да делайте, что вам угодно. Только иногда уделяйте мне чуточку внимания...
Алексей побежал к работникам, бросив ей на бегу: «Благодарю!»
С того дня у Алексея не было ни минуты покоя. Дни понеслись в лихорадочном темпе, одни планы сменялись другими, и каждый новый казался верхом совершенства. То он задумал выстроить на месте флигеля ротонду, начертил план, и все с этим планом согласились. Потом сам от него отказался и спланировал открытую галерею в греческом стиле, а когда убедил хозяев в том, что она просто необходима, и от нее отказался.
Рабочая артель из пяти человек довершала между тем снос флигеля. Когда пространство освободилось, Алексей вдруг увидел, что самым лучшим решением было первое — открыть вид на дом, разбив на месте флигеля газон. Придя к такому выводу; Алексей растерялся: строительный зуд, который он разжег в себе, требовал разрешения, но получалось так, что он сам лишил себя возможности осуществить первую в своей жизни постройку. Невольно он вспомнил отца, заготовившего когда-то строительные камни, которые так и не нашли применения.
Николай Кириллович дружелюбно подшучивал над ним, называя его великим зодчим, и говорил, что Алексею первому из архитекторов удалось улучшить постройку, не растратив отпущенных средств. Алексей между тем загадочно улыбался и молчал. Он подолгу что-то обсуждал с Ефанием Кормильщиковым и до поры держал свои планы втайне от хозяев.
Однажды на вечерние «посиделки», куда ненадолгостал выходить Николай Кириллович, Алексей принес акварель на большом листе плотной бумаги. Евгения Ивановна, взглянув на нее, вскрикнула: среди зелени стояла удивительно грациозная сторожка из белого природного камня. Она была с односкатной крышей, с легким балконом и наружной лестницей, ведущей из сада на второйэтаж. Строение поражало простотой и неожиданно современными линиями. Не было нужды спрашивать, в каком месте Алексей собирался построить сторожку,— на рисунке был изображен знакомый всем уголок сада.
Николай Кириллович встал с кресла и принялся разглядывать рисунок.
— А вы уверены, что она будет так же хороша в натуре? — спросил он, не отрываясь от акварели.
— Она должна быть привлекательней, чем нарисована здесь, — со спокойной уверенностью ответил Алексей.
— В таком случае, — сказала Евгения Ивановна, — я знаю для нее более подходящее место... — Все обернулись к ней. — На южном склоне у дуба, там, где прежде была отцовская баня.
— Место в самом деле красивое, — заупрямился Алексей, — и его давно бы пора облагородить. Но что мешает построить там вторую такую же... или еще лучше?
— Лучше не может быть!
— Почему же не может? Может.
— Алеша, милый, — вмешался Николай Кириллович, — не надо другой. Постройте такую же, — сказал он так, какбудто бы первая уже стояла.
На рассвете Алексей уже был на строительной площадке. Он попросил рабочих аккуратно вынимать грунт под фундамент, чтобы не повредить ни одного кустика. Несколько дней подряд в сапогах, перепачканных глиной, с весело горящими глазами рыл он вместе с работниками котлован. А на дороге гремели телеги, груженные бутовым камнем, известью, песком. Каменная кладка велась всухую. Камни притесывались один к другому, чтобы потом, когда их посадят на раствор, кладка обрела крепость монолита.
Не было, казалось, человека, счастливее Алексея, когда он выбирал из груды нужный камень и волок его к котловану.
Ефаний Кормильщиков не раз говорил ему:
— Не барское это дело, Ляксей. Брось.
Но разубедить Щусева было невозможно. Работал он истово, тесал глыбы, как заправский каменотес, а если камень разваливался под ударами молотка, брался за новый и не успокаивался, пока не удавалось притесать камни вплотную, грань к грани.
Как послушный ученик, внимал он мастеровым. Они учили его разбираться в структуре камня, соразмерять силу удара, чувствовать крепость материала.
Наконец белый абрис фундамента появился на поверхности, Алексей сделался настолько придирчивым и дотошным, что Кормильщиков и тот не выдержал.
— Надобно край знать, Ляксей, за каким терпение кончается, — ворчал он. — Ты же как езуит какой. Нельзя!
Алексей сердито вывернул из кладки не понравившийся сему камень и отбросил в сторону:
— Здесь наше с тобой лицо, Ефаний, а оно должно быть чистым!
— Бог тебе судья, барчук, — сказал Панкрат. — Гляди, запью по твоей милости.
Угроза подействовала. Алексей улыбнулся и сказал примирительно:
— Мне с вами работать хорошо. Хочу, чтоб и вы были мною довольны. Договоримся так: если я нарисую на кладке мелком крест, значит, нужно переложить. Мы, братцы, художники, и пусть стена будет, как красивая картина, в которой камни играют.— Он поднял только что вывернутый камень: — Чувствуете, как груб и узором и цветом?
Панкрат разинул было рот, но слов подходящих не нашел, поскреб затылок, а потом со вздохом повторил:
— Ох, запью!
— Нам еще вторую сторожку возводить. Потерпи.
Алексей обедал с артелью прямо на траве. Он смеялся грубоватым шуткам, расспрашивал о жизни, о семьях. Постепенно он стал для артельщиков своим. Как ни странно, они полюбили его. Добился он этого прежде всего неподдельным интересом к работе, к секретам ремесла, к тем хитростям, которые у каждого были про запас, чтобы отличиться, сделать что-то лучше других.
Если кто-то затягивал перекур, рассказывая потешную историю, Алексей не сердился, не подгонял, а ждал, пока Ефаний Кормильщиков скомандует: «По местам!» Трудились на совесть. Лишь однажды Алексею пришлось применить меловой крест, когда кладка велась уже на лесах и подбиралась к верхней отметке. Однако никого этот крест не обидел. Целый ряд был переложен безропотно и даже с удовольствием, потому что работой гордились.
На всю жизнь у Щусева осталась благодарная память о той строительной артели. Она приняла его и поверила в него.
Лето пережило свой расцвет. Первые квелые листья срывал знойный ветер. По ночам полыхали зарницы. Запахло спелым хлебом.
У Апостолопуло начались заготовки на зиму. Дом наполнился суетой, у хозяев и прислуги обнаружилась масса неотложных дел, один лишь Алексей был в стороне от них. Поглощенный строительными заботами, он ничего не замечал. Казалось, он очнулся только после того, как обе сторожки были закончены: застеклены рамы, навешены двери и смазаны петли, покрашены крыши.
К середине августа в той сторожке, что выросла на месте заброшенной бани, Алексей устроил для артельщиков прощальный ужин. С позволения Николая Кирилловича он сам произвел расчет, а артельщики по старинному обычаю принялись подбрасывать его и кричать «ура!». Потом окропили водкой углы и уселись за стол.
Веселье шло шумно и бестолково. Наконец догадались вынести длинный стол на воздух, под дуб. Души наполнились благостью: в свете уходящего дня сторожка сияла изумительной белизной, и весь ее образ был трогателен и чист.
— Хорош бы мастер из тебя, Ляксей, с годами вышел, да, видать, пойдешь ты по какой-нито ученой части и позабудешь наше артельское ремесло...
Алексей хотел было протестовать, но Ефаний не позволил себя перебить:
— Чую я, сидит в тебе великий артист нашего дела, но нет еще в твоей душе понятия об этом. Вот кабы сподобился ты, милок, походить, поездить по Руси нашей, побывать в Переславле да в Великом Ростове...
— Что же, ты сам-то оттуда, да к нам подвинулся?
— А то, милок, что обчим интересом наделен. Уж как хочется всем сердцем удивиться, этого сказать невозможно!
До позднего вечера рассказывал Алексею Ефаний о чудесных творениях древних зодчих на далекой северной стороне. Щусев верил и не верил. Ему казалось, что нет городов красивее Киева и Одессы.
Наутро Щусев проводил артельщиков. Сразу почувствовалась пустота, навалилась усталость. Вечерами не хотелось больше ни играть, ни петь. И тогда он снова взялся за свой дневник-альбом и за акварельные краски. Новые его рисунки были как-то нервны, в них чувствовалась напряженность. Он рисовал и рвал листы, рисовал и рвал, пока от альбома не осталась одна обложка. Он уже был готов вовсе забросить это занятие, как Евгения Ивановна подарила ему набор пастелей и тисненый кожаный планшет с плотной французской бумагой невиданной белизны.
Пастельные рисунки Алексея, сделанные в преддверии осени 1890 года, долго украшали стены комнаты Евгении Ивановны и кабинета Николая Кирилловича.
В день прощания с Сахарной, когда Алексей уже садился в коляску, Николай Кириллович вручил ему толстый конверт со словами:
— Это, Алексей Викторович, лишь малая часть средств, которые вы мне сэкономили. Ваша работа, клянусь честью, стоит значительно больше. Прошу вас не омрачать наших отношений отказом.
Вмиг явилась мысль: этих денег, должно, быть, хватит, чтобы взять Навлика к себе, жить одним домом... Алексей с досадой дернул головой, не зная, как поступить. Лица супругов Апостолопуло выражали мольбу. Казалось, всякая возможность отказа отрезана. И все-таки он выпрыгнул из коляски, положил конверт на траву и, простодушно и весело глядя на Николая Кирилловича и Евгению Ивановну, сказал:
— Милые мои хозяева, да ведь это невозможно!
Потом он вскочил в коляску и велел кучеру трогать.
Кишинев задыхался от зноя. Дороги превратились в горячие реки, в которых вместо воды, казалось, тек измельченный песок. За медленно движущимся тарантасом тянулся ленивый пыльный шлейф, который долго висел над дорогой.
Чуть ли не в один день со Щусевым в город приехала передвижная выставка. На заклеенной афишами и объявлениями тумбе перед входом в Ромадинский сад висело сообщение, что в зале Благородного собрания открывается галерея произведений известных живописцев Малороссии и Бессарабии. Наскоро смыв дорожную пыль, Алексей поторопился в галерею.
В залах было многолюдно, но тихо. Видно, жара истомила людей, и они бесстрастно взирали на стены, равномерно передвигаясь от полотна к полотну. Редким подарком была эта выставка для Кишинева, но радость рассеивалась от картины ленивого созерцания.
В глубине зала Алексей увидел молодого человека в форменной студенческой тужурке. Он стоял в позе Чайльд Гарольда возле темного полотна в простой деревянной раме. Посетители равнодушно проходили мимо и байронического юноши, и полотна.
— Гумалик! Саша! Как я рад вас видеть! — воскликнул Щусев, подойдя ближе.
— Алеша, Алексей! Да вас просто не узнать, — сказал Гумалик, дружески протягивая руку.
Алексей увидел в петлицах Сашиной формы эмблему Академии художеств и чуть не захлебнулся от восторга.
— Это ваше полотно? — спросил он, приготовясь расхвалить все, что бы ни увидел.
— Ах, Щусев, Щусев...— с неожиданной печалью произнес Гумалик. — Если бы я раз в жизни создал такое полотно, я бы, верно, умер от счастья. Подойдите ближе, вот так. И молчите, пока ваше сердце не заговорит.
Глаза невольно стали погружаться в темную глубину красок: сквозь синий и черный цвет по всему пространству изображенной ночи начали проступать просветы на переднем плане. Ожила и тускло заблестела темная река. На дальнем берегу, где одиноко сиял раскаленный глаз окна, преодолев дрему, кажется, шевельнулась ива на легком ветру. Рыбацкая сеть, повешенная для просушки на тын, покачивала поплавками. Звезд на небе почти не было видно, и Щусев со всей неотвратимостью почувствовал: сию минуту должен заорать петух, возвещая новый день.
Ошеломленный, даже испуганный, повернулся Алексей к Гумалику.
Увидев его встревоженные глаза, Саша сказал:
— Один лишь Николай Васильевич Гоголь мог проникать в такие глубины жизни. Не правда ли, это пробуждение прекрасно?
Алексей снова взглянул на полотно и восторженно, будто сообщая великую тайну, прошептал:
— «И сказал он: да будет свет»... Кажется, здесь из мглы небытия рождается начало бытия... Вокруг еще ничего нет, одна немая холодная твердь. Но она хранит в себе искру жизни, начало труда и надежды...
Он пролепетал все это и сразу поник, затих в глубокой задумчивости, а с Гумаликом произошло что-то невообразимое: он страстно схватил руку Алексея, восторженно сжал ее и воскликнул:
— Браво, Щусев! Вы разгадали загадку этой тьмы, разгадали лучше, чем я. Только истинный художник может постичь эту тайну! Как хорошо вы заметили: ничего еще нет, мгла преисподней и — искра света, заронившая сюда начало жизни.
Гумалик вызвался показать Алексею всю галерею. Он водил его от одного полотна к другому, рассказывал об основах живописного ремесла — о принципах построения, приемах проникновения в натуру... Он щедро делился своими знаниями, но Щусев отвечал каким-то робким вниманием, вежливыми кивками и рассеянными взглядами. Откуда Гумалик мог знать, что созерцание полотна Куинджи отняло у Щусева все силы, ошеломило его и придавило, открыв власть художника над душами людей.
И вместе с тем обладание этой властью требовало от художника такой жертвы, на которую невообразимо трудно отважиться человеку: труд, воля, даже мечты, чувства, каждое движение души, все мысли, взгляды, дыхание собирались воедино, чтобы дать жизнь холсту. И никому потом не будет никакого дела до того, что художник почти истребил, опустошил свое сердце и теперь должен по крохам собирать его, готовясь подвигнуть себя на новое, вероятно, еще более трудное.
Когда шли по затихающему городу, Алексей поделился своими мыслями с Сашей, и тому стало понятно, почему так робок и тих был Щусев весь вечер. Гумалик подумал, что на его глазах решается судьба, по всей видимости, незаурядного человека.
Следующие три дня, до самого отъезда Александра в Петербург, они все время бывали в галерее, разбирали полотна, отмечая удачи и просчеты живописцев, анализировали композиционные решения, стиль, манеру письма.
В галерее Гумалик познакомил Щусева с гимназистами выпускного класса Федоровичем, Райляном и Березовским из 1-й кишиневской классической гимназии, которая всегда относилась ко 2-й гимназии несколько высокомерно.
— Подавать надежды все мы мастера, господа, — говорил Гумалик.— Посмотрим, что из нас выйдет. А то, что из Алексея Щусева получится заметная в искусстве личность, я совершенно уверен. Мой вам совет и вам, Щусев, тоже: запомните, что подавать надежды — это то же самое, что подавать золотой поднос пустым. Торопитесь действовать!
Весь последний гимназический год прошел у Алексея Щусева в тревогах, в волнениях — он решился связать свою судьбу с Академией художеств. Он много и серьезно рисовал, изучал литературу по искусству, которую, сдержав обещание, присылал ему Гумалик. Репетиторство было оставлено. Теперь Алексей проводил свободное время в кругу единомышленников, где велись постоянные споры, шло яростное соревнование в образованности, эрудиции.
Часто питомцы 1-й гимназии объединялись против него, и ему стоило большого труда отстоять свою точку зрения, защитить свои пристрастия. Рисунков своих он никому не показывал, опасаясь критики новых единоверцев. Как обнаружилось в скором будущем, это было серьезной его ошибкой.
Глава V
Время надежд и тревог
В актовом зале 2-й кишиневской классической гимназии шло торжество: директор Николай Сергеевич Алаев вручал выпускникам аттестаты зрелости. Каждую весну Николай Сергеевич переживал чувство гордости и одновременно печали, каким неизменно сопровождалась эта процедура. На него глядели счастливые недавние питомцы, которые будто бы сразу повзрослели и уже казались чужими, хотя вчера еще были такими своими. Давно ли он был уверен, что знает о них все, знает все их думы, планы, желания. И вдруг — чужие!
Когда он, пожимая их крепкие руки, вручал красивые аттестационные листы, нить за нитью как бы обрывались незримые связи, и на душе становилось пусто, уныло. Судьба учителя в такую минуту представлялась неблагодарной, скорбной. Он словно по частям зарывал в землю свое сердце, не зная наперед, что взойдет из этого посева.
Особенно сильной болью отзывалось то, что эти вдруг сразу ставшие такими самоуверенными юноши открыто демонстрируют свою независимость, вроде бы даже жалеют директора и учителей за то, что судьба предназначила им навеки остаться в том мире, с которым они торопятся порвать все связи. Слова благодарности, которые они произносили, обещания не забывать гимназию, педагогов казались директору неискренними.
— На сцену приглашается господин Щусев, — произнес Николай Сергеевич и взял со стола очередной аттестат.
Алексей легко взбежал по ступенькам, приблизился к директору, глядя ему в лицо открыто и доверчиво. Он с неподдельной почтительностью пожал протянутую ему руку тихо сказал:
— Николай Сергеевич, приглядите, пожалуйста, за Павликом, ему без меня здесь будет трудно.
— Непременно, Алексей Викторович, непременно! — в этих дежурных словах Алексей услышал теплоту и нежность. — Не беспокойтесь о своем брате, стройте свою судьбу крепко, а мы в меру сил поможем вам.
Алексей не удержался и обнял директора.
Зал встрепенулся, ожил и в ту же секунду взорвался овациями, радостными возгласами. Щусев сбежал со сцены, а директор одернул вицмундир, поправил орден Станислава с мечами, выпрямился, стал официален и срог.
В тот вечер Алексей сел писать прошение:
«Представляя при этом аттестат зрелости, выданный мне из Кишиневской 2-й гимназии за номером 436, и коо с аттестата отца за номером 11684, свидетельство о моем рождении и крещении за номером 1173, свидетельство приписке к призывному участку за номером 1522 и копии с вышеозначенных документов, имею честь покорнейше просить Правление Академии подвергнуть меня испытаниям для поступления в Академию художеств по Архиктурному отделу, а затем зачислить в студенты Академии.
При этом честь имею присовокупить, что сведения о моей политической благонадежности будут доставлены в Правление.
Июня 17 дня 1891 года».
Алаев составил Щусеву умную и обстоятельную характеристику, в которой сквозь сдержанный тон просвечивала личность ученика, упорно и целеустремленно идущего по избранному пути.
С отъездом Алексей решил не откладывать. На прощальную вечеринку пришли Федорович и его друзья Березовский и Райлян. Гостей смутил богатый стол. В ряд выстроилась батарея бутылок с легким виноградным вином — подарок из Сахарны. Этот ряд возглавляла высокая, в золотой фольге, бутылка французского шампанского, остывающая в серебряном ведерке со льдом. Подле стояли высокие хрустальные бокалы. Конфеты, сушеный виноград, кусочки вяленой дыни горками лежали на двух подносах.
— Господа, — сказал Райлян, — мы должны внести свою лепту в это пиршество, в противном случае я отказываюсь участвовать.
— Друзья! Сегодня мой вечер. Вам же никто не помешает устроить свой и пригласить меня. Довольно об этом! Прошу всех к столу! — сказал Алексей и попросил Райляна открыть шампанское.
Вспенились бокалы.
— Да здравствует Щусев! — воскликнул Федорович, и все откликнулись: — Ура!
— Так в Петербург? В академию? — спросил Райлян.
— А вам не страшно, Щусев? — поинтересовался Березовский, щуря острые глаза. — Из толп желающих попадают единицы.
— У меня безвыходное положение, друзья, — ответил Алексей, весело улыбаясь и вновь наполняя бокалы. — Другой судьбы для меня нет! Выпьем за удачу!
— Пусть ветер удачи наполнит ваш парус! — провозгласил Федорович.
— Наш парус, друзья!
Алексей распахнул окно, и в комнату, вздувая занавеску, ворвалась волна напоенного запахами цветов воздуха. Молодые люди столпились у окна. Сверху на них глядела густая синева, кое-где уже проколотая белыми точками звезд.
За окном прогремела пустая пролетка.
— Идея, господа! — крикнул Березовский и выпрыгнул в окно. — Эй, любезный! — крикнул он извозчику и пустился вдогонку.
Через минуту он кричал с улицы:
— Берите припасы и за мной! Щусев, не забудьте гитару! Я подрядил экипаж на целую ночь.
— На волю! Под звезды! Славно! — закричал Федорович.
Стол мгновенно опустел, нелепо топырились карманы модных, только что сшитых сюртуков — в них натолкали конфет и прочего припаса. Целую ночь то на Инзовой горе, то на берегу Быка звучали студенческие песни под аккомпанемент щусевской гитары.
Утром Алексея провожали брат и сестра — Мария Викторовна приехала за Павликом, чтобы забрать его на лето к себе в Русешты. Носле бессонной ночи Алексея одолевала дрема. Мария Викторовна была собранна и деловита. Она давала Алексею последние наставления, советовала, как устроиться в Петербурге, требовала писать ей каждую неделю.
Павлик завороженно глядел на своего кумира. Когда Алексей сказал ему:
— Ты не забывай меня, братец, — мальчик расплакался и прижался к сестре.
Алексей растерялся, попытался успокоить Павлика, но Мария Викторовна мягко отвергла его попытки:
— Алеша, он сам успокоится.
Алексей крепко обнял сестру, прижал к себе Павлика, и так они стояли тесным островком, пока не подали поезд.
До Киева Алексей проспал, привалившись к окну. В Киеве он вышел на перрон, сонно огляделся по сторонам и снова забрался в вагон спать. Бодрость вернулась к нему лишь через сутки, когда поезд приблизился к Москве. В Москве Алексей предполагал задержаться дня на три, чтобы как следует рассмотреть первопрестольную, полюбоваться ее памятниками, а также обязательно побывать на Ходынском поле, куда, по словам Райляна, были перевезены Фрагменты Всемирной парижской выставки 1889 года.
Москва с первых же шагов произвела на Щусева ошеломляющее впечатление. В бестолковой разноголосице пестрой толпы он сразу потерялся, ослеп, оглох. Одни люди куда-то бежали сломя голову, другие едва шевелились, как сонные мухи. По кривым булыжным мостовым с грохотом катили лихачи, обгоняя ломовых, отовсюду неслась задорная и злая ругань. Дома в городе стояли как будто в столпотворении — то густо, то пусто. Никакого сравнения с нарядной кокетливой Одессой, с величавым Киевом.
Перед отъездом сестра вручила Алексею целых сто рублей. Из этих денег он потратил полтора рубля на модные французские туфли и ваксу для них. Остановился он в «Славянском базаре», в просторном угловом номере, где из одного окна была видна стена Китай-города, а из другого — еще не сбросившее лесов чичаговское здание думы и кусочек Красной площади. В открытые окна врывались крики, шум, грохот кровельных работ, но Щусев не жаловался — звуки стройки были для него даже приятны.
А Москва... Она жила своей жизнью — веселой, безалаберной, суматошной, и ей не было никакого дела до проезжего провинциала.
В первый свой приезд Щусев так и не сумел войти во вкус московской жизни и увез с собой смешанное с иронией чувство снисходительности к древней столице, которая нисколько не горюет о былом величии. Однако свой след в памяти Щусева она оставила. Он часто вспоминал, как стоял на Красной площади перед храмом Покрова «на рву» и как по спине его пробегала холодная дрожь. А Кремль, окончательно взявший его сердце в плен? Каждый вечер Кремль тянул его к себе, как магнит, и каждый раз отпускал его, оставляя в нем необъяснимое ощущение досады, будто бы снова ему не удалось разгадать волшебную загадку.
Французская выставка, размещенная в бывших казармах Ходынского военного поля, запомнилась яркими полотнами французских художников. На всю жизнь запало в душу полотно Даньяна Бурве «Крестьянская свадьба». Повеяло чем-то родным и светлым. Видимо, свадьба на юге Франции во многом схожа с молдавскими свадьбами, которые Алексей не раз видел. Картина эта вскоре была куплена в галерею братьев Третьяковых.
Москву он покидал без сожаления, но впечатления от нее еще долго не оставляли его.
26 июня 1891 года Алексей наяву увидел долгожданный сон. Какими бледными оказались его мечты о Петербурге, его представление о великом городе, сложившиеся еще в глубоком детстве под впечатлением висевших в отцовском кабинете и в столовой гравюр с видами Банковского моста на Екатерининском канале, Исаакия, Медного всадника. Воочию все предстало другим, ошеломляющим воображение: линейная перспектива Невского проспекта с выстроившимися в шеренгу дворцами и зданиями напоминала строй дворцовой гвардии, сияющий позументами и знаками отличия. Но весь этот богато изукрашенный ряд не смел сравниться в величии и гордости с Адмиралтейством.
Очарованный юноша бродил по городу, поминутно останавливаясь и замирая от блаженного ощущения наплывающей со всех сторон красоты. Грация и изящество сочетались с мощью и величием. Сердце наполнялось гордостью от сознания, что это тоже Россия, ее драгоценность, ее история. Какими чистыми, праведными должны быть здесь люди: ведь они постоянно видят все это! Он искренне завидовал каждому бедному петербуржцу, который богат уже тем, что живет тут.
Ноги сами привели его к глядящим в вечность сфинксам на набережной — известным, по рассказам Гумалика, ориентирам Академии художеств. Здание академии оказалось строгим, неприступным. Непривычная робость охватила его. Он собрался с духом и отворил тяжелую, с медными накладками дверь, что горела на солнце, как алтарь в престольный праздник.
Долгое время Щусев благодарил судьбу за то, что поспешил заблаговременно прибыть в академию. Узнав, что он допущен к конкурсным экзаменам, Алексей отправился в скульптурный музей академии, и испуг пронял его с головы до пят: образцы конкурсных работ, развешанных постенам, все до одного показались ему недостижимыми.
В тоске и смятении бродил он по залу, чувствуя себя чужим, никому не нужным. Со всех сторон на него глядели мертвым взглядом статуи. Казалась невероятной сама возможность оживить их на бумаге, как это делают другие.
Он потерялся в пространстве зала. Было тихо, пустынно, лишь корпели над своими рисунками в разных углах двое или трое его сверстников.
Перед копией скульптурной группы «Лаокоон» сидел щупленький черноволосый мальчик и рисовал в альбом скорбное, обращенное к высоким сводам зала бородатое лицо. Щусев встал за его спиной и принялся следить за движением карандаша. Заметив Алексея, юноша недовольно передернул плечами и снова склонился над рисунком.
— Пришли работать, так работайте! — услышал Алексей строгий голос.
Он обернулся — перед ним стоял невообразимо высокий, тощий как жердь человек с седой козлиной бородкой и колючими глазами.
— С чего прикажете начать? — спросил Алексей.
—Покажите ваши рисунки, — повелительно сказал наставник.
Щусев предупредительно протянул кожаный планшет — подарок Евгении Ивановны — с последними своими рисунками.
Наставник, выпятив острую бороду, стал перебирать рисунки, не задерживаясь ни на одном из них.
— Скудно, молодой человек, если не сказать — убого! — таков был приговор.
Алексей похолодел.
Сидящий неподалеку юноша не сумел сдержать усмешки, чем вызвал сердитый взгляд наставника.
— Займите вот это место и попробуйте-ка изобразить руку Давида с пращой. Светотени, штриховки не надо, только контуры. Судя по вашим рисункам, вы не чувствуете линии. Работайте!
Наставник удалился, оставив Алексея в полной растерянности: уж чем-чем, а линией-то, как ему казалось, он владел. Не успели растаять гулкие шаги, как к Алексею подскочил черноволосый юноша и быстро сказал:
— Я Элькин, а вы?
— Щусев.
— Будем без «господ»? — предложил Элькин.
— Пожалуйста, будем.
— Вы напрасно расстроились, Щусев. Честное слово, зря. Вы получили у Карла Христиановича удовлетворительный балл — «убого». Я заработал — «бездарно», но у него есть еще и — «безнадежно». Дайте-ка ваши рисунки.
Элькин внимательно просмотрел листы и сказал:
— Все сходится. Единственно, что у вас более или менее прилично выглядит, это соразмерность деталей. У вас четкий контур, линией вы владеете гораздо лучше, чем объемом. Теперь вы понимаете?
Алексей ничего не понимал.
— Поясню: Карл Христианович Штоль придерживается такой методы: отыскивает вашу сильную сторону и сбивает с вас спесь, заставляя совершенствоваться в том, что вы умеете, чтобы было, от чего с вами танцевать. Считайте, что нам с учителем повезло. Он очень добрый человек, готов возиться с нами, не жалея времени.
— Но для чего же тогда мне рисовать руку? — недоуменно спросил Алексей.
— Господи, да затем, чтобы отработать контур, неужели непонятно? Не упрямьтесь, делайте, как он хочет, — сказал Элькин и отправился на свое место.
Алексей обошел постамент с копией микеланджеловского Давида, примеряясь, долго искал точку, с которой бы Давид понравился ему. Его смущал, как ему казалось, презрительный взгляд этого обнаженного красавца. Этот взгляд мешал ему сосредоточиться, собраться с мыслями. Он перетащил кресло за спину статуи и — о счастье! — увидел напряженные мышцы плеча и предплечья, то есть то, что и интересно в руке, — ее красоту и силу.
Он устроился поудобнее и взялся за карандаш. Незаметно пришло всегда дорогое для него состояние глубокого самопогружения, когда ты всем существом как бы сливаешься с натурой, начинаешь чувствовать ее кончиками пальцев. Он двигал свое кресло вслед за светом солнца, льющимся из просторных окон, и рисовал эскиз за эскизом, убирая готовые рисунки в планшет.
— Разве такая рука способна поразить Голиафа? — усльшпал он за спиной голос Карла Христиановича.
— Но я ведь только начал этот рисунок, — ответил Щусев.
— Что же вы делали все это время?
Алексей встал и протянул планшет. Борода наставника снова выдвинулась вперед, в тонких нервных пальцах зашуршала бумага. Он выдернул откуда-то из-под лацкана золоченый карандаш, покрутил им над рисунком, провел над плечом Давида изломанную линию. Потом взял другой рисунок и через минуту сказал:
— Здесь уже точнее.
И приказал:
— Завтра в девять. Будете рисовать ногу!
Алексей сел, распрямил затекшую спину и впился взглядом в ту единственную поправку, что сделал учитель. Это был уже не его рисунок. Рука Давида налилась силой, напружинилась. Казалось, она уже начала свое разящее движение.
Алексей вдруг почувствовал, что у скульптуры и у рисунка совершенно разные средства и что лишь гений Микеланджело мог вселять жизнь и в холст и в мрамор. Ему показалось, что между ним самим и искусством стоит вовеки непреодолимая стена.
Усталый, измученный, он провел беспокойную ночь в комнате, которую снял. С первыми лучами солнца надежда вновь вернулась к нему. До вступительного экзамена оставалось почти два месяца — срок немалый. Но если он за десять лет не приблизился к мастерству... Нет, он все же не будет ставить на себе крест. Он научится рисовать как следует.
В залах скульптурного музея народу все прибывало. Теперь приходилось являться в музей заблаговременно, чтобы занять удобное место и на целый день погрузиться в работу. Алексей лихорадочно и упорно трудился, рисуя статуи, головы, бюсты.
Лишь спустя месяц он позволил себе передышку. Целый день он не брался ни за карандаш, ни за акварели, бесцельно слонялся по городу, вглядывался в лица незнакомых людей и мысленно рисовал их портреты. Из кипы рисунков и акварелей, сделанных в музее, он отобрал три удачных наброска и долго разглядывал их, убеждаясь, что время потрачено не впустую.
Карл Христианович как бы исподволь подталкивал его к тому порогу, который прежде казался ему непреодолимым. Все три наброска были сделаны с головы Аполлона, знакомой Щусеву с раннего детства. Но только теперь он пришел к удивительно простому и убедительному выводу: не спеши портить бумагу, вникни в натуру, четко определи для себя главные ее черты, доверься своему глазу, разуму и сердцу, ибо выше судей для тебя нет. Засыпмая, Алексей почувствовал себя готовым к новому броску.
На следующий день он был собран и сосредоточен, в руке ощущалась решительная твердость, сердцем владели уверенность и покой.
Когда Щусев заканчивал рисунок головы Дианы, к нему тихо подошел Штоль и встал за спиной.
— Вас почему вчера не было? — спросил он вместо приветствия.
— Я подумал, что человеку необходимо в какой-то момент остановиться и поглядеть, куда идешь.
Карл Христианович взял его рисунок, принялся рассматривать.
— Кажется, вы начинаете понимать, что рисунок — основа искусства. Но, ради бога, проводите линию смелее, побольше доверяйте себе, лишь тогда проявится ваша индивидуальность...
До наступления вечера Алексей сделал еще два рисунка, оттенил штриховкой лицо и, пожалуй, впервые за все это время был доволен своей работой.
Случайно заглядывая в рисунки других, он уже мог с первого взгляда ценить их по достоинству. Кому-то из сверстников он охотно приходил на помощь. В музее он чувствовал себя старожилом.
Вскоре Алексей стал позволять себе временами пропускать подготовительный класс. Вместо этого в погожие дни он рисовал скульптуры в Летнем саду или уезжал на целый день в Петергоф на этюды и там у каскада, сидя с подветренной стороны, рисовал полюбившегося ему Самсона, размыкающего пасть льва.
В ту пору у Щусева родилась и на всю жизнь осталась любовь к скульптуре как к необходимой части архитектуры в ее высших образцах.
Вечером на Пятой линии Васильевского острова, где Алексей поселился по рекомендации сестры, горело два-три фонаря. Не верилось, что неподалеку ярко сияют огнями аристократический Невский, Большая и Малая Морские. Алексей лежал в постели и в мыслях продолжал упиваться красотами столицы, любуясь ее площадями,улицами, театрами и дворцами и мечтая, что, став архитектором, он сделает таким же прекрасным свой Кишинев.
Между тем пора вступительных экзаменов неотвратимоприближалась. Огромные залы скульптурного музея ужеедва вмещали молодых людей. Одни шли к испытаниям сгордой самоуверенностью, другие, как на заклание. Щусевхолодно и трезво оценивал свои возможности, готовясьвстретить предстоящее во всеоружии.
Наступило 20 августа — день экзамена по рисунку иживописи. Перед поступающими поставили гипсовую голову старика с пустыми глазницами. На рисунок было отпущено два часа. Все вокруг схватились за грифели. Алексей попросил разрешения подойти к скульптуре, осмотрел — ее со всех сторон, потрогал выпуклый лоб, вгляделся в сплетение волос на голове, на бороде и, чуть повернув голову лицом к окну, вернулся на место.
Рисовал он не торопясь, тщательно прицеливаясь, обдумывая каждый штрих.
Он знал, что от поступающих на архитектурное отделение требуются прежде всего четкость и точность рисунка, в отличие от художников, которым необходимо вдохнуть в мертвое изваяние жизнь. Однако он позволил себе
тут услышал за спиной взволнованный шепот:
— Что вы делаете? Вы испортите рисунок! Сдавайте как есть, лучше не будет, уверяю вас!
Карл Христианович решительно забрал у Щусева лист и велел ему приниматься за акварель или за работу маслом — на выбор.
Учитель передал рисунок в комиссию, что сидела на возвышении за длинным резным столом и откровенно скучала в ожидании. Кое-кто даже дремал, прикрыв глаза ладонью. Комиссия состояла из пожилых и очень старых людей чиновного обличия с орденами на шее, на груди, в петлицах.
Все оживились, разглядывая опус первого смельчака, до времени закончившего работу. Рисунок понравился точностью исполнения, верным композиционным решением, и Карл Христианович ободрил Щусева улыбкой.
К вечеру Алексей узнал, что допущен к следующему экзамену. Теперь предстояло пройти испытания по математике и физике. В этих дисциплинах он чувствовал себя уверенно.
26 августа 1891 года Алексей Щусев стал студентом первого курса архитектурного отделения Академии художеств.
Когда он увидел, сколь мала группа счастливцев, попавших в академию, его удивлению не было конца; многие из тех, кто, по его мнению, владел рисунком значительно лучше, чем он, остались за воротами. И куда подевались самоуверенные гордецы! Зато юркий, неунывающий Элькин оказался рядом. Он пребывал в радостном возбуждении.
— Вот уж за кого я бы ломаного гроша не дал! — сказал он, глядя на Щусева и улыбаясь во весь рот. — Да не сердитесь вы, я шучу. А все же упрямству вашему можно позавидовать. То, с чем вы пришли, не идет ни в какое сравнение с тем, что вы представили на экзамене. Знаете, ваша работа, вероятно, будет оставлена в музее академии.
— Откуда вы знаете? И как вы могли видеть мою работу?
— Держитесь ко мне поближе, тоже будете все знать, — сказал Элькин и задорно засмеялся. — Например, я знаю недорогого, но очень добросовестного портного. Нам ведь нужна студенческая форма, вы об этом подумали?
Те отношения, что сложились между ними, дружбой назвать было нельзя. Они были просто приятелями, каждый стремился сохранить независимость. Но на всю жизнь они остались добрыми знакомыми.
И вот — студент! Мечта сбылась. Грядущее, хоть его и нелегко было представить себе, не пугало: ведь главное сделано — он здесь, в академии. Казалось, что дальше его ждут ровные ступени восхождения к высотам истинного искусства, что впереди — радостное, свободное творчество, жизнь, полная красоты и фантазии.
Но первые же аудиторные занятия будто специально были направлены на то, чтобы от таких мыслей даже памяти не осталось. Слушая почтенных профессоров, Щусев понял, что ты сможешь назвать себя обладателем великой тайны архитектурного ордера, если по осколку колонны сумеешь восстановить в воображении исчезнувший храм во всей его изначальной красоте. С кафедры на новоиспеченных студентов как из рога изобилия сыпались специальные термины. Поначалу казалось, что вовек не найти между ними связующую нить.
С тяжелой головой возвращался Алексей вечером в свою похожую на келью комнатку, с опустошенным сердцем валился на кровать. Даже ночь не приносила облегчения: снились архитравы, триглифы, метопы, абстрагалы. Утром он снова подставлял понурую голову под обстрел терминами.
Так продолжалось до той поры, пока не попалась ему книжка полувековой давности — «Учебное руководство по архитектуре» Свиязева. Профессора, в большинстве своем воспитанники Берлинской академии художеств, об этой книжке не упоминали, но именно она помогла Щусеву сбросить с себя весь тот терминологический груз, который он добросовестно пытался вывезти и если не сбросить, то, во всяком случае, тащить его с легкостью.
Архаичным, но чистым русским языком, с пленительной простотой излагались в руководстве каноны архитектуры:
«Характер зданий греческих, — писал Свиязев, — имел три главных выражения: первое — простоты, твердости, силы; второе — нежности и грациозности; третье — красоты и величия...
От соединения в систему размеров, форм и украшений для выражения какого-либо из трех предположенных характеров произошли в греческой архитектуре три порядка распределения и обогащения частей зданий, три ордера архитектуры — дорический, ионический и коринфский.
Сообразно тому, что должна была выражать общая идея здания, греки пользовались тем или другим ордером».
В этих словах как бы показывался путь от ощущения красоты к деталям архитектурного ордера, а от всего этого — к восприятию великих творений зодчих Эллады.
Алексею хотелось смеяться и петь от радости. Господи, до чего же ясно и дорого сердцу проникновенное, мудрое слово! Он читал книгу Свиязева с упоением, а закончив, принялся читать заново. В голове выстраивались в стройную систему колонны, фризы, архитравы, становясь частью торжественных композиций, прежде непостижимых.
Он нашел противоядие от схоластики, ему уж не страшны были бесконечные тирады и панегирики с россыпями терминов. Душа переполнялась благоговением к великим зодчим ушедших эпох.
Близилась первая петербургская зима Щусева. Стоял сырой ветреный ноябрь. Город ожидал наступления зимних холодов.
По повелению конференц-секретаря академии графа Ивана Ивановича Толстого готовилась небывалая за всю историю Академии художеств выставка. О ней велись бесконечные разговоры. Библейские, салонные, пасторальные мотивы академических работ отступали под напором демократических идей, проникших в русское искусство. Рушилось привычное академическое благообразие: залы академии предоставлялись — кому? — передвижникам, на которых официальная критика вылила столько желчи!
С трудом сдерживал негодование профессорский состав: низкая реалистическая живопись пагубно повлияет на учебный процесс, подорвет эстетические основы, внесет смуту в мятежные умы юных питомцев академии!
Открытие выставки ожидалось большинством с нетерпением, а иными с ужасом. Выставка произвела впечатление вулканического взрыва: утверждались новые принципы искусства, новые формы, новая техника. В живописи устанавливался новый взгляд на русскую историю, русский народ. Центром выставки стало только что завершенное полотно Ильи Репина «Запорожцы, сочиняющие письмо турецкому султану». Яркая, бьющая через край сила лучилась от каждого персонажа картины, начиная от атамана Ивана Серко и кончая похожим на веселого беса старым казаком.
Будто огнем обжигало это полотно академическую профессуру. Большинство профессоров ежилось, вглядываясь в это «варварское» творчество, и торопилось прочь. Техника письма, композиция были безукоризненны. Но боже, что за образы, что за вакханалия красок!
Из-за могучей голой спины дюжего запорожца высовывался сморщенный беззубый сатир, заливающийся ехидным смехом. Остриженный в кружок писарь был, пожалуй, единственной фигурой, которая не оскорбляла академического ока. Остальные же — и стар и млад,— что веселой гурьбой высыпали на полотно, являли такое многообразие бесшабашной удали, что становилось тошно.
— Чему могут научить подобные художники! — возмущались приверженцы академического стиля, и возмущениям их не было конца.
Представленные на выставке полотна Шишкина тоже остались непонятными. Дремучий лес — какая здесь может быть высокая поэзия?
Выставка воспринималась администрацией академии в большинстве как курьез, как кошмарный сон, который надо забыть по возможности скорее. Никто тогда не мог предположить, что репинские и шишкинские работы одним фактом своего появления на выставке в академии уже начали формирование нового художественного мировоззрения.
В студенческой среде «Запорожцы» пленили всех. Юные художники азартно бросились подражать Репину. С «Запорожцев» делались многочисленные копии, на вечерах разыгрывались сцены из запорожского быта, показывались «живые картины». В душе Алексея Щусева оживали семейные воспоминания, казалось, проснулась родовая память. Каждый день он ходил на свидание с картиной Репина, напитывался ее атмосферой, жил в окружении ее образов, постоянно испытывая гордость за свою причастность ко всему и всем, кто изображен на полотне.
Это произошло 15 декабря в полдень после занятий по черчению и геометрии. Алексей пришел в галерею на свидание со «своим» полотном. Он стоял спиной к окну, так, чтобы блики не слепили его. Казалось, он слышит шум Запорожской Сечи, голоса, ржание коней, разносящееся по всему острову Хортица, ощущает запахи разогретой солнцем травы, разгоряченных тел, конского пота. Всем своим существом он погрузился в созерцание. Казалось, он был в окружении оживших предков. Наконец он отошел утомленный.
Он приблизился к картине Шишкина «Утро в сосновом лесу», на которой тогда еще не было изображено медвежьего семейства. Взгляд скользнул вслед за ранними солнечными лучами по коричневым стволам мастерски написанных деревьев. Вдруг словно кто-то подтолкнул его: да ведь он уже бывал в этом лесу, именно здесь, у поваленной молнией сосны! Удивленный, он оглянулся по сторонам.
В высокий проем дубовых дверей вошли двое — большой бородач с воспаленными глазами, под которыми набрякли синие мешки, и маленький подвижный человек с аккуратно подстриженной бородкой клинышком. Раньше он видел их только издалека. Это были столпы передвижников Шишкин и Репин.
— Иван Иваныч, Иван Иваныч, — сыпал словами Репин. — Ну, когда художника при жизни понимали?
— А Васю Сурикова, а вас, любезный? Что вы на это сказать можете! Мое «Утро», может быть, лучшее, что мне удалось сделать. Я, может, и в жизнь-то пришел затем, чтобы «Утро» свое написать. А вы с Савицким предлагаете мне его испортить. Не дам!
Шишкин, казалось, едва двигал губами, когда говорил, а голос его между тем прокатывался рокотом по всему огромному залу.
— Бог с вами, Иван Иваныч, я не настаиваю. Но вот что я бы вам предложил. В тот эскиз «Утра», который вы мне давеча показывали, Савицкий пусть впишет своих медведей. Эскиз-то чего жалеть?
— А вы сами-то видите здесь этих чертовых медведей? Видите? — спросил Шишкин, и Репин в ответ уверенно тряхнул головой.
Они стояли возле картины. Алексей не понимал, что они могут разглядеть, почти упираясь лицом в холст. Он с обожанием глядел в их спины и боялся дышать.
— Черт с вами! — тряхнул кудлатой головой Шишкин. — Пусть малюет здесь. Придется мне, видно, другую песню петь. Я уже и сюжет подглядел у матушки природы. И название есть — «Корабельная роща». Только уж туда я ни медведей, ни жирафов не пущу!
— Вот и ладно, Иван Иваныч, вот и увидите, что борто ваш сосновый оживет и слава вам достанется великая. Помяните мое слово — народная слава, добрая!
— Ну, не знаю, — примирительно сказал Шишкин, и они пошли из зала, переговариваясь на ходу.
Долго потом еще Щусев вспоминал этот их разговор.
Зима выдалась морозная, злая. На улице Алексей мгновенно начинал мерзнуть. Но даже мечтать о теплой шинели он не мог себе позволить. Те деньги, что дала сестра, были истрачены, а те, что она присылала, шли на плату за обучение, жилье и за более чем скромный стол.
Алексей с ужасом думал, что без репетиторства не прожить. Видно, придется, решил он, сократить часы рисования в музее, а иногда и пропускать регулярные занятия. Во всяком случае, чем-то надо жертвовать. Он уже более полугода живет в столице, а еще ни разу не был в театре. Хорошо, хоть в Русский музей студентов академии пускают бесплатно.
В пору тяжелых раздумий о будущем он неожиданно получил официальное письмо от Кишиневского городского попечительского совета, в котором сообщалось, что в память заслуг Виктора Петровича Щусева перед городом по решению земского попечительского совета Алексею Викторовичу Щусеву назначена благотворительная стипендия в триста рублей годовых с обязательным представлением рапорта об успешном прохождении учебного курса. Означенная сумма будет выслана незамедлительно по получении сведений об успеваемости. И никакой сопроводительной записки!
Он знал, кому обязан этими заботами: волна благодарности к директору гимназии Алаеву охватила его. Тут же он сел писать ему письмо, но долго не мог найти нужного тона, верных слов. Лишь когда само собой написалось «спасибо», потекли слова — горячие, искренние.
К первой сессии он готовился истово, рьяно, не делая себе никаких послаблений. Его работы были безукоризненно четки, выступления на коллоквиумах деловиты и содержательны. Профессора часто ставили его другим в пример. Ровный и веселый нрав, простота в общении притягивали к нему сверстников. Вскоре он стал негласным главой студенческой компании. Все знали, что в случае чего Щусев всегда охотно придет на помощь.
После зимней сессии в Кишинев ушел рапорт, в котором сообщалось, что студент Щусев «обнаружил отличные успехи и по всем предметам получил полный балл». Спустя две недели на его имя были присланы обещанные триста рублей. Такой суммы ему еще никогда не приходилось держать в руках. Она сулила благополучное существование. Он сразу сменил свою тесную комнатушку на просторную — с двумя окнами и высоким потолком — да заказал теплую шинель с барашковым воротником.
Теперь вечерами у него собиралось шумное общество. Бесконечно подогревался самовар, о который грели руки только что вошедшие. Временами звучала гитара, пели романсы, вели бесконечные разговоры об искусстве, о будущем.
Став стипендиатом, Алексей открыл для себя оперу. Теперь он мог позволить себе сидеть в партере в окружении нарядной публики. Мариинский театр всегда собирал полный зал. Здесь он впервые услышал «Хованщину» Мусоргского. На Мусоргского пришли истинные знатоки, горячие поклонники национального искусства, среди которых он чувствовал себя своим. Воспитанный на украинских и бессарабских мелодиях, юноша вдруг потянулся к музыке, открывающей глубины русской истории.
Русская старина — как могла она оказаться созвучной его сердцу? Видимо, существовала внутренняя связь между мятежным духом запорожцев и неистовой преданностью старозаветному укладу жизни, за который погибал род бояр Хованских на Мариинской сцене. Так или иначе, но растревоженная душа Алексея была очарована силой и мощью таланта Модеста Петровича Мусоргского. Трижды слушал Алексей оперу, выучил наизусть многие арии и хоры, но каждый раз, придя в театр, испытывал новое волнение.
В Мариинском театре он впервые увидел и классический балет. Однако классический танец показался ему манерным, кукольным, будто танцовщики задались целью показать анатомию своего ремесла. «Неужели здесь скрывается что-то, чего мне не дано понять?» — изумлялся он, оглядывая бешено аплодирующую и кричащую «браво!» публику.
Если он хочет стать эстетически образованным человеком, он должен понять, в чем идея танца, почему так любят балет многие люди. И он упрямо ходил на балет, все более и более раздражаясь.
Как-то раз Алексей попал на «Спящую красавицу». Мысленно он попытался построить из локальных рисунков танца целостный образ, примерно так же, как древнеримский архитектор Витрувий учил строить из архитектурного модуля образ колонны, а затем и целого храма.
Незамысловатая сказочка, положенная в сюжетную основу балета, не мешала, а, наоборот, помогала ему в этой работе. В тот вечер ему мало что удалось. Вскоре он забыл о своих попытках расчленить танец на отдельные движения и позы, все более очаровываясь его пластикой, красотой, динамикой. Танец свободно входил в него, окрылял, завораживал.
Теперь вместе со всеми он исступленно бил в ладони, кричал во весь голос «браво!» и сожалел, что не удосужился купить цветов, чтобы бросить их под ноги тем, кто на его глазах творил это волшебство. За комбинацией линий, ритмов, поз он научился видеть картину движущейся жизни, прекрасной в своей основе. Но оказалось, чтобы это увидеть, надо отвлечься от подробностей, стереть случайные черты, выучить азбуку и забыть о ней, углубившись чтение.
Он пришел к убеждению, что балет — это великое искусство, рождающееся на глазах и на глазах умирающее.Как живое воспоминание о нем остается в душе трепетный и томительный восторг. Он познал истину: балет учит искусству видеть и чувствовать. А именно это было для него самым главным в ту пору жизни.
В разгар весенних экзаменов пришло приглашение от семейства Апостолопуло провести каникулы в Сахарне. Алексей поблагодарил и вежливо отказался. Лето он решил посвятить Павлику, от которого потоком шли грустные письма — Павлик тосковал о брате. Отвечая на его письма, Алексей старался ободрить его, вселить в него веру, что все будет хорошо. Сам он тоже тяжело переживал разлуку.
Когда они встретились, Павлик, как маленький, повис у него на шее и долго не разжимал рук. Вместе с младшим братом Алексея встречал старший, Сергей, только что закончивший университетский курс. Он стал землеустроителем-почвоведом. Сергей сам попросился служить в Бессарабию и уже успел сменить студенческую форму на вицмундир и фуражку с эмблемами землеустроительной службы.
Братья сердечно обнялись. Сергей первым заговорил о новостях искусства, но какую бы тему он ни затронул, будь то романы Достоевского или новая постановка Дягилева, Алексей встречал каждое его суждение в штыки. Все три дня, что братья провели вместе, прошли в отчаянных спорах о судьбах и назначении искусства. Им положил конец лишь приезд в Кишинев Евгении Ивановны Апостолопуло.
Она появилась в доме Баскевичей, где остановились братья, такая же свежая и красивая, какой Алексей увидел ее в первый раз. Просто и сердечно она обняла Алексея, расцеловала в обе щеки. Он стал пунцовым, сконфузился, потупил глаза. Присутствовавший при этой встрече Сергей изумленно глядел на молодую красавицу, отказываясь что-либо понимать. А она, отодвинув от себя Алексея, продолжала держать его за руки и не спускала с него смеющихся глаз.
— Именно таким, Алеша, я вас и хотела увидеть, — говорила она. — Нет, вы даже лучше, чем я себе могла представить. Да не прячьте глаз, вот так. Господи, достанется же кому-то такое сокровище!
— Да будет вам, Евгения Ивановна, — бормотал Алексей. — Право же, неловко...
— Так почему, скажите мне, вы отказались провести с нами лето? Неужели вас кто-то любит больше, чем мы с мужем?
— Да я бы с радостью, — ответил Алексей, — но мы с Павликом едем на лето к сестре, она ждет нас.
— Сестра ваша ведь служит, не так ли?
— Конечно.
— И вы уверены, что вам с братом будет у нее лучше, чем у нас, что она сможет уделять вам все свое время? Вот что, милый Алексей Викторович, если вы с Павликом немедленно не соберетесь к нам, то мы с Николаем Кирилловичем смертельно на вас обидимся. Так и знайте! Я вот сяду здесь и буду сидеть, пока вы не будете готовы. Муж не простит мне, что я, видя вас, не сумела уговорить ехать к нам. Что ж вы стоите? Идите собирайтесь. Нельзя женщину заставлять себя ждать.
Она вынула из волос заколку, сняла украшенную кисеей белую шляпу и села в кресло, а Алексей все стоял как истукан.
Порешили на том, что он с Павликом поедет на несколько дней в Кугурешты навестить Марию Викторовну. Оттуда братья направятся в Бендеры, а потом на пароходе поднимутся по Днестру и прибудут в Сахарну.
Много лет спустя член-корреспондент Академии архитектуры СССР, существовавшей в нашей стране в 1934 — 1956 годах, профессор Павел Викторович Щусев напишет в своих воспоминаниях:
«От этого периода жизни А. В. у меня ясно врезалось в память только лето 1892 года, когда он на днестровском пароходе повез меня из Бендер в Сахарну — большое и красивое имение близ Рыбницы. Здесь жила Евгения Ивановна Апостолопуло, знавшая А. В. еще в то время, когда он был репетитором в кишиневском доме ее родственников Качулковых.
На речном пароходе я путешествовал впервые, и мы с большим интересом наблюдали палубную жизнь и любопытные путевые сцены. А. В. тут же зарисовывал их в свой путевой альбом, с которым никогда не расставался.
Е. И. Апостолопуло, женщина культурная и образованная, очень интересовалась, любила и ценила А. В. и часто приглашала к себе в деревню еще раньше.
Очень ценил А. В. как подававшего надежды работника и обаятельного человека и муж Е. И. Апостолопуло (Николай Кириллович Апостолопуло), инженер, учившийся в Бельгии.
Именно в Сахарне А. В. и построил по его поручению свои первые архитектурные произведения: две каменные сторожки в большом виноградном саду. Я живо помню эти небольшие двухэтажные строения из бута и молдавского котельца в садовом французском стиле, с деревянным балконом и наружной деревянной лестницей. В одной из сторожек мы прожили все это лето...»
Окруженный заботами старшего брата, вниманием хозяев и гостей, без конца наезжавших в Сахарну, Павел на всю жизнь запомнил счастливое лето в Сахарне.
«С большой грустью, а я — даже со слезами, — писал он потом, — покидали мы ранним августовским утром этот гостеприимный дом, уезжая в Кишинев и беспрерывно оглядываясь на извилистое ущелье Днестра. Наполненное туманом, освещаемое утренним солнцем, оно постепенно. исчезало вдали».
Позади остались полузаброшенный монастырь, который так любил рисовать Алексей, долгие задушевные беседы с Евгенией Ивановной, ночные катания на лодках по залитой луной реке, прогулки по молдавским селам Гедерим и Выхватинцы, раскинувшимся на горах. Здесь Алексей пытался профессиональным взглядом проникнуть в народное искусство, понять истоки обаяния молдавского народного творчества. Он подолгу рассматривал росписи на стенах в хатах — ярких петухов с красной ягодой в клюве, незамысловатый орнамент обводов окон, кропотливо и любовно выполненный разноцветными точками.
Не уходили из памяти сосредоточенные, исполненные достоинства лица танцоров, отплясывающих булгуряску под деревенский оркестр. Каждый из трех музыкантов умолкал по очереди, чтобы через мгновение взорваться бешеной руладой. Под эту взрывную музыку четко и слаженно двигались девушки и парни в пестрых рубахах, в каракулевых шапках, сбитых на затылок.
После сахарнинского лета академия показалась истинно казенным домом. Ордер, его величество ордер оставался альфой и омегой академического учебного процесса.
Петербург, с его строгой регулярной планировкой, оставил великое множество свидетельств работы знаменитых русских архитекторов, таких, например, как Растрелли или Воронихин. Но в городе жили и строили и архитекторы второй руки — в большинстве своем скрупулезные, педантичные, но бесталанные. Именно они чаще всего становились наставниками архитектурно-художественной смены.
Архитектурное развитие, казалось, остановилось на рубеже сороковых годов, упорно сопротивляясь передовым силам общества, понуждающим сдвинуться с мертвой точки. Все настойчивее звучали требования демократической общественности о необходимости перемен.
«Везде, где только преподается архитектура, — писал в то время профессор Б. Н. Николаев, — те неуклюжие и неприменимые к жизни каноны, которые были созданы 400 лет тому назад, считаются непогрешимыми и до сего времени. Очень естественно, что молодежь... становясь лицом к лицу с требованиями жизни, создает вещи сырые и несовершенные... Жизнь и ее требования и логика как бы не существуют для преподавания художественной архитектуры».
Реформу Академии художеств начали не архитекторы, а живописцы — Шишкин, Куинджи, Киселев и другие во главе с Репиным. Проект нового устава предусматривал прежде всего качественно изменить состав профессуры, призвать в академию новые силы, учредить мастерские, вкоторых студенты старших курсов, пользуясь свободой выбора тем, будут искать новые пути в творчестве. Положение устава об отмене заданных тем вызвало бурное сопротивление старых профессоров, и лишь настойчивостьКонференц-секретаря академии И. И. Толстого помоглареформаторам отстоять его.
Прежде молодые художники обязаны были изображать в своих дипломных работах никогда не виданных лиц, нежизненные ситуации. В ходу были такие, например, темы, как «Явление трех ангелов Аврааму» или «Харон перевозит души усопших через Стикс». Теперь студенты получили право выбирать тему самостоятельно.
В архитектурном классе появились энергичный ясноглазый Леонтий Николаевич Бенуа и совсем уж молодой профессор Григорий Иванович Котов, назначенный руководителем курса, где учился Алексей Щусев.
Внешне, казалось бы, все осталось по-прежнему: те же помещения, тот же строгий порядок посещения, та же проверка заданий, те же экзамены. Но атмосфера стала совершенно иной. Даже стены старинного здания академии сделались по-новому привлекательными, приветливыми.
Непривычно располагающим, заинтересованным былоотношение профессоров нового призыва к питомцам. Новые наставники пришли оттуда, где пульсировала живая мысль, они не умели и не хотели глядеть на студентов свысока, в чем поднаторели «олимпийцы», целым отрядом ушедшие на покой, доживать свой век в оставленных за ними академических квартирах.
Разъединенные прежде студенты — скульпторы, живописцы, архитекторы — вдруг почувствовали тягу к единению, к братству. Студенты старших курсов будто позабыли о своем превосходстве над младшими и даже гордились, если удавалось снискать их любовь и признательность.
Особым расположением пользовался старшекурсник Иван Жолтовский, великолепный знаток архитектурных ордеров и деталей. Его знаний прежние профессора даже побаивались, так как он владел их оружием не хуже, чем многие из них. В его объяснениях были стройность и красота.
Беседы с Жолтовским были для Щусева и его сверстников тем же, чем для музыкантов уроки сольфеджио. То, что прежде представлялось как самоцель, выступало в подлинном свете — настойчивое изучение деталей, пропорций воспринималось как путь к художественно целостной архитектурной композиции.
Когда язык архитектурной классики становится ясен до мелочей, в памяти встает наиболее ценное из наследия прошлого. Лишь тогда начинает вырабатываться чувство гармонии пропорций, изысканности линий. Иначе невозможно уяснить суть того или иного архитектурного ансамбля, связь его отдельных частей, значение каждой детали и общей идеи сооружения.
Взаимопроникновение разных художественных сфер имело огромное значение для развития искусства в целом. Особенно благотворным оказалось влияние живописи на скульптуру и архитектуру. Студенты наслаждались свежим дыханием перемен и, окрыленные страстной верой в будущее, готовили себя к нему.
Захваченный могучим талантом Репина, Алексей написал прошение о допущении его, Щусева, к занятиям живописью и, получив разрешение, попросился в репинский класс. Человек, на которого Алексей взирал, как на божество, стал его учителем. Но Щусеву он уделял совсем немного внимания, не понимая, как можно совмещать с чем-то живопись. Из своего многочисленного класса Илья Ефимович выделял Малявина, Рылова, Кардовского и Рериха, который был лишь на год младше Алексея. На возраст Репин не глядел, его интересовал только талант.
Алексей почему-то упорно верил в свою исключительность. Работал он настойчиво, упорно, однако, сверяя свои рисунки, к примеру, с малявинскими, находил, что ему никак не удается то самое «чуть-чуть», которое не имеет названия, но которое и есть искусство.
Он был раскован, общителен, весел, первым смеялся над своими неудачами и, казалось, не умел быть завистливым. Чужими работами он восторгался искренне, от всего сердца, все пытаясь понять, где же ключ к той тайне, которая делит мир надвое — на вечное и тленное, настоящее и вторичное. Обладая сердцем художника, он так по-детски радовался, если кому-то из его новых друзей удавалось хотя бы прикоснуться к настоящему, что готов был забыть себя.
Ученики Репина, в отличие от своего патрона, с большой охотой помогали Алексею. Кардовский даже советовал ему подумать о переходе на отделение живописи.
— Лишь когда за вашей спиной сгорят все корабли, вы узнаете, художник вы или нет, — говорил он.
В смелости Алексею было не отказать, но разом отбросить три академических года на архитектурном отделении казалось ему неразумным, тем более что официального предложения от профессора Репина о переводе он не получал. Но слишком уж притягательной была сама мысль. Она все сильнее стучалась в сердце, не давала ему покоя и наконец полностью овладела им. К этому времени Щусев сблизился с Николаем Рерихом и поведал ему о своих планах.
Вскоре было объявлено, что в академии состоится первая послереформенная выставка студенческих работ, в которой могут принять участие все желающие. Щусев решил, что это его шанс, и стал готовиться к выставке. Каждую свою работу он детально обсуждал с Рерихом, бракуя одну за другой.
Однажды в натурном классе Алексей вроде бы случайно сделал удачный рисунок с обнаженной натуры. Друзьям показалось, что это именно то, что нужно. Рисунок вправили в простенькую рамку и отнесли в конкурсную комиссию. С этим рисунком Щусев теперь связывал свои надежды, и, как оказалось, не напрасно — работа была включена в экспозицию. Осталось последнее, чего все ждали с особенным нетерпением: выставку будет оценивать сам Илья Ефимович Репин.
Настороженной притихшей кучкой двигались студенты за своим метром, ловя каждую перемену в его лице, каждый его кивок, каждое слово.
Вот он подошел к щусевскому рисунку, остановился, пристально посмотрел и весело сказал:
— Сразу видно, что рисовал архитектор! Как хорошо построена фигура! — И пошел дальше, бормоча на ходу: — Впору живописцам поучиться...
Эти слова были для Щусева как гром среди ясного неба. «Значит, все-таки архитектор, значит, не удалось, значит... значит, и не следует от архитектуры отказываться». Вместе с чувством грусти Алексей испытал и облегчение.
Так он вернулся на стезю архитектора.
Между тем профессор Григорий Иванович Котов, несмотря на свое расположение к Щусеву, стал выражать неудовольствие, замечая у Алексея пренебрежение архитектурными занятиями ради живописных. Но тот заверил профессора, что туман рассеялся, что больше он не станет строить никаких иллюзий.
— И верно, — поддержал его профессор Котов. — Довольно сидеть на двух стульях, а то вдруг однажды окажетесь на полу.
Видимо, занятия в классе рисунка сделали глаз острее, а руку тверже. Алексей быстро догнал своих однокурсников и снова занял среди них первенствующее положение. Экзамены он выдержал легко. В Кишинев был направлен очередной благожелательный отзыв.
На этот раз вместе с благотворительной стипендией Щусев получил письмо от директора гимназии Алаева с приглашением принять посильное участие в закладке нового здания 2-й кишиневской классической гимназии. Алексей показал письмо профессору Котову и попросил его совета.
— Счастливая возможность вам в руки идет, а вы раздумываете, — сказал профессор. — Участвовать в строительстве такого общественного здания, как гимназия, — лучшей практики, кажется, и быть не может. Поезжайте, друг мой, пощупайте, почувствуйте здание не снаружи, а изнутри. Истинному архитектору без этого нельзя. Зодчий прежде всего строитель.
Щусев догадывался, что директор гимназии не ждет от него многого, что им движет прежде всего желание помочь Алексею материально, дав дополнительную возможность заработать.
Однако настроение, с каким Алексей ехал на родину, нельзя было назвать иждивенческим. Он должен, он обязан отработать то, что дал ему родной город, что сделали для него люди, которые в него верят.
Двадцатилетний студент с головой, как ему казалось, переполненной отрывочными архитектурными знаниями, едва нащупывающий свой жизненный путь, Щусев не мог знать, что его архитектурная деятельность уже началась.
Строительная площадка нового здания 2-й гимназии предстала перед ним в самом неприглядном виде. Шли вскрышные работы, горы грунта высились то здесь, то там, землекопы орудовали кайлом, лопатами, ломами. Но странное дело — картина разрытого котлована не отталкивала его, а, наоборот, манила. Ободряли воспоминания о Сахарне. Алексей был почти уверен, что найдет здесь применение своим знаниям и способностям.
Подрядчик Антон Пронин, которого артельщики называли хозяином, важно ходил по стройке с папкой чертежей под мышкой, которую, как шутили рабочие, он наночь кладет под подушку. Его вера в чертежи была неколебима, по его представлениям, папка с чертежами была сродни волшебной палочке, только замедленного действия.
Распоряжением земской строительной комиссии Щусев был назначен практикантом — производителем работ. Чутье счастливо подсказало ему, что подрядчик долженхотя бы внешне играть на стройке главенствующую роль,Поэтому Алексей встречал все его советы с полным почтением, а в ответ получал преданность и доверие.
Одесский архитектор Мазиров, автор проекта гимназии, — был в Кишиневе всего лишь раз, когда выбирали площадку. Он передал заказчикам чертежи и был таков. ВскореАлексей понял, что серьезность и внешняя неприступностьПронина происходят от его растерянности перед сложностью предстоящего. Многие чертежи были беглыми и требовали проработки.
Пролазив целый день по ямам и канавам, Алексей углубился в чертежи, просидев над ними до полуночи, но,кроме головной боли, ничего не высидел. Проснулся он с первыми лучами солнца и, еще не встав с постели, принял решение не ходить на стройку, пока не разберется с фундаментом. Вспомнилось золотое правило древних зодчих: «На устройство подошвы и подделов ни трудов, ни иждивения жалеть не должно».
Выпив чаю, он сделал рабочий чертеж фундамента на листе большого формата. Обеспокоенный его отсутствием, пришел Пронин, спросил, здоров ли он, и обшарил глазами стол. Алексей понял, что больше всего подрядчика волнуют чертежи, и улыбнулся.
— Садитесь-ка поближе, Антон Никитич. Давайте обмозгуем вот этот чертеж. Узнаете фундамент?
Пронин надел очки в оловянной оправе и уткнулся носом в линии. Алексей созерцал его наморщенный от натуги лоб, слушал сосредоточенное сопение.
— Вот тута надо ба углу́бить, а? — сказал подрядчик и ткнул заскорузлым коротким пальцем туда, где штриховкой была показана глубина заложения фундамента.
Алексей четкими цифрами обозначил размеры заглубления и спросил:
— Так?
Пронин посопел еще немного и произнес:
— Да ты, паря, свеча! Мы с тобой чего хочешь сможем. Владей проектом. Доверяю! А это, — он снова ткнул пальцем в щусевский чертеж, — себе заберу. Большая бумага, с ней работать сподручней!
Он вытащил из папки чертежи проекта и передал их Алексею, а в папку вложил новый рабочий чертеж, завязал тесемочки и привычно зажал папку под мышкой.
— Пойду я. А ты смотри не растеряй...
— Я с вами, Антон Никитич.
Работал Алексей так, будто на нем одном лежала ответственность за стройку. Очень вежливо просил он рабочих исправить огрехи и не отходил, пока не убеждался, что его поняли правильно. Обходительность на стройке любили, старались вежливому барину угодить, а он ни разу не забывал поблагодарить, похвалить артельщиков, словно они оказали услугу ему самому.
В то лето было не до рисования, стройка отнимала все силы. Он настойчиво вживался в нее, и временами ему казалось, что стройка растет вместе с ним. Из земли уже показался красный гребень фундамента, строители вскоре стали сооружать подмости и леса, в огромных ямах гасилась известь, скрипучие тяжелые телеги, запряженные лохматыми ломовыми лошадьми, свозили на стройку деловой лес, тесаный камень, кирпичи. Громоздкими четырехручными пилами нарезали артельщики толстые доски для черных полов: двое пильщиков стояли на подмостях наверху, а двое — внизу. Опилки обильно засыпали им плечи, лица, лезли в глаза. Дюжие молотобойцы дробили огромными кувалдами дикий камень. Стройка гудела, визжала, гремела, ее сумбурный оркестр был слышен далеко окрест.
Алексей научился определять на слух, где произошла заминка. Случалось, они оказывались в одном месте с Антоном Прониным, не сговариваясь об этом. И у них всегда находились вопросы друг к другу: сталкиваясь лицом к лицу, они согласно управляли огромным организмом стройки. Алексей изыскивал способы выказать уважение к «хозяину». Не было случая, чтобы между ними возникло разногласие.
Благодарный Антон Никитич тоже не скупился на похвалы, что, однако, не мешало ему взваливать на Алексея помимо дневной еще и вечернюю работу. Но практикант только радовался.
Когда Пронин отправлялся в земство за кредитами, то неизменно брал с собой и Алексея и там во всеуслышание так расхваливал его, что временами вгонял в краску.
Лето промелькнуло как один день. Оно запомнилось работой с утра до ночи, ежедневными вечерними купаниями в реке Бык, где Алексей смывал с себя дневную пыль и грязь, крепким сном без сновидений.
Как приятно было воскресным утром надеть свежую, пахнущую лавандой белую сорочку, легкую светлую студенческую тужурку и знать, что целый день принадлежит тебе.
Однако воскресный день принадлежал больше Павлику да еще одному человеку.
Та девочка, что в детстве защищала его рисунки от нападок Гумалика, — Машенька Карчевская — перешла уже в выпускной класс кишиневской женской гимназии. Из нескладного подростка она превратилась в задумчивую принцессу, поглощенную неведомыми никому мыслями. В ее больших глазах будто замер трудный вопрос к себе самой, она прислушивалась к себе, удивляясь какому-то тайному свету, что, казалось, исходил от нее. Вся она была воплощением чистоты и прелести.
Когда она музицировала, вышивала или читала, вопросительное выражение не сходило с ее лица. Лишь когда она пела или увлеченно рассказывала о чем-то, Алексей узнавал в ней прежнюю Машеньку, но стоило ей спросить о чем-нибудь, как ему начинало казаться, что его ответ не будет услышан: выражение ее тонкого красивого лица не менялось, чтобы он ей ни говорил. Эта загадочность привлекала. Она не утомляла, а как бы завораживала, звала куда-то.
Городской сад переустраивался, велись посадки привезенных неведомо откуда уже довольно больших сосен и елей. Когда Павлик отправлялся спать, Алексей с Машей чаще всего шли в городской сад. Они подолгу гуляли в молодых аллеях, любуясь звездным небом.
В такие ночи Алексея охватывало страстное желание совершить что-нибудь необыкновенное. Но в городском саду, где уже давно смолкла военная духовая музыка, было пустынно и покойно. Они поднимались на Инзову гору и, наглядевшись вдоволь, как гаснут в дальних хатах огни, медленно возвращались в город.
Эти воскресные прогулки казались им все чудеснее. В их совместном молчании были и обещание, и надежда, и убежденность, что их ждет долгий и счастливый путь.
А утром стройка снова забирала его на целую неделю.
Строительная артель работала полный световой день — от зари до зари. Выходцы из села, артельщики работали на лесах так же, как на поле в пору страды. Рабочий день длился двенадцать, а то и шестнадцать часов, и ни у кого этот заведенный порядок не вызывал ни удивления, ни протеста. Прекрасную школу прошел Алексей в то незабываемое лето.
За несколько месяцев были построены фундамент и цокольный этаж. Опоясанная строительными лесами стройка застыла на зиму. У сезонного режима была и положительная сторона: основа будущего здания, еще не обремененная тяжестью этажей, зрела, набиралась крепости, превращаясь в монолит. Не случайно целые десятилетия спустя над множеством старых зданий надстраиваются дополнительные этажи, и старые стены легко выдерживают их тяжесть.
Глава VI
У истоков
Алексей вернулся в Петербург, когда занятия в академии были уже в полном разгаре. Он привез с собой аттестационный лист, в котором от лица предводителя Кишиневского земства студенту Щусеву выражалась благодарность за усердие и умелое применение профессиональных знаний, проявленные при закладке здания 2-й кишиневской классической гимназии, а также просьба направить Алексея Викторовича Щусева в следующий каникулярный период в Кишинев для продолжения строительной практики.
За лето лицо Алексея утратило юношескую нежность. Он выглядел представительнее, чему очень способствовали борода и усы. Одни лишь глаза сохранили молодую пытливость. В них как бы застыло удивление, ожидание открытий, которые обещала жизнь. Колебания в выборе жизненного пути, казалось, навсегда остались позади. Всем своим видом он производил впечатление человека, который знает свой путь.
У профессора Котова появились виды на Щусева.
Реформа академии коснулась не только программы обучения архитекторов, повернув их лицом к нуждам строительства. Новый контингент профессоров составили не просто знатоки своего дела — это были деятели в самом высоком смысле слова. Наряду с преподаваниемони продолжали свою общественную практику, исподволь прививая своим питомцам желание служить благу страны.
Профессора Бенуа и Котов, непременные члены государственных строительных советов и комиссий, подыскивали для себя в студенческой среде деятельных помощников. В. В. Стасов писал в книге «Искусство в XIX веке»: «...молодое поколение мужественно отказалось не только от навязанного нам полтораста лет назад архитектурного европеизма, от лженародной, придворной и антихудожественной архитектуры, какую у нас стали одно время проповедовать и распространять бездарные архитекторы-чиновники...»
Прогрессивные архитекторы обратились к сокровищнице русского народного зодчества. Но одно дело осмысливать наследие и совсем другое — обогащать его. Отказ от копирования достижений европейской архитектуры уже сам по себе казался подвигом, однако целиком сбросить со счетов опыт русского европеизма, высшим выражением которого был Петербург, было бы попросту глупо. Л. Н. Бенуа, К. М. Быковский, Ф. О. Шехтель, А. Н. Померанцев и многие другие мучительно искали возможность продвинуть русскую архитектуру хотя бы на шаг вперед, в один голос сетуя на отсутствие высокой, объединяющей идеи.
Поиски национального в архитектуре не обходились без метаний из крайности в крайность: с одной стороны, стилизация под московские каменные палаты конца XVII — начала XVIII века, с другой — эклектика, полное смешение стилей разных эпох. В слову сказать, прежде понятие «эклектика в архитектуре» не воспринималось как нечто негативное, напротив, архитектора-эклектика считали мастером, в совершенстве владеющим стилевой палитрой разных эпох.
Можно понять, насколько бурной и разноречивой была архитектурная жизнь, какое многообразие оттенков несли в себе проекты, обсуждаемые на все лады в академических аудиториях. А строительная практика преподносила все новые открытия.
«В течение последней четверти столетия русская архитектура сделала такие огромные шаги вперед, что просто глазам не веришь», — восхищался Стасов, наблюдая, как все более русскими становятся обе столицы, в особенности первопрестольная Москва. Повсюду, включая губернские города, появлялись здания в неорусском стиле. Даже старые постройки приобретали новое лицо после украшения их фасадов русским резным узором.
«По моему мнению, из всех искусств, прославившихXIX век, наибольших результатов достигли — архитектура и музыка», — убежденно заявлял Стасов, яростно выступая против тех, кто с раздражением отзывался о «русских полотенцах», накинутых на современные постройки.
Под натиском нового затрещали и рухнули омертвевшие академические каноны. Прежде никому из наставников и в голову не приходило, что совершенство пугает, ошарашивает, что сама мысль о его достижении может казаться кощунственной, обескураживать, лишать инициативы.
Так что же, отказаться от традиций? Нет! Конечно же нет! — внушали студентам профессора нового призыва. Начать хотя бы с того, что само понятие «традиция» означает передачу, продолжение.
Парфенон — это не просто высший символ целесообразности и грации. Он — великое произведение человеческого духа, в котором, как в фокусе, соединились мужество и широта взглядов греческого народа. Перикл «мобилизовал все финансовые и художественные ресурсы нации, чтобы воздвигнуть Парфенон». Только благодаря этомуархитекторы Иктин и Калликрат смогли его воздвигнуть. У архитектуры социальные основы, стало быть, важнее всего унаследовать в традиции ее животворный импульс,тогда традиция будет действенна и плодотворна!
Непосредственный наставник Щусева профессор Котов понимал, что только самостоятельные открытия позволят молодому художнику-архитектору переплавить свои знания в мудрость. Но до чего же это трудно! Этому нельзя научить, это можно лишь воспитать: «Природный творческий дар можно развить, лишь влияя на все существо человека примером педагога и его деятельности».
Однако и этого вряд ли достаточно, чтобы вырастить человека-деятеля. Искусству архитектуры невозможно учить по лекциям и книжкам, надо создать нечто более ценное — напряженную творческую атмосферу, которая лишь одна способна сформировать будущего художника.
Какою мудростью и каким тактом должен обладать наставник, чтобы вести обучение как можно независимее, свободнее, ненавязчиво влияя на творчески одаренную индивидуальность! В одном лишь наставник должен быть непреклонным — в обучении правде.
Алексею Щусеву бесконечно повезло, что у него были именно такие наставники. У каждого из его учителей был свой круг творческих интересов, свои пристрастия. Кредо профессора Котова состояло в утверждении канонов русской классики, в пропаганде национального наследия. Котов выступал против псевдорусского стиля, против формалистского копирования исторических памятников русской архитектуры, требуя современного осмысления русской старины.
Для Алексея творческие искания его наставника были новы и не всегда понятны. Знакомство его с русской архитектурой допетровской поры оставалось беглым и поверхностным, Петербург, с его строгими линиями, держал его в плену, а Софийский собор в Киеве и Московский Кремль вставали в памяти полузабытой грезой.
Наступил ноябрь 1895 года. Зима запаздывала. Но вот мерзлая земля однажды проснулась под чистым белым покровом. Стало светло и просторно, а Петербург вдруг как бы потерялся в этой ослепительной белизне. Впервые Щусев почувствовал его искусственность, европеизированность.
Когда он поделился с Котовым своими ощущениями, тот весело улыбнулся и сказал:
— Не надо мстить Пушкину за ваш Кишинев. Все равно сильнее Лермонтова никому не удастся обругать Петербурга.
— Нет! Я не разлюбил Петербурга. Обидно только, что вдруг я почувствовал его чужим, как будто я здесь лишний.
Профессор внимательно поглядел на него и неожиданно предложил:
— Как бы вы отнеслись к тому, если бы я отправил вас в путешествие? Может быть, по возвращении столица вернет вам свое расположение?
— А как же занятия?
— Вы поедете работать. Это полезнее, чем занятия в классах.
— Работы я не боюсь, — ответил Щусев.
— Вот и отлично. Вы проедете по городам Ростову Великому, Ярославлю, Костроме, Нижнему Новгороду. Предстоит сделать натурные рисунки с памятников древнего зодчества. В ваших последних эскизах появились чистота и свежесть образа. Это главное. Не гонитесь за деталями и подробностями, ищите чистоту образа. Нужна ясность мысли.
Профессор Котов стал готовить Щусева к предстоящей поездке. Они просмотрели и детально разобрали сотни рисунков и дагерротипов.
Канцелярия долгое время не выделяла нужных средств, и Алексею удалось отправиться в дорогу лишь ранней весной.
На крепостном валу близ стен Ростовского кремля пробилась первая трава, желтые огоньки иван-да-марьи вспыхивали на сырых глинистых кочках. В воздухе уже носилась пьянящая дурь весенних запахов. Светлой водной гладью сияло озеро Неро.
Алексей взобрался на вал, расстегнул ворот шинели, снял фуражку и застыл, не зная, на чем остановить взор. Голубое пространство неба, озерная гладь, набирающий зеленую нежную силу лес окружали древнее пристанище. Русский корень укрепился и возрос на этой равнине. На островерхие кровли кремля маслено лились солнечные лучи. Золотые купола плавились под потоками густого света.
От мощного гула вдруг заколебалась земля. Казалось, даже солнечные лучи пошли рябью. Алексея чуть не сбросило с вала вниз: Большой Сысой ударил билом, заколыхалось его многопудное тело — и задрожала, зашлась в сладостной истоме вся ростовская земля; прохожие сдернули шапки и, отворив рот, повернулись к кремлевским высям, замерли на секунду, а потом часто закрестились, будто впервой услышали колокольную музыку, которую вел Сысой.
Щусев не был набожным, и, может быть, именно потому не повергла его ниц, а возвысила эта торжественная мощь, слитая из колокольного буйства и образа кремлевских белых стен. Торжество жизни, сила и удаль переполняли его душу. Он гордился своей сопричастностью, принадлежностью к родовым русским корням.
Три дня бродил Алексей по Ростову Великому, медленно передвигаясь от памятника к памятнику, будто боясь расплескать переполнявшие его впечатления. Он как бы позабыл, зачем сюда прибыл, и все никак не мог насытиться обступившей его со всех сторон красотою. Где уж было браться за краски и кисти!
В гостином дворе митрополичьего дома, где ему отвели узкую келью с жесткой кроватью и окошком-бойницей, сновали монахи, шла какая-то непонятная ему жизнь, в смысл которой он и не хотел вникать. Казалось даже обидным, что люди, живя в окружении такого великолепия, куда-то все бегут, суетятся, не замечая окружавшей их не гармонии даже, а полифонии каменных узоров — музыки, звучащей как один великий оркестр, с многоголосием колокольных звонов.
Час настал, и он взялся за дело.
Ни в Ярославле, ни в Костроме не работалось ему с таким упоением, как здесь. Десятки акварелей, рисунков, набросков углем... Настойчивые попытки проникнуть в глубины художественных образов Успенского собора, церквей Спаса на Сенях, Воскресения, Иоанна Богослова.
Открытость, мощь памятников русской старины околдовали его. Архитектурное искусство предков было выражением их эпохи, их духовного склада, их мечтаний и верований. Безвестные зодчие (мы знаем одного лишь Гурия Никитина) достойно отразили свое время.
Счастливым сном промелькнул незабываемый март на берегах Неро.
Работы, которые привез из поездки Щусев, неожиданно не только для него, но и для профессора Котова были куплены художественным фондом академии за невероятную сумму, равную годовой стипендии, — триста рублей. Украшением коллекции была акварель «Церковь Ростовской Одигитрии в полдень».
Ободренный успехом, Щусев с новой страстью взялся за рисование. Теперь его все больше манил пейзаж.
Получив разрешение работать в живописном классе Архипа Ивановича Куинджи, он настойчиво изучал секреты великого пейзажиста-романиста, которому поклонялся не меньше, чем Илье Ефимовичу Репину. Ростово-ярославские мотивы зазвучали в щусевских пейзажах, куинджиевские световые контрасты и куинджиевская светотень высвечивали памятники Древней Руси.
Новому увлечению Алексея немало способствовало еще более тесное сближение с Николаем Рерихом, который в то время тоже работал в классе Куинджи. Алексей был приятно поражен окрепшей кистью друга, самобытностью и каким-то колдовским оттенком его палитры. Он не стремился подражать Рериху, искал свое. Видно, архитектор уже крепко сидел в нем, потому что главной его заботой было увидеть, почувствовать и передать единственность и неповторимость архитектурного памятника вприродной среде, показать точный образ памятника в егосоответствии месту, занимаемому им на земле.
Страстно увлеченные каждый своим, друзья тем не менее часто спорили, временами беспощадно критиковалидруг друга, так что Куинджи приходилось примирять противоборствующие стороны, каждая из которых считаласебя правой.
О доброте и мягкости Архипа Ивановича ходили легенды: любому из питомцев он вселял веру в его талант, умелдаже в неудачных работах отыскать хотя бы один верный штрих. Он помогал и заботливым советом, и деньгами. В его доме толпами столовались голодные студенты, его кошелек всегда был открыт для нуждающихся, он содержал несколько квартир для бедных художников. Всем своим видом, всем образом жизни, всем своим творчеством он утверждал веру в справедливость. В среде художников бытовало даже выражение «куинджиевское умиротворение».
И не было в его окружении человека, который не платил бы ему любовью.
Однажды Алексею попался на глаза некролог, в котором вдова генерала Шубина-Поздеева сообщила о кончиме своего мужа, героя Плевны, и просила присылать соболезнования по названному в газете адресу. Щусеву невольно вспомнился генерал Воротилин, когда-то допустивший его в свою галерею, и он отправился к генеральше с визитом.
Его провели в комнаты, приняв, по-видимому, за дальнего родственника генерала. Генеральша оказалась приветливой, обаятельной, совсем не старой дамой. Что-то вее поведении, голосе, внешности напоминало о женах декабристов. Алексей почтительно приложился к ее руке, сел в подвинутое ему кресло и сообщил, что пришел с деловым предложением. Хозяйка несколько растерялась, аон, не дав ей опомниться, тут же на подвернувшемся листе бумаги быстрыми штрихами набросал легкий силуэт часовни-надгробия, какую, по его мнению, следует поставить на могиле героя, покоящегося на кладбище Александро-Невской лавры.
Скорее из вежливости, чем из интереса рассматривала генеральша эскиз часовни, а Алексей убежденно говорил, что выкованная из железа легкая ткань сооружения, перекрытая шатровой крышей, сделала его произведением искусства, достойным памяти... он чуть было не сказал — генерала Воротилина.
Ошибка могла оказаться роковой. Алексей покраснел. От этого его слова показались генеральше еще более убедительными.
— Завтра в полдень поедете со мной на кладбище, там все и обсудим, — милостиво сказала она и протянула Алексею руку.
Но Алексей не стал ждать до завтра: прямо с порога он отправился в Александро-Невскую лавру, отыскал свежую могилу генерала и долго ходил вокруг, обдумывая детали памятника. Работу над эскизным проектом он закончил, когда ночь уже сменилась белым днем. Для сна времени не оставалось. Он окунул лицо в таз с холодной водой, выпил крепкого чая и оделся со всей тщательностью, на какую был способен. С собой он взял альбом и итальянские мягкие карандаши.
Бессонная ночь возбудила его. Глаза лихорадочно горели, под ними проступила синева, щеки запали.
Когда коляска подъехала к лавре и Алексей с генеральшей сели на скамейку близ могилы, он у нее на глазах принялся восстанавливать свой ночной проект. Она следила за бегом его карандаша.
— Вы знаете, эта модель мне нравится больше, чем вчерашняя, — сказала она.
— Я всю ночь думал над эскизом. Мне хотелось, чтобы он вам понравился.
Генеральша взяла альбом в руки и встала. Лицо ее выразило сосредоточенность, она внимательно оглядела окрестность, церковную ограду, купола Александро-Невской лавры и перевела взор на Алексея:
— А ведь вы, Алексей Викторович, были здесь вчера!
— Да... был, — признался Алексей и потупился.
— Это похвально. Можете приниматься за работу.
Все оказалось намного сложнее, чем он предполагал. Гранитный цоколь памятника никак не хотел сочетаться с изящной вязью металлических кованых узоров шатра часовни, окон, дверей, с легкостью креста и киотов.
Уже настала пора каменотесам и кузнецам приниматься за работу, а решение все еще не было найдено — эскизы и рисунки сменяли друг друга, но ни один не бросил его в жар, не убедил: вот оно, нашел!
Как-то он сидел, рассматривая эскизы, морщился и друг расхохотался, настолько простой и точной оказаась мелькнувитая в голове мысль: шлем, византийский шлем Олега — разве может быть лучше памятник воину? Памятник должен быть сделан в византийско-русском стиле.
На стройке он работал легко и вдохновенно, инженерная часть сооружения нашлась будто сама собой: скобы, крепления, поковки, арматура свободно проистекали из удачно найденного образа. Деловая напористость Щусева воодушевляла работников, и буквально в течение месяца сооружение было готово.
Алексей пригласил профессора Котова ознакомиться с памятником, когда рабочие уже принялись за покраску. Признанный мастер культовых сооружений, Котов зорко оглядел часовню со всех сторон, заглянул внутрь и сказал:
— Ну, что же, пора вам приниматься за большие масштабы. Думаю, у вас получится.
По настоянию своего наставника Щусев начал работу над учебным проектом современной одноглавой церкви в официальном русском стиле. Такие церкви рождались в ту пору, как грибы после дождя. Это был своеобразный ширпотреб, предназначенный для укрепления главной опоры самодержавия, каковой была православная церковь. Как ни бился Щусев над проектом, он так и не смог внести в него ни живого дыхания, ни свежей струи, и профессор Котов отступился, предоставив ему самому выбирать тему проекта:
—Ищите, Щусев, ищите и думайте. Готовьтесь к защите дипломного проекта. От того, что вы надумаете, будет зависеть ваша судьба.
Котов ничуть не преувеличивал, говоря о судьбе. Диппломные проекты выпускников академии, оцененные Большой или Малой золотой, а также Большой или Малой серебряной медалями, были своеобразными ключами к разным дверям. Медаль давала право занять определенную ступень в общественной иерархии: Малая серебряная медаль приносила звание неклассного художника, Больпая серебряная — классного художника третьей степени, Малая золотая — классного художника второй степени, аБольшая золотая вместе со званием классного художника первой степени — возможность стажировки в лучших европейских академиях художеств сроком до шести лет. Как правило, вернувшиеся из заграницы художники занимали ведущее место среди художественной элиты России. Достаточно вспомнить Карла Брюллова или Константина Маковского, награжденных за свои дипломные работы Большой золотой медалью.
Нет, не одно лишь честолюбие обуревало Щусева, им владела страсть вырваться на свободные просторы творчества. И конечно же он мечтал увидеть высшие достижения мирового зодчества, скульптуры, живописи.
Дома он разложил перед собой все свои студенческие проекты. Первым был проект ограды и входа в парк — то, что он предполагал, но так и не сумел сделать в Сахарне, потом шел проект двухэтажного охотничьего домика в стиле французского Ренессанса — прежде он казался ему даже поэтичным, но теперь напоминал красивый лубок.
— Все не то! — вынес он приговор сам себе.
Учебный проект двухэтажной больницы, которому мог бы обрадоваться отец, будь он жив, тоже не понравился ему.
Лишь компактный и строгий эскиз торгового дома да детально проработанный проект сельской народной читальни с интерьерами в молдавском духе удовлетворили его, но разве они могли вместить то, что он собирал долгие годы по крохам, готовясь к решающему броску.
В полной растерянности уехал он в Кишинев. Здесь его уже давно ждала стройка. В Кишинев звали и сестра с Павликом, но еще сильнее притягивало другое существо...
С первой же минуты его появления на стройке пыль, суета, крики артельщиков отодвинули все его терзания. Стройка снова властно взяла его в полон, подрядчик Пронин опять завалил неотложными делами, будто Алексей и не отлучался со стройки.
Чертежи перекрытия первого этажа гимназии, фасадов, вестибюля и парадной лестницы он продержал у себя более недели и все это время ходил по стройплощадке, приглядывался, а потом неожиданно огорошил подрядчика: архитектурная проработка здания не продумана, сумбурна, сыра!
Убедившись, что Щусев не шутит, подрядчик растерялся:
— Что же делать? Звать господина Мазирова?
— В Одессу к архитектору я поеду сам. Есть у меня одна мысль. Мне кажется, он должен согласиться...
Одесса конца века являла собой затейливое сочетаниеярмарки и стройплощадки: по булыжной мостовой, с обеих сторон которой стояли магазины и лавки, катили фуры, груженные кирпичом и деловым лесом. Их резво обгоняли лихачи, оглашая улицу притворно грозными криками. На морском ветру развевались ленты дамских шляпок и газоые шарфы, в воздухе плыл аромат цветущих акаций, французских духов и запах цементной пыли. От одесских причалов до Французского бульвара долетала какофония пароходных сигналов. И всю эту веселую сумятицу щедроосвещало горячее солнце, которое, однако, из-за близости моря никого не обжигало — ни людей, ни лошадей, ни многочисленных собак.
Архитектор Мазиров принял Щусева неприветливо, настороженно. Он выразительно положил руку на ворох чертежей и калек и уставился на Алексея в упор.
— Как вы, право, некстати, батенька, видите, что у меня творится… — сказал он, усаживаясь напротив гостя в золоченое, обитое бордовым бархатом кресло. — Ладно, что у вас там?
Алексей развязал папку и произнес:
— Я прибыл спросить у вас совета, вот и все. Не кажется ли вам, что облицованное диким камнем общественное здание может приобрести лицо только за счет тонкой проработки фасадов?
— Так. Ну и что же дальше?
— Я понимаю, что вы только из-за недостатка времени не высветили фасады хотя бы рустом, как мастерски это сделали у парадного входа в гимназию. Я позволил себе лишь несколько продолжить вашу идею — здесь вот, по нижнему поясу, и по наличникам окон второго этажа.
Архитектор недоверчиво покосился на щусевский эскиз. Детали фасада были прорисованы подробно, четко.
— Хорошо, я согласен. И за этим вы ехали ко мне?
Алексей выдержал паузу, на какую только был способен, и тактично сказал:
— Уважаемый метр, ваш новый фасад... предполагает кое-какие исправления внутри здания...
Брови архитектора сдвинулись, он взглянул на молодое безмятежное лицо собеседника и... расхохотался. Смеялся он долго и с удовольствием.
— Ладно, показывайте, что вы там напридумывали...
Щусев развернул новый эскиз и убежденно сказал:
— Если вестибюль развернуть до размеров большого зала, поставить по бокам парадной лестницы по две пары простых ионических колонн, то появится необходимость перекрыть нижний этаж крестовым сводом.
— Что за смелые линии, прямо красота! — невольно вырвалось у Мазирова. — Но, дорогой коллега, кто же нам даст денег на эти выкрутасы?
— Я немного пересмотрел смету расходов. Взгляните, мы укладываемся.
— Мне надо подумать... Приходите завтра.
День, два, три приходил Щусев к архитектору, каждый раз изыскивая новые аргументы в пользу своих предложений. Уж очень ему хотелось, чтобы родной гимназии досталось здание, в котором хоть что-нибудь было бы и от него.
В Кишинев он вернулся с победой: все его эскизы, чертежи и сметы были заверены и подписаны Мазировым, которому так и не удалось понять, что за корысть заставила молодого чудака вложить в чужой проект немалое искусство и труд — ведь он даже не заикнулся о соавторстве.
В самый разгар работ по настоянию Щусева на стройку была подряжена новая большая артель с искусными каменотесами. Благодаря их стараниям здание гимназии на глазах стало приобретать тот образ, к которому стремился Щусев. В этот год он впервые почувствовал истинную роль архитектора, хотя автором проекта был другой человек.
Он научился жить постройкой, воспринимать ее как часть самого себя. И артельщики, и сам Пронин понимали и ценили увлеченность молодого практиканта и относились к нему с искренним почтением.
Не случайно Пронин, закладывавший тогда для себя новый дом на Садовой улице, упросил Щусева сделать хотя бы беглый его проект, на что Алексей согласился, лишь когда в новой гимназии начались внутренние отделочные работы.
В то лето Щусев продолжал постигать еще одно важное искусство — искусство доверия к простым людям, понимания, дружбы со строительными рабочими. Памятью об этой дружбе стал один из портретов Пронина, который Алексей выполнил углем на плотной бумаге большогоформата: характерная голова крестьянина с проницательными глазами, гордого тем, что ему своим трудом и уменьем удалось выйти в люди.
Не было человека на стройке, который бы не полюбил Щусева, как не было ни одного артельщика, к которому сам он отнесся бы без внимания. Антон Пронин лишьвыразил волю своих собратьев, когда добился в земской Управе такого вознаграждения для Щусева, о каком тот и мечтать не мог.
Переполненный самыми радужными надеждами, пришел он в дом Карчевских. Его встретили как именинника.Алексей принимал поздравления по поводу окончания строительства, а сам все искал случая остаться с Машенькой наедине, чтобы сказать ей о главном, о самом важном, о том, во имя чего он так торопился утвердить себя. Однако объяснение так и не состоялось.
Ночью он то терзался от своей робости, то искал ей оправдания: ему казалось, что та жизнь, для которой создана Маша Карчевская, ему недоступна, что, пока онстудент, он не смеет тревожить ее душу.
Было еще одно обстоятельство, которое угнетало: вновьи вновь вспоминались слова профессора Котова о том, что в нынешнем году должна решиться его участь. А он так и не знал, каким будет его дипломный проект, какая егождет судьба.
Утром он отправил в академию прошение с просьбойразрешить ему кратковременную заграничную поездку для ознакомления с архитектурными памятниками Румынии, Австро-Венгрии, Боснии и Герцеговины. Разрешение пришло неожиданно быстро. Видимо, решающее действие возымела приписка «за собственный счет».
В поездке Алексей избегал столичных городов: на его взгляд, одна лишь Вена могла соперничать с Петербургом. С особым пристрастием изучал он замки и загородные дворцы, гнездившиеся среди живописных гор Южных Карпат и Балкан. Сначала он даже самому себе не хотел признаваться, чем вызван этот его интерес к романтическим пейзажам, которые прежде он знал по распространенным в Бессарабии литографиям, гравюрам, картинам самодеятельных художников. Он с упоением рисовал старинныестроения, бродил среди развалин замков, размышлял о том, какая красивая жизнь, возможно, шла здесь когда-то — в диких лесах близ горных рек и гулких водопадов. И все время ему было жаль, что этой красотой он не может поделиться с той, с которой давно уже мечтает быть вместе.
Алексей не позволял себе лишних расходов, но тем не менее его недавно еще такой толстый кошелек пугающе быстро тощал. Он поспешил назад в Кишинев.
Перед отъездом в Петербург он показал Машеньке эскиз, который вобрал в себя все лучшее, что отложилось за время поездки в его памяти. Романтический дворец был лишь намечен быстрыми и вдохновенными штрихами. Чуткое сердце Маши сразу подсказало ей, чем вызван этот рисунок и чем была вызвана вся его поездка, столь похожая на бегство.
Он мог бы и не спрашивать, но не удержался и глупо спросил:
— Тебе хотелось бы жить в таком дворце?
— А рядом что? — тихо спросила она вместо ответа.
— Церковь. Должны же мы где-то обвенчаться.
Маша опустила эскиз на колени, а Алексей, растерявшись, стал говорить, что такой дворец, даже еще лучше, он непременно построит для нее. Он уверен, что сможет построить тысячу дворцов, но один, лучший — только для нее.
Тот же эскиз, только более детально проработанный, он показал в академии профессору Бенуа. Леонтий Николаевич, бегло оглядев рисунок, сказал:
— Думаю, в качестве предварительного эскиза подойдет. А почему нет названия? — Он взял карандаш, подумал и написал: «Барская усадьба». — Мы отправим эскиз на утверждение комиссии. Несмотря на беглость прорисовки, чувствуется, что вы в состоянии построить то, что нарисовали. Постарайтесь, чтобы это не ушло из проекта при его детальной разработке — так случается довольно часто. Если вы потеряете уверенность, она и из проекта уйдет — запомните это!
Щусев немало удивился: как же можно потерять то, что целиком поглотило его, — свою идею, свое будущее, наконец!
Предварительный эскиз был единодушно утвержден аттестационной комиссией академии, и Алексей самозабвенно погрузился в разработку.
Генеральный план дворца, планы этажей, эскизы фасадов вырастали, как в сказке дерево из горчичного семени. Лихорадка захватила его и, не выпуская, держала в напряжении, будоража фантазию, вызывая к жизни все новые и новые образы. Они наплывали друг на друга, и будто бы само собой отрезалось и отбрасывалось лишнее, постороннее, выкристаллизовывалась целостная, единая панорама: вокруг нарядного овального двора, окруженного огромной разомкнутой ротондой, вырастали призматические башни дворца простых и чистых форм.
Эта простота делала красивую, дробную вязь фасадов легкой и торжественно-приподнятой. Примыкающая ко дворцу оранжерея с куполом, как парус, довершала ощущение легкости, зато галерея, связывающая дворец с церковью, выполненной в стиле русских ярусных храмов конца XVII века, с ее нарочито утяжеленным верхним поясом, пристяжным кольцом привязывала дворец к земле.
В прорисовке деталей Щусев, казалось, превзошел самого себя: стройная гладь колонн у парадного подъезда выгодно контрастировала с затейливыми наличниками окон, обрамлением дверей и арок. Вместе с мастерским владением эскизом и акварелью дипломант показал, насколько свободно он чувствует себя как инженер. Впоследствии искусство инженера проявлялось во всех проектах Щусева. Он мог всецело углубиться в художественное творчество с полной уверенностью, что чутье инженера его не оставит. Может быть, именно поэтому все, что построил Щусев, в натуре всегда выглядело красивей и ярче, чем на самым тщательным образом выполненном проекте.
Созданный в формах, близких к французскому Возрождению, «дипломный дворец» Щусева задним фасадом был обращен к парку и как бы сливался с ухоженной перспективой, главенствуя над ней и организуя ее.
Ни Бенуа, ни Котов больше не сомневались в творческих возможностях своего выученика. Проект «Барская усадьба» был оценен самым высоким баллом, осталось лишь дождаться традиционной осенней выставки, для которой отбирались лучшие работы выпускников Академии художеств. Профессора предрекали Щусеву золотую награду.
В Кишинев Алексей летел как на крыльях. Забыты бессонные, полные труда ночи, осталось одно лишь ощущение удачи, победы. Будущее радовало и обнадеживало.
Первым делом он направился в дом Карчевских, но Маши не застал. Он прошел на половину Варвары Ильиничны и, поцеловав ей руку, чуть ли не с порога бухнул:
— Дорогая Варвара Ильинична, я больше не студент, я архитектор...
— Поздравляю вас, Алеша, — с некоторой растерянностью сказала Варвара Ильинична, напуганная ожиданием того, что сейчас должно было случиться.
— Прошу руки вашей дочери, — незамедлительно последовали слова, от которых у матерей всегда сжимается сердце.
— А моего мнения здесь не спрашивают? — весело сказала появившаяся в дверях Маша.
Ее щеки порозовели от прогулки, в глазах светил озорной огонек.
— Милая Маша, проект дворца готов! — так же весело ответил ей Алексей.
— А захочу ли я жить в бумажном дворце?
— Машенька, он прекрасен, я тебе сейчас же покажу его.
По настоянию Алексея никаких приготовлений к свадьбе не было. Прямо из церкви молодые поехали в Долину Чар, где на лето поселились в молдавской мазанке. Здесь Карчевские недавно приобрели участок на живописном склоне оврага. Края оврага поросли буйной дикой зеленью, а в ложбине шла живописная дорога, обрамленная двумя глубокими ручьями с родниковой водой. Во время дождя ручьи превращались в быстрые реки.
После утренней прогулки по извилистым тропам Долины Чар молодая чета возвращалась в свою хибарку. Маша принималась готовить обед, а Алексей садился за проект загородного дома Карчевских или отправлялся в город — организовывать доставку камня и леса для постройки, подряжать работников.
Через две недели на семейном совете проект дома был утвержден. Предполагалось уютное незамысловатое сооружение в два этажа, с асимметричной просторной террасой, которая даже на проекте была изображена вся в зелени и, казалось, дышала желанной прохладой под горячим южным солнцем.
Началось рытье котлована. Алексей сразу почувствовал себя в привычной, родной стихии. Стройка подвигалась споро, не затихая даже в воскресные дни. Алексей говорил о ней с неизменным восторгом. Нередко Маша приходила на спрямленный уступ оврага и с книгой садилась под вязом на специально сооруженную для нее скамейку, а Алексей, с радостью сознавая ее присутствие, подходил к ней, когда выдавалась свободная минута, и спрашивал ее совета. Так появился выдвинутый вперед балкон на втором этаже дома, с которого открывалась бескрайняя перспектива Долины Чар.
В преддверии осени Маша почувствовала, что Алексей начинает все больше волноваться. Но не стройка была предметом его волнений. Его терзало: вдруг на выставке его проект не завоюет ожидаемого успеха? Может быть, он поспешил покинуть Петербург? А надо было бы еще что-то доработать, выправить, сделать дополнительные эскизы. Как ни трудно было оставить стройку без присмотра, он начал собираться в обратный путь.
И оказалось, что не напрасно. Он добился, чтобы его проект экспонировался под выгодным освещением, составил сопроводительные тексты для эскизов и планов дворца. Что же касается самого проекта, то можно было сказать, что он прошел проверку временем, — Алексей убедился, что этой работы он, пожалуй, никогда не будет стыдиться.
Вскоре в Кишинев на имя Марии Викентьевны Щусевой-Карчевской пришла телеграмма с сообщением о том, что проекту присуждена Большая золотая медаль и автор «Барской усадьбы» получает право на заграничную командировку, которая и будет для четы Щусевых свадебным путешествием.
Надо ли говорить, с какою радостью было воспринято в доме Карчевских это известие. Счастье было бы полным, если бы Алексей не сообщал здесь же, что по делам службы, по заданию Академии художеств он должен на длительный срок отправиться с археологической комиссией в Самарканд. Маша с глазами, полными слез, отыскала на карте этот сразу ставший ненавистным ей город. Она никак не могла уразуметь, что за необходимость ехать в такую даль.
Если бы Щусева спросили об этом, он бы и сам затруднился ответить. В самом деле, он мог поехать в Среднюю Азию в любое время, когда заблагорассудится, он горел нетерпением увидеть Парфенон, Колизей, Дворец дожей, а отправился в совершенно противоположную сторону.
— Вы в самом деле считаете, что я должен ехать? — спросил Щусев профессора Бенуа.
— Должны? Вы ничего никому не должны. Вы молоды, а поэтому просто обязаны расширять свой диапазон. Из памятников романской архитектуры мы уже давно сотворили себе кумира. Что можно еще открыть в Европе? Я бы поехал в Самарканд не раздумывая, а Греция от вас не убежит.
«Да, — подумал Щусев, — так можно рассуждать, когда ты пресыщен впечатлениями и знаешь Европу, как Невский проспект».
— Профессору Веселовскому нужен добросовестный рисовальщик с неиспорченным архитектурным вкусом, поэтому я и рекомендовал вас. Поезжайте.
Это уже прозвучало как приказ. И Алексей поехал. До конца своих дней он благодарил Леонтия Николаевича Бенуа за этот приказ.
Безжалостное солнце властвовало над этой землей. Казалось, осенняя прохлада никогда не приходит сюда. Синий хребет Бабатага — западная цепь Памира — не задерживал южных сухих ветров. Жара томила даже возле фонтанов. Но привыкший с детства к южному солнцу Щусев быстрее других приспособился к ней, а вскоре и вовсе перестал ее замечать. Лишь тоска по Маше удручала его. Спасительным средством от тоски оказалась работа.
О том, с каким упорством трудился Щусев в Самарканде, свидетельствует бесчисленное множество рисунков, калек, эскизов со знаменитых памятников: мавзолея Гур-Эмир, медресе Улугбека, ансамбля Шахи-Зинда, полуразрушенной мечети Биби-Ханым.
Нежная глазурь витиеватых куполов, готовая своей глубиной спорить с глубиной высокого неба, завораживала ясной чистотой. Ни пыль веков, ни солнце, ни ветер не могли стереть этой чистой голубизны. Здесь не было художественных ухищрений, было лишь тончайшее чувство гармонии красок. Ни людей, ни животных не запечатлело это искусство, лишь выписанные вязью арабские письмена пробегали по орнаменту, сливаясь с ним.
От Щусева потребовались все его графическое мастерство и талант акварелиста, чтобы сохранить, запечатлеть в рисунках палитру восточного орнамента. Всю осень и зиму провел он в Самарканде, не расставаясь с акварельными красками и итальянскими карандашами. Перед ним открывалась история государства, когда-то могущественного и жестокого, где орнамент был единственно возможным выражением потребности человека в красоте. Постепенно по произведениям искусства он научился угадывать характер ушедших восточных деспотий, времена их расцвета и упадка.
Чем увлеченнее он рисовал, тем отчетливее чувствовалгрозное дыхание страшных бурь, что проносились надэтой страной, над сказочными лазурными мечетями. Ему начали открываться тайны этой ни на что не похожей архитектуры, которая могла родиться только под этим солнцем, только среди этого народа. Это была тоже классика,уникальная, неповторимая, такая же своеобразная, как и русская архитектурная классика, со своим национальнымхарактером, со своей душой.
Как велико, оказывается, классическое наследие человечества и как многосторонне!
Новый, яркий мир навсегда запечатлелся в его памяти.
Глава VII
В краю весны
В августе по всей Центральной Европе установилась жара. Долгое путешествие в железнодорожном вагоне было утомительным. За окном проплывали ухоженные поля, окаймленные карикатурно маленькими лиственными деревьями, скорее всего липами. На холмах разметка полей была такая же четкая, как и в долине.
Но вот пошли первые осыпи горных пород, цепи каменистых промоин зазмеились вдоль полотна. Поросшие лесом горные вершины потянулись к небу, и дорожная хандра отступила, словно ее и не было. Горы, кручи, провалы, змеистые ручьи внизу — все очаровывало.
Поезд приближался к Триесту.
Алексей Викторович вызвал проводника и попросил чаю. Вскоре проводник принес чуть теплую жидкость, которую Щусев, едва пригубив, выплеснул в окно.
Вошел проводник и стал закрывать окна:
— Тоннель!
Поезд провалился в преисподнюю. В кромешной тьме стало жутко, Мария Викентьевна прижалась к мужу.
— А ты закрой глаза, будет не так страшно, — посоветовал он.
Стало трудно дышать. Поезд все гремел колесами. Казалось, их загнали в каменный мешок.
Но вот брызнула первая капля света, затем темноту пронзили золотые стрелы, и вскоре целый сноп солнечных лучей зажегся впереди. На горизонте ровным синим огнем горело Адриатическое море.
На перроне вокзала Алексей Викторович отдавал распоряжения носильщикам, потом покупал билеты на корабль и между всеми этими заботами упивался красками моря.
Внизу, на краю маленького бирюзового блюдца бухты, расположился порт, отгороженный от моря брекватером — волноломом, сложенным из слоистых камней. В каменной стене брекватера был узкий проем, сквозь который, однако, проходили довольно громоздкие фелюги и корабли.
По уступам крутого берега жались друг к другу пакгаузы, выкрашенные в яркие цвета, и жалкие, кособокие домишки. У берега теснились в несколько рядов разнокалиберные суда. И все это пространство с домами, складами, кораблями, казалось, кишело лилипутами. Женщины тащили корзины с рыбой, мокрым бельем, мальчишки лазали по реям стоящих на причале парусников, матросы, похожие сверху на зебр, смолили и красили корабельные борта. Веселый гвалт несся вверх и радовал слух. Полуденное солнце поджаривало этот муравейник, разгоряченный воздух гавани зыбко искажал перспективу.
Когда Щусевы ступили на палубу вапоретто — крохотного пароходика, то почувствовали себя настолько переполненными впечатлениями, что, едва расположившись в глубоких шезлонгах, расставленных на корме, сразу задремали. А вечером их багаж был перенесен в гондолу с высоко задранным носом. Гондольер, похожий на веселого пирата, помог им усесться.
— Отель «Коваллето»! — наказал Алексей Викторович, помня рекомендации Котова, который сейчас должен был находиться здесь, и кормчий взялся за длинное весло, икрустированное медными блянтками.
— Серенаду! — весело потребовала Мария Викентьевна‚ но гондольер показал на горло, перевязанное шерстяным платком, и виновато улыбнулся.
Алексей Викторович стал было доставать из багажа гитару, но тут до их слуха долетело вступление мандолины, и над сонной водой канала полилась самая настоящая серенада, исполняемая невидимым сильным тенором.
Ночь, звезды, плеск воды, страстная песня — вот она, Венеция!
На широкой площади под россыпью желтых фонарей танцевали и пели беззаботные люди. Задорно перекликались гондольеры, все громче звучала музыка. Было что-то благословенное в этой атмосфере всеобщего счастья, она казалась естественной, и странно было сознавать, что все это — не театр, а жизнь.
Проплыла и исчезла шумная площадь, а они все плыли, петляя по каналам, и уже начали сомневаться в правильности своего выбора. Но отель оказался вполне сносным, а главное, недорогим.
Наутро к Щусевым прибыл Григорий Иванович Котов и пригласил их на завтрак. У дверей отеля «Ковалетто» качалась огромная черная гондола, на ее корме крепко стоял статный гребец в ослепительно белой рубахе и белых бархатных штанах с ярко-красным поясом. Из-под его широкополой белой шляпы с красной лентой выбивались блестящие кольца черных кудрей. Увидев пассажиров, он ослепительно улыбнулся, и лицо его застыло в этой улыбке.
— До чего хорош, подлец! — сказал Григорий Иванович. — И отлично понимает, что хорош!
Загнутый, как турецкая туфля, нос гондолы был изукрашен золотым узором. Вся гондола чем-то напоминала царственный гроб.
Алексей Викторович прыгнул в нее первый и, протянув руки, помог Марии Викентьевне и Григорию Ивановичу сесть. Гондольер замурлыкал что-то себе под нос и сильно ударил веслом. Посудина качнулась и пошла.
Все вокруг, даже вода, словно подкрашенная голубой краской, казалось театральным. По обеим сторонам Большого канала торжественно выстроились дворцы. Их обветшавшие фасады только подчеркивали декоративное великолепие, живописность чудо-города. Алексей Викторович смотрел во все глаза. Как бы нарочитое смешение стилей удивляло, вызывало любопытство, пленяло.
В маленьких квадратах дворов буйствовала растительность. Цветы и трава от обилия воды и солнца были так ярки, словно их покрыли лаком. Никаких полутонов, никакой светотени.
— Ну, как вам венецианская архитектура? — нарушил молчание профессор Котов.
Алексей Викторович втянул голову в плечи и зажмурил глаза.
— Нет-нет, глаз закрывать не надо. Постарайтесь разгадать эту страну, иначе вам не понять ее архитектуры. Здесь все необычно — образ жизни, система правления, даже любовь. Надо сбросить первое, ошеломляющее, впечатление и постараться проникнуться венецианским бытом. Уверяю: обретете немало отрадных впечатлений.
Показался Дворец дожей. Он стоял вдалеке, как старинный испанский корабль на стапелях, глядя на площадь множеством иллюминаторов, образующих сплошную цепь по борту. К дворцу примыкал знаменитый мост Вздохов, который вел в тюрьму. Алексей Викторович узнал это место: именно здесь вчера пела и веселилась праздная толпа.
В кафе на площади близ церкви Санта-Мария Глориоза деи Фрари Григорий Иванович заказал обильный завтрак. Вкусная еда ободрила их, а терпкое кьянти настроило на романтический лад.
Профессор предложил здесь же, на месте, составить программу на ближайшую неделю, но, вспомнив, что через два дня он должен покинуть Венецию, ограничился напутствием.
— Не пытайтесь охватить сразу все, — сказал он, — обилие впечатлений лишает способности воспринимать. Лучше идти по пути контрастов. Я покажу вам самое ценное, что здесь есть, — великолепные образцы византийской живописи.
— Византийская живопись? Здесь? — удивилась Мария Викентьевна.
— Да. Но не задерживайтесь в этой экзотической луже, отправляйтесь в Рим, потом во Флоренцию. А как только почувствуете, что начинаете от чего-то уставать, двигайтесь дальше без сожаления.
На площади Сан-Марко были раскинуты голубые шатры торговцев. В глубине площади высился собор, больше похожий на восточный, чем на христианский храм. Но каково же было удивление Щусева, когда он увидел мозаику будто из Киевской лавры, только древнее и строже. Он чувствовал, что прикасается к истокам византийского сурового письма, и, еще не наученный понимать его глубин, ощущал его волшебную силу. На своде главного портика он долго рассматривал мозаичное панно, на котором были изображены люди в русских великокняжеских одеждах, а за спиной у них стояла трехглавая православная церковь.
Котов как будто бы наслаждался изумлением Щусева.
— Вот они, дорогой Алексей Викторович, наши корни! — повторял он. — Внимайте, запоминайте, рисуйте, ибо только так и возможно научиться отделять зерна от плевел.
Профессор Котов — теоретик и практик православного зодчества — исподволь как бы уговаривал ступить на ту же стезю, по которой шел сам. Однако душе Алексея Викторовича церковный пафос был чужд: он восторгался лишь изяществом росписей, яркостью красок, видел лишь руку мастера, а о религиозной идее не думал. Христианская тематика оставалась для него как бы в стороне, как, наверное, и для большинства венецианцев, отдающих в первую очередь дань светской красоте. Иначе откуда бы здесь взяться бьющей через край веселости бесконечных карнавалов, как сохраниться нежному, изящному диалекту, целомудрию и аффектации любовных излияний и серенад?
На набережной Скьявони всегда толпились венецианцы, восторженно следя за действом, что разыгрывали Бригелла, Арлекин и Панталоне в кукольном театре. Все говорило о юности сердца простодушной людской массы, которую, казалось, ничуть не угнетает груз веков. Наоборот, венецианцы были начисто лишены тщеславия: в городе вы могли встретить сколько угодно людей, которые никогда не бывали в музеях, куда в первую очередь отправлялся каждый приезжий, зато не встретили бы ни одного, кто не знал бы серенад.
Получив наставления и советы профессора Котова по поводу маршрута путешествия, Щусевы проводили его и целиком погрузились в венецианскую жизнь. Овладев несколькими десятками итальянских слов, Щусев стал пытаться беседовать с простыми людьми и не уставал изумляться, насколько венецианцы талантливы.
В первых числах сентября Щусевы были в Риме. Алексей Викторович к тому времени уже привык к итальянскому воздуху, великолепию природы, обилию памятников скульптуры, живописи, архитектуры. Он уже мог работать.
И все же часто лист бумаги оставался чистым, а он погружался в немое созерцание, разглядывая обломок мраморной колонны или плиту с полустертыми барельефами, превращенную в ступеньку лестницы.
«Если бы кто-то дерзнул водрузить на изначальное место весь мрамор колонн и статуй вечного города, — думал он‚— кто из современников осмелился бы по нему ходить! «Мы окружены следами истории», — говорил еще Цицерон, так что же говорить нам...»
Известно древнее название Италии — Авдония. Утверждают, что и Рим когда-то носил другое имя. Но в названиях ли дело! Названиями не оживишь прошлого. Его можно лишь почувствовать, став на время немым, как эти нетускнеющие мраморные колонны.
Еще Рафаэль заметил: «Новый Рим стихийно растет из обломков вечного города». Произведения искусства, похищенные из величественных языческих храмов, хранились теперь под сводами католических соборов. Язычество, достигшее здесь апогея, обожествляло красоту человека, восславило жизнь. Католичество обожествило смерть и стало упорно приспосабливать древнее искусство для собственных нужд.
И это происходило тут, в краю вечной весны. Впервые эти мысли зародились у Щусева, когда он посетил Пантеон, сооруженный в начале второго века. Пантеон был спланирован так, что казался намного грандиознее, чем есть на самом деле. Величественный портик с широко поставленными коринфскими колоннами... Воздух здесь легок, глаз покоен и весел, его ничто не утомляет. Пантеон лаконичен, но в нем столько поэзии! За одной его «строкой» — море чувств. Щусев с трудом оторвал взгляд от Пантеона, решив, что придет сюда еще раз, чтобы его запечатлеть.
Перейдя через мост Сант-Анджело — Святого Ангела, он направился к собору Святого Петра. Окружавшая площадь колоннада издалека казалась легкой, но при приближении становилась все более массивной. Приподняв черный занавес, что висел в раскрытых дверях собора, он вошел внутрь. Едва глаз привык к сумраку, как могучая сила завладела им. Все здесь было подчинено тому, чтобы убедить, сколь мал человек перед вечностью закованного в камень неба.
Стены были украшены мозаичным панно, каждое из которых трудно было разглядывать отдельно. Он остановился у алтаря и увидел сквозь решетку подземную церковь, где были похоронены многие папы и государи. Чувство благоговейного ужаса охватило его: под ногами покоились сильные мира сего, а над головой была бездонная пустота: глаз с трудом добирался до вершины и слеп в полосах света. Идея тщетности человеческих устремлений стала особенно ясна, когда мимо Щусева, едва передвигая ноги, прошаркал ветхий старец с потухшим взором. Хотелось бежать отсюда, однако профессиональное любопытство одержало верх. Он заставил себя улыбнуться старцу, но тот с недоумением поглядел на него: здесь неуместны были проявления жизни.
Алексей Викторович принялся скрупулезно исследовать этот застывший в камне хорал, упорно разбирая ноту за нотой. Возведенное в культ страдание, казалось, не оставляло никаких надежд ни на спасение, ни даже на радостный вздох, лишь скорбь и слезы были уместны на этих мраморных плитах. Верхние ярусы собора напоминали круги ада, великолепная роспись лишь усиливала это впечатление. В гостиницу Алексей Викторович вернулся совершенно измученный. Он был даже рад, что не взял с собой Марию Викентьевну.
На следующий день Щусевы отправились осматривать Капитолий. За определенную плату дозволялось подняться на башню Дворца сенаторов и отсюда, с верхней смотровой галереи, любоваться всеми семью холмами Рима — Палатином, Квириналом, Целием, Авентином, Эсквилином, Виминалом и самим Капитолийским холмом.
То, что сейчас называлось Капитолием — Дворец сенаторов с его лестницами, аркадами и колоннадой, — было выстроено из обломков древнего Капитолия, перед которым некогда «склонялся мир».
Отсюда видна была Тарпейская скала, с которой римляне сбрасывали преступников. Можно было различить и старый ход, что вел от Форума к Капитолийскому холму. Спокойными и умиротворенными казались знаменитые капитолийские львы, привезенные сюда как египетские трофеи.
Щусевы спустились на площадь. Конная статуя Марка Аврелия, стоящая посередине, была проникнута спокойствием. Императоры династии Антонинов, раздвинувшие до невиданных размеров границы Римской империи, пожелали остаться в истории как просветители и постарались прикрыть угнетение, разбой и рабство ликом Марка Аврелия — императора-поэта, императора-философа.
Вот где Щусеву пригодилось знание латыни! По стершимся скрижалям читал он страницы истории, запечатленные в каменных изваяниях. Архитектурный ансамбль Капитолия рассказывал о взлете и падении Рима. Пожалуй, ни в одной стране мира, за исключением, должно быть, Греции, в которой ему тоже хотелось побывать, архитектура не была столь велеречива. Каждый шаг в вечном городе сопровождался удивлением, восхищением, а временами и горечью.
По свидетельству Плиния Старшего, перед праздником триумфа Рима был построен театр, в котором насчитывалось триста шестьдесят мраморных колонн и три тысячи статуй. Римские строители возводили настолько прочные постройки, что даже землетрясения не могли их разрушить, зато сами римляне временами забавлялись тем, что разрушали величественное строение сразу после праздника.
Император Адриан, считавший себя великим зодчим, соорудил Храм Солнца и Луны, после чего пригласил греческого зодчего Аполлодора с тайной надеждой посрамить его, подавить величием и богатством храма. Но грек отыскал погрешности в пропорциях храма и поплатился за это головой.
Судьба зодчего, судьба художника...
Маленькая церковь Санти Куаро Каронатти, поразившая Щусева скромной красотой и свежестью образа, была сооружена в память о четырех художниках-мучениках, казненных за то, что они отказались разрисовывать языческих идолов.
Колизей — самая величественная руина Рима... И хотя совсем не просто было вообразить, что это огромное сооружение когда-то было все изукрашено мрамором и свезенным чуть ли не со всего света золотом, можно было почувствовать его величие даже в нынешнем его жалком состоянии. Многие поколения использовали его как каменоломню, но сумели разрушить лишь наполовину.
Ярус за ярусом поднимались в небо грандиозные пояса Колизея, и каждый ярус был выше и помпезнее предыдущего. Безукоризненная строгость пропорций, прочность каменной кладки свидетельствовали о высочайшем уровне архитектурного искусства и строительного ремесла.
Но во имя чего было возведено это сооружение? Оказывается — во имя презрения и к жизни и к смерти, во имя кровавых забав. Император Тит, надстроивший Колизей и посвятивший его римскому народу, сам ни разу не осмелился пройти в Народные ворота, через которые входили в амфитеатр толпы плебеев и через которые выносили тела побежденных гладиаторов.
Когда надоедали сражения гладиаторов, бои слонов и тигров с людьми, арену заполняла вода, и на водном просторе сражались между собой воины на галерах. Победителей, обессиленных в яростной схватке, ждали не лавры, а голодные крокодилы, которые «завершали представление» на глазах у ревущей толны. Победа в битве с крокодилами давала гладиатору право на свободу. Но ее так никто и не получил.
Чем дольше ходил Щусев меж царственных развалин, тем ощутимее поднимался в его душе протест против варварства и насилия. Было что-то нечеловеческое в величии этих останков — памятников разнузданности деспотизма. И вместе с тем это была классика архитектуры! Не нужно было прилагать особых усилий, чтобы прочувствовать творческий взлет фантазии древних зодчих, строгость, простоту, величие их творения.
Что-то обещали Неаполь, древние Геркуланум, Помпеи, Пестум? В раскопах под напластованиями лавы, казалось, на полудвижении-полувздохе замерла живая жизнь. В окрестностях Неаполя Щусев сделал десятки рисунков, пытаясь запечатлеть эту жизнь в ее естественном движении.
Как ни богаты краски итальянской осени близ Неаполитанского залива, но и они стали гаснуть в преддверии зимы. Щусевы заторопились во Флоренцию, чтобы увидеть этот город-музей при свете еще не замутненного неба.
Столица Тосканы встретила их ясным солнцем и полным безветрием, словно лето навсегда поселилось здесь. Хвойные деревья на берегах Арно источали смолистый аромат, а бесчисленные плантации роз который раз набирали бутоны.
Поразительно, но в Тоскане почти не сохранилось следов античной культуры. Оказывается, именно здесь римские легионеры безжалостно уничтожали все, созданное этрусками. Под римским мечом исчезла древнейшая цивилизация, на месте которой со временем вырос город-музей.
Художникам и архитекторам городской магистрат Флоренции предоставил возможность бесплатно посещать дворцы и галереи города, в памятниках которого навсегда запечатлелась эпоха Возрождения.
Флорентийский собор Санта-Мария дель Фьоре, купол которого работы Филиппо Брунеллески послужил прообразом купола собора Святого Петра в Риме, стоит в стороне от площади Синьории, на которой властвует Палаццо Веккьо (Палаццо делла Синьория).
У Щусева захватило дух: мраморный «Давид» Микеланджело (в копии), бронзовые «Персей» Бенвенуто Челлини и «Юдифь и Олоферн» Данателло — знакомые по гипсовым слепкам шедевры толпились вокруг него, и перед каждым можно было пасть на колени.
Микеланджело, Леонардо да Винчи, Джорджо Вазари встретили его под сводами Палаццо Веккьо. И, как некогда мальчик, попавший в галерею генерала Воротилина, он не смог сдержать горячих слез перед запечатленными в мраморе и красках творениями мятежного духа. Он тихо попросил Марию Викентьевну оставить его одного. Она очень удивилась, взглянула на него, но увидела лишь белую застывшую маску, по которой, как дождь по мрамору, сбегали слезы. Он мог справиться с собой только в одиночку.
Через час они встретились в кабинете Франческо I Палаццо Веккьо, в небольшом зале, на деревянных стеновых панелях которого тесно висели живописные полотна. Алексей Викторович благодарно пожал ей руку. Лицо его было строгим и печальным, таким, как у Козимо I Медичи, что взирал на них сейчас.
— А знаешь, Алеша, если бы тебе его латы и бороду, ты был бы вылитый он.
— Возможно, — весело ответил Алексей Викторович. — Однако чем моя борода хуже, чем у него?
— Но он старше тебя... Как ты думаешь, был ли он счастлив со своей Элеонорой из Толедо?
Алексей Викторович повернулся к другому портрету, на котором кисть того же Бронзино запечатлела гордую юную даму.
— Машенька, попробуй встать, как она. Вот так. И убери улыбку.— Алексей Викторович отошел на несколько шагов: — А знаешь, дорогая, этот портрет мог быть написан с тебя!
— Алеша, ты мне льстишь. Но ты не ответил на мой вопрос.
— Счастливы ли были они? Без сомнения, счастливы.
— Как ты догадался?
— Конечно, художник явно льстил ему: ведь Козимо был старше своей жены чуть ли не вдвое. Сколько они прожили вместе к тому времени, когда были написаны их портреты, я не знаю. Но думаю, что недолго: она ведь так юна, хотя художник в угоду хозяину постарался ее состарить. Однако для художника истина дороже признания.
— В чем же истина?
— Да в том, дорогая, что они похожи друг на друга! Видимо, это заслуга Элеоноры, она сумела стать частью его души, его гордостью, при этом ничего своего не утратив. Она сохранила себя как личность, а жила преданностью ему!
На протяжении нескольких дней они бродили по залам Палаццо Веккьо и каждый раз долго изучали «свои» портреты.
Другим местом их паломничества стала церковь Санта-Кроче. Два ряда великих гробниц представляли знаменитую усыпальницу мира: здесь покоились Микеланджело, Маккиавели, Галилей.
Еще одно открытие они сделали — музей Уффици. Долгими осенними вечерами они гуляли по тихим берегам Арно, с радостью сознавая, что завтрашний день принесет им что-то новое.
В конце концов Алексей Викторович так устал ходить по музеям, что осунулся, сделался раздражительным. Рисунки его стали нервны, изломанны, они не удовлетворяли его.
Видимо, слишком многое пытался он вместить в себя, вопреки совету Котова, и Мария Викентьевна стала настаивать на отъезде.
— Но не домой же! Впереди еще столько невиданного...
— Тебе надо отдохнуть, Алеша. Решай сам, где тебе лучше.
— Слушай, поедем в Африку! — смеясь, предложил он.
— Да куда угодно, лишь бы восстановились твои силы...
Два зимних месяца Щусевы провели в Тунисе, предварительно побывав в Сицилии. Он рисовал темнолицых мавров с европейскими чертами. Их исполненная покоя расслабленность делала их лучшими натурщиками на свете. Многие часы они способны были просидеть в одной и той же позе.
Вместе с рисованием, которое из муки теперь превратилось в отдых, Алексей Викторович изучал классический мавританский стиль. Вспоминая венецианские палаццо, он понимал их эклектичность, стремление соединить, казалось бы, несоединимое — открытость и замкнутость прорезанной стрельчатым узором мавританской стены.
Мавританские строения прятали жизненное пространство от прямого проникновения солнца, дробили лучи, много раз преломляли их, словно стремились приручить дневное светило. Непременный атрибут мавританского дворца — искристый бисерный фонтан — сверкал в солнечных лучах, как хвост павлина. Специальная система проемов создавала движение воздуха. Алексей Викторович не успокоился, пока ему не открылся ее секрет. Позже он научился управлять воздушными потоками, но применял их не для охлаждения, а для обогрева построек в родной северной стороне.
«Из Сицилии зимой же уехал в Африку в Тунис, где дожил зиму, и в начале весны начал подниматься вверх по Италии к северу, и в апреле уже был в Ницце, а затем в Париже, где задержался почти на полгода, поступив в Академию живописи Жульяна, чтобы усовершенствоваться в точном рисунке.
Нас в Академии (художеств в Петербурге) рисовать учили не точно», — писал Щусев в своих воспоминаниях.
Неудовлетворенность собой, внутренний и духовный разлад испытывал он в ту пору. Он боялся этого состояния и мучительно искал из него выхода.
С ним уже не однажды случалось подобное, но сильнее всего запомнился душевный кризис, переживаемый им на последнем курсе академии. Одно время он чуть ли не каждый месяц прерывал занятия и мчался в Кишинев. Он мотался с севера на юг, чтобы только увидеть свою Машу, которую звал то Маней, то почтительно Марией Викентьевной. Подле нее он быстро успокаивался. Убедившись, что ее любовь незыблема, вера в него крепка, он, окрыленный, снова спешил в Петербург. Проходили недели, и ему снова нужно было убедиться, что он необходим своей красавице Маше. Алексей был уверен, что, когда Маша станет его женой, все его духовные терзания и кризисы разом оставят его.
Но прошло уже полгода, как они были вместе, а в душе у него все не было покоя и уверенности в себе. Собственные работы его раздражали. Еще до того, как он успевал завершить рисунок, тот уже не нравился ему, Тогда он еще не вполне понимал, что прикосновение к совершенству возбуждает в художнике неосознанное стремление его превзойти, подняться еще выше.
Путешествие по Италии в обратном направлении по сравнению с прошлогодним маршрутом не избавило от чувства внутреннего разлада. Многие художники выбирали в Италии какое-то одно место, чаще всего Рим, и в меру своих способностей «постигали и побеждали» натуру упорным трудом. Упорного труда он не боялся, всегда стремился к нему и с радостью осел бы где-нибудь, хотя бы в Палермо, если бы понял, что здесь он сумеет разбудить все свои духовные силы. О том, что он талантлив, ему не раз говорили его учителя, но что-то мешало ему поверить этому. Он должен был найти самого себя.
Изломанной кривой прошел его путь по Апеннинскому сапогу: направился было во Флоренцию, чтобы оживить прошлогодние впечатления, но с полдороги повернул обратно, хотел держать путь на Милан, но передумал и поехал в Ниццу. Ступив на французский берег, он уже не смог отделаться от искушения: Париж — родина нового искусства — притягивал его к себе.
Парижская академия живописи Жульяна, куда съезжались художники со всего света совершенствоваться в искусстве рисунка и графики, привлекла его своей установкой на простоту. Проблемы выбора натуры здесь, казалось, не существовало — предметом искусства могли стать любая вещь или событие, если художнику удавалось увидеть их по-своему. Такой взгляд на натуру не имел ничего общего с академической идеализацией, отдающей фальшью.
Профессор Жюль ле Февр, рассматривая рисунки Щусева, кривил свои тонкие губы и удивленно поглядывал на Алексея, словно не понимая, как это взрослый человек может заниматься срисовыванием памятников архитектуры. Лишь тунисские наброски заставили его одобрительно улыбнуться: в них он увидел живые ростки. Рисунки эти привлекли профессора своею непосредственностью, эмоциональностью. Дома, в маленькой квартирке на Монмартре, где ждала его Маша, Алексей окончательно понял, чем они приглянулись профессору. Тунисские улочки, базары и дворцы на рисунках и акварелях были так живы, наверное, потому, что несли в себе отголоски жизни родной Бессарабии, а также Средней Азии.
Оказалось, что душа его все время трудилась, собирая воедино самое памятное и дорогое, художественное сознание работало независимо от него. Может быть, придет время, и оживут его итальянские впечатления? Надо упорно работать и не терять надежды, засевая свое поле: брошенные в возделанную почву семена не могут не прорасти. Невозможно было не признать, что эти мысли были навеяны ему Марией Викентьевной, которая с каждым днем становилась все дороже и ближе ему.
Попав в число слушателей Академии Жульяна, Щусев, как добросовестный школяр, не пропускал ни одного занятия. Его наставник Робер Флери не раз говорил ему: «Вы работаете хорошо, ощущаете перспективу, рисуете с чувством, но неверно».
Это было непросто — отучиться идеализировать модель и в то же время не окарикатуривать ее.
Уже близился праздник импрессионизма. Сначала импрессионизм расцвел в Париже, а потом карнавальным шествием пошел по всему цивилизованному миру. Открытие новых художественных форм и приемов, новое отношение к цвету произвело целую революцию в искусстве, затронув и преобразив все стороны художественной жизни и разом обогатив художественное восприятие.
С новым направлением были связаны развитие художественного вкуса, переоценка художественного наследия,неудовлетворенность уровнем современного живописного мастерства. Париж все более становился Меккой для художественных дарований Старого и Нового Света.
И в то же время новое направление посеяло семена декаданса, который уже давал знать о себе «цветами зла» —эстетством, самоупоенностью, эгоизмом, невниманием к жизни народа.
На занятиях по композиции Алексей мучился одним и тем же вопросом: в чем суть нового художественного направления и что значит рисовать правильно? Выполнять рисунок контуром и направлением контура придавать светотень было не так уж и трудно. Но это ли главное? Робер Флери считал, что именно это основное, а остальное приложится само собой. Но рисунки Щусева стали удовлетворять и профессоров, и его самого, когда ему удалось самостоятельно отыскать ключ к ошибкам, которыми раньше он грешил, как и большинство выпускников петербургской Академии художеств.
В академии, как, пожалуй, и по всей Руси великой, на ветер пускались миллионы, зато экономили на мелочах. Экономили буквально на всем — на бумаге, на холстах, на натурщиках. Щусев уж и не помнил, сколько раз рисовал он обнаженную натуру с колченогого истопника академии Ивана Удальцова, сколько раз преподаватели требовали превратить Ивана то в Аполлона, то в Давида, но никто ни разу не догадался предложить нарисовать именно истопника Ивана.
И когда здесь, в классах Парижской академии, на подиум влез обнаженный волосатый француз с кривой ногой, Щусев принялся было по привычке облагораживать его уродство. Но именно тут-то ему и открылась ложная основа его художнического видения. Он понял, от чего он должен отказаться, и это было уже серьезным сдвигом с мертвой точки, на которой он застыл еще в Петербурге.
С небывалым интересом вглядывался он в натурщика, рассматривал его сильные плечи, черты увядшего лица... Он видел перед собой человека, которого жизнь заставила заниматься несвойственным ему делом. Крепкий, но сломленный, он уже не мог ворочать мешки на пристани, стоять у кузнечного пресса или у станка, не мог гордиться своей силой и удалью. Вот, оказывается, что значит овладеть натурой, проникнуть в суть! По самым ярким и характерным ее чертам предстояло воспроизвести на бумаге человека, более живого и интересного, чем может увидеть поверхностный взгляд. И сколько же фальши было бы заключено в попытке превратить этого беднягу в Аполлона!
Как это ни покажется странным, но именно умение прочитать судьбу по портрету, умение проникнуть в глубины натуры не только позволило Щусеву освоить грамматику современного рисунка, но и открыло для него новые грани в классике, в искусстве великих мастеров Ренессанса, многие из которых прежде очаровывали его, но не потрясали.
Париж подстегнул щусевское честолюбие, его стремление к художественному совершенству. Он увидел, что, несмотря на шесть академических лет, он стоит в самом начале пути к постижению тайн прекрасного. Теперь цель прояснилась, и он с головой окунулся в работу. В шумной разноголосице рисовального класса, где звучала английская, итальянская речь, с упрямой настойчивостью шлифовал он рисунки, пока однажды директор академии Жюль ле Февр не сказал: «Довольно, вам у нас делать больше нечего. Мы дали вам все, что могли».
В это время в мастерской знаменитого Кормона, в совершенстве владевшего пластической формой, стажировались Борисов-Мусатов, Альбицкий и другие молодые русские художники. К ним-то и пришел обескураженный Щусев.
Голоса соотечественников, не сговариваясь, слились в стройный хор: «Поезжайте домой. Там настоящая работа. Там мы нужны. Здесь в каждой ноте чувствуется упадок, какое-то размягчение мозгов и нравов. Дома оставили мы все здоровое, сильное».
Борисов-Мусатов сказал еще определеннее:
— Зачем вам их праздная, извращенная живопись? Вы же архитектор, ваше искусство — основа здоровья народа. Поглядите трезво вокруг: даже зодчество здесь в современном его выражении потеряло духовность и человечность... А мы пытаемся перетащить к себе это нечеловеческое искусство, подражаем ему на все лады, начисто забывая о том здоровом национальном искусстве, которое помогло нам выжить даже под татарами.
Однако в этих высказываниях Щусев усмотрел вместе с патриотическими чувствами ностальгию, которой сам еще не заболел.
В Париже затевалось строительство Всемирной выставки, открытие которой приурочивалось к 1900 году — к рождению нового века. Старый век должен был отчитаться перед грядущим, продемонстрировать свое наследие в области архитектуры, искусства, техники. Идея поработать хотя бы в качестве стажера на строительстве выставки увлекла Щусева, и он, заручившись письмом из петербургской Академии художеств, отправился к главному архитектору выставки Энару.
Он скромно сидел в приемной в ожидании приглашения, а когда наконец дождался, то от робости перед знаменитым архитектором едва промямлил о своем желании поучиться у него мастерству. Краем глаза взглянув на рекомендательное письмо, метр просил его зайти через два-три месяца, когда ему будет ясен фронт предстоящих работ, а пока посоветовал съездить в Англию ознакомиться с архитектурными памятниками английского Возрождения и поздней готики.
Переплыв Ла-Манш, Щусевы оказались в осени: мелкая сетка дождя, как марлевая штора, закрывала перспективу. Рисовать в таких условиях не было никакой возможности, а делать рисунки по памяти, сидя в гостинице у чадного камина, Алексей Викторович никак не мог себя заставить — архитектурное искусство Альбиона не трогало его сердце. Наступившие вскоре погожие дни не смогли изгладить первого впечатления. Позже, много лет спустя, когда он нашел ключи к пониманию суровой мужественности английской архитектуры, понял ее скандинавские корни, ее связь с северным зодчеством, он сумел воздать должное гордым нетесаным камням, из которых слагалась мрачная красота английских дворцов и башен.
Глядя на монолиты каменных мостов Темзы, на отражающиеся в ее мутной воде прибрежные строения, он вспоминал Венецию и Неаполь и, кроме скуки, не испытывал никаких чувств. С сожалением он думал о том, что у него начисто отсутствует рационалистическое начало: если увиденное не увлекает его, то, сколько бы он себя ни насиловал, ему не удается выжать из себя ни единого яркого образа.
В Париж он вернулся с пустыми руками — не привез ничего, кроме желания добросовестно потрудиться. Ему казалось, что достаточно было представить правлению Всемирной выставки в Париже свой дипломный проект «Барская усадьба» и проект построенного им загородного дома в Долине Чар, как место стажера было бы ему безоговорочно предоставлено. Но не помогли ни дополнительные рекомендательные письма, ни ходатайства, ни заверения. В должности стажера ему было отказано.
Хочешь не хочешь, а надо было возвращаться домой. Денег едва хватало, и от границы их пути с Марией Викентьевной разошлись: она поехала в Кишинев, он — в Петербург.
По дороге в Академию художеств он клялся себе, что отныне он будет вести свои дела так, как того потребуют обстоятельства, использует любую возможность, чтобы за что-то зацепиться. Он обещал Марии Викентьевне дворец, а не может снять даже скромную квартиру.
В академии он прежде всего занялся своей отчетной выставкой. Он должен был показать, на что способен как архитектор. Но чем больше он занимался оформлением экспозиции, тем больше убеждался, что в профессиональном смысле он может рассматриваться как расплывчатое обещание достать звезду с неба. Неопределенность собственных художественных позиций смущала его, когда он перечитывал тезисы доклада, которым он должен был открывать собственную выставку.
Большинство преподавателей и профессоров академии разъехалось на каникулы, но, на его счастье, к самому открытию выставки прибыл профессор Котов, которому удалось вытащить из Петергофа конференц-секретаря академии Ивана Ивановича Толстого, подлинного ценителя искусства.
Указав перстом, окольцованным тяжелым золотым перстнем, на венецианские зарисовки Щусева, граф назвал довольно высокую цену, и у Алексея Викторовича похолодело в груди: он знал, что если академия покупает в свои фонды все представленные на выставке работы даже за небольшую цену, то выпускник автоматически становится ее ассистентом, или, как говорили, «младшим профессором». В том же случае, если покупаются отдельные работы, пусть за дорогую цену, это означает, что академия как бы откупается от своего выпускника, предоставляя ему самому искать себе место. Григорий Иванович Котов за спиной конференц-секретаря развел руками. Это должно было означать: «Я сделал для вас все, что мог, но мы не властны над сильными мира сего». На кафедру Щусева не взяли.
С неизменной своей спутницей — гитарой и сундучком с пожитками перебрался Щусев в дешевые меблированные комнаты на Крюковом канале. С двумя сотнями рублей в кармане приготовился он встретить тяжелые времена. И в самом деле, вскоре он узнал, что значит бегать, высунув язык, за дешевыми заказами. Спрос превышал предложение. Алексей Викторович вынужден был познакомиться с неписаными правилами обращения архитекторов с заказчиками. Самым трудным для него было такое: «Когда приходишь к заказчику, будь он хоть самым невежественным купчишкой, самолюбие свое оставляй в кармане пальто в передней». Другое правило утверждало: «Не вздумай воспитывать заказчика. Помни, что плата зависит от количества поклонов». В некоторых случаях, когда заказчик был уж больно дремуч и к тому же еще и нерешителен, советовалось прибегать к хамству, что так и называлось: «хама перехамить». Приводились примеры. Если купец без уверенности в голосе предлагает свое сочетание фронтона и наличников, то уж не зевай: делай суровую физиономию и наступай: «Слушай, борода, ты что, меня учить хочешь? Кто из нас архитектор — ты или я!»
Однако этот способ воздействия больше годился для Москвы. Просвещенный Петербург требовал к себе более почтительного отношения. За «белую кость» сановных заказчиков меж зодчими шла тайная, а то и явная война.
Высокие традиции, изысканный вкус архитектуры конца восемнадцатого — начала девятнадцатого века при нынешнем массовом спросе были во многом утрачены. Традиции растворились в эклектике, мешанина сделалась модой.
Русское купечество и буржуазия, став посредниками между правящим классом и народом, грабили и ту и другую сторону и лишь в минуты пьяного раскаяния терзались собственным невежеством. И как ни смирялся Щусев с «выкручиванием самого себя перед заказчиком», уважение к искусству было для него превыше всего. Он бросил все и уехал в Кишинев строить на Пушкинской улице дом для Михаила Викентьевича Карчевского, брата Маши, который становился заметной фигурой в чиновной среде.
В этой постройке Алексей Викторович использовал восточные мотивы, стрельчатые окна, крохотные выносные балкончики, выходящие на тротуар, простой орнамент из глазури. Очень милым и уютным вышел незамысловатый особняк, и Щусев стал подумывать: а не открыть ли ему частную практику в родном городе, где все его знают, многие любят и готовы прийти ему на помощь. То же советовала и Мария Викентьевна.
Но слишком уж ясной и безмятежной представлялась ему эта стезя, что-то внутри протестовало. Кишиневские строения А. И. Бернардацци, его башня и культовые постройки диктовали архитектуре города определенную направленность. У Щусева не находилось слов, чтобы объяснить даже своей жене, сколь чужд ему кишиневский стиль. Мария Викентьевна усматривала в его речах лишь гордыню.
Все решило письмо от Григория Ивановича Котова. Профессор срочно приглашал в Петербург для работы в его мастерской. Алексей Викторович уцепился за это приглашение, хотя прежде отказывался от такой работы, называя ее рабством. Сейчас он обрадовался. К тому же сумма годового жалованья оказалась несколько большей, чем предлагалось вначале.
В своем письме Котов советовал ему документально оформить авторство на кишиневские и сахарнинские постройки, получить официальные отзывы на них в земстве Кишинева. Совет этот показался Щусеву странным, к тому же он не знал, как подступиться к делу. Ему казалось, например, что он по-родственному только оказывал дружескую услугу своему гимназическому товарищу Михаилу Карчевскому.
Когда Алексей Викторович поделился с Михаилом своими сомнениями, тот с улыбкой сказал:
— Алеша, милый, если мы будем терзаться такими путяками, то целиком будем состоять из одной щепетильности. Подготовь мне проекты своих строений, а остальное не твоя забота. Должен же быть и какой-то мой вклад в то, что ты построил для нас!
Накануне отъезда Алексея Викторовича Михаил Викентьевич вручил ему тисненую папку с золотыми орлами. В папке на гербовой бумаге рукою лучшего городского писаря были переписаны отзывы о «великолепных, произведенных в натуре строениях одаренного зодчего Алексея Викторовича Щусева, выпускника Петербургской императорской Академии художеств». Здесь были отзывы от отцов города, включая градоначальника, от земской управы попечительского совета.Бумаги не обрадовали, а смутили Алексея Викторови— шурин явно перестарался. И еще одно обстоятельство удручало Щусева: в Петербург он ехал один, несмотря на то что обещанного ему жалованья теперь хватило бы на скромное проживание в столице вдвоем. Дело было в том, что Мария Викентьевна готовилась стать матерью и оторваться в этом положении от родного гнезда ей было боязно. А ему так хотелось в эту нелегкую для нее пору быть рядом с ней, однако настаивать на своем он не посмел.
По приезде в Петербург он стал работать помощником Г. И. Котова. Выполнял он и отдельные поручения Л. Н. Бенуа, занятого перепланировкой старинных Петровских каналов, чертил перспективы для Р. Ф. Мельцера. Бенуа и Мельцер обращались с ним, как с подмастерьем, чаще приказывали, чем просили, мнение молодого зодчего пропускали мимо ушей.Алексей Викторович работал бок о бок с пожилыми архитекторами, почтенными отцами семейств, которые потеряли всякую надежду выбраться на самостоятельный путь. Рутина открылась ему во всей своей неприглядности: робость в присутствии начальства, угодничество, злобный шепоток о бездарности метров за их спиной.
Один Котов был предупредителен и ласков, со вниманием выслушивал его мнение, с готовностью обсуждал с ним свои проекты. Беда лишь в том, что не лежала у Щусева душа к культовым постройкам, но профессор настойчиво приучал его видеть в старинных церквах воплощенную в камень мечту русского человека о красоте бытия. Он учил находить поэзию в белых, как бы омытых росой храмах и часовнях Пскова и Новгорода, очаровываться простотой и чистотой их образа.
Поручения Григория Ивановича Щусев выполнял с особым вниманием и тщательностью. Так, он по нескольку раз перерисовывал перспективы, пока не добивался свежей яркости, которую так любил Котов.
Спустя полгода Григорий Иванович неожиданно напомнил Щусеву об отзывах на его кишиневские постройки и попросил их принести, но Алексей Викторович сказал, что их еще не прислали из Кишинева: уж больно неловко было показывать их профессору.
Но Котов при каждой встрече все настойчивее требовал эти злополучные отзывы, а однажды сказал:
— Если вы, Алексей Викторович, не принесете их завтра, то можете вообще не приносить.
— Да зачем они вам, Григорий Иванович?
— Для вашего же блага, уважаемый.
— Вот они! — сказал Щусев, протягивая сверкающую золотом папку.
Все, кто был в мастерской, сбежались смотреть, что это показывает профессору «бессарабский конокрад» — так прозвали Алексея Викторовича за полюбившиеся всем песни о цыганах-конокрадах, которые он не раз исполнял под гитару.
Щусев по памяти нарисовал свой загородный дом в Долине Чар и городской особняк Михаила Карчевского на Пушкинской, чтобы хоть чем-то подтвердить отзывы.
Впечатление от этих отзывов и рисунков было подобно разорвавшейся бомбе. Сослуживцы бросились поздравлять Щусева, как будто бы он только что завершил свои постройки, один лишь Котов воздержался от восторгов.
— Ну, что ж, — сказал он, — ваши земляки вам немного польстили, но не погрешили против истины. Должен сказать, у них есть вкус. Это то, что мне надо,
И он забрал папку с собой.
Спустя неделю Щусев получил приглашение посетить правление Петербургского общества архитекторов. Здесь он узнал, что благодаря рекомендациям профессоров Л. Н. Бенуа и Г. И. Котова он имеет все шансы стать членом общества, если согласится принять участие в организации 3-го Всероссийского съезда русских зодчих. В случае согласия он, естественно, будет приглашен в качестве делегата на съезд.
Так началась общественная деятельность Щусева.
Несмотря на то что Щусев не излечился от неприязни к чиновничьей службе, она все-таки немало дала ему. Пунктуальность, выдержка, вежливость, умение избегать конфликтов и идти на разумные компромиссы — все это пришло к нему за время ношения чиновничьего вицмундира. А в организационной работе он неожиданно обнаружил в себе новый дар — дар дипломата и политика. Он четко проводил линию оргкомитета съезда, работая над тезисами окладов, координировал работу съезда, сам оставаясь в тени.
Вскоре руководство съезда уже не могло без него обходиться, поручая ему самые щепетильные дела, когда нельзя было обидеть никого из метров ни почетным местом в президиуме, ни временем, отпущенным на доклад, ни очередностью выступлений. Труднее всего было уговорить представителей противоборствующих направлений, приверженцев разных архитектурных стилей, воздержаться от взаимных упреков, подчинить свои выступления идее поиска перспективных путей в архитектуре, помощи становлению новой архитектуры, созвучной требованиям века.
Пять лет, прошедшие после 2-го Всероссийского съезда архитекторов, помогли сформироваться началам нового стиля в архитектуре. Самыми яркими его представителями были Ф. О. Шехтель, И. А. Иванов-Шиц и Л. Н. Кекушев. На 3-м съезде были впервые четко сформулированы основные черты нового стиля, но название «модерн» появилось все-таки несколько позже.
В журнале «Зодчий» № 8 за 1900 год — год 3-го съезда — был опубликован доклад А. И. Бернардацци «Народный музей будущего». Этот доклад вызвал особый интерес Щусева, и не только потому, что Бернардацци облюбовал для своих построек Молдавию.
«Располагая всею современной техникой, с ее легкими несгораемыми конструкциями, с ее громадными зеркальными стеклами... — говорил Бернардацци на съезде, — зодчий создает (в форме ли застекленных галерей либо ротонд и т. п.) если не новый стиль, то новый тип для этого рода зданий, посвященных всенародному пользованию...
Ни большой монументальности эти здания не требуют, ни применения богатых архитектурных материалов. Для внешности их достаточно простых форм, выполненных со строгим изяществом. Вся привлекательность их будет, очевидно, заключаться во внутреннем содержании».
Архитектурно-художественная выставка, иллюстрирующая направленность съезда, удивляла обилием произведений в стиле модерн. Это были прежде всего работы Ф. О. Шехтеля, И. А. Иванова-Шица и Л. Н. Кекушева. К ним примыкал А. И. Гоген, в недавнем прошлом убежденный эклектик, считавший, что, чем больше стилей сумеет перемешать архитектор в своем проекте, тем большее право он получит зваться современным зодчим, зодчим-новатором. И не он один — многие вчерашние эклектики вдруг поверили, что появилась «возможность возникновения современной архитектуры, свободной от постоянного подлаживания под ту или иную эпоху и отвечающей назревшим потребностям».
Приверженцы традиционных направлений в архитектуре настороженно приглядывались, какой будет архитектура завтрашнего дня. Но никто не хотел прослыть ретроградом, и «3-й съезд архитекторов прошел под знаком поисков путей, обещающих свежесть, простоту, беспритязательность, полное отречение от старых форм вместе со стремлением изменить основные принципы прежнего стиля и двинуть архитектуру на путь рациональности».
Никакой курс лекций, никакие книги не обогатили Щусева так, как общение с коллегами, их страстное живое слово, призывающее заглянуть в будущее. Вместе с тем Алексей Викторович не терял осторожности, отлично понимая, что от постулатов нового до нового облика городов лежит весьма протяженная дистанция.
Новое направление сосредоточивало свое внимание на внутренней части здания. Оно впервые начинало строиться как бы изнутри, как писали тогда, «отражая начало нового понимания природы архитектурного организма». Действительно, было над чем задуматься.
Приехавший на съезд И. В. Жолтовский держался независимо и уверенно, представляя собой молодые силы архитектурной Москвы. Он покровительствовал Щусеву, и именно благодаря Жолтовскому у Алексея Викторовича появились знакомые, которые впоследствии не только оказали ему большую поддержку, но и помогли завязать дружеские связи с замечательными людьми того времени.
Но пока круг новых знакомств не сулил ничего, кроме уверенности в том, что не боги горшки обжигают. Общительный и предупредительный молодой архитектор без робости беседовал с метрами, даже позволял себе пороювступать в споры.
Главный смотритель и хранитель фондов Русского музея Петр Иванович Нерадовский с первой же встречи угадал в Щусеве страстный интерес к национальным основам живописи и зодчества. Щусевское чутье, умение видеть в архитектурном ансамбле душу народа заставило Нерадовского внимательно приглядеться к нему. Несмотря на молодость, в Алексее Викторовиче уже можно было угадатьцельного художника, для которого понятия «жизнь» и«творчество» неразделимы.
Посетив бедную обитель Щусева на Крюковом канале,Петр Иванович Нерадовский убедился в том, что не обманывается. Он одну за другой просматривал папки с акварелями и зарисовками природы, архитектурных памятников и типов в Тунисе, в Италии и в других местах. Поражало количество талантливых рисунков и набросков. По ним можно было видеть, с каким увлечением и с какимтрудолюбием молодой зодчий отдавался работе. Закончился съезд архитекторов, и внешне ничто в жизни Алексея Викторовича не изменилось: все та же чиновничья атмосфера проектной мастерской, все те же полуночные бдения над проектами «для души». Но появилось еще одно увлечение: по совету Нерадовского он стал более пристально изучать русское национальное искусство. Богатейшие запасники Русского музея открыли перед Щусевым такую сокровищницу, что он понял, насколько убогимбагажом знаний в этой области снабдила его академия.
Старинные летописи, былины, сказания, труды по истории России, искусствоведческие работы в строгом порядкебыли разложены теперь на его рабочем столе. А рядом — всегда стояла кружка крепкого сладкого чая — он перенял от отца привычку сопровождать ночные бдения чаепитием.
Наконец в Петербург прибыла Мария Викентьевна с годовалым сыном Петром. Мальчика назвали так в честь брата Алексея Викторовича, который стал судовым врачом и путешественником и которым Алексей Викторович гордился.
Мария Викентьевна приехала вместе со своей матерью Варварой Ильиничной. Теперь в ней можно было с большим трудом узнать прежнюю светскую даму — хозяйку художественно-музыкального салона. Казалось, она отдала всю свою былую привлекательность и обаяние дочери. А Марию Викентьевну будто подменили: из хрупкого юного создания она превратилась в томную очаровательную даму с новой, пугающей своим совершенством красотой.
Холостяцкая меблирашка враз оказалась тесной, и Алексею Викторовичу пришлось в тот же вечер снять для себя комнату рядом, а на следующий день, с полудня отпросившись из мастерской, он уже перевозил свое семейство в большую светлую квартиру из трех комнат, которая заведомо была ему не по карману. С этого дня начались мучительные поиски разовых заказов. Он соглашался на любую работу, не гнушался даже черчением. В письмах на родину к своим прошлым опекунам он рассказывал о том, что был бы счастлив уделять как можно больше внимания семье, если бы не удручали мелочные заботы о «презренном металле».
Жизнь в столице с красавицей женой была слишком дорогим удовольствием. Расходы росли с катастрофической скоростью, и Алексей Викторович не знал, что делать. Выгодные заказы проходили мимо, и ему начало казаться, что удача совсем изменила ему. Он сделался раздражителен. На голове появились глубокие залысины, устало глядели совсем еще недавно его такие живые глаза.
Но и в этом положении он не мог позволить себе выполнять даже пустячные заказы кое-как, не вкладывая в них всего, на что был способен. Он чувствовал, что стоит ему чуть-чуть расслабиться, сделать вполсилы рядовой заказной эскиз, как он навеки обречет себя всю жизнь тащить неблагодарную чиновничью лямку.
Однажды его позвал к себе в кабинет Григорий ИвановичКотов и дал ему прочитать свой доклад в комиссии, созванной в связи с предстоящей реставрацией и ремонтом Киево-Печерской лавры.
Успенская церковь 1070 года постройки — главное украшение лавры — пришла с годами в полный упадок. Лучшие художественные силы были привлечены к созданию нового проекта внутреннего убранства храма, и прежде всего иконостаса. Академик живописи Д. Д. Фартусов представил свой проект, но комиссия сочла его вычурным. Проект академика архитектуры С. Н. Лазарева-Станищева тоже был отвергнут, так как хотя и был самобытен, но инороден по стилю.
— Мне лично из всех отвергнутых проектов больше правится иконостас Фартусова, — сказал Григорий Иванович. — Но нашла коса на камень: митрополит Киевский и настоятель церквей Малороссии и Бессарабии Флавиан — старик вредный и желчный — требует сохранить старые царские врата. Уперся, хоть каленым железом его жги. А Фартусову тоже гонору не занимать. «Во Владимирскую Церковь, — кричит, — паломники стекаются не на ладан, а на живопись Врубеля поглядеть! А вы, святой отец, его первым мучителем были!»
— Зачем вы мне все это рассказываете, Григорий Иванович?
— Ну, если не догадались, придется объяснить. Я рекомендовал вашу, Алексей Викторович, кандидатуру...
— А почему бы вам самому не взяться?
— Да потому, что идея, которую реализовал Фартусов, принадлежит вашему покорному слуге.
— Иными словами, вы предлагаете мне дело, на котором обожглись? — улыбнулся Щусев.
— Да, обожглись лучшие наши мастера. Я готов оказать вам решительную поддержку, но сам я за это дело не возьмусь.
— А на моем месте взялись бы?
— На вашем месте, дорогой Алексей Викторович, используют любой, даже самый эфемерный шанс. Решайтесь. Я же вижу, как несладко вам живется. Решайтесь!
— Я должен посоветоваться с семьей. Можно, я отвечу вам завтра?
— Завтра, Алексей Викторович, вы будете в пути, потому что ответ я уже дал, — строго сказал Григорий Иванович и положил перед Щусевым конверт с деньгами. — Советую вам отправляться с семьей в Киев и обосновыватьсятам. Верю в ваши способности, коллега.
Глава VIII
Сам себе голова
Отправился Щусев в Киев, как на Голгофу. О работе, которая его ожидала, он имел самое приблизительное представление, и если бы не удалось ему встретиться перед отъездом с Петром Ивановичем Нерадовским, то даже малой уверенности не чувствовал бы он в себе. Петр Иванович подарил ему старинные руководства по внутреннему убранству храмов, составленные русскими и итальянскими мастерами.
Эти руководства были хороши уж тем, что их авторы без утайки выкладывали весь тот опыт, что был у них за душой. Наставления развеселили Щусева своей наивностью, пленили искренностью. Он подумал, что современные архитекторы напрасно отмахиваются от маленьких хитростей и премудростей мастеров давнего времени.
Старинные фолианты и летописи стали по приезде в Киев глубоким увлечением Алексея Викторовича. Конечно, не мода на старину, развиваемая такими журналами, как «Старые годы» и «Мир искусства», побудила его изучать старый быт и нравы, вникать в творчество богомазов. Его ежедневные посещения библиотеки Киевской духовной академии, беседы с богословами помогли ему в короткий срок завоевать авторитет в той среде, куда он был заброшен волею судеб.
Пришлось мобилизовывать все свои духовные силы, выдержку и настойчивость, прибегать к дипломатии, чтобы вести словесную борьбу с религиозными ортодоксами, для которых церковная догма была во сто крат выше художественной ценности созданий Феофана Грека, Дионисия, Андрея Рублева.
Из лавры он приходил с головной болью и, чуть отдохнув, вновь и вновь принимался анализировать отклоненные церковниками проекты иконостаса. Сначала он пытался отыскать логику в возражениях оппонентов, но вскоре убедился в тщетности этих попыток: ему открылось, что они сами толком не знают, чего хотят.
В объяснительной записке к проекту говорилось: «...в целях придания долговечности и противопожарной безопасности заменить обветшалый деревянный иконостас новым иконостасом из мрамора, изукрасив его серебром и золотом, равно как эмалью и мозаикой в византийском стиле XI — XII веков».
Оказалось, что предстоящее ему дело не такое уж неведомое: венецианские соборы, которые он в недавнем прошлом рисовал, должны были сослужить ему добрую службу. Его проект, думал он, должен решительно отличаться от прежних. Он обязан ошеломить им церковников, сбить их с толку, подчинить художественной идее. Для этого надо создать что-то небывалое. А пока он делал один за другим рисунки, упорно отказываясь представлять их на суд заказчиков.
По прошествии полугода отец Флавиан, поначалу благотворно взиравший на дотошного и работящего архитектора, топнул ногой и потребовал показать предварительные эскизы. Щусев согласился, поставив два условия: не считать предварительные эскизы официальным этапом работы и ограничить круг экспертов... одним отцом Флавианом. Оба условия были приняты.
В просторной и солнечной обители сановного священника Алексей Викторович демонстрировал свои эскизы, резко отличающиеся один от другого. И вместе с тем у всех эскизов была общая черта: каждому не хватало двух-трех штрихов до завершения образа. Чем меньше был сведущ человек в искусстве, тем труднее ему было преодолеть искушение взять в руки карандаш.
Один эскиз, на который Алексей Викторович возлагал особые надежды, он приберег напоследок. Вопреки проектному заданию, он заменил в нем иконостас алтарной преградой, прообраз которой находился в церкви Санта-Кроче во Флоренции. При таком решении изображения четырех архангелов и чудотворный образ Успения богоматери — главные реликвии Успенской церкви — получали как бы легкий взлет, открывая по-новому убранство алтаря, не изолируя его, как старый иконостас, а как бы распахивая перед взором внутренний интерьер храма. Замена иконостаса ажурной алтарной преградой открывала старинное мозаичное изображение богоматери в конхе главной апсиды на своде храма за царскими вратами. Мраморные столпы, изукрашенные растительным орнаментом с золотыми прожилками, поражали легкостью и изяществом форм.
Как и следовало ожидать, отец Флавиан исправил «недоработки» зодчего, за что тот его почтительно поблагодарил. Когда же дело дошло до последнего эскиза, Флавиан сердито сдвинул брови и пробасил:
— Что это?
— Не обращайте внимания, святой отец. Художественные фантазии, ничего больше. Вы ведь против алтарных преград, вот я и попытался создать нечто среднее между иконостасом и алтарной преградой. Если вам не нравится, разорвите, я тужить не буду.
Ноу Флавиана не поднялась рука уничтожить эскиз — уж больно он был радостен и свеж. Умный священник подумал, что предлагаемое решение несет в себе идею демократизации религиозного обряда. Раскрытое пространство алтаря как бы открывает прихожанам доступ в святая святых церкви, присвоившей себе единоличное право лицезрения гроба господня и окружающего его пространства во всем его торжественном убранстве.
Подкупали простота и искренность проекта. Казалось, даже каменное сердце дрогнуло бы перед этим чистым и трепетным прикосновением к старине Киево-Печерской лавры.
— Буду думать! — сказал отец Флавиан и забрал эскиз.
Сухой, костлявой рукой позвонил он в серебряный колокольчик, и в дверях тут же вырос могучий монах с детски невинным лицом.
— Чего желаете, владыко? — тонким голоском спросил он, потупив глаза.
— Угости нас, брат Серафим, чаем. Талантом гость из России сей чай заслужил, — пошутил отец Флавиан, с улыбкой глядя на Щусева.
— А я ведь малоросс, ваше высокопреосвященство, казацкого роду, военного...
— Поведай, сын мой, о себе. Нам о тебе все знать желаемо.
За чаем с пастилой и баранками Алексей Викторович с юмором рассказывал эпизоды из своей юности, связанныес раскопками в Кугурештах, о недолгой дружбе с зычноголосым отцом Паисием из Русештского монастыря. Междуделом поинтересовался, не знает ли отец Флавиан что-либо о его судьбе.
Память у отца Флавиана, несмотря на его преклонный возраст, оказалась крепкая: с Паисием он встречался всеготри раза, но составил о нем представление как о человеке,способном привлекать души праведные. Только вот беда с этими выходцами из тягла — дичатся и рыкают на сильных мира сего. Так и остался отец Паисий иеромонахом, а ведь был первым претендентом на пост настоятеля Русештского монастыря. Слишком буквально понимал он притчу о верблюде и игольном ушке...
Отцу Флавиану понравился почтительный молодой зодчий. Показалось даже, что его можно заставить в случае чего плясать под свою дудку. В голову не могло прийти,что Щусев способен играть в чужих владениях собственную музыку.
Настоятель повелел Щусеву продолжать отыскивать благолепный образ нового мраморного иконостаса и алтарной преграды. Алексей Викторович откапывал в синодальной библиотеке все новые подтверждения византийских корней алтарных преград. Совсем не просто было объяснять свои мысли монахам, и часто он приходил домой совершенно измученным борьбой с ними.
С художественно-архитектурной точки зрения сама работа над иконостасом не давала ему того творческого вдохновения, которое заставило бы забыть все на свете. Емухотелось добиться радостного озарения, когда один яркий образ сменяется другим, идеи теснятся, просятся на бумагу, где воедино сливаются красота и гармония.
Он забирался в самые глубины теологии, которая былаему чужда, чтобы сражаться на равных за свое произведение. Обстоятельства поставили его в такое положение, когда он должен был либо отступить, либо победить. Самфакт получения столь ответственного заказа, конечно, играл большую роль: куда бы он ни обращался за помощью —в Академию ли художеств, в Петербургское ли общество архитекторов, в Археологическое общество —все его просьбы исполнялись незамедлительно. Безотказно поступала по первому его запросу искусствоведческая и историческая литература, которая наталкивала его на новые поиски.
По просьбе Щусева Киевская духовная академия направила его в Турцию, в Стамбул — древний Константинополь, где он мечтал вдохновиться образом главного православного собора мира — Святой Софии, переделанной турками в мечеть. В этой поездке Алексей Викторович чувствовал себя не туристом, а художником-исследователем, накопившим серьезный багаж знаний.
В Стамбул он прибыл, как ему казалось, с четко сложившимися собственными представлениями. И он не ошибался. Святая София Константинопольская, знакомая ему по картинам, гравюрам, описаниям, предстала перед ним во всем своем великолепии. Ее купола, напоминающие купола Софийского собора в Киеве, так изумительно вписывались в горный пейзаж, что казались произведением самой природы.
Внутреннее убранство Софии выглядело удручающе. Мозаичные панно и знаменитые на весь мир фрески были либо замазаны, либо прикрыты огромными круглыми щитами с начертанными на них письменами из Корана. Лишь растительный орнамент сводов и ярусов был оставлен в первозданной красоте.
Щусеву казалось, что он слышит голос древнего мира — того, который принес на Русь новую культуру. Со строгой сосредоточенностью делал он эскиз за эскизом, горяча собственное воображение. За короткий срок он создал более сотни рисунков с орнаментов Святой Софии.
По возвращении в Киев он попросил члена художественной комиссии Н. П. Кондакова помочь ему составить доклад, о котором перед отъездом в Стамбул попросило его Общество архитекторов. Этот доклад, отражающий узко специальный поиск Щусева, был прочитан им на собрании общества 12 марта 1902 года и опубликован в журнале «Зодчий».
Докладу предшествовало важное событие: в самом начале января проект алтарной преграды Великой Успенской церкви Киево-Печерской лавры был утвержден.
О такой победе Щусев не мог и мечтать, хотя скрупулезно и сосредоточенно готовил ее с первого же дня, как взялся за проект. Убедить в своей правде такую тяжелую, привередливую и в основном малообразованную среду долго казалось ему непосильным. Генеральное обсуждение его проекта состоялось в последний день рождества. Вместе с Г. И. Котовым он неустанно вел подготовительную работу, чтобы привлечь на свою сторону сановных священников, многие из которых упорно сопротивлялись всякой новизне.
В самый решающий момент, когда чаша весов готова была склониться на сторону оппонентов, Щусева поддержал отец Флавиан, которому очень хотелось видеть в молодом зодчем приверженца и пропагандиста собственных идей. Он вознамерился приручить Щусева, сделаться его духовным пастырем. В архитекторе его привлекали поразительная работоспособность, художественный вкус, врожденное уважение к мнению окружающих. Казалось, Алексей Викторович готов был пригласить в соавторы своей работы любого человека, давшего ему ценный совет. Немалую роль сыграло и умение молодого человека быть приветливым, приятным в общении. Он словно боялся кому-либо не понравиться.
Заключительное слово, произнесенное отцом Флавианом, было твердым. Против мнения владыки не посмели пойти даже представители Синода. Правда, впоследствии они все-таки сумели проявить свое отношение к утвержденному проекту: в него была добавлена графа о том, что финансирование реставрационных работ целиком возлагается на Киевскую епархию. Присутствующий при этом архимандрит-эконом Феодосий даже присел от такого решения, но отец Флавиан сердито зыркнул на эконома, и тот послушно вывел свою подпись под проектом.
Церковники трясли бородами, ехидно поглядывая на отца Флавиана. Да и сам владыко выглядел озадаченным: где взять материалы и средства, розовый мрамор и сусальное золото, если патриаршая казна закрыта для него? «К патриарху в ноги паду — решил он. — Не оставит отец наш без призрения древнейшую церковь Успения Богородицы».
Что же касается Алексея Викторовича, то его не очень волновали эти заботы. В этом не было ничего удивительного: упоенный победой, он вовсе не думал о том, какими средствами будет реализован проект. Несколько позже он понял, что утверждение проекта такой значимости и такого масштаба означает, что ему предстоит соединить в собственном лице художника и строителя, организатора и политика, пропагандиста искусства и общественного деятеля. Молодой зодчий принимал поздравления, радовался вниманию, которое все ему оказывали, рассказывал о своих художественных находках, а в ответ на вопрос о том, как все будет осуществляться, разводил руками.
Один из официальных членов комиссии, граф Юрий Александрович Олсуфьев, был особенно ласков и предупредителен к архитектору, звезда которого едва засветилась на небосклоне. Он пригласил Щусева в апартаменты, которые занимал в доме киевского градоначальника графа Урусова, и после обильного ужина предложил взяться за перепланировку его петербургского фамильного дома. Щусеву хотелось незамедлительно ответить согласием, но он сказал, что должен сперва как следует осмотреть дом, составить примерную смету расходов. Такая осмотрительность пришлась графу по душе. Прощаясь с Алексеем Викторовичем, он протянул ему конверт с деньгами.
— Этой суммы, я полагаю, будет достаточно на предварительные расходы, — сказал он. — Деньги эти ваши, независимо от того, договоримся мы или нет. Мне почему-то кажется, что мы сговоримся к обоюдному удовлетворению.
— Смею надеяться, ваше сиятельство, что так оно и будет,— ответил Щусев, без робости пожимая ему руку.
Так заказ, за который сражались бы маститые архитекторы, достался двадцативосьмилетнему зодчему безо всяких усилий.
Вскоре, забрав семью, он вернулся в Петербург и с жадным азартом принялся за работу в надежде проявить себя в гражданской архитектуре. А работа предстояла немалая. Вместе с внутренней перепланировкой старинного трехэтажного особняка на Фонтанке, как раз напротив Инженерного замка, нужно было надстроить четвертый этаж и, что самое трудное, преобразить внешний облик дома в соответствии с современными требованиями. Графу очень хотелось, чтобы его дом стал в своем роде уникальным, был у всех на виду, сделался объектом подражания.
Снова пришлось засесть за изучение проектов и возведенных в натуре строений, но теперь уже самых современных.
Развитие капитализма в России наложило отпечаток на всю общественную и художественную жизнь страны. Не осталась в стороне и архитектура, которая во все времена была зеркалом, отражающим общественные тенденции и вкусы эпохи. Канул в Лету классицизм, эклектика утомляла и раздражала, модерн делал первые шаги, пугая своим космополитизмом. Призывы обновить и обогатить палитру изобразительных средств архитектуры неслись отовсюду.
Чуть ли не треть петербургских богатых домов перестраивалась. Летом город производил впечатление большой строительной площадки. Одни дома снимали строительные леса, другие надевали, но редкому дому удавалось выделиться. Холодная каменная громада Петербурга подминала под себя самые изощренные подделки под народность. Лишь снижалось качество архитектурных решений, вдохновленных еще Петром I.
Заказчик Щусева только казался покладистым. Он умело вытягивал из молодого зодчего все, на что тот был способен, бракуя его эскизы один за другим. Граф Олсуфьев, в отличие от многих сановников, не без пользы заседал в высоких комиссиях: его художественный вкус отличался высокой требовательностью. Правда, граф был довольнокапризен, но умело маскировал это, прикидываясь, когда нужно, благодетелем.
Но и Щусев был уже не робкий юноша, прячущий в карман собственное мнение. Вскоре он увидел, каким махровым консерватором может оборачиваться либерал.
Алексей Викторович предложил осуществить перестройку олсуфьевского фамильного дома в строгом ранне-петровском стиле. Он четко прорисовал на эскизе мощные карнизы, кованые решетки, лепные балконы и профили. Четвертый этаж был решен как мансарда, на которой будет использован старый венчающий карниз — предмет гордости графа. Высокое окно, помещенное в тимпане фронтона, выгодно обрамлялось графским гербом, изящный рисунок балконных решеток гармонировал с абрисом герба.Проект отличался глубокой и подробной детализацией, свежестью и большим вкусом. Граф без подсказок прочитал в новом фасаде идею приверженности своего рода деяниям Петра I, незыблемость и древность своих корней.
Получив одобрение, Щусев приступил к реализации проекта. Когда работы были завершены, граф радовался, как ребенок, и бил в ладоши.
С этого времени начинается феерический взлет никому прежде не известного зодчего. Все заметили свежесть его творческой манеры, бережное отношение к истокам русского зодчества. Именно о таком подходе к национальному наследию мечтала прогрессивная художественная общественность.
Граф Олсуфьев был в числе людей, безгранично уверовавших в способности зодчего. Он догадывался, что Щусев может ускользнуть от него, когда получит возможность выбора. Чтобы этого не случилось, граф поторопился дать архитектору новый заказ.
Член множества советов и комиссий, Олсуфьев был сопредседателем Комитета по увековечению памяти победы русских на Куликовом поле. В 1380 году русские, возглавляемые князем Дмитрием Ивановичем, уверовали в то, что монголо-татарские тумены и тьмы могут быть биты, что не один лишь литовский князь Ягайло умеет не бояться их. Черное рядно татарского ига, закрывшее на века свет свободы для русского народа, было порвано на Непрядве-реке, при ее впадении в Дон.
Уже не первый год искал комитет достойный проект памятника, чтобы воздвигнуть его на поле Куликовом. По счастливому совпадению, славное поле находилось на территории вотчинных владений графа, и он, не раскрывая до времени своих замыслов, пригласил Алексея Викторовича посетить его поместье в Монастырщине. Здесь Щусев отдыхал после напряженной работы, гулял в березовых аллеях бескрайнего барского сада.
Самыми приятными были послеобеденные часы, когда хозяин отправлялся вздремнуть, а гость шел в библиотеку. Алексей Викторович не завидовал богатству графа, одна лишь старинная библиотека с тысячами фолиантов в кожаных переплетах зажигала жадным блеском его глаза. Устроившись в уютном тяжелом кресле и обложив все досягаемое пространство книгами, он отправлялся в путешествие по страницам истории.
Видимо, действовала близость Куликова поля — так и тянуло к летописям четырнадцатого века. Он погружался в славянскую вязь, и летели над его головой горячие ветры суровых времен.
Много раз битые, тысячекратно опозоренные русичи по крохам собирали в кулак былую удаль. И вот наконец перебрались они на тот берег Дона, где стоял враг, веруя в слова Сергия Радонежского, посулившего победу русскому воинству. Поднявшееся солнце осветило крепкий частокол островерхих шапок противника. Плотная стена из лошадей и человеческих тел тянулась от горизонта до горизонта. Негодованием дышала эта стена — рабы вздумали бунтовать. Так будет им наука, чтобы запомнилась на вечные времена.
А в русском стане спокойно готовились к тяжелой ратной работе. Заскорузлые руки, привыкшие сжимать чапыги сохи, оглаживали рукояти кованных в деревенских кузнях мечей.
— Ты, князь-батюшка, сыми золотые бляхи-то да ступай в корень войска, — велят Дмитрию воеводы. — Неможно нам без тебя остаться — пропадем.
Дюжий детина Пересвет сжимает дубинообразное древко выбранного по руке копья. Ему начинать сечу.
Шаром отскочил от черной татарской стены верховой на прыткой низкорослой лошади.
— Такого-то сшибу, — бахвалится Пересвет и вваливается в седло.
Конь испуганно вздрагивает под ним и зло косит глазом, пытаясь угадать, что за гора обрушилась на него. Шевеля буграми мощных ляжек, он примеривается к весу седока, торопит миг, когда богатырь отпустит стремя и понукнет его двинуть в разбег.
— С богом! — приказывает князь и отходит во вторую цепь. Чем ближе Пересвет к татарину, тем суровее и строже его лицо. Будто на глазах увеличивается противник в росте. Лоснятся его крепкие скулы, рыком «гур-рах» бодрит он коня, одновременно пытаясь запугать летящего насшибку с ним богатыря. Всего лишь миг отпущен им: пробитые копьями, они словно тянутся друг к другу, а в распахнутых глазах уже гаснет жизнь. Освобожденные от седоков кони скачут каждый в свой стан, а две стены текут схватиться — одна с лихим гиком, другая молча.
Волнами змеится и дрожит полоса сечи. Из-за поросшего дубовым лесом холма следит за борьбой русский запасный полк. Весь день скользят по небу стрелы, ища свою жертву. Уже давно через силу вздымаются мечи. Вся надежда лишь на последний миг, когда удастся вложить в Удар все, на что ты еще способен. Давно уже ноги скользят по красной траве, кажется, стал привычным острый запах крови и разгоряченных тел. Потерян счет ранам. Уже нет ни передних, ни задних порядков, все насладились упоением и жаждой боя.
Полегло русское воинство. Враги собираются в кучки и подбираются к воде, чтобы смыть пот и кровь. Но что это? Будто ожили мертвые — свежие полки новой стеной стекают с холма, надвигаются смертной грозой. Лишь те, кто успел вскочить на резвых коней, смогли утечь за горизонт, чтобы доставить страшную весть в Орду...
Щусев давно догадался, зачем пригласил его в свое родовое имение граф Олсуфьев. Однажды погожим утром под окном Алексея Викторовича остановилась лакированная коляска. В ней сидел, опершись на трость, граф в белой соломенной шляпе. Его узкое породистое лицо повернулось к Алексею Викторовичу.
— Не желаете ли, мой друг, прокатиться до завтрака? — спросил граф, выговаривая русские слова с французским прононсом.
— Охотно! — воскликнул Щусев и выпрыгнул из окна.
Белая посконная рубаха его с открытым воротом была подпоясана красным шелковым шнуром.
— Из этого окна еще никто не выпрыгивал, — поморщился граф.
Щусев пропустил замечание мимо ушей и легко вскочил в коляску. Кучер каменным изваянием сидел на козлах и ждал команды. Граф лениво взмахнул рукой — коляска тронулась и, мягко покачиваясь на рессорах, покатила по аллее.
— Вы дворянин, Алексей Викторович?
— Да. Но не вижу в этом никакой своей заслуги.
— Из мелкопоместных?
— Предки-то? Вообще беспоместные.
— Странно. Объясните, — попросил граф.
Его лицо выразило заинтересованность.
— Вряд ли вам, Юрий Александрович, это будет интересно. Хотя, не скрываю, главою нашего рода горжусь.
И Алексей Викторович весело рассказал о есауле Ольвеопольского полка Константине по прозвищу Щусь.
— В таком случае наша прогулка будет вдвойне интересной, — загадочно сказал граф и приказал кучеру: — Сворачивай, братец, к парому.
На душистых росных лугах по обе стороны дороги шел сенокос. Чернобородый мужик вострил литовку, ногтем большого пальца пробовал жало лезвия косы и сосредоточенно делал вид, что не замечает барина. Граф испытующе глядел на мужика, тот так и не поклонился.
— Это чей же будет такой гордец? — спросил граф кучера.
— Чужаки, по найму, ваше сиятельство. Они завсегда гордые, — сказал кучер и крикнул мужику: — Поклонись, чучело, чай, голова не отломится.
Мужик мотнул головой, сел на траву и стал перевязывать лапоть. Щусев с интересом глядел в его сторону.
У парома сгрудились возы с сеном. Кучер заорал:
— Расступись! — и взмахнул бичом.
Граф одернул его:
— Твое усердие неуместно, любезный. Мы на прогулке, а народ делом занят...
С парома, гремя, скатилась последняя порожняя телега, и паромщик сделал знак въезжать.
— Вот на этом месте, — сказал граф, — состоялся воеводский совет: переправляться через Дон или встретитьМамая на этом берегу. Место священное для русской истории.
Алексей Викторович огляделся по сторонам: сочные заливные луга изумрудно светились под солнцем, черным лаком отливала глубокая вода, в небесах радостно звенелижаворонки. Лишь дюжий мрачный паромщик в красной линялой рубахе вносил своим видом диссонанс в эту мирную картину. Словно он являл собой напоминание о грозном и большом зле, унесшем здесь тысячи молодых и сильных жизней.
— Буду здесь вашим гидом, уважаемый Алексей Викторович. Места эти вдвойне дороги мне, потому что я живу здесь. Мне хочется, чтобы и вы полюбили их, иначе вам не удастся справиться с задачей, которую я хотел бы на васвозложить. Видите ли, сначала мы думали о памятникесветского характера, но в стороне от проезжих дорог он вряд ли был бы уместен. Памятник должен стать предметом паломничества, стало быть, храмом. Если вы оченьпостараетесь, то сотворите здесь нечто такое, чего никому другому создать не удастся.
В ночь под воскресенье 8 сентября 1380 года устроил князь Дмитрий Иванович полковой смотр. Полки выстроились, но было это не парадное построение. За спиной у воинов был Дон. Русские отрезали себе путь к отступлению, надежды выстоять — почти никакой. Святая земля у нас под ногами, — сказал граф и велел остановить коляску. — Здесь я обычно иду пешком.
Алексей Викторович вслед за графом ступил на луговую траву. Теплым медом пахли полевые цветы. С трудом верилось, что среди этой благодати могло твориться страшное побоище.
— Рассказывают, что после битвы здесь много лет не росла трава, так была убита копытами и сапогами земля.
Щусев во все глаза глядел на полосу земли, с одной стороны обведенной Непрядвой, а с другой — крутыми холмами.
— Взгляните вот на тот пригорок. Здесь столкнулся Александр Пересвет с Темир-мурзой. А на том месте, где мы с вами стоим, положил груду татар крестный брат Пересвета Андрей Ослябя, мстя за смерть Пересвета. В самом центре поля погиб Михаил АндреевичБренок — любимец князя Дмитрия. Ему Дмитрий Иванович преподнес свои золоченые доспехи, белого коня своего и повелел рынде возить за ним великокняжеское черное знамя. Этой честью обрекал князь Бренка на верную гибель, и бесстрашный воин знал цену этой чести. Наши предки проявили на этом поле стратегический талант: они выстроились полумесяцем во всю ширину и спровоцировали противника на лобовой удар. Степняки привыкли добывать победу, в совершенстве владея налетом с флангов. Русские, выбрав Куликово поле для битвы, лишили Мамая этого маневра.
— А где же Красный холм? — спросил Щусев.
— Сейчас мы к нему подойдем. Обратите внимание на этот камень. По преданию, именно здесь под грудою тел был найден едва живой князь Дмитрий Иванович. Доброй кольчугой снабдил его воевода Семен Мелик...
Подъем стал круче. Граф раскраснелся и утирался платком. Он долго прерывисто дышал, прежде чем снова заговорить.
— Это и есть Красный холм. Раньше на нем росли вековые дубы. Я хотел дубраву возродить, да ничего не выходит. Видно, унесли деревья тайну своей жизни с собою. А может быть, памятный столп сделал непригодной для дубравы почву, — сказал граф, кивая на сталактит с крестом наверху.
Куликово поле казалось отсюда еще уже. Было совсем непонятно, как тысячи людей могли уместиться на нем.Словно угадав мысли Щусева, граф сказал:
— На поле битвы была невообразимая теснота. Люди и кони давили друг друга, ратники даже не могли занести оружие. Но цель была достигнута: противник завяз в этом столпотворении и преимущества конной атаки были сведены на нет. Вон с того места глядели из-за дубов ратники засадного полка, как на поле погибают их братья, их земляки. Представьте, какой невообразимой пыткой было лицезреть, как на исходе третьего часа сечи степняки стали одолевать русских. Татары проломились сквозь фронт, подмяли головной полк и добрались до знамени. Падение знамени обычно означало победу. Знамя пало, но русские продолжали биться. Где Мамаю было знать, что лучшие силы народа сознательно шли здесь на смерть? В Куликовской битве даже знамя было предусмотренной жертвой... Когда упал князь Дмитрий Иванович и татары обступили последние кучки русских воинов, не удержался князь ВладимирАндреевич, встал, чтобы ввести в дело резерв, но силойпригнул его к земле воевода Дмитрий Волынец. «Беда велика, княже, — сказал он, — но время не пришло. Потерпим еще, помучаемся, а потом воздадим «воздарение» нашим противникам»...
Граф говорил высоким стилем, глаза его блестели.
— «Подождите, буйные сыны русские, — цитировал он по Татищеву Волынца, — будет вам с кем утешиться, есть еще с кем пить и веселиться!» Когда настал восьмой час битвы, внезапно поднялся южный ветер. И воскликнул Волынец громким голосом: «Князь Владимир, час настал ивремя пришло!» Что было дальше, вы знаете. До самойречки Мечи десять верст гнали русские татар. Мамай счетырьмя чингизидами утек в степь и долго собирал жалкие крохи своего войска. Хан Тактамыш вышел ему навстречу и побил Мамая. Опозоренный, в чужой одежде, он бежал в Крым, но в Кафе был опознан и убит... Все это, уважаемый Алексей Викторович, вы должны воспеть своим храмом, который будет стоять здесь.
Идея храма-памятника пришлась Щусеву по душе. Алексей Викторович отметил про себя, что многие подробности великой битвы граф Юрий Александрович знал досконально. Он не только справился с ролью экскурсовода,но и сумел с большим чувством рассказать о многих неизвестных Щусеву сведениях, которые впоследствии могли ему очень пригодиться.
За завтраком граф оставался под впечатлением собственного рассказа, вспоминал новые имена, описывал детали одежды и воинского снаряжения. С тех пор Куликовская битва стала главной темой их общения. Казалось, они никогда не исчерпают ее.
В отличие от многих людей, быстро загорающихся, но так же быстро и остывающих, Щусев не забывал того, что входило ему в душу. Теперь его часто можно было встретить на Куликовом поле в обществе косарей. Он выпытывал, что сохранила народная память о событиях пятивековой давности. Десятки раз из края в край исходил он поле, с разных точек приглядывался к облюбованному месту, пока однажды рука сама не потянулась к карандашу.
В воображении возник образ белой, будто перенесенной сюда с гравюры, приземистой церкви. У наших предков церковь была и молельным домом, и своеобразным клубом, и даже местом для хранения товаров. Молились перед алтарем, бо́льшую же часть церкви занимала трапезная, в подклетах были кладовые с церковным и общественным добром. Люди сходились сюда каждый день. В те времена народная жизнь была немыслима без этих сходок.
Память о победе Дмитрия Донского, по замыслу Щусева, должна была воплотиться в монументальном строении, глядя на которое каждый думал бы о подвиге народа, добывшего в бою свободу. Он браковал один рисунок за другим, пока не решился думать без оглядки на графа Олсуфьева, который готов был приписать победу божьему провидению. Он нарисовал две сторожевые башни — мощные, крутобокие, соединенные крепкой стеной, которую в самой середине прорезает теремной вход под двускатной крышей. А за стеной, за врезанной в нее колокольней, поднимаются кресты.
В память о том, что из шести русских полков последними полегли новгородский и псковский, Щусев остановился на стилистике псковско-новгородского каменного зодчества, используя ее легко, непринужденно. Мощные и в то же время изящные сторожевые башни получили имена: одну он назвал Пересвет, другую — Ослябя.
План храма-памятника был строго симметричен, выдержан в канонах классики, перспектива же построена таким образом, что сухая академичность полностью растворилась в художественной прорисовке каждой детали. Окошки, похожие на бойницы, расположены причудливо, в неожиданных местах. Несмотря на классический план, памятник сохранял главную особенность северного каменного зодчества — это не архитектура в общепринятом смысле этого слова, это, скорее, каменная скульптура.
Графа Олсуфьева эскизный проект озадачил.
— Либо вы, Алексей Викторович, открываете новую страницу в архитектуре, — сказал он, — либо плететесь за тем, что давно отвергнуто жизнью. Во всяком случае, я не в состоянии оценить вашей работы. Если позволите, я покажу этот эскиз в Комитете по увековечению памяти победы‚ дав лестный отзыв. Каков будет решающий ответ, не берусь предугадать.
С этим Щусев отправился в Петербург, твердо зная,что памятник еще долго не отпустит его, заставит снова и снова возвращаться к нему.
Дома Алексея Викторовича ждало письмо от отца Флавиана с настоятельной просьбой прибыть в Киев, но уже не для проектных, а для практических работ. Какой архитектор не испытал бы ощущения счастья от сознания, что выношенный им проект он осуществит собственными руками!
Вызванная из Кишинева семья уже ждала его в Киеве, и он, как в студенческие времена, поспешил к Марии Викентьевне, будто на первое свидание. Августовский Киев встретил его запыленной зеленью, корзинами спелых фруктов. Алексей Викторович обещал Марии Викентьевне, что больше никуда не уедет. Наконец-то его мечты о спокойной работе и оседлой жизни сбылись.
С веселой иронией глядела на него жена.
— Такой непоседа, как ты, Алеша, даже в раю не усидит, будь его Ева трижды красавица, — сказала она.
Целый вечер Алексей Викторович играл с Петрушей, сам уложил его спать, рассказал ему сказку о маленьком Муке.
Утром, переполненный ощущением бодрости, он пружинисто шагал по улице, весело поглядывая на золотыекупола лавры.
В приемной отца Флавиана его не заставили ждать. Он поклонился сановному старцу и, дождавшись приглашения, сел, ожидая приятных новостей. Но отец Флавианначал с выговора — слишком долго Щусев отсутствовал.
Особенно удивило Алексея Викторовича высказанноевскользь замечание, касающееся его эскиза храма-памятника на Куликовом поле, которому, по мнению Флавиана,автор пытается придать слишком уж светский характер в погоне за современностью. Было от чего опешить — наушнический телеграф действовал безотказно.
Сам тон разговора святого отца свидетельствовал о его неколебимой уверенности в том, что мысли и талант молодого зодчего закуплены церковью на много лет вперед и безраздельно принадлежат ей.
— Если вы будете следить за каждым моим шагом и если я вам позволю это, ваше высокопреосвященство, — сказал Щусев, — то вы получите в лучшем случае жалкого ремесленника. Ни вам, ни мне это не нужно!
Еще одна новость огорошила Алексея Викторовича: финансирование его проекта до сих пор не утверждено. Оп вызван в Киев для иной работы.
Новая Троицкая церковь, с которой только что сняли строительные леса, была в то время предметом главных забот отца Флавиана. Архитектура церкви показалась Щусеву неудачной, особенно решение внутреннего интерьера трапезной палаты, в которой относительно большое внутреннее пространство было разгорожено унылыми чугунными столбами. Три продольных нефа были перекрыты плоскими сводами.
— Ума не приложу, что можно здесь сделать, — говорил отец Флавиан, подбирая рясу и перешагивая через кучи строительного мусора.
Своды арки, отделяющей алтарную часть от трапезной, купола и вспарушенные потолки, казалось, не оживить никакими силами.
— На вас уповаю, Алексей Викторович, — говорил отец Флавиан, поручая Щусеву выполнить разбивку стен под роспись, составить проект мраморных иконостасов, киотов и солей, оживить храм свежим орнаментом.
Практического опыта в работе по орнаменталистике у Алексея Викторовича не было, но отец Флавиан так умело и настойчиво уговаривал его, что ему пришлось согласиться.
— Таким только амбары строить да завозни, а не храмы на Киевской земле! — ворчал Щусев, поминая архитектора Троицкой церкви.
— Посмотрю, что вы построите, Алексей Викторович. Закончите внутреннее убранство благолепно — обещаю: будете строить свой храм!
Огромный объем предстоящих работ заставил крепко задуматься. Какими силами их выполнить и как эти силыпривлечь? На следующий день Алексей Викторович потребовал увеличить вдвое сметные расходы.
— Зачем же так много! — взмолился отец Флавиан.
— Здесь должны работать лучшие художники, — спокойно отвечал Щусев, и по его интонации видно было, чтоторговаться бессмысленно.
Кряхтя и вздыхая, отец Флавиан выделил нужную сумму, и Алексей Викторович взялся за дело.
Снова его рабочий стол завалили эскизы. Теперь это были орнаменты разных тонов — от бледных северных до ярких среднеазиатских и аравийских. Из архитектора он превратился в художника-декоратора. Увлеченность —главное свойство его натуры — и тут потянула его в самые глубины, к истокам народного декора.
Бессарабские и украинские мотивы вскоре полностью завладели им. В памяти ожили впечатления детства. Онвспоминал молдавские хаты, чистые горницы, где под потолком змеится причудливый растительный орнамент либо бегут голенастые петухи с красной ягодой в клюве. Он пристально изучал орнамент украинских вышивок, мог часами разглядывать фантастические узоры на скатерти или рушнике.
Какая-нибудь полуразрушенная капличка на развилкедороги, изукрашенная рукою безвестного мастера, могла надолго приковать его внимание одним грациозным завитком. Долгие пешие прогулки по окрестным деревням давали богатую пищу воображению. Разрушенная харчевня или заброшенная, полуразвалившаяся церковь способны были натолкнуть его на новый образ.
Он заставлял себя трудиться и день и ночь и часто, поднявшись утром, сразу брался за карандаш — казалось, неведомо откуда являлось неожиданное, свежее и яркое.
В эту пору Щусев часто заглядывал во Владимирский собор и долго любовался орнаментальными росписями Врубеля. С каким тактом великий художник прикасался к народному наследию, на какие смелые решения натолкнуло его скромное мастерство безвестных умельцев, как тонко чувствовал он народную душу. Блестящий декоративный талант Врубеля, этого на редкость самобытного живописца, давал новый импульс к работе.
Щусев одного за другим браковал богомазов, которых пыталось навязать ему духовенство лавры. Для росписи трапезной он сумел привлечь маститых художников Ижакевича, Попова, Горбунова. Он предоставил им полную свободу, отлично понимая, как окрыляет это творческую личность. Когда Алексей Викторович собственноручно поправлял росписи, он неизменно чувствовал, что его товарищи отвечают ему доверием, отлично понимая, что его функция — держать в сознании целостный образ, к которому все они должны стремиться.
В один из ясных осенних дней Щусев, лежа на лесах, расписывал загрунтованный свод. Временами краска капала на грудь, на лицо, но он не чувствовал неудобства. Чуть приглушенный тон зеленоватых оттенков растительного орнамента был нежен и трогал за сердце. Не хватало лишь какого-то мелкого штриха, чтобы живопись проснулась, осветилась, как зеленая ветка после дождя.
Щусев положил серебряный тон, как вдруг услышал снизу густой простуженный голос:
— Золото, золото здесь просится, батенька. Подождите, я вам сейчас покажу.
Алексей Викторович отложил палитру и сердито поглядел вниз. По лестнице поднимался незнакомец в черном плаще и в широкополой шляпе. Взобравшись наверх и не произнеся больше ни слова, он улегся рядом со Щусевым на широких полатях, сощурил глаза, привыкая к освещению, и жестом потребовал палитру и кисть. Щусев невольно подчинился. Один уверенный мазок, другой — золото послушно вплеталось в орнамент, оживляя его.
— Теперь попробуйте сами, — сказал художник, передавая Щусеву палитру.
Щусев повел линию по-своему — сильным жестким мазком. Сосед сосредоточенно молчал.
Странное дело, присутствие постороннего человека не сковывало, а, наоборот, придавало уверенность мазку. Попеременно передавая палитру друг другу, художники обменивались малозначительными репликами. Невесть сколько пролежали они на лесах, пока не завершили орнамент.
— Давайте снизу посмотрим, что у нас получилось, — предложил Щусев, и они стали спускаться по лестнице.
На промежуточной площадке незнакомец одобрительно хмыкнул и произнес:
— Мне нравится ваш вкус, молодой человек.
— Извините, но мне не нравится, когда мне говорят «молодой человек», — сказал Щусев и представился.
— Очень приятно, — сказал незнакомец и, в свою очередь, представился: — Михаил Васильевич Нестеров, живописец.
В его крепком рукопожатии чувствовалось дружелюбие, зоркие глаза светились умом. Он показался Щусеву человеком другого поколения. Трудно было предположить, что недолгое единение на лесах перерастет в дружбу.
— Так вот вы, стало быть, какой, господин Щусев, — сказал Нестеров, с интересом разглядывая его при солнечном свете. — Во всем Киеве только и разговоров, что о вас. Очень жаль, что попы испугались строить ваш иконостас. Я видел ваш эскиз — свежо, смело!
С того момента, как Нестеров назвал свое имя, Алексей Викторович не мог успокоиться. Звезда российской живописи, художник, завоевавший признание и Академии художеств, перед которым заискивали члены царской фамилии, во плоти стоял перед ним и вроде бы даже добивался его расположения.
Неожиданно Алексей Викторович рассмеялся:
— А я вас, знаете ли, уважаемый метр, чуть было с лесов не прогнал! Вы уж, ради бога, извините невежду, не узнал я вас.
— Будь я на вашем месте, Алексей Викторович, прогнал бы непременно! — отозвался Нестеров, и они рассмеялись.
Оказалось, что Нестеров на время обосновался в Киеве — городе, который он любит, как любят отчий дом. Михаил Васильевич обрадовался, узнав, что Щусев родом из Молдавии. Со вниманием слушал он его рассказы о бессарабских обычаях, культуре, искусстве. Его увлекла горячность, с какой Щусев говорил о красках Молдавии, вкрапливая в свою речь молдавские словечки и выражения.
— Как жаль, что современное искусство утратилосвязь с народными традициями, — говорил Алексей Викторович. — Они живут сейчас как бы отдельно, сами по себе и от этого хиреют.
— Господи, — произнес Нестеров, — действительно, мы считаем, что народное творчество попросту неисчерпаемыйклад. Как это верно — уподобить народное творчество доброй матери, забирая от которой мы обогащаем ее. Почему же раньше никто до этого не додумался?
— Да это любой крестьянин знает. Поглядите на мужика в церкви, он туда не проповеди слушать ходит, а наживопись смотреть. Если даже ему что-то не нравится, онвсем сердцем старается понять и при этом никогда не теряет веры в красоту. Из слезливых жалельщиков наши передвижники превратились бы в истинных просветителей, знай они, насколько богата тайными кладами душа народа.
— Э-э, нет, Алексей Викторович, здесь я с вами готов поспорить...
— Но я же не оракул, чтобы изрекать истины, я просто высказываю свое мнение, — сказал Алексей Викторович и подивился, до чего свободно и легко он чувствует себя с почти незнакомым человеком. Совершенно непонятно, откуда взялась симпатия к Нестерову и почему ему так хотелось быть для него интересным?
Нестеров остановился и, переступив с ноги на ногу, сказал:
— Мне ужасно жаль прерывать наш разговор. Премного обяжете, если согласитесь заглянуть ко мне. Вы помогли бы мне разобраться в чрезвычайно важном для меня вопросе. Смею думать, что и я мог бы оказаться полезным для вас.
— Я был бы рад, если бы вы приняли меня через два часа. Жена не любит, когда я сильно опаздываю к обеду...
— Прекрасно! — воскликнул Нестеров. — Жду вас через два часа. Прошу без церемоний.
Когда они увиделись снова, то оба испытали ощущение, что знают друг друга давным-давно, так легко они находили общий язык.
Нестеров усадил Алексея Викторовича на тяжелый дубовый стул и вручил ему папку зарисовок орнаментов русского Севера.
— Ваша мысль не оставляет меня в покое, — сказал он. — Взгляните на эту декоративную роспись. Я сделал эти зарисовки в Белорецком монастыре. Это рисунок с модели XVII века, первое десятилетие. Барокко едва проникло в салоны, а здесь уже не обошлись без его влияния, барочность уже влилась в русский орнамент. Или вот московские зарисовки из дворца Алексея Михайловича в Коломенском. Как это у Симеона Полоцкого:
Городские и деревенские мастера из народа умели тонко улавливать особенности господствующего художественного стиля. Это без сомнения. Корни национального искусства я ищу повсюду, а больше на Севере. Там они ничем не замутнены, чисты, графичны. Полистайте зарисовки травных орнаментов. Разве не диво! На ясном фоне узор образуется сочетанием белой, черной и киноварной красок с тактичнейшим привнесением позолоты. Узнаете вариант их росписей в Троицкой церкви?
— Сходство есть, не возражаю. Но текущая линия лиственного узора у меня, как мне кажется, пластичнее, природнее, что ли...
— Это не только ваша заслуга, Алексей Викторович. Безвестные художники подготовили ваше восприятие, как бы собрали по крохам да и вложили в вас свои мысли. Взгляните, и в московских узорах, и в северных, и у вас один и тот же выбор колористического решения. Возьмите хотя бы вот этот московский поясок с растительным побегом: в перетекающих линиях нет никакого напряжения. А как играют белые оживки по орнаменту — просто прелесть!
— Но эта красота белесая, робкая. Мне нужны пышнолиственный сильный узор, зелень сочная... В Париже я видел работы одного «дикого» художника, он причисляет себя к импрессионистам, рисует ни на что не похожие яблоки, от которых слюнки текут. Мне нужна зелень такая, чтобы под ее сенью хотелось укрыться.
— И, насколько я вас понял, Алексей Викторович, вы намерены добиваться этой цели любыми средствами изображения?
— Я должен найти и утвердить свой собственный стиль, иначе какой же я художник, — тихо сказал Щусев и углубился в изучение орнаментов.
— Ваше счастье, что вы не позволили испортить себя в академиях. Природный дар — высшая ценность искусства, но одни лишь каноны нашего ремесла, к сожалению, одни лишь они делают наши глаза и руки умелыми.
— Я бы не стал так разграничивать ремесло и талант. Взять, к примеру, вас, если позволите?
Нестеров кивнул с едва уловимой иронией.
— Талант крупного мастера каждый раз сплавляется из воли, разума, интуиции, — сказал он. — В этом сплаве не найти никаких неоднородностей. Дарования меньшего размаха опираются чаще всего на выучку, приглядываются к распространенным вкусам, скрупулезно изучают сначала чужой опыт и не верят в свой.
В течение всей зимы и весны 1903 года Щусев и Нестеров встречались чуть ли не ежедневно. Михаилу Васильевичу близка была творческая манера Щусева. Особое удовольствие доставляли ему острота суждений, веселый и легкий нрав его нового молодого друга. Вся семья Щусева тянулась к Михаилу Васильевичу, а Петруша в нем просто души не чаял, постоянно теребил отца, спрашивая, когда придет дядя Миша и они вместе будут рисовать зверей и птиц.
Нестеров работал с раннего утра до полудня, а потом отправлялся на прогулку и неизменно шел к лавре, где в Троицкой церкви трудился Алексей Викторович. Михаил Васильевич скромно усаживался где-нибудь под лесами и, нисколько не мешая Щусеву, вел с ним неторопливые разговоры, осторожно давал советы, если Алексей Викторович спрашивал его мнения.
Буйная растительность все более заполняла огромные пространства стен и сводов. Цветущие деревья и растения гармонично сливались. Трудно было угадать, каким будет следующий орнамент, так причудливо было переплетение листьев, ветвей, трав. Строгий принцип организации орнамента Щусев выдерживал с неизменной четкостью, но умело скрывал его.
Вскоре стал виден конец долгой кропотливой работы. Помощники Щусева уже давно поняли, что от них требуется, и Алексею Викторовичу работалось легко.
Мысли его вновь и вновь обращались к памятнику на Куликовом поле. Каждый свой новый эскиз он показывал Нестерову, но Михаил Васильевич считал это пустой затеей, так как заказ на эту работу Щусев официально ни от кого не получал.
— Я провел жизнь с кистью в руке, — говорил Нестеров так, будто жизнь его была на исходе, а ему еще не было и сорока лет. — Многие прокляли искусство, пошли ко дну, потому что в самые деятельные свои годы занимались прожектерством.
В ту пору Нестеров работал над эскизами будущих росписей домашней церкви цесаревича Георгия Александровича, который безвыездно жил в Абастумани, тщетно пытаясь вылечить чахотку. Цесаревич был так плох, что оставалось уповать только на господа, поэтому церковь ему требовалась срочно.
Однако архитектор Свиньин, схвативший «жирный» заказ, не торопился с завершением постройки. Каждую весну, когда цесаревич особенно мучился, архитектор выпрашивал новые дотации и начинал невесть который раз перестройку куполов и кровельных перекрытий. Несмотря на все его усилия, кровля текла, бурые пятна вновь и вновь появлялись на стенах и сводах, в церкви пахло плесенью и мертвечиной. Вести роспись по таким стенам было бессмысленно: не только краски, но даже грунтовка не держалась на этих сводах.
— Петр I десять раз отправил бы этого мошенника за Можай! — возмущался Нестеров, откровенно страдая оттого, что не может выполнить порученную ему работу.
Щусев сочувственно выслушивал его жалобы, но помочь ничем не мог.
Алексей Викторович на этот раз был настолько уверен в собственном успехе, что его уверенность передалась сначала отцу Флавиану, а потом и всем церковникам. Орнаментальная живопись не только оживила своды и стенныые плоскости, но и каким-то неведомым образом исправила огрехи архитектуры. Однако отец Флавиан снова почитал, что успех Щусева случаен.
— Так вся наша жизнь случайность, святой отец! — весело заметил Алексей Викторович и ненароком напомнил об обещании дать ему самостоятельный проект: — Постараюсь сотворить еще одну «случайность», чтобы вы наконец поверили в закономерность случайностей.
Из Петербурга шли предложения по переделке дворов и особняков на манер дома графа Олсуфьева. Хотя ими заказами можно было обеспечить безбедную жизнь, Щусеву браться за них не хотелось. О судьбе памятника на Куликовом поле Алексей Викторович ничего не знал — граф Олсуфьев молчал. Отец Флавиан юлил, избегая прямого ответа, но и от слова своего не отказывался.
Заказ поступил с совершенно неожиданной стороны. Однажды вечером к Щусеву явился Нестеров. Он был в дорожном реглане, сапоги в пыли — только что прибыл из Петербурга и, не заходя домой, завернул к Алексею Викторовичу. Когда он здоровался со Щусевым, губы его кривились в иронической усмешке.
— Как это сказал отец Флавиан: на вас, сыне, уповаю. Так, что ли? — сказал он с порога.
Из сбивчивого рассказа Нестерова следовало, что в канцелярии обер-прокурора Синода он столкнулся со Свиньиным, добивающимся новых субсидий. Нестеров по требовал отстранить Свиньина от строительных работ и под свою ответственность вызвался подыскать подходящего архитектора, который бы без волокиты исправил дело. Обойдя знакомых архитекторов, Михаил Васильевич понял, что со Свиньиным никто не желает связываться — «зело коварен и опасен зверь», к тому же крутится при дворе.
— Уж не хотите ли вы предложить это дело мне? — спросил Щусев.
— Я уже назвал вашу фамилию в Синоде, — сокрушенно сказал Михаил Васильевич и опустил голову. — Если вы откажетесь, я не буду в претензии, но вы моя единственная надежда.
В Абастумани неистовствовала весна, даже камни, казалось, цвели. Сосновый лес засыпал желтой пахучей пыльцой горный городок с его саклями и кучкой европейских двухэтажных домов, окруживших ложномавританский дворец цесаревича.
Все вокруг было как бы преувеличено: и солнечный свет, и громогласный крик птиц в кронах деревьев, и густой аромат хвои, в который вплетались запахи цветов и трав.
На фоне этой ликующей красоты, как маленький калека, стоял в покривившихся лесах новый, но уже запущенный храм. Даже золоченый крест на центральном куполе поблек и чуть заметно склонился набок. Он-то и привлек внимание Щусева.
Вместе с Нестеровым пробрались по грудам битого кирпича и строительного мусора, обошли строение снаружи и вошли внутрь. Алексей Викторович внимательно осмотрел подтеки. Взгляд его устремился вверх. Он был сосредоточен и вполуха слушал сетования Михаила Васильевича. Он работал. Схватив тяжелую лестницу, что лежала под ногами, он приставил ее к стене и, глядя по сторонам, легко влез на самую верхнюю ступеньку. Он прилип грудью к стене и шарил по ней руками, словно слепой, пытаясь определить, насколько глубоко промокли стены.
Нестеров заинтересованно поглядывал на него снизу.
— Ну, что вы скажете? — спросил он.
— Если я не ошибаюсь — а рукам своим я привык доверять, — дело поправимое.
Полдня Алексей Викторович исследовал стены, кровлю и купола, излазил храм снаружи и изнутри, делая в блокноте пометки, а наутро представил управляющему поместьем цесаревича смету расходов и потребовал бригаду умелых артельщиков с перечислением специальностей, которыми они должны владеть.
— Никого из тех, кто участвовал в постройке, не должно быть. Мне испорченные люди не нужны! Это мое условие, — сказал он.
— А куда ж я их дену? — спросил управляющий, кивая на сбившуюся в кучу артель.
— Отправьте по домам.
— Неможно, барин, — сказал рыжий полупьяный мужик с измятой бородой и дикими глазами. — Пахоту мы пропустили. Неможно нам в деревню.
— А пьянствовать можно? Строить такое можно?
Артель понуро молчала.
— Станьте в ряд! — приказал Щусев.
Мужики, топча сапогами траву, образовали полукруг. Алексей Викторович цепко оглядел всех поочередно, отошел на почтительное расстояние и сказал:
— Поблажек, мужики, никому не будет. Увижу хоть одну пьяную физию — всех прогоню с лесов! Завтра в шесть трезвыми, в чистых рубахах всем быть на стройке. А сейчас в баню и в рот ни капли!
— Крутенько вы с людьми, батенька, — сказал Михаил Васильевич, присутствовавший при этом разговоре, и помотал головой.
— Да люблю я их, чертей... Не знаю, за что. Это меня и погубит, — сказал Щусев так, что артельщики услышали.
Сказав, строго поглядел на них.
Работы начались с того, что Щусев велел снять крест и заказать новый. Как он и предполагал, купол был сделан из местного легкого туфа и отсыревал от обильного конденсата, что образовывался в легком камне при резких колебаниях дневных и ночных температур. Сырость пропускала и плохо подогнанная кровля.
Поручая артельщикам работу, Щусев объяснял каждому задание, а потом спрашивал, как работник намерен его выполнить. Его вопросы звучали так, что артельщик чувствовал: барин знает дело. Своими вопросами Щусев будил в рабочем профессиональное честолюбие. Если кто-то придумывал свой прием, то Алексей Викторович с неподдельной заинтересованностью просил досконально объяснить, что к чему. И начинался разговор двух профессионалов, объединенных одной целью, одним стремлением.
Однако до такого взаимопонимания добрались лишь к разгару строительных работ, когда напряженный ритм стал привычным, а взаимоотношения артели с Алексеем Викторовичем сделались чуть ли не братскими.
Это было строгое братство, вольности архитектор не допускал. На лесах он всегда был сосредоточен, после работы же с ним можно было запросто пошутить, прочитать ему письмо с деревенскими новостями, пожаловаться на судьбу, помечтать. Если артельщики устраивали перекур, Щусев с первого взгляда распознавал, для чего они собрались: отдохнуть или решить, как управиться с заковыристым делом.
В первый день работы с отсыревшего купола содрали жесть, а за что приниматься дальше, не знали. Спросить Алексея Викторовича побоялись: вдруг осердится да прогонит, что ж тогда — вернуться с пустыми руками в голодную деревню?
— Снести этот чертов купол да новый вытесать, — такое было общее мнение.
Подошел Щусев, прислушался.
— Тогда, может, и чердак снесем, и стены. А? — спросил он.
Рабочие задумались, завздыхали.
— Ничего сносить мы не будем, — сказал Алексей Викторович и велел принести несколько ручных буров и ведра. Он наметил точки, в которых следует пробурить отверстия. Их пробурили. Щусев велел подставить под них ведра. Вскоре на глазах мужиков из отверстий побежала вода. Купол буравили до тех пор, пока и он не «заплакал» отдельными слезинками. К обеду воду слили, она уместилась в двух больших пожарных ведрах. Купол долго сушили рогожами и паклей.
На следующий день кровельщики взялись изготовлять по щусевскому чертежу большую медную воронку с зарегулированным стоком. Лишь когда воронка была изготовлена, артельщики поняли суть хитрого приема, с помощью которого Алексей Викторович отводил воду от купола. Поставленная внутрь шатрового завершения воронка просто и надежно решала задачу, собирая и выводя концентрирующийся конденсат. Новая надежная обшивка купола давала дополнительную страховку от сырости.
Щусев продолжал работы по реконструкции казавшегося загубленным сооружения. Под ветрами Кавказа кровля и стены стали обретать положенный цвет, а начатые в прошлом году Нестеровым росписи перестали отслаиваться вместе с грунтовкой.
Михаил Васильевич с гордостью представил цесаревичу Алексея Викторовича, назвав его спасителем храма, охарактеризовав как мастера своего дела. Цесаревич вяло пожал Щусеву руку, скупо поблагодарил и пошатываясь удалился в свои покои. Прикосновение царственной ладони, покрытой холодным потом, было мерзко — как будто поздоровался с жабой. Он долго потом тер руку платком.
Не эта, а иная благодарность была ценна для Алексея Викторовича. Когда он уезжал из Абастумани, вся артель вышла его провожать.
— Оставался бы с нами, барин, не ровен час без тебя опять запьем, — говорили мужики.
Михаил Васильевич Нестеров поехал проводить его до самой станции за двадцать верст.
Свое тридцатилетие Алексей Викторович встречал в Петербурге в семейном кругу. Тихое торжество, скромный семейный ужин, мысли о пройденном пути... Он чувствовал себя полным сил и энергии, но временами казалось, что это никому не нужно. За плечами, правда, было кое-что, однако ни одного но-настоящему серьезного проекта так и не удалось осуществить. Да и не было таких проектов.
Он уже собирался ложиться, когда у дверей задребезжал колокольчик. Прислуга открыла дверь и через минуту, постучав к нему в кабинет, сказала:
— К вам господин профессор Котов пожаловали.
Грустные думы разом отлетели прочь. Алексей Викторович поспешил навстречу дорогому гостю.
— Поздравляю вас, Алексей Викторович! Позвольте облобызать в вашем лице мою лучшую надежду, — проговорил Григорий Иванович, обнимая Щусева и улыбаясь. — Ваши товарищи из Общества архитекторов уполномочили меня передать вам приветственный адрес.
И профессор Котов вручил ему сафьяновую папку с серебряным вензелем: «Художнику-архитектору А. В. Щусеву в день тридцатилетия».
Странное дело, но это полуофициальное приветствие отозвалось в душе горячей благодарностью.
— Сейчас распоряжусь, чтобы подали чаю, — поторопился Алексей Викторович скрыть свою растроганность.
— Чай отменяется! — весело воскликнул профессор и извлек из своего багажа бутылку французского шампанского. — Зовите Марию Викентьевну. Где она, наша красавица, где вы ее прячете?
— Красавица спит. Дело в том, что ей сейчас необходим покой...
— А-а, понимаю. Ожидается прибавление? Поздравляю.
— С этим заблаговременно поздравлять негоже.
— Все у вас будет в порядке, уважаемый Алексей Викторович. Фортуна охотно поворачивается к вам лицом, и вы умеете не обижать эту капризную даму. Только сдается мне, что поспешили вы вернуться в Петербург.
Щусев удивленно вскинул глаза и, подождав минуту, сказал:
— А что мне было делать в Киеве? Бить поклоны отцу Флавиану да слушать его фантазии?
— Отец Флавиан самый приличный из всей этой публики и самый знающий. Но я вас к нему больше не пошлю. У вас есть сейчас какое-нибудь большое интересное дело?
— Интересное? Смотря что под этим понимать. Работа кое-какая есть. Закончил проект загородного дома для помещицы Безак с башенками и прочими выкрутасами. Проект ей понравился, а с постройкой тянет. Сейчас в Царском Селе делаю другой загородный дом в два этажа. Моя архитектура должна уложиться там в размер корабельной доски: дом надо слепить из старой, выброшенной на берег баржи.
— То, что намереваюсь предложить вам я, поинтереснее старой баржи...
И Григорий Иванович стал рассказывать о последнем заседании Археологической комиссии, о развалинах одного из самых древних храмов Киевской Руси XII века — храма Святого Василия в Овруче, построенного в честь князя Владимира Святославича, который при крещении принял второе имя — Василий, о чем теперь мало кому известно.
— Высочайший Синод настаивает на восстановлении этого храма. Работа поручена мне. Синод готов открыть финансирование немедленно и скупиться не намерен. Я уверился в этом потому, что мне недвусмысленно дали понять: вам, профессор Котов, оказана величайшая честь вписать в древнюю историю государства Российского собственную страницу. Не спрашивайте, пожалуйста, меня опричинах, побуждающих передать эту работу вам.
— Но мне поповская братия надоела хуже горькой редьки! — вырвалось у Алексея Викторовича.
— Да ведь работа-то дьявольски интересная! И потом имейте в виду: если вы восстановите храм Святого Василия в Овруче, то не вы, а они будут согбенными бегать перед вами.
Не раздумывая долго, Алексей Викторович согласилсяи сразу почувствовал себя бодрее. Он понимал, что работа предстоит гигантская, что она потребует предельногонапряжения всех его сил и способностей, что придется вести долгую изнурительную борьбу не только с тупыми и косными попами, но и всякого рода «ведами», нашпигованными начетническими знаниями да собственными досужими домыслами. Щусев отлично понимал, что приступить к этой ответственнейшей работе он должен во всеоружии.
Архивы и библиотеки, летописи и рукописные книги поглощали теперь все его время. Он слышал отголоски живой речи предков, вживался в их общественную жизнь и быт, прежде чем осмелился отправиться в Овруч.
Оказалось, что в Археологическом обществе его до сих пор помнят по студенческой поездке в Самарканд, что наслышаны о его интересных работах в Киево-Печерской лавре и готовы ему во всем помогать.
В середине июня 1904 года Синод командировал Щусева в Овруч. Тихий и сонный городок словно бы застыл, устремив взор в глубины истории. Нелепым щербатым зубом торчали одна лишь не завалившаяся северная стена храма Святого Василия с остатками апсид и крохотный участок западной стены. На верхотуре свили гнезда аисты. Казалось, они с удивлением глядят на одинокого человека, что пристально изучает груды битого камня. При изучении развалин храма по рисункам Алексей Викторович не мог и предположить, что увидит его в столь плачевном состоянии.
Местные жители рассказали ему, что какой-то археолог-любитель не одно лето вел здесь свои раскопки. Однажды утром его чуть было не придавила южная стена, фундамент которой он подрыл до самого основания. Какой клад искал он здесь, никому не ведомо, но после обвала стены его больше не видели.
Подрядив бригаду землекопов из местных, Щусев провел серию неглубоких раскопов в окрестностях храма. На протяжении трех месяцев, до наступления осенних дождей, изо дня в день занимался он одним, только ему ведомым делом. Обнажив остатки фундаментов, он прекращал раскопки и принимался выстукивать камни, изучать систему кладки.
Следы ударов татарского тарана он исследовал особенно тщательно. Храм Святого Василия был последним прибежищем защитников Овруча, оказавших захватчикам яростное сопротивление. Саженные стены, поставленные на века, были разбиты в прах.
Глава IX
Один в трех лицах
Яркая составилась в его воображении картина: фрагмент стены обрастет живой плотью каменного узорочья. Он сделает все, на что способен современный зодчий, чтобы восстановить памятник мужества наших предков. То, что не дают ему сказать на Куликовом поле, он скажет здесь.
Земля Волыни, упокоившая развалины храма Святого Василия, входила в Киевскую епархию отца Флавиана. К нему-то и направился Алексей Викторович, чтобысделать его сторонником своей идеи. Умело используя данные ему Археологическим обществом полномочия, Щусев даже не прибегнул к какому-либо давлению на руководство киевского духовенства. Он с большим подъемомрассказал ему о планах строительства в Овруче. Этогобыло достаточно, чтобы все согласились с ним.
Обдуманный дипломатический ход открывал Алексею Викторовичу путь к самостоятельности. Так, во всякомслучае, ему казалось. Святые отцы были польщены, чтостоличный архитектор советуется с ними, и обещали ему полную поддержку. Они ничем не рисковали, но при этом могли получить построенную на средства Синода большую современную церковь на месте священных руин.
Всю зиму проработал Щусев над проектом храма вОвруче и к весне представил на суд Археологического общества проект пятиглавой мощной церкви в духе традиций русской классики, органично вплетя в него сохранившиеся детали.
Неожиданно вокруг проекта разразилась буря. От разноголосицы мнений, горячих споров, страстных выступлений «за» и «против» Алексей Викторович просто не знал, куда деваться. Казалось странным, что простоявший в развалинах семь веков храм может так взбудоражить общественность, и не только художественную, но и людей, к искусству не причастных.
Ему писали письма скромные чиновники, мещане, даже ремесленники. Алексей Викторович поражался, до чего же, оказывается, высока художественная культура народа, как бережно и страстно относится он к своей истории! Казалось бы, откуда всем этим людям знать, что пятиглавие не было характерным для Киевской земли XII века? Но все просили «уважаемого господина архитектора А. В. Щусева чутче прислушиваться к старинным заветам предков и сохранить родовую память народа».
Киевские же церковники, желая скорее получить «даровую» церковь, отстаивали щусевский проект в изначальном виде.
И вот тогда, в разгар дебатов, Щусев совершает неожиданный шаг: в своих газетных статьях и выступлениях он призывает провести среди всех слоев русского общества детальное обсуждение проекта, просит смело высказывать свои мнения и советы, желательно обоснованные и детализированные.
Архитектор полагал, что простой прямоугольный храм с одной лишь главой сейчас не способен стать носителем высокой общественной и художественной идеи. Он хотел выразить эту идею через живописность и пластику. Но чем больше он раздумывал над судьбой овручского проекта, тем более удалялся от первоначального замысла осовременить храм. Постепенно он пришел к мысли, что ответы на терзающие его вопросы дадут лишь сохранившиеся постройки XII века.
Псковские Паганкины палаты, Псково-Печерская лавра, древние памятники Новгорода Великого снова стали предметом его пристального изучения. Он едет в древние города, пишет этюды, пытаясь уловить почерк древнерусских зодчих, понять и разгадать секрет их воздействия на сердца. Вглядываясь в глубины русского зодчества, он настойчиво ищет решение. Постепенно приходило понимание, что внести свой вклад в сокровищницу отечественной культуры не только великая честь, но и огромная ответственность перед историей. Он стремился выразить в камне свои мысли легко и свободно.
Он уже давным-давно понял, что видимая легкость, с какой создается вдохновенный образ, на самом деле выжигает душу дотла, что священный огонь творчества озаряет лишь истинного труженика в пору высшего напряжения сил и фантазии.
Сколько бы раз Алексей Викторович ни приезжал в Новгород, неизменно чарующе действовал на него скромный Рождественский собор Антониевого монастыря. Из всего обилия новгородских памятников, известных миру, этот упрятанный за монастырские стены собор хранил некую тайну, прикрытую гордым равнодушием. На закате под скупым северным солнцем на его стенах начинали играть тени, скользя по его белым стенам, прорезям узких окон, и тогда Алексей Викторович слышал тихую музыку камня.
В тот момент, когда ему казалось, что он уже нащупывает путь к решению многих вопросов, пришел срочный вызов в Киев. С трудом оторвался Щусев от своих поисков, но работа в душе не прекращалась на протяжении всей дороги, не оставила она его и в Киеве.
Как это ни странно, отец Флавиан сдержал свое обещание.
Среди плодородных полей Западной Украины, на Тернопольщине, в крохотном городишке Почаев, стоял на высоком холме монастырь — Почаевская лавра с высокой Успенской церковью и златоглавой колокольней, видимой на десятки верст окрест. К монастырю вела ровная как стрела дорога с пирамидальными тополями в матовом серебре листвы. Бричка ехала вперед, но казалось, что купола монастыря застыли на месте, лишь усиливалось их золотое сияние.
Монастырскую гору окружал ухоженный яблоневый сад, в котором с утра до вечера трудились послушники и монахи. Деревья изнывали под тяжестью плодов. Монахи, путаясь в рясах, гонялись за мальчишками, ворующими фрукты. Между деревьями лениво гуляли свиньи, пожирая падалицу.
Вспомнились детство, отцовский сад, и Алексей Викторович забыл тревогу. Он приближался к месту своей первой самостоятельной работы. Ему дано задание возводить здесь храм.
Дорога завиляла, взбираясь на холм, расходились бока лошадей, завертелся на козлах кучер.
За высокими монастырскими стенами ярко зеленела трава. На южной стене построенной в классическом стиле Успенской церкви была написана благообразная богоматерь с младенцем, несомненно срисованная с местной молодайки: ее благообразие не имело ничего общего с библейским. Там, где должны были кончаться ее ноги, широко расползлось по стене грязное пятно. «Должно быть, прихожане зацеловали стопы богоматери», — подумал Алексей Викторович.
Обойдя монастырский двор, весь утопающий в зелени, скрывающей монастырские кельи и хозяйственные постройки, Щусев убедился в том, что задачу ему отец Флавиан дал такую, что и врагу не пожелаешь. Одна лишь величественная трехъярусная колокольня при церкви стоила, пожалуй, в десять раз больше, чем ему было отпущено на сооружение нового Свято-Троицкого собора. Соседство предполагаемого собора с храмом Успения Богородицы, который строился двенадцать лет и был завершен в 1783 году, то есть в эпоху торжества классицизма, не сулило ничего хорошего. Изысканная и зрелая архитектура храма, его мощная колоннада и богатые фризы могли затмить даже самое совершенное произведение. У кого угодно здесь опустились бы руки.
Уже в который раз судьба ставила Щусева в безвыходное положение.
День закладки Троицкого собора был определен, отступать было некуда — первый камень должен лечь в основание 11 мая 1906 года.
Холодное совершенство и мощь храма Успения Богородицы требовали подле еще более мощного сооружения. Так рассуждал бы каждый зодчий, но Щусев мыслил иначе. Он задумал невозможное: пусть существующая архитектура станет некиим фоном, рамкой, куда он вставит алмаз, который будет играть своими гранями, пленяя взоры.
Образ новгородского Рождественского собора помог Алексею Викторовичу услышать первые ноты собственной песни. Там, в Новгороде, — лишь тихий напев, здесь же должна зазвучать кантата. Ее мелодия должна стать слышна и понятна всем.
Разрабатывая образ Свято-Троицкого собора, Щусев больше всего бился над органичной компоновкой, добиваясь гармонии масс, как бы обнажая ту впечатляющую выразительность древнерусской архитектуры, которую наши предки часто скрывали за узорчатыми деталями. Чистая, внешне наивная изысканность силуэта достигалась через прочувствованную пластичность объемов, ясную игру линий и гармонию пропорций.
Сначала собор ошеломляет, заставляет остановиться и вобрать в себя весь его образ целиком. Образ этот вызывает чувство чего-то родного, но несправедливо забытого. Потом невольно начинаешь читать его по частям, как нотную грамоту. Простой шлемовидный купол, под ним широкий барабан, прорезанный стрелами узких окон. Его объем свободно перетекает в круглую лестничную башню с ничем не украшенной крышей и притопленным куполом. Здесь зодчий как бы дает нам на секунду отдохнуть, чтобы потом снова поразить свежестью красоты портала и притененного фриза над изысканно вылепленной аркой входа.
Чуть нарочитая приземистость храма выгодно «работает», усиливая впечатление монументальности этой удивительно скромной трехъярусной постройки. Кроме лепного орнамента по верхнему поясу барабана храм украшен мозаичным фризом. Строение скульптурно в самой своей основе, в пластике перетекания одного объема в другой, в прорисовке как бы небрежно вкрапленных в белые стены окон.
Одинокая шлемовидная глава Свято-Троицкого собора подчинила себе сложный силуэт церкви Успения Богородицы.
Едва проект Щусева оказался на Петербургской выставке современной архитектуры, как критики тут же поставили его в ряд самых ярких явлений современности. В художественных кругах и в прессе заговорили о щусевском направлении в архитектуре, объявив архитектора основоположником неорусского стиля.
Так к Алексею Викторовичу нежданно-негаданно пришла громкая слава. Он отнесся к этому совершенно спокойно.
Вожделенная свобода творчества... Он давно был готов к тому, чтобы жизнь выдвинула перед ним задачи такой сложности, какие всколыхнут его творческую фантазию.
Он прилагал огромные усилия, чтобы не отступить от привычного правила: сооружение в натуре должно быть ярче и красивее, чем в проекте.
Разрабатывая удачно найденный образ, Щусев шлифует детали, применяет давно забытые приемы новгородского строительства XI — XII веков. Современными художественными средствами он добивается огромной выразительности.
Встретив на выставке Николая Константиновича Рериха, Алексей Викторович несказанно обрадовался: Рерих был в восторге от его проекта. Щусев знал, что Николай Константинович не способен лукавить. Его художественный вкус был безупречен, а об его уме, обаянии, интеллигентности знали все.
Алексей Викторович с удовольствием показывал своему бывшему однокашнику эскизы деталей почаевской постройки, просил совета.
А Рерих говорил:
— Здесь, Алеша, ни прибавить, ни убавить!
Эскиз мозаичного панно для южного портала Рерих рассматривал долго.
— Сами рисовали? — наконец спросил он.
— На кого же мне еще полагаться?
— Я бы решил это панно иначе, — задумчиво сказал художник.
— Так и договоримся: вот вам мой эскиз, принесите мне завтра свой.
Вместо эскиза Рерих принес почти готовое полотно. Под глазами у художника легли тени, но весь его вид показывал, что он доволен.
С эскиза скорбно смотрели испуганные синие глаза богоматери. Ее бессильно склоненная набок голова, покрытая простым платом, как бы покоилась на головке младенца. Детская головка прилипла к плечику. Глаза младенца глядели по-взрослому твердо.
Щусев сильными руками обнял художника и долго не отпускал.
— Позвольте мне надеяться на вашу помощь, Николай. Мне так никогда не сделать. Какой вы удивительный живописец! — говорил Щусев, не в силах оторваться от полотна. — Я сумею убедить этих святош: будете делать мозаику!
Перед отъездом в Киев Щусев уговорил Рериха сделать еще один эскиз — для западного портала. Несмотря на то что работы вышли одна лучше другой, Алексею Викторовичу удалось добиться для Рериха подряда лишь для южного панно. Над западным порталом пришлось работать самому. За сметой расходов следили неотступно.
С момента закладки Щусев забрал все бразды стройки в свои руки и не выпускал из поля зрения самой малой мелочи. Даже скобяные детали делались по его эскизам. Образцы ручек, дверных петель, кованых фонарей и других деталей сделали для него в одном экземпляре петербургские кузнецы, которые когда-то выковывали решетки для памятника генералу Шубину-Поздееву, а позже изготовляли поковки для нового фасада дома графа Олсуфьева.
Дружбой с мастерами Алексей Викторович дорожил, как самым ценным богатством, а уж расплачивался с ними всегда сполна. В Почаеве местные монастырские кузнецы выковали по образцам требуемое количество скобяных деталей.
Аскетически строгий и в то же время полный поэзии храм медленно обретал плоть. Щусев пестовал свое детище заботливо, тревожась о каждой детали, придирчиво следил, чтобы ни один белокаменщик ни на йоту не отступил от шаблона, беспощадно рушил содеянное даже при самом пустяковом огрехе. Здесь не должно было быть ни одной фальшивой ноты.
Вскоре дела на стройке пошли как по маслу. У Щуева появился надежный помощник — прораб Нечаев. Вдвоем обсуждали они каждую деталь постройки, вместе искали, каким способом добиться большей выразительности.
Тогда Алексей Викторович позволил себе небольшое отвлечение от стройки. И причина тому была исключительной. В Ницце умерла собирательница и хранительница богатой коллекции художественных ремесленных изделий русского Севера Шабельская. ШЩусев всегда восхищалсяее энтузиазмом и любовью к русской старине. С какой настойчивостью искала она необычное, интересное, с каким усердием составляла описи и «родословные» своих находок! Скромной данью памяти этой удивительной женщины стал щусевский проект памятника-часовни на ее могиле в Ницце.
Три тщательно прорисованные декоративные главы создают тонкий образ часовни. Как растения, вырастают они из стен, изукрашенных рельефными узорами, созвучными владимиро-суздальской белокаменной резьбе. Пренебрегая архитектурной основой сооружения, Щусев намеренно усиливает впечатление рисованности. Это дает новое чтение архитектонике: каждый, кто подойдет к часовне, должен почувствовать, что она посвящена натуре глубокой, увлеченной.
Вырастающие из цоколя цветы, весь растительный орнамент часовни сами собой сливаются с пейзажем юга Франции, хотя каменные цветы эти сродни и тем, что издревле украшали повседневные предметы русского обихода.
Стремительно растущая слава Щусева подтолкнула Археологическое общество и Комиссию по увековечению памяти победы на Куликовом поле вновь обратиться к нему. В свое время Археологическое общество предусмотрительно оставило за собой право вернуться и к щусевскому проекту реставрации овручского памятника и теперь не замедлило этим правом воспользоваться.
20 мая 1907 года Алексей Викторович получил разрешение начать в Овруче восстановительные работы под наблюдением академика П. П. Покрышкина. Щусеву повезло — вдумчивый исследователь и великолепный практик реставрации пришел ему на помощь.
В то лето Алексею Викторовичу всего лишь дважды удалось вырваться в Почаев посмотреть, как идут строительные работы. Но даже в Почаеве мысли об Овруче не оставляли его. Новая для него область — реставрация — оказалась и наукой и искусством одновременно. Эта область художественной деятельности не терпела дилетантства, скороспелых решений, полагаться здесь на одну лишь интуицию и художественное чутье было не только опасно, но и пагубно. Подлинный реставратор поклоняется лишь знанию и факту истории.
Докладная записка Щусева Археологическому обществу о проведенных в Овруче работах дает ясное представление о том, в какого практика реставрации он вырос.
«В мае месяце 1907 года, 20-го числа, был положен под северо-восточным пилоном краеугольный камень закладки Васильевского храма в Овруче...
Здесь я последовательно опишу общий ход раскопок, шедших по тем стенам, которые были намечены в плане реставрации. Глубокие раскопки до материка 4-х пилонов, намеченных в плане реставрации, обнаружили на тех же местах древние фундаменты пилонов, сложенные из неправильных кусков красного кремнистого местного песчаника, просто залитых раствором. Древний фундамент шел прямо до материка, т. е. на глубину 3 аршин от линии предполагаемого древнего пола.
Чрезвычайно важно определить настоящую линию пола; для этого последовательно были сняты наносные пласты земли, которые обнаружили в пролете северных дверей часть красной плиты, заделанной одним концом в стену. Разница найденного уровня пола от намеченного на реставрационном чертеже оказалась незначительной — всего на 0,08 метра выше предполагаемого уровня.
Очистив место от наносного грунта и свалив последний в овраг, прилегающий к развалинам с западной стороны, благодаря чему площадь перед западным входом увеличилась (овраг, по словам старожилов, образовался всего 60 лет назад, ранее его не было, а потому засыпка его помогла только реставрации), приступили к выемке земли под новые фундаменты, намеченные реставрацией, а именно — южной стеной и западной, а также и к подводке фундаментов под существующие развалины.
Подводить фундаменты под столь непрочные стены было делом опасным и трудным, особенно при наличности очень плохих каменщиков, не имевших совершенно понятия о подобной работе.
Программа работ была следующая: вынимать через каждые три часа по куску древнего фундамента шириною два аршина, начиная с юго-восточного угла апсид, подделывать новый фундамент из бута же (местного красного кварцита на цементе) и, подходя фундаментом под древнюю стену, подбивать под нее бетонную массу железной трамбовкой. Такой фундамент не должен был дать осадки, а поэтому древние стены должны на него сесть, не давши трещин.
Подвигаясь рвом к юго-западному углу, на глубинеполтора аршина от линии древнего пола наткнулись на круглый столб, окопавши который вокруг нашли фундамент по кругу...
Все найденное тщательно обмерено и нанесено на чертежи. Фундамент башен на 12 вершков мельче обычного фундамента.
Найденный фундамент башни на юго-западном углу храма заставляет предположить таковую же на северо-западном углу, что раскопками подтвердилось.
Найденные остатки фундаментов башен, остатки древней кладки, одновременной с кладкой храма, дают очень интересное освещение архитектуры храма.
Он имел на углах западного фасада две древние башни, подобно собору в Чернигове. Конечно, предположение о его пятиглавии тогда само собой падает, ибо не могло быть такого количества глав на столь небольшом храме, имеющем еще две башни.
...К приезду (повторному) Покрышкина мною была раскопана площадь по склону к югу от храма, непосредственно прилегающая к фундаменту. На эту сторону главным образом и упали стены башни и были покрыты с течением времени слоем наносной земли. Раскопки площади обозначили ясно все места упавших стен, и башни их хорошо было различить и находить детали, способствующие выяснению фасада реставрации.
Приехавший Покрышкин решительно разрыл часть упавших стен и нашел интересную деталь арочного карниза, а под ним два ряда кирпича в елку. Положение точно определяется найденной под ним перемычкой окна, а потому на фасад он наносится на вполне определенное место.
Части арочного карниза и ранее были найдены при раскопках.
Ввиду того что проект реставрации, благодаря обнаруженным раскопками находкам, должен будет измениться, было решено в нынешнем строительном сезоне только ограничиться подводками фундаментов и выведением части новых фундаментов под пилоны и южную стену до башни, а также продолжать кладку четырех пилонов до высоты парусов в куполе и кладку части южной стены, что и было сделано и чем и закончены были работы в конце сентября 1907 года.
Со своей стороны, желая осветить и для себя, и для общества такое интересное дело восстановления древнего памятника, я в конце июля обратился с письмами в некоторые видные газеты и журналы с описанием обнаруженных раскопками интересных частей храма и предложением лицам интересующимся приехать взглянуть на раскопки; кроме того, обращался с письмами к некоторым ученым. К сожалению, никто не приехал, и было бы желательно, чтобы к началу строительных работ лица, стоящие во главе дела реставрации, постарались бы со своей стороны пригласить на место в Овруч некоторых видных археологов и ученых для подробного изучения раскопок с разных сторон.
В течение же зимы сего года мною предложено разработать самый проект реставрации сообразно выяснившимся данным.
Архитектор Алексей Щусев».
Это сообщение, зачитанное и утвержденное на заседании президиума Археологического общества, совершенно успокоило ученых. Они целиком доверили зодчему весь комплекс работ, включая историографическую часть.
Итак, архитектор, археолог, строитель. Один в трех лицах. Самостоятельность, о которой Щусев так мечтал, он наконец получил. И он не преминул ею воспользоваться.
Вооруженный археологическим знанием, которое Алексей Викторович в буквальном смысле слова выкопал из-под земли, он призвал на помощь весь свой талант художника-архитектора. Высота сооружения, купола башен и венчающей храм главы оставались для археологов загадкой. Здесь могли помочь лишь художественная интуиция, чувство пропорции и профессиональное мастерство зодчего.
Возвращение храма XII века в сегодняшнюю жизнь должно было соответствовать современным представлениям о старине, иначе он просто будет неузнанным, непонятым широкой массой людей, а станет лишь достоянием узкого круга специалистов. Щусева это не устраивало: он хотел быть понятным для простого народа, потому что именно для него и работал.
Знал ли он, что в храме Святого Василия не могло быть деревянного тяблового иконостаса? Конечно же пал. Но сознательно спроектировал и построил его, потому что видел в нем отголосок древних языческих обрядов: вспоминалась деревянная статуя Перуна, что стояла на днепровской круче.
С той же целью — усилить эффект восприятия древности — Щусев обносит постройку крепостным тыном из грубо заостренных деревянных плах, украшает ограду декоративной резьбой. Звонница из крепких бревен вырастает на огромных валунах, точно таких же, на каких в селах ставят набат, сзывающий народ «на круг». Сказочная романтика антуража создает необходимый настрой, который помогает зрителю сердцем проникнуть в каменную летопись народа.
В этой работе Щусева вдохновляло напутствие его великого земляка Николая Васильевича Гоголя: «Архитектура — тоже летопись мира: она говорит тогда, когда уже молчат и песни и предания и когда уже ничто не говорит о погибшем народе. Пусть же она, хоть отрывками, является среди наших городов в таком виде, в каком она была при отжившем уже народе, чтобы при взгляде на нее осенила нас мысль о минувшей его жизни и погрузила бы нас в его быт, в его привычки и степень понимания и вызвала бы у нас благодарность за его существование, бывшее ступенью нашего собственного возвышения».
Каждый камень поднимал бережно из праха веков архитектор со своими помощниками, пытаясь по возможности точно определить его прежнее местоположение. Все глыбы основания, каждый кирпич получали свой номер, чтобы потом встать на только ему предназначенное место. Раскопанные остатки башен и фрагменты стен после тщательных обмеров и визуальных прикидок занимали исконное свое положение. Эту кропотливость переняли у Щусева его помощники архитекторы Л. А. Веснин и Б. Н. Максимов. Письма академика П. П. Покрышкина из Петербурга содержали лишь благодарственные слова и пожелания новых успехов.
«Как хирурги, — вспоминал Щусев, — мы подняли по кирпичикам стену, замерили ее и поставили на прежнее место. Таким образом, удалось северную стену и значительную часть южной стены реставрировать точным методом».
Об упорстве и страсти, с какими работал Щусев в ту пору, можно судить по тому, что утвержденный в марте 1908 года новый проект реставрации был осуществлен уже к осени 1909 года. Сроки строительства по тем временам невиданные. При этом качество работ было выше всяких похвал.
Кладка недостающих фрагментов осуществлялась из нового кирпича, хотя были все возможности подделки под старину и Алексей Викторович знал секреты древнего обжига, старая же кладка сознательно не замазывалась раствором. Добавления получились иного цвета, чем «родные» камни и кирпичи храма.
«Благодаря этим приемам, — сказано в одной из книг по реставрации, — здание, несмотря на значительный объем восстановленных заново частей, не выглядит произведением новой архитектуры в стиле древней. Оно дает радостное и высокое чувство сознания, что перед тобой действительно древний, неискаженный и нетронутый фрагмент замечательного произведения зодчих давно ушедших веков».
Вместе с этой постройкой рождался и мужал реставратор-творец, приемы которого потом вошли в сокровищницу мировой реставрации.
В первом томе «Истории русского искусства» академик И. Э. Грабарь писал: «Реставрация этого древнейшего храма, воздвигнутого в половине XII века, представляет совершенно исключительный интерес как по приемам, впервые в этой области примененным, так и по тем научным данным, которые явились в результате раскопок и строгих обмеров, предшествовавших началу самих строительных работ. Реставратор поставил себе целью включить существовавшие развалины стен в тот храм, который должен был явиться после реставрации, при этом в новые стены ему удалось включить не только остатки стоявших еще древних стен, но и все те конструктивные части их — арки, карнизы и даже отдельные группы кирпича, которые были найдены в земле иногда на значительной глубине».
1908 год отмечен небывалым взлетом творческого гения зодчего. Непосредственное участие в строительных работах сразу на двух объектах — в Почаеве и в Овруче — выжало бы из другого все соки, а здесь произошло обратное. В деревянной ограде-тыне храма Святого Василия Щусев проектирует женскую обитель для сирот. Казалось, она должна резко контрастировать с древним храмом массивными белокаменными стенами, крутыми ступенями высокого крыльца. Однако инородные по стилю строения составили чарующий ансамбль, в котором звучит ясная полифония с заданной древнерусской темой.
В том же году Алексей Викторович проектирует храм-музей в Натальевке Харьковской губернии, который, несмотря на небольшие размеры, поражает огромным куполом-луковицей. Богатое каменное узорочье фасада, искусно выполненное скульптором С. Т. Коненковым, замысловатый перелом кровли, прижавшаяся к музею-храму стрельчатая колокольня на глыбообразном цоколе — все подчинено тому, чтобы уравновесить мощную главу, посаженную на узкообжатый барабан. Постройка получилась органичной, свежей и радостной, и этому в немалой степени послужили скульптурные детали С. Т. Коненкова.
Вдохновленный псковско-новгородской архитектурой, Алексей Викторович беспощадно перерабатывает в 1908 году и свой проект памятника на Куликовом поле. Он уже не идет на ощупь, он четко знает, как передать в камне русский былинный эпос. Подняв по камешкам храм в Овруче, он получил знание, которое позволило ему добиться глубокого художественного осмысления традиций древнерусского зодчества.
Казалось бы, всеми признан его творческий почерк, его художественной манере начинают подражать, новый проект памятника единогласно принят Комитетом увековечения памяти битвы на Куликовом поле. Для одного лишь графа Олсуфьева он остался просто архитектором, которому граф может диктовать свою волю. В том, как опасен спор с сильными мира сего, Алексею Викторовичу пришлось убедиться на собственном опыте.
Сначала граф сердечно поздравил зодчего с разрешением комитета приступить к строительству и пообещал дружескую помощь, но не прошло и месяца со дня закладки краеугольного камня на Куликовом поле, как ближайший друг и советчик Щусева Петр Иванович Нерадовский получил от графа такое письмо:
«Дорогой Петр Иванович!
Убедительно прошу Вас оказать влияние на Щусева (купола, кривизна и майоликовая приторность у входа).
Я жду со дня на день прибытия его помощника Нечаева, который преисполнен старых (прошлых) вкусов и тенденций Щусева. Он только и мечтает, как бы получше скривить окна и неправильно сложить стены! Необходимо, чтобы Щусев, сам отказавшийся от «рационалистического архаизма», внушил бы то же и своему помощнику.
Пожалуйста, продолжайте оказывать влияние на А. Викт., ибо оно крайне благоприятно».
Петр Иванович Нерадовский, искренне влюбленный в творчество Щусева, не оправдал графских надежд. Ему очень понравился новый проект памятника, он даже включил его в экспозицию Русского музея и, чтобы не расстраивать Алексея Викторовича, умолчал о письме графа. Тем временем Щусев, окрыленный разрешением на постройку, посылает П. И. Нерадовскому благодарственноеписьмо. «Очень рад, что понравился эскиз церкви, я много обдумывал идею и доволен, что она принята всеми», — пишет он.
Едва граф убедился, что его письмо к Нерадовскому не возымело действия и что помощник Щусева Нечаев горячо взялся за осуществление щусевских идей, он отстранил Нечаева от дел, приказав покинуть территорию своих владений и впредь здесь не появляться.
Граф проделал все это в отсутствие Щусева, а архитектору представил дело так, что Нечаев обиделся на осторожное вмешательство графа в ход постройки, вспылил и, не дождавшись приезда Алексея Викторовича, отбыл восвояси. Граф не преминул добавить, что такого поведения он Нечаеву не простит.
Из последующих писем Щусева к Нерадовскому становится ясно, что зодчий все больше теряет доверие к графу, атмосфера на стройке накаляется, и Щусеву приходится прилагать огромные усилия, чтобы довести работу до конца.
«Что касается Куликовской церкви, — пишет Алексей Викторович, — то она выходит по архитектуре очень хорошо. Я изменил верх второй башни. Вместо купола — шлем. Так очень понравилось Юр. Алекс. Оставить обе башни одинаковыми — это ложноклассично, робко...
Что же касается разрыва с Нечаевым, то он мне непонятен и крайне вреден для постройки, так как я не имею, кем его заменить.
Юр. Ал. нравятся люди тихие и кроткие, но в деле стройки такие люди не могут быть полезны так, как энергичный Нечаев. Вообще, я думаю, Ю. А. не следует вмешиваться, кто будет моим помощником, так как это лицо при заканчивании отделки церкви роли играть не будет и уедет среди будущего лета. Следует его (графа) уговорить отказаться, так как Нечаев в курсе дел и хорошо закончит архитектуру».
Стройка продвигается споро, она целиком на плечах Алексея Викторовича. Видимо, он смирился бы с этим, если бы не граф Олсуфьев. В конце концов барский норов перешел границы, и даже вежливый Щусев возроптал: «Вообще приемы сдачи заказов без моего совета со стороны Ю. А. мне крайне не по душе... Надо мне первому показывать исполненные вещи, а не Ю. А., который вовсе не хозяин дела, так как и строит не на свои деньги».
Бестактное вмешательство графа в ход стройки временами доводит Щусева до отчаяния. Лишь одно обстоятельство удерживает его в Монастырщине. «Это мой первый творческий опыт, где я шел по иному пути использования русской архитектуры, далекому от сухих академических схем», — пишет он. Он всем сердцем любит свое детище и борется за него.
Но ему еще предстояло до конца испить горькую чашу.
Осенью 1908 года о нем неожиданно вспомнил Михаил Васильевич Нестеров, который пригласил Щусева навестить его по чрезвычайно важному делу.
Кончился сезон, строительные работы в Монастырщине были заморожены до следующей весны, и Алексей Викторович с легким сердцем покинул стройку.
Глава X
Все дороги ведут в Москву
Со времен академии Алексей Викторович считал себя петербуржцем и не представлял себе жизни в другом городе. Он остался приверженцем северной столицы и тогда, когда его художественные склонности привели его к древним истокам России.
Чутьем художника уловил он скрытую связь между белокаменной изысканностью псковско-новгородской архитектуры и раннепетровскими ансамблями Северной Пальмиры. Суровая ясность архитектурного письма и там и тут несла одну идею — борьбы за свободу, за самостоятельность.
Из этой связи выпадало отдельным многоцветием московское зодчество конца XVII — начала XVIII века. ДляЩусева оно пока оставалось загадкой. Из своего «далека» он зорче, как ему казалось, видел яркое узорочье московского, или нарышкинского, барокко. Радужная гамма цветов казалась скоморошьей и до времени оставляла его равнодушным.
В среде требовательных художников «псевдорюс» трактовался как стиль купеческий и даже как синонимбезвкусицы. Особенно нетерпимой к этому направлению была художественная среда Петербурга.
Окруженная тесным кольцом древнерусских городов, Москва оставалась их матерью, наследницей ярких национальных традиций.
Русский стиль, раскритикованный и осмеянный, то там, то здесь выбивался, как огненный петух из-под соломенной крыши. А с 1880 года он всех заставил считаться с собой.
В подмосковном селе Абрамцеве, в имении Саввы Ивановича Мамонтова — мецената и почитателя русских талантов, составился тесный художественный кружок. В бесконечных спорах о судьбах русского искусства проходили здесь дни и ночи. Рождались стихи и песни, скульптуры и картины. Картин рождалось всего более. Заправилами кружка были М. А. Врубель, В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, здесь работали и отдыхали В. А. Серов, К. А. Коровин, А. Я. Головин и другие известные художники. Они-то и открыли дорогу русскому стилю в архитектуре.
«Неорусский стиль появился с того момента, — писали об Абрамцеве, — когда русский художник с восторгом посмотрел на зодчество Москвы, Новгорода и Ярославля».
Абрамцевский кружок попробовал свои силы и в архитектуре. В. Д. Поленов по образу и подобию новгородской церкви Спаса на Нередице создал эскиз абрамцевской церкви. «...Работа закипела. На столе в гостиной появились археологические художественные издания и альбомчики Поленова с архитектурными зарисовками... много спорили, обсуждали и изучали прошлое русской жизни», — писала Н. В. Поленова в своих воспоминаниях. Эта работа явилась началом самостоятельного течения, названного «русским Возрождением».
Церковь в Абрамцеве была построена самими художниками и расписана ими в противовес сонму казенных сооружений в стиле XVII века, которые лишь рядились в личину старины. Архитектурные объемы лепились свежо и сочно, живописная мягкость оттеняла графическую точность. Казалось, стены и купола этого небольшого сооружения таят тепло человеческих рук.
В 1882 году, едва ее строительство было завершено, живописцы основали в Абрамцеве художественную столярную мастерскую, в которой возрождалась русская резьба по дереву. Но и на этом не остановилась работа по утверждению «русского Возрождения» — не только старинная русская мебель, деревянная посуда и утварь художественно возрождались: в 1889 году открылась абрамцевская керамическая мастерская, которая влила новую кровь в русские гончарные промыслы, превратив их из ремесленнечески-кустарных в высокохудожественные.
«Русское Возрождение» поднялось и зашумело как буйное, могучее дерево.
Рядом с настоящим всегда идет мода. Мода на старину охватила все общество. Вскоре открылась выставка Дягилева, на которой он представил старинную живопись, скульптуру, мебель, бронзу, собранные по чердакам и кладовым в помещичьих усадьбах. Она подлила масла в огонь. В Таврический дворец на гигантскую выставку шедевров старины люди съезжались со всего света.
Началось повальное увлечение собирательством: замки, колокольчики, штофы, ступки, прялки, братины — все шло в дело. Прекрасная идея оборачивалась фарсом, праздной забавой.
«Стремление работать в русском стиле есть, есть и спрос на него, — утверждал великолепный знаток древнерусского зодчества, архитектор и реставратор. Н. В. Султанов. — ...Лучшим оправданием нашего молодого художества служит та жадность, с какою оно набрасывается на всякий мало-мальски серьезный национальный источник: стоило, например, обществу поощрения художников издать русские народные вышивки — и мы тотчас же перенесли мотивы их на наши деревянные порезки; мало того, в силу необходимости мы пошли еще дальше и, надо сказать, пришли к нелепости: у нас появились мраморные полотенца и кирпичные вышивки! И эти мраморные и кирпичные вышивки лягут позорным пятном на наше время: они прямо покажут, что в нашем юном искусстве была благородная жажда творить в национальном духе, но она не нашла себе должного удовлетворения».
В архитектуре «русское Возрождение» приобрело особый уклон. Какими благими ни были бы намерения архитектора, здоровье или болезнь общества неизменно даст о себе знать в осуществленных в натуре постройках. Пытаясь уловить господствующие в обществе настроения, художник-архитектор просто не может творить, не улавливая вкусов и склонностей современников. Так было во все времена. Так было и на рубеже XIX и XX веков в России.
Всемирная выставка в Париже 1900 года, на которой И. Е. Бондаренко и К. А. Коровин создали русский павильон в ярко национальном стиле, показала, что «Возрождение» в стране еще живо. Но буквально через год русский павильон на выставке в Глазго уже теряет русскую теплоту и лиричность. Строение великолепного мастера архитектуры Ф. О. Шехтеля, с шатровым сводом, навеянным северным деревянным зодчеством, поражает отточенностью форм. Но от него как бы веет лютым сибирским холодом. Кажется, из него ушла духовность. Это уже не застывшая, а обледенелая музыка — танец снежной королевы. Деревянная постройка в Глазго истлела, но стоит в Москве шехтелевский Ярославский вокзал. Он так же холоден, как край, куда ведут от вокзала дороги, а ведь люди, едущие с этого вокзала к себе домой, больше других жаждут тепла...
Неизменным восхищением сопровождали современники каждое новое произведение Ф. О. Шехтеля — архитектора, который, как никто другой, умел передать в камне страх господствующих классов перед грядущим.
Сколько грации и рафинированного волшебства в особняке, построенном Шехтелем для миллионера С. П. Рябушинского! Все, кто видел его, казались себе замшелыми провинциалами...
Ритмическая гамма особняка вневременна, она будет поражать всегда. Современники же приняли ее за знамение времени, тогда как архитектор лишь гениально угадал их мечту о крепости, в которой царствуют душевный покой, отрешенность и нега.
Внутреннее убранство особняка сокрушало все прежние представления об уюте, тепле. Капризная грация линий смущала своей обнаженностью, звучной, как мембрана, и какой-то «интеллегибельной», рассудочной красотой. В интерьере застыло мощное нервное напряжение, которому нет выхода. Особняком восхищалась и гордилась вся сытая Москва.
Еще в пору 3-го съезда архитекторов в 1900 году, когда мир архитектуры казался Щусеву только идеальным в своих устремлениях, он, как школьник, с острым любопытством взирал на законодателей моды, пророков нового стиля в архитектуре. Но уже к исходу 1902 года, когда был завершен особняк Рябушинского и открылась 1-я Московская выставка произведений нового стиля, Щусев стал догадываться, что многие идеи «русского Возрождения», несмотря на поклонение ему, не более чем дань моде.
На выставку прибыли две мировые архитектурные знаменитости — англичанин Ч. Макинтош и австриец Й. Ольбрих. В центре же внимания оказались работы, выполненные в новорусском стиле архитекторами И. А. Фоминым и Ф. О. Шехтелем и художниками К. А. Коровиным и А. Я. Головиным.
Лидер русского модерна Ф. О. Шехтель представил на выставке вместе с проектами своих особняков проекты многоэтажных домов с широким раствором окон, с удивительно пластичным и легко читаемым фасадом. Площадь остекления была по тем временам непомерной, но чувствовалось, что будущее где-то поблизости от этих проектов. Пришедшие на выставку москвичи, уже в какой-то мере воспитанные Шехтелем — провозвестником новых архитектурных форм, и те были поражены необычайностью намечаемых путей.
Непривычная свободная планировка преследовала, казалось, единственную цель — функционального назначения зданий. Невольно вспоминался архитектурный манифест, опубликованный на рубеже веков в первом номере нового журнала «Строитель»: «Оставим древнему эллину создавать несравненные храмы с их величавыми портиками и колоннадами. Пусть извращенный мавр в далекой Гренаде сплетает свои причудливые аркады на грациозных, как юные альмеи, колоннах... Пусть пылкая фантазия востока рисует нам великолепные мавзолеи и пагоды! Мы будем любоваться их созданиями, преклоняться перед силой их творческого духа. Но наше «прекрасное» — в самобытном рациональном!»
Если особняк Рябушинского, с его нежными ирисами на мозаичном фризе, был принят москвичами, как были приняты и выставочные проекты Ф. О. Шехтеля, то работы другого архитектора — И. А. Фомина — оставались загадкой.
Добрая треть экспонатов выставки была помечена авторством Фомина. Они-то и наделали больше всего шума. Удивление вызывала представленная в натуре гостиная-столовая, главным украшением которой был размещенный в трехгранной нише мраморный бассейн, украшенный фигурами белых медведей. Бассейн органично сочетался с тяжеловесной кленовой мебелью и печью с лежанкой.
По отзывам критиков, творчество Фомина не производило впечатления «чего-то постоянного, несомненного, определившегося». Но молодой дерзкий архитектор сумел доказать, что у художественного освоения пространства границ нет, кроме тех, в которые художник запирает себя сам, следуя привычкам и традициям.
Петербург не пожелал отстать от Москвы. Его выставка «Современное искусство» тоже наделала немало шума. Более всего спорили по поводу лестницы И. Э. Грабаря: ее тяжелый боковой барьер, украшенный керамическими вазами и кувшинами, казалось, шагнул из будущего 1972 года в 1902-й.
Фомин и Грабарь оба были ровесниками и друзьями Щусева. Алексей Викторович восторженно принял смелые шаги своих товарищей и, как мог, защищал их от сыплющихся со всех сторон упреков. Официальная пресса, обычно сдержанная, теперь слов не выбирала, во весь голос призывая уберечь общество «от прихоти странного художника, понимающего столовую в богатом доме как место для пыток буйнопомешанных».
Думая о своих товарищах, Щусев видел, что борьба за утверждение собственных художнических позиций предстоит длительная и упорная, что в этой борьбе не раз придется отступать, собираться с силами и снова отстаивать идеи демократизации искусства, освобождения от мертвых канонов, которые «мешают растесать старые окна и впустить с улицы свет».
Архитектура становилась ареной столкновений прогрессивных и реакционных общественных идей. Кризис в сфере градостроительства, бессилие общества дать сколь-нибудь позитивную социальную программу переустройства города на демократической основе вели к противостоянию демократических сил и «хозяев жизни», жмущихся к трону. Официальная светская архитектура, пройдя стадию эклектики и перемешав стилистические течения всех времен и народов, выдохлась окончательно. 1-й и 2-й съезды архитекторов признали, что отечественная архитектура зашла в тупик.
На 3-м съезде архитекторов была выдвинута программа проведения нового стиля в жизнь: «...не художественные формы придавались конструкции, а сама конструкция трактовалась и переосмыслялась по законам красоты». Утверждаемое съездом рационалистическое начало Щусев невольно привнес в свой первый проект памятника на Куликовом поле. Несмотря на то что друзья восторженно приняли проект, сам Алексей Викторович чувствовал его нарочитую заданность. Мечта об органичном, как дыхание, произведении пока оставалась мечтою.
Он пытается с помощью живописно-скульптурных средств одухотворить проект. В письме В. Э. Борисову-Мусатову от 30 июля 1904 года он пишет: «..нужны люди, любящие вообще декоративное искусство. Надо, чтобы живописцы знали архитектуру и увлекались, и наоборот, тогда только дело может живо и сильно пойти». Он мечтает создать общество художников и архитекторов, соединяющее две музы.
Прошло совсем немного времени, и Щусев убедился, что произведение может стать органичным только в том случае, когда сам автор вносит в живую пластику произведения живописность, когда создает памятник по законам классической архитектуры.
На архитектурно-художественной выставке 1905 года в Петербурге, на которой приверженцы нового стиля представили лучшее, что имели, все взоры были прикованы к проекту храма-памятника на Куликовом поле. Надежды воскресить живые традиции национального зодчества получили в щусевском проекте столь мощное воплощение, что прежние образцы новорусского стиля побледнели и отошли на задний план.
Видимо, слишком мучительным, а потому и благодатным был опыт зодчего. Он как бы подчинил себе традиции, заставил их работать на идею, исполненную неповторимого своеобразия. Памятник хранил дух русской воинской доблести. При этом были соблюдены все классические каноны древнерусского зодчества. С первого — беглого — взгляда казалось, что памятник этот существовал давным-давно, что его надолго забыли, а теперь вдруг вспомнили. Очарование древнего памятника сохранялось и тогда, когда зритель понимал, что перед ним произведение современное, созданное с использованием металлических балок и бетона, на основе новейшей строительной технологии.
Своим памятником Щусев не пытался поучать: вот как надобно строить. Он сам учился у предков чистоте и свежести восприятия жизни, радости пребывания на земле. «... каждому народу, — утверждал он, — свойственно что-то свое, русский народ имеет свои формы и свою народную силу, и эту силу надо любить и чувствовать, а не отворачиваться от нее. Тогда можно извлечь и русские пропорции, и русскую мелодию, и русскую несуразность некоторую, но очень теплую и милую. И это можно довести до совершенства».
Абрамцевское художественное братство открыло людям красоты народного творчества, корни которого уходили к самым истокам Руси. С проектами Щусева связывали теперь «русское Возрождение» в архитектуре. Говорили, что творческий путь архитектора шел через пласты русских национальных традиций, что благодаря его опыту историографа и археолога, слитому с природным даром художественного освоения мира, открылась подлинность, которую он сумел перенести в современность.
Впервые Москва и Петербург сошлись в своих архитектурных пристрастиях: обе столицы приветствовали появление на российском горизонте яркого художественного дарования.
Мода на русскую старину проникла и в императорский двор. Тон здесь задавали две иноземные дамы: одна — дочь датского короля Христиана IX Мария-София-Фредерика-Дагмара — мать Николая II Мария Федоровна, другая — императрица Александра Федоровна, дочь герцога Людвига Гессенского. Порывам любви к русскому народу они предавались истерично, самозабвенно, хотя так и не научились говорить, не коверкая русских слов. Подле двух первых дам империи прижилась третья — сестра царицы, супруга покойного брата Николая II. Ей тоже пришлось поменять свои четыре немецких имени на новое — Елизавета Федоровна.
У гессенской приживалки дел не было, так как всю «благотворительность» держала в своих руках августейшая родительница государя императора. Елизавета Федоровна, получив по-родственному титул великой княгини, занялась благодарением бога за счастливую жизнь.
Алексей Викторович был далек от круга особ, приближенных ко двору, кроме разве Михаила Васильевича Нестерова, пользовавшегося расположением августейшей фамилии. Правда, портреты высоких особ Нестеров отказывался писать, отговариваясь тем, что «не готов», что такую ответственность на себя взять не может.
До августейших ушей доходили отголоски лишь самых громких событий русской жизни, да и то чаще всего в карикатурно извращенном виде. Поэтому Нестеров очень удивился, когда Елизавета Федоровна спросила, что он думает о новомодной знаменитости Тчусове — так на немецкий лад произнесла она фамилию зодчего. Михаил Васильевич долго не мог понять, о ком его спрашивает княгиня, а поняв, рассмеялся. Елизавета Федоровна глядела на художника, понимая, что допустила какую-то оплошность.
Посерьезнев, Нестеров сказал:
— Это удивительно прекрасный и работящий человек. Талантлив безмерно. Он вполне заслуживает, чтобы его фамилию произносили верно даже вы, ваше высочество.
И он начал учить княгиню правильно выговаривать фамилию архитектора.
Это было время, когда двор находился под впечатлением картины Нестерова «Святая Русь» и требовал от него новых подвигов во имя православия. То, что Михаил Васильевич в последнее время стал отходить от религиозных мотивов, от «писания ликов», как он говорил, было не по нраву Елизавете Федоровне, которая имела на него свои виды.
Истомившись бездельем в Петербурге, Елизавета Федоровна решила перебраться в Москву. Здесь в Замоскворечье нашла она захудалую, беднейшую во всей округе святую общину и сделала покровительство ей целью своей жизни.
Послушницы общины жили чем бог пошлет: торговали иконками на Хитровке, побирались по купеческим домам, кое-кто приворовывал даже на базаре у Дорогомиловской заставы. Истомившись неправедными трудами, они долго отмаливали грехи в покосившемся сарае. Церковные праздники отмечали здесь по-своему: обряды староверские и православные, адвентистские и даже баптистские были запутаны в один клубок — община была открыта всем повериям, а объяснялось это прежде всего тем, что настоятельницы общины вели нечистую, нетрезвую жизнь. Эту вот общину и решила вывести на праведную дорогу великая княгиня Елизавета Федоровна.
Единственным достоянием общины был большой — в три десятины — сад, земля которого, правда, много раз была перезаложена. Княгиня скупила закладные сестер Марфо-Мариинской обители и, прогнав настоятельниц, сама взялась за дело.
Летом 1907 года решила Елизавета Федоровна возвести в зеленых кущах запущенного сада небольшую, но пригожую для женской обители церковь Покрова богоматери. То, что расписывать церковь будет Нестеров, давно было решено. А вот кто будет ее строить? Из архитекторов она знала одного Свиньина, но не любила его.
— Пригласим Щусева, ваше высочество, — подсказал Нестеров, — и дело с концом. Будет вашей общине церковь в истинно православном духе, за это я ручаюсь.
— А что же скажет господин Свиньин?
— Он над вами не господин. Пусть себе говорит что угодно.
Ответ княгине понравился.
— Да где же нам этого Щусева сыскать? — спросила княгиня, умело подлаживаясь под русский лад.
— Чего ж его искать, коли мы с ним приятели... и то больше — друзья!
— А на что я буду строить? Ведь брат мне денег не даст...
(Николай действительно не жаловал свояченицу.)
— Для Москвы деньги, что сор на полу. Разошлем подписной лист... Впрочем, я расспрошу Алексея Викторовича, он в финансовых делах больше моего понимает.
Проект Марфо-Мариинской общины со всеми ее зданиями — церковью с трапезной и отдельной молельней для княгини, обителью для сестер с хозяйственными постройками, швейными мастерскими и кладовыми — Щусеву пришлось разрабатывать в самую горячую пору, в период раскопок в Овруче.
Когда при Щусеве говорили, что невозможного не бывает, Алексей Викторович вспоминал, как в Овруче после труднейшего рабочего дня, споров с помощниками и разговоров с рабочими, едва смыв с лица и рук прах веков, он принимался за проект своей «Марфы». И каждый раз снова чувствовал себя бодрым, полным энергии.
Казалось, оживало все самое драгоценное, что хранила память. Абрисы псковских и новгородских памятников наплывали друг на друга, сливаясь в чарующий образ.
В его воображении весь ансамбль носил замкнутый характер. Будто бы вместе с белокаменной оградой и деревянными резными воротами он был перенесен в Москву как сгусток всего самого прекрасного, что есть в Новгороде и во Пскове. Перенесен, чтобы напомнить Москве о ее белокаменном прошлом, от которого остались у нее всего лишь три яркие капельки, три церковки: одна — на Арбате, другая — в Зарядье, третья — на Трифоновке.
Алексею Викторовичу в ту пору лишь раз удалось вырваться в первопрестольную, чтобы обойти из конца в конец общинный сад, спуститься к Москве-реке и увидеть отраженный в воде Кремль. Он не пытался даже объяснить себе, почему работа в Овруче не мешает, а помогает и вдохновляет творить «Марфу». Иногда он думал: это голос камней, поднятых из глубины веков в Овруче, требует нового озвучивания.
Случалось, сидя на краю глубокого оврага и глядя в голую волынскую степь, Алексей Викторович рисовал тенистые уголки сада в Замоскворечье, как бы вслушиваясь в первые ноты встающего в воображении белокаменного ансамбля. Тогда-то он и уяснил для себя: коль скоро ты архитектор и к тому же художник, ты «должен зарисовывать или запоминать то, что видел, и зарисовывать по памяти... Однако недостаточно только изучать. Без творчества вы останетесь только археологами».
Он беззаветно верил в то, что народное искусство «крайне обильно, и из него можно сделать необыкновенные открытия, совсем современные, каких раньше не было». В чем суть подхода к народной традиции? В том, чтобы одухотворить ее настолько, чтобы она смогла вместить в себя современность и явиться в образе нынешнего дня как художественное открытие. Традиция превращалась не в ключ к тайне предков, не в инструмент, а в главную часть состояния современного творчества. Прошлое в нас, сталкиваясь с мечтою о будущем, творит то лучшее, чем славен сегодняшний день.
По свидетельству ближайшего друга и соратника А. В. Щусева академика И. Э. Грабаря, Алексей Викторович впоследствии с нежностью вспоминал свою работу над образом «Марфы», когда он «вдохновлялся прекрасной гладью стен новгородских и псковских памятников, лишенных всякого убора и воздействующих на чувства зрителя только гармонией объемов и их взаимосвязью».
Несмотря на относительно крупные размеры, «Марфа» производит удивительно домашнее, уютное впечатление. План храма напоминает старинный ключ: бородка повернута на запад, три закругленных лепестка ушка ориентированы на восток. Эти три полукруглые апсиды и создают ощущение уюта, пряча от глаз основной объем сооружения, который завершен высоким крепким барабаном, увенчанным чуть заостренной сферой купола.
Щусевская «Марфа» удивительна своей грацией и живостью. Как молодая и полная сил русская красавица, она скромна и величава. Украшения ее неброски, но дороги. Золоченые колокола — как драгоценные сережки, выглядывающие из-под платка. Ее монохромная белизна играет оттенками, никак не нарушая скромности и чувства собственного достоинства. Ее образ ласков и приветлив, полон наивной доверчивости.
С сентября 1907 года, когда Щусев вернулся из Овруча в Петербург, проект «Марфы» был безоговорочно утвержден к исполнению. Однако денег на постройку не было, а в идею подписного листа Алексей Викторович мало верил. Между тем вдохновленная проектом великая княгиня, нарядившись в одежды послушницы Марфо-Мариинской общины, пошла «с кружкой» по богатым домам.
К весне 1908 года деньги были собраны, и Щусева «призвали к исполнению». Но, наученный горьким опытом общения со знатью, он решил не торопиться. Он продолжал детальную проработку проекта, исподволь добиваясь полной свободы действий. К работе приступил лишь тогда, когда заручился словом Елизаветы Федоровны в дела постройки не вмешиваться, а все свое влияние употреблять на то, чтобы помогать ему в его начинаниях, защищать от нападок недоброжелателей. И, как трудно это ни было, великая княгиня почти сумела сдержать слово.
Наконец-то появилась возможность держать стройку от начала до конца в своих руках! Эта мысль окрыляла его, придавала сил.
В одном из писем этого периода Михаил Васильевич Нестеров замечает: «Щусев в Москве и ходит именинником: в Вене, на архитектурной выставке, он имеет огромный успех с Почаевской лаврой и великокняжеской московской церковью. Проект Щусева Почаевского собора покупают в музей».
Алексей Викторович встречался с Михаилом Васильевичем чуть ли не ежедневно. Оба были охвачены стремлением создать произведение в духе народных традиций, которые однако же каждый понимал по-своему.
То, что Щусев представил в проекте, Нестеров целиком принимал. Но пожелания Алексея Викторовича «украсить историческими сюжетами живописную отделку и росписи» казались странными: он ведь не вмешивался в архитектуру, зачем же Щусеву вторгаться в живопись? Впрочем, Михаил Васильевич знал, насколько трудный экзамен предстоит его другу, и старался во всем оказывать ему поддержку и помощь. Конечно же они будут стремиться уступать друг другу и явят миру образец терпимости. С этими мыслями Нестеров вскоре отбыл на Капри,чтобы там подготовить эскизы для росписи.
Сам выбор натуры вызвал у Щусева смутное чувство тревоги: во Псков бы надо поехать или на Вологодчину, Архангельск, а того лучше — на Валаам. Однако переживания эти показались ему преждевременными, да и строительные заботы вскоре так захлестнули его, что не до переживаний стало.
Работал он азартно, с какою-то лихорадочной увлеченностью, как будто это была его последняя в жизни постройка и он должен выразить в ней до конца все, чем живет. В ту пору выработалось у него золотое правило — не отлучаться со стройки, пока не будет готов фундамент, пока не вырисуются контуры стен. Воображение его создавало варианты улучшения проекта, и, как правило, именно на начальном этапе стройки находил он тогда и потом то, что делало здание ярче, самобытнее, чем на эскизном проекте.
Самым трудным и ответственным Щусев считал разработку фасада. Нужно было добиться того, чтобы один объем плавно и естественно перетекал в другой: цоколь — в поле стены, стена — в венчающий карниз, чтобы горизонтальное членение здания перепевалось с вертикальным, чтобы пилястры и лопатки не выпячивали бы внутренней структуры, а становились необходимыми деталями образа.
Общая тенденция стройки того времени — изнутри наружу — достигала в щусевской архитектуре фантастической выразительности. Уютный внешний образ, обещающий внутри еще больший уют, неожиданно сочетался с простором и свободой внутреннего пространства. Казалось невероятным, что стилизованное в духе русской старины тяжелое здание способно вобрать в себя столько света и воздуха.
При этом усилия зодчего совершенно не чувствовались, так легка и естественна была его манера. Сильные и в то же время легкие очертания щипцовых завершений фасада то энергично поднимались вверх, как у южного придела храма, то мягко, как бы оплавленно, стекали вниз.
«Он всегда видел свою постройку в натуре, а не только в чертеже, — писал П. И. Нерадовский. — Давая шаблон мастеру, он добивался точного, безукоризненного его выполнения, а если надо было показать, как сделать, сам брался за стену, за лоток со штукатуркой».
Когда стройка уже бурно кипела, Алексей Викторович все продолжал искать, как улучшить проект, пробуя одно за другим новшества изо всех областей, хоть как-нибудь соприкасающихся со стройкой, будь то область художественная или инженерная. Удалось уговорить скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова — и уж для него готова работа; услышал о рациональном методе приготовления бетонной смеси — немедленно опробовал его.
В забрызганной известкой поддевке он шустро взбирался на леса, сам поправлял кельмой или мастихином гипсовый узор, заглядывал в известковые ямы, браковал несортовой кирпич, ругая поставщиков. Рядом с ним и рабочие больше старались, видя, как глубоко переживает он каждый их промах. Ни себе, ни своим помощникам не позволял Алексей Викторович отклониться от цели.
Это было от подвала и до венца его создание, в котором он добивался «художественной красоты впечатления и построения какими хотел средствами, не заботясь о том, чтобы работать в стиле какого-либо века», как писал он сам.
Особенно заботило его, как воспринимается зрителем архитектурная форма, сколь сильна острота эмоционального воздействия, насколько глубоко чувствуется скульптурная выразительность сооружения.
И вот строение освободилось от лесов. После полудня оживал самый живописный — западный — притвор. «Под маслено-текучими лучами полуденного солнца «вперебежку» играли окошки, чаруя своеобразием ритма, и до самого заката можно было наблюдать игру света и тени на белоснежной поверхности стен», — писал И. Э. Грабарь. До тонкости изученная в Овруче старинная кладка стен была с такой тщательностью воспроизведена здесь, что кирпич и белый камень стен обрели «невоспроизводимую» скульптурную мягкость и солнечный свет «танцевал» на поверхности стен.
Чтобы обострить эмоциональное воздействие, Щусев решил углубить контраст перехода белой плоскости стены в тень, смело введя в экстерьер металлические детали — фигурные козырьки над каменной резьбой, чеканные рельефные бляхи на дверях. Даже медные шляпки гвоздей были включены в орнамент. Особенно выразительной получилась чеканка под тисненую кожу, украшающая ворота.
«Навеянная воспоминаниями о Пскове, — продолжает И. Э. Грабарь, — эта постройка производит впечатление вдохновенного сонета, сложенного поэтом-зодчим его любимому Пскову. Она также не простое повторение или подражание, а чисто щусевское создание, выполненное с изумительным чувством такта и тончайшим вкусом».
Он любил свою «Марфу», как собственное дитя, и вложил в нее все лучшее, что было в нем самом. Казалось, белокаменная Русь подарила «Марфе» самые прелестные свои узоры — прихотливые кружева с изображением растительного орнамента, диковинных птиц и зверей.
Алексей Викторович был так увлечен внешним убранством «Марфы», так вдохновенно обыгрывал ее объемы, высвечивая самые яркие ее стороны, что на время как бы забыл о внутреннем. Непосвященному, вошедшему в здание, могло показаться, что алтарная часть, как клещами, зажата оборванными пилястрами, трапезная точь-в-точь копирует огромный сундук, подпружные арки, опорные столбы задавливают основной объем, глаз везде натыкается на углы и препятствия...
Но странное дело, Щусеву все это нравилось. Он счастливо потирал руки, любуясь своей работой, он был уверен, что ему удалось схватить дух старины, услышать древний русский мотив.
Для этих стен требовалось суровое письмо, нужен был сильный мастер, продолжатель традиций Феофана Грека. Не таков был Михаил Васильевич Нестеров — «византийское суровое письмо» было чуждо ему.
А мастер, которого ждала «Марфа», в это самое время находился здесь, в стенах обители. Два начинающих художника, два брата помогали Нестерову в росписи «Марфы».
Нестеров любил братьев Кориных — Александра и Павла, верил в самобытный талант каждого, помогал им, но у него и в мыслях не было, что один из них — Павел Дмитриевич — сумел бы сделать ансамбль «Марфы» завершенным, таким, где внутреннее убранство было бы органично слито с архитектурой.
В июне 1910 года Михаил Васильевич вернулся из Италии с готовыми эскизами росписи Марфо-Мариинской обители. Он был доволен своей работой. Что же касается Щусева, то эскизы вызвали у него горячий протест. Однако силы были неравными, к тому же Алексей Викторович отлично понимал, что этим почетным заказом он целиком обязан своему старшему другу, человеку выдающихся достоинств, воистину наделенному «небесным» талантом.
Зодчий настойчиво доказывал, что здесь нужна не камерная живопись и не «итальянская», а русская. Но у Нестерова не было ни желания, ни времени переделывать свою работу, хотя он с уважением отнесся к мнению зодчего.
«Церковь вышла интересная, единственная в своем роде, — писал Нестеров. — ...В росписи храма мы не были солидарны со Щусевым. Я думал сохранить в росписи свой, так сказать, «нестеровский», стиль своих картин, их индивидуальность, хорошо сознавая всю трудность такой задачи».
Окруженная деревьями, «Марфа» подсыхала медленно. Первым высох и стал годным для росписи купол, затем подсохли центральная заалтарная апсида и конха — полусфера над ней. Алексей Викторович настаивал на монументальной живописи. Эскизов для подкупольной росписи у Нестерова не было, и он, вняв настояниям Алексея Викторовича, создал композицию на тему росписи Новгородской Софии. «...Работается легко, весело, жаль, что темно и день мал», — сетовал Михаил Васильевич.
Щусев несказанно обрадовался, увидев роспись в натуре. Страшно и проникновенно глядели с верхотуры прекрасные глаза. Тесные объемы свободного пространства перед алтарем как бы сковывали зрителя по рукам и ногам, и некуда было укрыться от этих пронзительных глаз, в которых застыла вечность.
В конхе восточной апсиды Нестеров создает одно из самых вдохновенных своих творений — образ матери с тонкими чертами красивого узкого лица, на котором, как два голубых родника, сияют большие печальные глаза. Их печаль светла. Они излучают столько нежности, что, кажется, она не уместилась бы во всем земном пространстве.
Алексей Викторович ликовал. Он радовался удаче друга больше, чем радовался бы собственной удаче.
Но вскоре оказалось, что радость его была преждевременна: лишь эти два сюжета органично вплелись в архитектурный фон внутреннего пространства. И виноват в этом был прежде всего сам Щусев.
Убедившись, что нестеровская живопись сочетается с интерьером, Алексей Викторович уехал в Овруч, где рядом с восстановленным памятником XII века он строил приют для девочек-сирот. Тем временем Нестеров делал на фронтоне трапезной вариацию на тему своей известной картины «Святая Русь». Художнику хотелось, чтобы это живописное панно стало жемчужиной всей композиции, организовало вокруг себя всю роспись стен и сводов.
Ни одна картина Нестерова не пользовалась такой известностью, как эта. Березовый лес, из которого на опушку выходит Христос. По зеленой траве движется ему навстречу ведомая сестрами Марфо-Мариинской обители толпа, символизирующая страждущую, сомневающуюся, надеящуюся и верящую в лучшее Русь. Здесь и израненный солдат с костылем, и бледный гимназист, и худые деревенские отроки-пастушки, и прозрачная девочка в синем платочке...
2 апреля 1911 года Нестеров картину закончил, а через три дня в арочном проеме черной молнией обозначилась трещина. Если бы Щусев был рядом, Михаил Васильевич, наверное, четвертовал бы его. Помощник Нестерова Павел Корин пытался вступиться за Алексея Викторовича:
— Ведь предупреждал же Щусев — дверей не открывать, никого внутрь не пускать. А нам то воздуха не хватало, то мнения чьего-то хотелось послушать. За три дня толпы людей перебывали, вот и результат — просквозили храм! — говорил он.
Корин, как и Щусев, втайне испытывал надежду, что фронтоне появится более соответствующая месту роспись.
Справившись с потрясением, Нестеров стал наносить изображение на медные доски, которые потом вживлялись в стены. Когда Алексей Викторович по вызову художника прибыл в Москву, ему пришлось выдержать жесточайший разнос.
Но не столько нарекания друга огорчили его, сколько пастораль, изукрасившая стены. Щусев быстро справился со злополучной трещиной, из-за которой роспись отслоилась и поползла вместе с грунтом. Медные оксидированные пластины спасли и здесь, но живопись...
Никаких возражений и советов Нестеров в сердцах принимать не хотел, несмотря на то что сам начал чувствовать, как кисть как бы вступила в разлад с его душой. Несвойственные художнику слащавость, даже елейность, однако, пришлись по вкусу заказчице и окончательно убедили великую княгиню в его гениальности.
Мучился сомнениями Нестеров, откровенно страдал Щусев и втайне от всех горевал Павел Корин, тогда еще бесправный помощник великого живописца. В темном подвале на грубооштукатуренных стенах делал он свою роспись, в которой уже можно было угадать руку великого мастера — будущего автора ратных мозаичных панно на станции метро «Комсомольская»-кольцевая.
Что же касается дальнейшей судьбы «Марфы», то ею распорядился сам Алексей Викторович Щусев: сразу же после революции по его настоянию здесь был учрежден Центральный Дом атеизма, в котором не раз выступал с лекциями Анатолий Васильевич Луначарский. А в годы Великой Отечественной войны трапезную разделили на два этажа для того, чтобы в ее уютных стенах разместилось побольше коек для раненых бойцов. Судьба «Марфы»-госпиталя длилась до той поры, пока не покинул ее последний солдат, ушедший отсюда в 1947 году. С той поры в «Марфе» располагаются реставрационные мастерские Художественного всероссийского научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря.
Глава XI
«Гридница»
После Овруча и «Марфы» за Щусевым утвердилась слава первого русского архитектора. Знать охотилась за ним: всем хотелось иметь на своих землях хоть что-нибудь «в щусевском стиле».
В письме этого периода Алексей Викторович пишет П. И. Нерадовскому: «...работы бездна, я и Духаевский и два десятника, как маятники. Веду также у гр. Милорадовича по рекомендации гр. А. В. Олсуфьева небольшую переделку в 3000 рублей. Сделал эскизы в перспективе, и очень им понравилось. Камин заказал из камня в Финляндии по своим рисункам». Следующее письмо начинается словами: «Чтобы утешить Великого Князя...» Далее следует рассказ о новой «почетной» поденщине.
Он признан, полон сил. Порою он сам кажется себе баловнем судьбы. Первое время его смущало, что кое-кто вчерашних учителей и наставников не только обращается ним, как с равным, но даже ищет его внимания и принимает каждое его пожелание как знак дружбы.
Как дорогой подарок хранил он письмо, в котором его вчерашний кумир Ф. О. Шехтель обращался к нему «с просьбой от Московского Архитектурного общества — не отказать поместить в Ежегодник о-ва, который выйдет в Новый год, что-либо из Ваших построек. В особенности желательно иметь Вашу удивительную церковь на Ордынке...»
Петербургские художники и студенты академии, как на паломничество, отправлялись в Почаев и в Москву, чтобы запечатлеть на полотне щусевские «белокаменные поэмы».
А архитектором уже завладели новые мечты: ему грезился дворец из сказки о царе Салтане...
Москва с любопытством наблюдала за Петербургом, чтобы переиначить, приспособить на свой лад его новинки. Только Щусева ей не надо было к себе приспосабливать — зодчий оказался более московским, чем сама тогдашняя Москва. Даже их сокровенные мечты совпадали: Москва, так же как и зодчий, мечтала о чудо-тереме, в котором бы отразилась вся история ее красоты.
Уже не раз случалось, что в Петербурге лишь говорили о народных традициях, о национальном зодчестве (говорили временами очень страстно), а в Москве тут же строили. И вряд ли одной лишь случайностью можно объяснить, что самое известное дореволюционное произведение Щусева — Марфо-Мариинская обитель — досталось именно Москве. Строилась обитель по псковско-новгородским мотивам, если можно так сказать, отточенным петербургской школой. Ни в одном другом городе, пожалуй даже во Пскове, не прижилась бы «Марфа», а Москве пришлась по сердцу, полюбилась.
Алексей Викторович причислял себя к разряду восторженных почитателей таланта Виктора Михайловича Васнецова, страстно любил его творчество — живопись, орнаменталистику, архитектуру. Близкими друзьями они не были, мешали разница в возрасте и безмерное благоговение Щусева перед Васнецовым. Дружили они как бы через посредника, в роли которого выступал Михаил Васильевич Нестеров.
Знаменитая картинная галерея братьев Третьяковых в один прекрасный день удивила москвичей своим новым фасадом. Здание словно бы надело праздничный боярский кафтан, который пришелся ему в самый раз. Фасад стал настоящим лицом галереи — сокровищницы русского искусства. Создателем каменного наряда был Виктор Михайлович Васнецов.
Предивное узорочье Суздаля, Ярославля, Углича отразилось на нешироком пространстве красных стен галереи. Впервые современное светское здание сумело органично вобрать в себя наследие московского барокко. Яркими всполохами зажглись краски, не ослепляя, а радуя взор. Васнецовский фасад стал той новой волной в русском зодчестве, которая смывала безвкусицу подделок под «народый дух».
Васнецову первому удалось то, о чем мечтали многие архитекторы уже более ста лет: доказать примером, что московское барокко — это живой вклад русских зодчих в мировую классику.
Приверженец петербургской школы, Щусев к московскому барокко был до времени равнодушен. Однако сама судьба, казалось, приближала зодчего к нему. Проникнув в суть белокаменной псковско-новгородской архитектуры, овладев ее светотенями, он однажды увидел в предивном узорочье Москвы загадку, подступы к которой сумел нащупать лишь Виктор Васнецов. Загадка эта так и осталась бы до конца не разгаданной, не случись целого ряда событий, которые привели Щусева на Каланчевскую (ныне Комсомольская) площадь — вокзальную площадь Москвы. И эта площадь не отпускала зодчего до самого последнего дня его жизни.
К идее строительства нового здания Казанского вокзала в Москве Алексей Викторович сначала отнесся почти безразлично. Его пригласили участвовать в закрытом конкурсе проектов вокзала. Новоявленный тридцатишестилетний академик архитектуры, не успевший еще насладиться высоким званием, как следует примерить его к себе, он не думал покидать Петербурга. Ему казалось, что Северная Пальмира навсегда стала его второй родиной.
Следуя узаконенному им для самого себя правилу — участвовать во всех конкурсах, он внимательно изучил и условия нового конкурса. По памяти воспроизвел он на бумаге Каланчевскую площадь, старый Рязанский, а потом Казанский вокзал, на месте которого надлежало вырасти новому вокзалу. Обусловленная конкурсом идея «русского сказочного городка» (конкурс носил условное название«Московские ворота на Восток») показалась ему занимательной. К приглашению участвовать в конкурсе прилагался примерный эскизный проект, выполненный самим Федором Осиповичем Шехтелем.
«Зачем мне за это браться, когда Шехтель есть? — думал Алексей Викторович. — Шехтель построил на той же площади Ярославский вокзал, правда мрачноватый, несколько тревожный. За ним следовал целый ряд превосходных построек Федора Осиповича. Одно лишь здание типографии «Утро России» на Страстном, получившее первую премию за удивительно простой и бесконечно выразительный фасад, чего стоит! Шехтель в самом расцвете сил, и у него больше, чем у кого бы то ни было, прав завершить ансамбль вокзальной площади...»
Алексей Викторович не догадывался, что богатейшее Акционерное общество Московско-Казанской железной дороги уже сделало свой выбор.
Сама идея построить вокзал в виде символических «ворот на Восток» будоражила фантазию, рождая образы один ярче другого. Вокзал — это начало дальней дороги. Большинство же вокзалов немо и безразлично к человеку. А ведь само здание способно сказать напутственное: «В добрый час! Не забывайте, чьи вы и откуда родом!»
На эскизе Шехтеля был бегло прорисован белокаменный ансамбль с разновысокими башнями и кирхообразными крышами. От идеи «ворот на Восток» эскиз был очень далек.
Щусев сделал набросок и увлекся. Всего два вечера трудился он над своим проектом, не связывая с ним никаких надежд. «Дело долгое...» — решил Алексей Викторович и отложил набросок в сторону.
Другие дела были куда более реальными. Его старый знакомец отец Флавиан за его спиной сговорился с митрополитом Петроградским и Ладожским и архимандритом Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Владимиром не выпускать архитектора из рук. Предложения от Синода следовали одно за другим, и Щусеву нельзя было с ними не считаться, хотя он уже отстоял свое право отказывать. Однако он мог пользоваться этим правом лишь до той поры, пока владыко не топнет ногой. Но не лежала у него больше душа к культовым постройкам.
Свежесть архитектуры Виктора Михайловича Васнецова взволновала Щусева. Конечно, он не ставил и не мог ставить перед собой цели обновить московское барокко, явить его миру как откровение. Правда, он умел делать находки «под ногами», открывать то, что открывать всего труднее, — явное.
Его частые наезды в Москву, долгие ночные бдения в период работы над «Марфой», привычка в часы раздумий бродить по московским улицам — все это исподволь привязывало его к Москве. Едва он начинал думать об этом городе, как в нем пробуждалось ощущение праздника. У него уже были любимые места в Замоскворечье, в Филях, в Немецкой слободе, из которой, как он считал, собственно, и вышел Петербург. И конечно, душу свою он был готов положить к подножию Кремля.
Щусеву первому удалось увидеть, почувствовать первозданность Москвы — основоположницы собственного стиля в архитектуре, стиля собирательницы русских городов.
По ночам ему снилась весенняя, омытая первыми дождями, радостная Москва. Светлая искренность московского барокко открывалась ему постепенно, шаг за шагом. По опыту своих белокаменных построек он уже знал, что искренность вообще невозможно скопировать. Найдется ли кто из современников, у кого хватит и восторга и терпения, чтобы настроить душу свою на бесконечную работу, на любовь, которую безоглядно вкладывали московские зодчие в каждый свой каменный узор?
Алексей Викторович старался не думать о своих неудачах и все же всегда помнил о них. Первый опыт работы стиле московского барокко он предпринял за год до этого конкурса. Тогда он участвовал в другом конкурсе — на постройку городского банка в Нижнем Новгороде.
В том проекте зодчий впервые воспользовался формами московского барокко. Каждое из четырех соединенных одно с другим зданий несло свою функциональную и художественную нагрузку. Создавалось впечатление, что онив разное время были пристроены друг к другу, как происходило в те годы, когда московское барокко вырабатывало свою живописность, основанную на сочетании свежести красок и пластики форм.
Это был смелый эксперимент архитектора — расчлененное на самостоятельные фрагменты строение собиралось в яркий, как мозаика, ансамбль, вызывая целую гамму чувств. Яркий всполох красок был по-своему строг, продуман и организован. Но в проекте нижегородского банка ощущалась заданность, он был несвободен от влияния псевдорусского стиля. Проект так и не был реализован, и Щусев не жалел об этом.
Московское барокко оказалось крепким орешком. У этого пришедшего к нам из конца XVII — начала XVIII века стиля была своя особая тайнопись, и только опытному художнику с острым чутьем и свободной фантазией можно было здесь на что-то надеяться.
В короткий срок Щусев построил в облюбованном им стиле два интересных здания в Италии. Первое, правда, несколько копировало прошлое — это гостиница для русских странников в Бари. Зато другое — Русский павильон художественной выставки в Венеции — уже при первом взгляде оставляло впечатление яркой самобытности. Кажется, что зодчий работал в этой творческой манере много лет, так неприхотливо свободен он в своем художественном волеизъявлении.
Россия привнесла в Венецию нарядный и праздничный московский колорит, причем сделала это тактично и ненавязчиво. Павильон заиграл своими причудливыми красками под ярким солнцем Италии. Несмотря на то что фасады двух галерей павильона совершенно различны, они согласно выполняют общую задачу: подготовить зрителя к восприятию русской живописи.
Какими простыми средствами достигает Щусев своей цели! Привычный кубический объем, шатровая кровля, в которой чуть замаскированы большие площади остекления, на изумрудной глухой стене — белая виньетка-картуш... Под сенью старого дерева, любовно сбереженного русскими строителями, проходила длинная лестница с уютной террасой под узорчатым каменным паланкином. Это своеобразное крыльцо несло всю живописную нагрузку переднего плана здания. Играя архитектурными массами, зодчий создал уникальную по гармонии композицию. Детали московского барокко здесь почти второстепенны, но их вполне достаточно, чтобы зазвучал в полный голос русский мотив, чтобы он был понят всеми.
«Русский календарь» писал: «В Венеции на обычной международной выставке русские художники впервые разместились в собственном павильоне... Павильон этот выстроен талантливым архитектором А. В. Щусевым. Внешность этого здания очень красива. Характерные черты древнего русского зодчества, взятые Щусевым, привлекают и заинтересовывают иностранцев. Надо заметить, что русский павильон — единственный среди павильонов других стран, ярко типичный для своей Родины... Немало художников-архитекторов увлекается памятниками русского зодчества прошлого, и в этом направлении они творят много выдающегося. Тут на первом месте талантливый Щусев, архитектурные проекты которого всегда опираются на эти памятники, отличают в художнике-архитекторе глубокое проникновение в красоту старинного русского зодчества и удивительную творческую способность его создавать новые архитектурные сооружения, полные типичных черт своей Родины».
Алексей Викторович ехал на встречу с Венецией, как с давней своей любовью. Однако ему показалось, что город сильно потускнел. Или это он, Щусев, так изменился с того времени, как был здесь, поэтому видит все иначе? Венецианские каналы выглядели теснее, от воды поднимался тяжелый дух. Да и сами венецианцы, казалось, смотрят на жизнь не так беззаботно, как во времена его юности.
Лишь раз ему от души удалось повеселиться. Русские праздновали завершение строительства своего павильона. Ночное небо Венеции озарилось: ракеты взмывали ввысь и с шипением тонули в черной воде. В тот же вечер отмечался день поминовения Святой Франчески — перила мостов, парапеты набережных осветились трепетными язычками свечей. После фейерверка городом завладел карнавал.
На другой день в утренней почте среди поздравительнх открыток и адресов оказался казенный конверт. Правление Общества Московско-Казанской железной дороги призывало «господина академика А. В. Щусева незамедлительно прибыть в Москву для разрешения не терпящих отлагательства дел». Письмо было подписано сопредседателем правления Н. К. фон Мекком.
Череда неясностей, связанных с вокзалом, вновь прошла в его памяти. Он все же решился принять участие в конкурсе. Непонятно было, почему кроме него осталось всего две кандидатуры — архитектор Шехтель и художник Фелейзен, неужели больше никого не нашлось?
Барон Н. К. фон Мекк уже много лет настойчиво предлагал построить на Каланчевской плошади новое здание Казанского вокзала, такое, чтобы «у русского человека, глядя на него, душа радовалась». С пожеланиями барона нельзя было нс считаться, так как контрольный пакет акций Общества Российских железных дорог род фон Мекков уже более полувека не выпускал из рук.
Вокзальное здание мыслилось правлению железной дороги как некая ширма, прикрывающая вокзальную сутолоку, паровозную гарь и копоть, шлаковые канавы и будки стрелочников.
Щусев понял задачу, согласился с ней, но решил пойти дальше. Он принадлежал к числу людей, которые, обладая недюжинными силами, только тогда могут работать с полной отдачей, когда ставят задачу самостоятельно. Архитектор напористо повел свою линию — создать в Москве ансамбль-энциклопедию русского каменного узора.
Мыслима ли поэма из камня? Но зодчий во всеуслышание заявляет, что предивное узорочье должно зазвучать «подобно опере Мусоргского «Хованщина». И где? На железнодорожном узле! Да возможна ли здесь какая бы то ни было музыка, кроме скрежета железных тормозов да свиста паровозных сигналов? Какой же смелостью надо обладать, чтобы вокзальные строения сравнить со звучанием такого произведения, каким стала для русского симфонизма «Хованщина»!
Правление Общества Московско-Казанской железной дороги уже распорядилось приступить к разборке старого здания вокзала, надеясь скорее увидеть на расчищенном месте нечто грандиозное. Что именно — об этом у правления были самые неопределенные представления.
Эскизные проекты, представленные на конкурс, были схематичны, приблизительны. Выбрав эскиз Щусева, правление тешило себя надеждой: если удастся задеть архитектора за живое, заинтересовать его самой идеей «ворот на Восток», то делу будет обеспечен успех. И оно не ошиблось.
Профессиональное чутье, любовь к русской истории и археологии сослужили Щусеву великую службу — он нашел верную цветовую гамму «ворот на Восток». Очнувшаяся от долгого рабства московская земля породила в народной фантазии эту веселую гамму: сочетанию белого и красного камня суждено было стать отличительным знаком русской архитектуры. Московское барокко — знамение культурного возрождения Руси.
Но могли ли бесследно пройти века рабства, не оставив в русской культуре своего следа? Если дотатарская Русь после своих побед ассимилировала все лучшее, чем владели иноземные племена, то и под игом Русь сумела вобрать в себя яркий восточный колорит, что принесли с собой поработители.
Татарское влияние... Куда же от него деться? Угнездилась чужая культура в русском быте, сплелась Русь корнями с чужеземным и тем одолела его. Прибавилось отчаянной удали в русском национальном характере, а безмерная щедрость, умение прощать остались навек. После долгой борьбы за независимость и свободу Русь предстала в новом обличии. Вобрав восточное и сохранив европейское влияние, московское барокко стало синонимом русской самобытности.
В ту пору, когда А. В. Щусев формировался как архитектор, споры между западниками и славянофилами хотя и поутихли, но вовсе не прекратились. Какую позицию занимал в их спорах Щусев, установить несложно. «Уничтожая бороды, — любил повторять он, — Петр зарыл в землю и русское народное искусство. А я все-таки не считаю это искусство умершим, оно живое и будет житьвсегда».
Однако, в отличие от «правоверных» славянофилов, Алексей Викторович не торопился охаять новое в русской культуре и возвести в абсолют искусство прошлых веков. Он отчетливо понимал, что именно абсолютизация древней славянской культуры, попытки слепо копировать ее привели к полной дискредитации русской стилистики в архитектуре конца XX века.
Живое, устремленное в будущее искусство зодчества по самой своей природе необратимо. Оно, как дерево, растет вширь и вверх, но корни этого дерева глубоко уходят в национальную почву, питаются ее соками. Если архитектура не народна, она не искусство, а голое конструирование, идущее не от корней, а от головы. Эта мысль проникла в плоть разработок Щусева, стала на долгие годы его путеводной мыслью.
29 октября 1911 года стало днем официального утверждения академика А. В. Щусева главным архитектором строительства нового здания Казанского вокзала в Москве. На строительство правление дороги выделило баснословую сумму — три миллиона золотых рублей.
Алексей Викторович поначалу не сумел осмыслить всею величину ответственности, всю тяжесть груза, что взвалил на себя. К детальной разработке проекта будущего вокзала он смог приступить лишь к середине следующего года: вклинилась работа на Международной художественной выставке в Венеции. Все это время в подсознании шла скрытая работа. Наступила пора, и он постучался в тайникисвоей памяти, и тогда, как это уже не раз с ним случалось, его охватил задор — неведомо откуда рождались свежие образы, наплывали один на другой, строились в целые картины, разные по композиции, но единые по духу и выразительным средствам.
Невероятное разнообразие форм, цвета, материалов представилось ему. Он едва успевал делать наброски, ничуть не удивлялся той взволнованности, которая охватила его. Прихотливость каменной резьбы, затейливые рельефные фризы, торжественный мажор колонн, стремительность подпружных дуг, грация арок — все это жило в нем, меняло свое обличье, стремилось слиться в едином ансамбле.
В такой лихорадке Алексей Викторович провел весь 1912 год и лето 1913-го. К концу августа 1913 года он представил в министерство путей сообщения детальный проект. Еще не было у Щусева ни одного проекта, на подготовку которого он затратил бы более двух лет. Оставалась труднейшая задача — точно выверить место, где будет стоять здание.
Площадка для строительства нового здания Казанского вокзала находилась в самой низкой части Каланчевской площади. Наиболее выигрышные точки площади уже были заняты Николаевским (впоследствии Ленинградский) вокзалом, воздвигнутым в середине прошлого века архитектором К. А. Тоном, и Ярославским вокзалом, автором которого был Ф. О. Шехтель.
Стоящие друг подле друга, эти вокзалы являли собою два полюса: один воскрешал классицизм, другой являл в камне модернизированную стилистику деревянного зодчества русского Севера. Два огромных здания, сквозь которые проходили нескончаемые потоки людей, словно бы сторонились, старались не замечать друг друга.
Новый вокзал должен был выразить то, чего были лишены два его предшественника, — он должен был стать истинным детищем Москвы, отразить лучшие ее черты.
Архитектор долго и мучительно искал, как выбраться «из ямы» Каланчевской площади, пока не придумал поместить главную доминанту ансамбля — башню — в самом низком месте. Тогда весь ансамбль прочитывался легко, как бы единым взором. Но какою в таком случае должна быть сама башня? Высокой и прекрасной, неповторимой и узнаваемой. Она должна заставлять всех, кто находится на площади, поднять голову к небу.
Алексей Викторович приглядывался к башням Московского Кремля, рисовал «фантазии» на тему каждой башни, отыскивая облик своей... Однако прообраз ее он нашел не в Москве, а в Казани. Это была башня царевны Сююмбеки.
Из многочисленных легенд о башне Сююмбеки Щусеву запала в душу одна —о любви татарской царевны к русскому мастеровому, который построил для нее самую прекрасную на земле башню. Очарованная красотою башни, отдала царевна мастеру свое сердце. Но недолгим было счастье влюбленных. Вернулся из похода грозный царь, узнал об избраннике своей дочери и погубил мастера... Не в силах забыть своего возлюбленного, бросилась царевна из окна. Лишь башня на волжском берегу хранит печальную память о влюбленных.
Сложное композиционное дробление ансамбля как бы связывало в замысловатую цепь череду ярких картин, объединенных цветовой гаммой. Богатое разнообразие пластических форм московского барокко придало ансамблю полноту звучания. Самым сильным аккордом в этой каменной симфонии стала мощная шестиярусная башня. Сохранилось немало рисунков, на которых Щусев изобразил золотого змия Зиланти — герб города Казани. Он искал и нашел нужный поворот аллегорической фигуры змия, который, сверкая золотой чешуей, должен был глядеть со шпиля башни.
Едва проект Казанского вокзала появился на страницах журнала «Зодчий», как в адрес Алексея Викторовича посыпались поздравления, как будто бы вокзал уже был возведен. Более чем двухсотметровая протяженность вокзала не мешала целостному восприятию постройки: точное распределение изобразительных средств открывало целую галерею каменной живописи. Казалось, ни одной лишней детали нет на нарядном фасаде и в то же время ни одного дополнительного штриха нельзя внести, чтобы не нарушилось радостное ощущение праздника. Затейливый, ярмарочно веселый и шумный городок привлекал тем больше, чем дольше смотрели на него.
Нарочитое нарушение симметрии, одинокая башня в сочетании с разновеликими массами архитектурных объемов должны были открывать здание заново с каждой новой точки площади. Пожалуй, ни один архитектор прежде не умел так свободно и прихотливо играть светотенью, заставлять не только солнце, но и облака оживлять каменный узор.
Но именно это нарушение симметрии — одна из отличительных особенностей московского барокко — поставило экспертов и инженеров правления дороги в тупик. Правление вежливо, но настойчиво попросило «господина академика» ввести в проект «некое среднее звено». Алексей Викторович обычно легко шел на уступки, если видел какую-либо возможность развить идею. В этом проекте он категорически отказался что-нибудь менять.
— Древний русский город, каким является Москва, требует точного исполнения традиций родного искусства, — убеждал Щусев. — Вокзал — это общественное лицо города, и он не может быть в этом городе инородным телом!
Однако члены правления продолжали оставаться при своем мнении.
— Если башня переедет в середину, — настаивал эксперт министерства путей сообщения Л. Н. Любимов, — то, наверное, никакого ущерба не произойдет.
В министерстве шло, казалось бы, рядовое совещание. Высказывались мнения о проекте нового вокзала. Алексей Викторович видел, что проект нравится, что железнодорожные чиновники готовы доверить ему большую стройку, к которой сам он уже готов. Неужели в жертву чьей-то близорукости будет принесена судьба большого дела? Щусев славился терпением, но сейчас начинал чувствовать, что теряет его.
Рядом с Ф. О. Шехтелем сидел, поблескивая стеклами пенсне, инженер И. С. Книппер. Оба видели состояние Щусева, оказавшегося в кругу далеких от искусства лиц, которые решали сейчас, быть или не быть вокзалу.
— Мы не можем не приветствовать применение древнерусского стиля для вокзала, предназначенного для постройки в Москве, — поднялся И. С. Книппер, — и всем нам следует помнить, насколько редка абсолютная удача. Здесь же перед нами именно такая удача!
Инженер, призывая на помощь логику присутствующих, заявил, что членение фасада вместе с выразительностью «является, кроме того, желательным для выделения помещений, различных по своему назначению». Книпиер сказал, что считает «просто неуместной симметрию для фасада длиною около 100 сажен», что никакие приемы и архитектурные изыски не спасли бы фасад такой протяженности от монотонного однообразия, если бы его праваясторона была зеркальным отражением левой. Там не менее инженерный совет министерства остался при особом мнении.
Более трех месяцев продолжались дебаты вокруг щусевского проекта. Сам архитектор внимательно следил заих ходом, не раз жаловался, что мысли о вокзале не дают ему ни на чем сосредоточиться. В один из очередных своих наездов в Москву Алексей Викторович встретился с Михаилом Васильевичем Нестеровым и посетовал на косностьжелезнодорожных чиновников, готовых загубить такое интересное дело.
Михаил Васильевич к тому времени завершил росписьМарфо-Мариинской обители. Великая княгиня готовиласьпоселиться в ней, так угодил ей живописец своим искусством. При встрече с великой княгиней Нестеров рассказалей о Казанском вокзале, проект которого выполнен в лучших традициях московского зодчества конца XVII века, и о неурядицах с проектом. Спустя неделю великая княгиня, уже начавшая обживать свою обитель, как бы невзначай сказала художнику, что знает, как помочь в щусевском деле. Оказалось, что великой княгине было достаточно вспомнить, что секретарь и начальник ее канцелярииносит ту же фамилию, что и сопредседатель Общества Московско-Казанской железной дороги,— фон Мекк. Родственные связи были не менее весомым капиталом, чем контрольный пакет акций, даже государственные дела часторешались с их помощью...
12 ноября 1913 года проект Щусева был утвержден. С этого же дня открылось его финансирование. Официальное письмо правления дороги призвало господина академика А. В. Щусева безотлагательно принять руководствостроительством Казанского вокзала и в целях успешногоосуществления работ переселиться на жительство из Петербурга в Москву. Жалованье, назначенное Щусеву, превзошло все ожидания.
Наконец-то он получил дело по плечу! Однако первымчувством была растерянность. Он как будто боялся вступить в новый этап своей жизни.
Теперь под его началом будет работать большой коллектив. Он сам должен сформировать его, сплотить, увлечь — словом, создать группу единомышленников. Теперьон уже не просто был художником, ответственным только за себя. Дело, к которому призвала его жизнь, требовало не только художественного дара, но и недюжинных организаторских способностей.
В глубине вокзального двора стояло почерневшее от паровозной копоти двухэтажное приземистое здание длиною семь вершков из красного кирпича. С него уже была снята кровля — здание шло на снос. Алексей Викторович обошел его со всех сторон, придирчиво оглядел и неожиданно попросил отнестись к его просьбе со всей серьезностью.
— Николай Карлович, — обратился он к фон Мекку, — распорядитесь прекратить разборку здания. Мне нравится эта старинная кладка.
С ремонтом и отделкой этого строения Щусев связывал самые близкие свои планы. Он велел разрушить все перегородки верхнего этажа. Получился большой светлый зал, к которому примыкали кабинет Щусева и комната отдыха. Алексей Викторович распорядился поставить в зале рядом с чертежными досками рояль. Ему была не нужна мастерская в казенно-чиновничьем смысле, он задался целью создать действительно архитектурно-художественную мастерскую, в которой будет царить вольный полет мысли.
Алексею Викторовичу казалось, что он сможет стать настоящим руководителем одаренной молодежи, свободным от академического консерватизма, от всего, что мешает художнику жить и творить. Не готовых архитекторов искал он, а людей с творческим началом. У него было чутье на таланты. Он знал, что всегда можно отыскать способных людей, которым удается даже в самых неподходящих условиях каким-то неведомым образом сохранить свою самобытность. Трудность заключается лишь в том, чтобы научить их говорить в полный свой голос.
Ничто не формирует мировоззрение художника так, как атмосфера живого поиска, как поток творческих идей, которые обрушиваются на тебя, как водопад, и несут на стремнину. Нет у художника жизни, если он утрачивает жажду к совершенствованию, если у него пропадает страсть добиться того, о чем он мечтает.
«Первыми ласточками» щусевской мастерской стали выпускники Строгановского художественно-промышленного училища Петр Юшков, Николай Тамонькин, Андрей Снигарев. Свою мастерскую они назвали «гридницей», заявив таким образом о своей приверженности традициям русского зодчества.
Вскоре состоялось открытие мастерской, на котором академик Щусев веселился, плясал и пел, заражая своим задором молодых коллег. Звенела гитара, потом ее сменил рояль. Алексей Викторович аккомпанировал двум только что принятым в «гридницу» обаятельным копировщицам Тосе и Мусе, уговаривая их петь на два голоса романсы. Он подсказывал слова, подбадривал смущенных девушек улыбкой.
Наутро сотрудники мастерской увидели озабоченное, строгое лицо патрона. Никто не смел вспомнить вчерашнюю шумную кутерьму.
— Мне бы хотелось, чтобы сначала вы позабыли все то, чему вас учили в промышленном училище, за исключением, естественно, того, что забыть не сможете, — сказал Алексей Викторович. — Я хочу научить вас смотреть идумать... Наша «гридница» — это то место, где будет происходить самое интересное в вашей жизни. И чтобы это было именно так, вы завтра же разъедетесь по разным маршрутам, которые мы все вместе определим. Мне нужен, и я это прошу запомнить, коллектив старательных работников, которому в трехлетний срок надлежит соорудить самый большой и самый красивый в России, а может быть, и в мире, на что мы должны тайно надеяться, железнодорожный вокзал...
Вряд ли кто-нибудь в «гриднице», кроме самого Щусева, в деталях представлял себе, каким будет этот вокзал. Правление дороги времени на раскачку не предусматривало. Жесткая дисциплина, строжайшая отчетность, незыблемость сроков были перечислены Щусеву как непременные условия работы. Алексей Викторович принял эти условия. Он не противился, когда над ним был поставлен Официальный начальник строительства инженер Фосс, когда был выделен специальный куратор правления Абрагамсон. Не возражал он и против кандидатуры назначенного ему в помощники инженера Вульферта. Но когда кто-нибудь из них пытался отдавать распоряжения в «гриднице», то встречал яростный отпор.
— Архитектуру вы будете делать такую, какую мы вам нарисуем, господа, — повторяли вслед за Щусевым егоколлеги.
Вскоре Алексей Викторович убедился, что жесткие рамки, в которые не раз ставила его жизнь и которые научили его подлинному мастерству, не должно создавать искусственно. Он сам всегда мечтал о свободном творчестве и теперь отстаивал эту свободу для своих сотрудников. Только так можно было сделать из них единомышленников.
За «наукой к предкам» Алексей Викторович отправлял каждого новичка. Маршруты пролегали через Коломну, Нижний Новгород, Казань, Астрахань, Рязань, Владимир, Суздаль, Ростов Великий, Углич, Юрьев-Польский, Переславль, Ярославль, Смоленск, Псков... Русское зодчество давно уже было самой сильной его любовью, и он настойчиво прививал эту любовь всем своим «гридям» — так в старину звали воинов, живших при княжьем дворе.
Пока шло «учение», Алексей Викторович взвалил на себя весь основной объем работ. Он сознательно пошел на это: молодым сотрудникам он до времени не мог доверить устройство сложнейшего фундамента, который возводился на слабых грунтах площади. Длинный ряд вокзальных построек требовал особенной сосредоточенности, и архитектор словно бы держал здание на собственных плечах, используя весь свой строительный опыт, все знания. Ему необходимо было заглядывать вперед, лишь тогда в его руках оказывался главный инструмент руководства — четкий стратегический план. У большой стройки была своя большая политика. Руководитель должен был постичь эту политику, подчинить стройку себе.
Видя рвение архитектора, правление дороги успокоилось. Алексей Викторович умел отвечать на любой вопрос так, чтобы было понятно, кто на стройке истинный хозяин. Акционерное общество было завалено эскизами и чертежами, сметами и разнарядками. Копировщицы Тося и Муся работали не разгибая спины. Щусев систематизировал документацию, составлял генеральные наряды с четким указанием предстоящих художественных работ.
Дело росло и ширилось, заполняя русло, которое расчищал для него зодчий. Создавалось впечатление, что Щусев всю жизнь только тем и занимался, что строил вокзалы. Он не щадил ни времени, ни сил для того, чтобы постичь сложную инженерную сторону огромного — стосаженного — сооружения, которое уже жило в нем. Когда в «гридницу» один за другим стали возвращаться молодые помощники Алексея Викторовича, у него уже сложилась инженерная часть ансамбля.
Вскоре на южной стороне Каланчевской площади развернулись вскрышные работы, их темп стал быстро набирать разгон. Закладка фундаментов планировалась на весну. Толпы мужиков в катанках жгли на большом пространстве костры, долбили ломами мерзлую землю. Теперь уже Щусев как главный производитель работ наседал на инженерную службу Московско-Казанской дороги.
Но строительная лихорадка как бы отступала в сторону, едва архитектор вступал в свою «гридницу», где в это время создавалась праздничная картина сказочного городка.
Из поездок привезли молодые архитекторы в «гридницу» кипы зарисовок, обмеров, массу творческих фантазий.Большую часть из них Алексей Викторович разгадывал спервого взгляда, безошибочно называя источник вдохновения. Казалось, нет в России архитектурного памятника, какой не был бы ему знаком.
В общении с сотрудниками Щусев был доброжелателен, за оригинальную идею готов был, кажется, расцеловать, зато вторичность не жаловал.
— Хоть маленькую идейку, хоть дыхание свежести, — жалобно просил он, отодвигая эскиз. — Я ведь посылал васв экспедицию не за тем, чтобы доставить вам удовольствие побаловаться кистью на пленэре. Вы ездили учиться упредков. Вот и покажите, чему вы научились!
Однажды Щусев сложил забракованные эскизы в папку и унес с собой. На следующий день он принес несколько перерисованных эскизов. Главное внимание привлекла к себе знакомая всем башня, которая стала неузнаваемой.Сохраняя верность первоисточнику, она вся исполнилась каким-то необыкновенным обаянием. Хотелось скорее воплотить ее в явь.
— Господи, до чего же просто! — воскликнул кто-то за спиной Алексея Викторовича.
Щусев выразительно хмыкнул и неторопливо ответил:
— Перетри раз со ста — вот и будет просто...
«Он пробуждался утром с песней, которую сейчас же подхватывали дети», — писал младший брат Алексея Викторовича, Павел, в своих воспоминаниях. Уютный старинный дом, что снял Щусев в Гагаринском переулке, жил шумно и весело. Первым по утрам оживал мезонин, где помещались спальня взрослых и комнаты детей. Гулкий топот и скрип деревянной лестницы возвещали кухарке Авдотье Онуфриевне о том, что пора поспешать с завтраком.
В просторной столовой, в то же время служившей и гостиной, обставленной мебелью красного дерева, под зелеными стрелами пальмы стоял рояль. Когда у Алексея Викторовича бывало бодрое настроение, он перед завтраком открывал крышку рояля и вместе с детьми разучивал новую песенку. Светло и радостно жил этот дом.
Для Щусева, казалось, наступила пора абсолютного счастья, которая дает человеку уверенность, что судьба больше никогда не отвернется от него. Это была пора творческой жатвы. Легко двигал он вперед огромную стройку, следя зорким глазом, как она набирает силу.
Сделавшись москвичом, Алекеей Викторович начал добиваться для Московского архитектурного общества права стать организатором 5-го Всероссийского съезда архитекторов. Основанное в 1867 году, Московское архитектурное общество считалось одним из уважаемых гражданских обществ России. С первых же дней, как Щусев поселился в Москве, общество привлекло его к своей работе. Он уже заслужил славу глубокого знатока и убежденного защитника московского барокко. Всем опытом своей работы, всеми своими постройками он утверждал, что русские национальные традиции не распались, что они живут и развиваются.
Именно об этом говорил Щусев на 5-м Всероссийском съезде архитекторов. Он выступил как знаток архитектуры Москвы, как страстный защитник ее памятников.
Многие москвичи еще помнили кровли кремлевских башен до реставрации. А после нее, по выражению Щусева, «кровли оказались покрытыми шинельным сукном». Архитектор убежденно доказывал, что нельзя приступать к реставрации таких памятников, как Кремль, не изучив, не освоив опыта предшественников. Кровельщик стародавних времен сам обжигал черепицу, сам делал в ней нужные отверстия для крепления. Каждая черепица крепилась на одном кровельном гвозде. Неуловимые глазом неровности в подгонке черепицы и создавали ту живописность кровли, о которой так пеклись русские мастера.
Появились более совершенные материалы, говорил Щусев, открылись широкие возможности, но заботы у строителя остались те же — не посрамить свое искусство. Ничто не способно было, по словам Алексея Викторовича, поколебать его убеждения в том, что если национальное декоративное искусство совсем уйдет из архитектуры, то зодчество перестанет быть искусством. Художественное начало в архитектуре заменить нечем. Даже самая изысканная пластика линий и плоскостей, заявлял архитектор, не способна сама по себе создать художественно значимого произведения в городской застройке. Зодчий не имеет права забывать, что существует художественная среда города, что ее надо любить, беречь и работать, не оскорбляя ее.
Вся Москва знала о стройке «под Каланчой», пристально следила за ее ходом. Проект вокзала перепечатывали газеты, журналы, вокзал был у всех на устах, его ждали с радостью, как ожидают праздника. Официальный Петербург принимал все это холодно.
В вежливом противоборстве двух столиц шла подготовка к 10-му Всемирному конгрессу архитекторов, который должен был состояться в Петербурге. Впервые Россия была выбрана местом проведения международного форума архитекторов. Сначала конгресс намечалось провести осенью 1914 года, в дни стопятидесятой годовщины Российской академии художеств. Но устроители конгресса побоялись напугать холодными осенними дождями знаменитых зодчих, большую часть которых составляли итальянцы и французы, поэтому конгресс был перенесен на май1915 года. Усилиями Щусева и его сторонников в программу конгресса был включен цикл докладов и сообщений о русском стиле. Намечалась серия выставок «исторических и современных зданий, возведенных в русском стиле».
«Глава русского национального зодчества», как стала называть Щусева печать, горячо увлекся задачей — поднять благодаря конгрессу значение русской архитектуры в глазах образованного мира. Убежденность в том, что русская архитектура заслуживает международного признания и только плохая осведомленность о ее достижениях мешает мировому общественному мнению воздать ей должное, придавала Алексею Викторовичу сил.
В подготовку конгресса Щусев вложил весь свой организаторский пыл. В то время он не пропускал ни одного международного симпозиума архитекторов, чтобы персонально заручиться у каждого мирового светила архитектуры согласием участвовать в Петербургском конгрессе. Все, кто встречался тогда со Щусевым, долго помнили властную силу его обаяния. Не было, казалось, цели, какой он не мог бы достигнуть. Алексей Викторович был уверен в успехе предстоящего форума.
Но тут произошло событие, которому Щусев, как человек искусства, плохо разбирающийся в вопросах международной политики, не придал того значения, которое оно имело: 15 июня 1914 года выстрелами из револьвера были убиты австрийский эрцгерцог Франц-Фердинанд и его супруга герцогиня Гогенберг.
И в самом деле, ничто как будто не предвещало мировой грозы. 19 июня в Берлине торжественно открылась выставка-продажа русских кустарно-художественных изделий. Основную часть экспозиции привезла в Берлин Мария Клавдиевна Тенишева из смоленской деревни Талашкино, где она организовала художественные мастерские. Деревянные игрушки, расписная посуда, резные ларцы, кружева, финифть были полны обаяния. Их доставили в Берлин из Богородска, Гжели, Федоскина, Вологды, Ростова... Бесхитростные предметы русского быта привораживали сердца.
А ровно через месяц, 19 июля 1914 года, германский посол Пурталес вручил в Петербурге российскому министру иностранных дел Сазонову ноту об объявлении войны. В тот же день в Париже был убит вождь французских социалистов Жорес.
Величайшим указом строительство Казанского вокзала в Москве было остановлено. Строительные артели подлежали немедленной мобилизации для строительства фортификационных сооружений и рытья окопов.
В первую минуту Щусев растерялся. Но он не был бы Щусевым, если бы примирился. Он решил объявить свою войну войне, войну за утверждение искусства. Архитектор стал искать пути спасения своего проекта. Он понимал, что шансов почти нет, поэтому ни одного опрометчивого шага допускать нельзя.
Алексей Викторович вспомнил, как год назад, 11 июля 1913 года, накануне его переезда в Москву он был приглашен вместе с Марией Викентьевной на умопомрачительный по роскоши праздник. Трехсотлетие царствования дома Романовых отмечалось так, что вся Европа была ослеплена — казалось, Россия опустошила все свои закрома, чтобы закатить пир на весь мир. Золотым дождем сыпались награды, лились верноподданнические слезы. Министерство двора трудилось денно и нощно, чтобы ублажить монарха и его семью. Это был их праздник, и мало кто догадывался, что он был последним.
1905 год казался почти невероятным. Появилась присказка, понравившаяся при дворе: «Даже нищим на святой Руси живется всласть». Будущее рисовалось райски безмятежным. Лишь горстка государственно мыслящих людей, которых, однако, никто не слушал, с ужасом поглядывала на статистические сводки: государственный долг в три раза превышал годовой бюджет, а это означало, что Россия потеряла право на самостоятельную политику, что даже ее внутренняя жизнь не принадлежит ей. В такие времена реакцией на безысходность всегда была безудержная роскошь.
В день праздника возле дома на Крюковом канале, где жил Щусев, остановилась лакированная коляска с двуглавым орлом на дверцах. Гренадерского вида форейтор восседал на козлах. Через секунду он звонил в колокольчик.
— Господа! У меня еще две ездки, — просительно произнес он. — Поторопиться бы...
Мария Викентьевна на ходу прикалывала кружевную шляпку.
— А не заехать ли тебе попозже, братец? — предложил Алексей Викторович. — Видишь, госпожа не готова.
— Никак невозможно! — ответил форейтор и направился к коляске, чтобы откинуть ступеньку.
У перил убранной синим бархатом лестницы Петродворца с правой стороны выстроился невообразимо длинный хвост гостей, вдоль которого сновали распорядители из бесчисленного штата министерства двора. Блестели расшитые одежды сановников, аксельбанты, эполеты, ордена. Увидев это золотое сияние, Алексей Викторович вдруг вспомнил, что нарушил предписание — позабыл надеть награды. Его Святая Анна II степени и Святой Станислав III степени остались где-то в куче безделушек, которыми играли дети.
— Ты их не надевал никогда, Алеша, — успокаивала его Мария Викентьевна, — зачем же отступать от правил?
В тронный зал не пускали, на галереях — столпотворение. Распорядители сбились с ног, с ужасом поглядывая на продолжающих прибывать гостей.
К торжественному выходу гости уже порядком устали. Их не раз выстраивали и перестраивали в соответствии с положением и рангом. Впереди и позади Щусева, храня важность, стояли чиновники государственных департаментов. Казалось, не столько ордена были при них, сколько они при своих орденах. Каждая грудь предъявляла свои претензии на новую монаршую милость.
Распорядители не скрывали удивления, видя в среде влиятельных чиновных лиц скромно одетого человека без знаков отличия, но, заглянув в список, успокаивались.
Наконец пропели фанфары и грянул гимн, возвещая выход царя. Николай II был свеж и румян. Он приветливо улыбался, лаская глазами гостей, словно наслаждаясь подобострастными взорами, устремленными на него со всех сторон. Кто бы мог его разуверить в этот момент, что его все любят, что его человеческие качества лишь дополняются высоким саном. Больше всего ценил он в себе мудрость и доброту. Мудрость в политике, доброту к ближним и любовь к музам. Царь очень серьезно относился к своим акварелькам, но еще серьезнее к своим занятиям фотографией, почитая фотографию за искусство, которому принадлежит будущее.
Череда гостей была бесконечной, но это не огорчало царя — в честь такой даты можно было и потерпеть. Впереди его ждали не менее трудные испытания — торжества в Новгороде и в первопрестольной, где для его встречи при въезде в город воздвигли по проекту Ф. О. Шехтеля мраморные Красные ворота. Николай не скупился на рукопожатия и на общие слова. Не вникая в ответные благодарения, он величаво шествовал дальше.
Несмотря на благое намерение явить гостям неистощимый родник благодушия, царь скоро выдохся, и шествующая за ним кавалькада домочадцев, сановников и фрейлин прибавила шагу, форсируя церемонию. Главные церемониймейстеры двора барон Корф и граф Толстой, подхватив под руки начальника дворцового управления генерала Лермонтова, подгоняли арьергард свиты.
Тем временем Николай чуть отступил от шеренги гостей и заскользил по ней глазами, не различая лиц. Неожиданно он остановился. Белое лицо его ожило, застывшая улыбка пропала. Он двинулся навстречу Щусеву, протягивая ему руку с растопыренными пальцами. За шаг от Алексея Викторовича он будто споткнулся и встал, не в силах оторвать взгляда от гордой красоты Марии Викентьевны.
Щусев сдержанно поклонился и крепко пожал царю руку. От этого рукопожатия царь слегка поморщился, но тут же оправился и поинтересовался, как идут марфо-маиинские дела. Алексей Викторович ответил, что отделка подходит к концу.
— Если вам потребуется помощь, обращайтесь прямо ко мне, — произнес Николай и оглянулся на своего шталмейстера графа Нирода.
Тот, сверкнув золотым грифелем, немедленно вписал фамилию Щусева в свой нарукавный список. С минуту царь помялся в нерешительности и неожиданно сказал, что покупает у Бенуа картину Леонардо да Винчи «Мадонна с младенцем». И спросил у Щусева, не дорого ли за нее будет сто пятьдесят тысяч рублей.
Алексей Викторович очень удивился. Он знал, что его учитель Леонтий Николаевич Бенуа очень гордился этим главным сокровищем своей коллекции и без нажима ни за что не расстался бы с ним.
— Она досталась вам бесплатно, ваше величество, — грустно произнес Щусев.
— А вы знаете, какую дивную коллекцию мне удалось заполучить от покойного Семенова-Тян-Шанского?! — продолжал хвастать царь, изо всех сил пытаясь понравиться Марии Викентьевне.
Долго топталась свита на месте, но царя, казалось, никакими силами нельзя было оторвать от Щусевых. Наконец граф Нирод почтительно, но крепко взял государя под локоть.
Когда Щусевы стали собираться уезжать, к ним подошел вежливый, прилизанный камер-юнкер и проводил их до огромной, как дом, кареты, запряженной шестеркой красавцев коней. Высоко над землей восседал прямой, как верста, истукан с бичом, похожим на удочку.
От волнения Мария Викентьевна долго не могла прийти в себя.
— Да будет тебе, Маня, — беззаботно говорил Щусев. — Подумаешь, невидаль — царь возле нее постоял. Да ежели тебе желательно знать, я бы ему больше, чем краски растрать, ничего не доверял. Краски знает, а фантазии никакой. Такого сорта люди для серьезного дела — сущая беда.
— Не бери меня больше с собой, Алеша. Нехорошо у меня на душе, неспокойно.
— Да я ему все ребра переломаю... — грубо пошутил Алексей Викторович и захлопнул рукою рот.
Теперь же Алексей Викторович решился напомнить царю о себе, благо вскоре представилась оказия.
Уже две недели шла война. Царь понял, что дальнейшее его пребывание на отдыхе в Крыму непростительно даже для него. 6 августа 1914 года по дороге из Ливадии в Петербург Николай II посетил купеческую управу в Замоскворечье, чтобы выпросить у московских толстосумов денег на войну. Потом он отстоял молебен в Марфо-Мариинской обители, куда его затащила великая княгиня Елизавета Федоровна. На молебне обязали присутствовать Щусева и Нестерова.
Религиозным человеком Алексей Викторович никогда не был, на церковные ритуалы он смотрел как на элемент старинной культуры. Может быть, именно поэтому его культовые постройки часто воспринимаются как прекрасная театральная декорация, живая и естественная. Его умозрительное, а вернее, зрительное отношение к религии очень не нравилось Михаилу Васильевичу Нестерову, для которого православные каноны были импульсом к творчеству. Нестерова поражал редкостный дар Щусева создавать из камня произведения огромной эмоциональной силы.
Но то, что знал о Щусеве художник Нестеров, было неведомо Николаю II. Для царя человек, строящий удивительные культовые сооружения, был носителем высокой религиозной идеи, недоступной атеисту. Царю и в голову не приходило, что в Марфо-Мариинской обители проявился не приверженец церкви, защитник православия, а самобытный художник, вобравший в себя все лучшее, что есть в художественной культуре, рассыпанной по огромным пределам, где живет и творит русский народ.
После молебна Щусева и Нестерова позвали к царю. Николай II поблагодарил их за великолепную постройку и обошел вместе с ними «Марфу», не скупясь на похвалы.
— Тэк-с, — сказал в заключение осмотра царь, — чем же вы нас порадуете в дальнейшем?
Алексей Викторович принялся вдохновенно рассказывать о своей новой стройке. Николай согласно кивал головой. Выбрав подходящий момент, Щусев вежливо попросил не отправлять на рытье окопов лучших мастеров — строителей Казанского вокзала.
В ответ он услышал:
— Когда говорят пушки, музы молчат.
Несколько дней Алексей Викторович не находил себе места, не зная, где отыскать силы, чтобы продолжать борьбу.
18 августа 1914 года было обнародовано высочайшее повеление именовать Санкт-Петербург Петроградом. 11 сентября на великую княгиню Елизавету Федоровну, все еще занятую устройством своей обители, были возложены заботы о раненых воинах, непрерывным потоком поступающих с фронтов. Ей же вверялась благотворительная помощь жертвам войны — вдовам и сиротам, — которую надлежало развернуть в Москве и в пределах Московской губернии.
При Казанском вокзале организовали эвакопункт. Сооружение было временным, но Щусев позаботился, чтобы оно было теплым и светлым. Алексей Викторович узнал, что вскоре пункт будет инспектировать Елизавета Федоровна. К этому ее приезду он готовился особенно тщательно. Употребив все свое обаяние, он добился от великой княгини слова, что она выберет случай убедить царя не свертывать работ по строительству вокзала. Елизавета Федоровна посоветовала Щусеву использовать еще один путь — написать прошение на имя другой великой княгини — Марии Павловны, тетки Николая II, ума и острого языка которой царь боится. К тому же Мария Павловна числится президентом Академии художеств...
Друзья помогли Щусеву подыскать ключи к покровительнице муз. Напирая на ее патриотические чувства, Щусев писал ей в своем послании: «Фасад Казанского вокзала прорисован мною в хороших четких пропорциях и деталях. Мне удалось поймать дух настоящей русской архитектуры без фальсификации, без приукрашивания».
Хлопоты Щусева не пропали даром. Темпы строительства вокзала, конечно, были не те, но стройку остановить не удалось.
Те, кого Щусев уберег от фронта, работали на лесах и в мастерской с предельным усердием. Трудно, но упрямо тащил Щусев стройку вперед, оставаясь на бумаге лишь ее художественным руководителем.
Об этом периоде в жизни Алексея Викторовича Петр Иванович Нерадовский писал так:
«Помню, в 1915 году на Казанском вокзале шли строительные работы. Санитарный поезд, в котором я служил во время войны, сдав раненых, до отправки на фронт стоял на Казанском вокзале. Я часто встречался здесь со Щусевым. После утреннего завтрака мы с ним шли на вокзал в чертежную мастерскую, заставленную длинными столами, за которыми работали помощники архитектора. Щусев подходил к каждому, не спеша, внимательно рассматривал чертежи, говорил помощнику свои замечания, затем, продолжая обсуждать и давать пояснения, как-то незаметно брал чистую кальку, накладывал ее на часть большого чертежа и уверенно наносил на ней акварелью исправление, которое преображало деталь. Нужно было видеть, как во время длительного обхода легко и изобретательно из-под кисти Щусева появлялись новые элементы постройки, каждый раз в измененной расцветке. Так руководил Щусев разработкой своего проекта, не жалея сил, перерабатывая его в целом, не пропуская ни одной детали и добиваясь высокого строительного качества».
Все получалось как будто легко и свободно. Только по прошествии времени, сопоставляя многочисленные акварели архитектора, можно почувствовать отголосок той мучительно трудной работы, которую он вел тогда.
Теперь Алексей Викторович владел на стройке всем и вся. Вместе с большой стройкой вырос большой мастер, который как будто бы никогда в себе не сомневается, уверенно полагается на собственный опыт. Он научился прятать свои терзания от посторонних глаз.
Так, собственно, и должен держать себя художественный руководитель: ведь его подчиненным для плодотворной работы необходимо на каждом шагу видеть подтверждения, что метр ведет дело уверенно, знает путь к успешному финалу. Щусев мог обратиться за советом к кому угодно, но давления не терпел никакого и поступал сообразно только собственному разумению.
В 1916 году наметился силуэт главной башни вокзала, стали видны контуры гигантского теплого перрона. Несмотря на войну, Москва поднимала свой сказочный теремной дворец. А вокруг дыбилась земля — котлованы, отвалы, известковые ямы, меж которыми пробивались фундаменты и стены новых путейских сооружений. Художественная общественность всей России заинтересованно вслушивалась в эту «большую каменную симфонию».
Алексей Викторович страшно возмущался, когда его творческую манеру причисляли к разряду ретроспективных. Он доказывал, что здесь, на Казанском вокзале, творится архитектура будущего, исполненная национального звучания.
Дитя нового века — конструктивизм — привлекал многих архитекторов остросовременными рациональными формами, возможностью широко использовать новые строительные материалы и неведомую прежде конвейерную организацию производства. Каждое новое слово в архитектуре и строительной технике Щусев изучал, как школьник, вникая в самые мелочи. Но попытки подмены художественных начал инженерными схемами он отметал сразу. А проблемы, в том числе и инженерные, вставали одна сложнее другой.
Авторитет стройки был настолько высок, что на помощь Щусеву по первому его зову спешили лучшие мастера своего дела. Первыми строительными инженерами того времени были Артур Фердинандович Лолейт, Владимир Григорьевич Шухов и Всеволод Михайлович Келдыш. Зодчий выбрал из этой троицы двоих, отклонив кандидатуру Шухова. Шухов был необычайно одаренный инженер, склонный к художественному конструированию, а двух художников-творцов даже для такой большой стройки, как Казанский вокзал, было много. Щусев строго придерживался правила: как бы ни был велик корабль, капитан на нем должен быть один.
Для своего времени все творческие победы Щусева были произведениями отчаянной смелости, проникнутыми стремлением к новизне. Не переосмысление наследия прошлого, а настойчивые поиски новой национальной стилистики стали главной заботой Щусева.
Когда Алексей Викторович еще только приступал к проектированию вокзала, он предложил создать для него мощный бетонный пьедестал, а уже потом воздвигнуть на нем здание вокзала. Это было слишком дорогим предприятием, против которого вежливо, но твердо выступило правление дороги. Щусев стал искать другую надежную основу, которая бы уверенно держала вокзальную башню на слабых грунтах Каланчевской площади.
Алексею Викторовичу стало известно, что молодой инженер но фамилии Шалин предложил метод, позволяющий удерживать на слабых грунтах огромные архитектурные массы. Монолитная железобетонная коробчатая плита Шалина, похожая по конструкции на рамку с пчелиными сотами, пугала своей необычностью и конструктивной простотой. Вникнув в суть, Щусев понял, что монолитная плита поможет равномерно распределить нагрузку весового пресса башни и выровнять давление по всей площади основания. Впервые в русской строительной практике Алексей Викторович отважился использовать монолитную плиту как фундамент для сооружения башенного типа.
Не меньшей смелости потребовали перекрытия огромных пространственных площадей теплого перрона и ресторана, которые осуществлялись по проектам Лолейта и Келдыша. Щусев поставил перед конструкторами задачу спроектировать железобетонные рамные конструкции большего пролета, которые бы держали кровлю и, кроме того, несли художественную нагрузку, сохраняя рисунок ступенчатых сводов, характерных для русской архитектуры XIV — XV веков. Одним из первых Щусев заставил железобетон — этот «космополитичный» материал — подчиниться традициям русской архитектуры.
Щусевский рисунок перекрытия зала ожидания стал для профессора МВТУ Александра Васильевича Кузнецова — конструктора перекрытия — эталоном. Несмотря на огромные пространства зала, перекрытого нервюрным железобетонным сводом, вас не покидает ощущение, что вы оказались в русском теремном дворце. Кроме Щусева, никто еще так не «озвучивал» бетон.
Больше всего на свете Алексей Викторович боялся быть непонятным народу, поэтому так подробна и рельефна его архитектура. Она как бы раскрыта. Главная ее привлекательность —в обезоруживающей искренности. Творческая манера архитектора торжественно-празднична. Главная нота его архитектуры — гордость за свою страну, за свой народ. В этой же тональности должна была звучать и монументальная живопись настенных панно.
Первые эскизы и наброски оформления залов он решил сделать сам и сразу же столкнулся с непреодолимыми трудностями. Традиции монументальной живописи эпохи русского классицизма были почти полностью утрачены, да и восстановление их означало бы возврат к мертвым схемам, против которых боролось демократическое искусство.
Для исторических панно вокзала нужен был живописец, сильный духом, умеющий развернуть традиции русского народного искусства, поднять их до уровня высоких обобщений. Но где отыскать художника, который сумел бы продолжить своей кистью то, что утверждает архитектура?
Третий год шла империалистическая война. Официальная пресса жаловалась, что до сей поры не родилось ни одного выдающегося полотна, которое бы достойно отобразило подвиги русского воинства «за веру, царя и отечество», не понимая того, что, как чужда война народу, так чужда она и художникам. Художественные силы искали иного применения.
А Щусев искал монументального живописца. Какой должна быть живопись, чтобы ансамбль стал органичным, чтобы зазвучал великой музыкой ритмов и цвета? Этими своими заботами Щусев не однажды делился со своими друзьями, и не было человека, который не стремился бы ему помочь.
Александр Николаевич Бенуа, живописец и искусствовед, автор «Истории живописи всех времен и народов», обещал привлечь к росписи вокзала лучшие художественные силы. Его высокая художественная культура, яркопроявившаяся в оформлении театральных постановок, большой авторитет заставили Алексея Викторовича поверить в успех.
Бенуа горячо взялся за дело. Он привлек к работе Бориса Михайловича Кустодиева, Мстислава Валериановича Добужинского, Николая Константиновича Рериха, Зинаиу Евгеньевну Серебрякову и Евгения Евгеньевича Лансере — талантливых художников из объединения «Мир искусства».
Первые попытки сразу принесли удивительные результаты. В эскизах Николая Рериха «Взятие Казани Иваном Грозным» и «Сеча при Керженце» могуче зазвучала народная тема. Панно предназначались для парадного вестибюля первого класса. Они радовали Щусева, как драгоценный подарок. Рерих, как никто другой, сумел понять архитектора. Зато с Бенуа Алексею Викторовичу долго не удавалось сыскать общего языка.
Бенуа утверждал, что серьезный художник должен смотреть в будущее не из глубин русской истории, чем он невольно сужает спектр обзора, а с позиций современника, который аккумулирует в своем видении все соцветияживого мира.
Долгие споры зодчего и художника закончились тем, что Бенуа искренне увлекся декором раннепетровской эпохи. Русская стилистика еще торжествовала здесь, правда в несколько приглушенном звучании, зато строже стала композиция и аскетичнее рисунок. Во всяком случае, архитектура вокзала, выполненная в лучших традициях московского барокко, была созвучна стилистике, облюбованной Бенуа.
Эскиз Бенуа «Триумф Европы» был строг и величествен. В единую композицию согласно вписались фигуры Данте и Вергилия, мифического Геракла и философа Лейбница. Щусева смутило лишь то, что панно на далеком расстоянии от зрителя может потерять свою выразительность. Алексей Викторович «Триумф Европы» одобрил, хотя и не передал на дальнейшую разработку.
Много времени и сил ушло на поиски композиционного решения ключевого панно — «Триумф Азии». Аллегорические фигуры, изображающие Индию и Китай, Среднюю Азию и Сибирь, никак не хотели складываться в единое целое. Панно было дробным и невыразительным.
Однажды в разгар одного из споров между Щусевым и Бенуа в «гриднице» появился их молодой сотоварищ Евгений Лансере, которому Щусев без великой надежды поручил разработать страховочный вариант панно на тему «Россия соединяет народы Европы и Азии».
Лансере еще не успел до конца осознать факт покупки Третьяковской галереей своих работ, а его уже пригласили сотрудничать с такими мастерами, как Бенуа, Рерих, Щусев. Он всем своим видом выражал озабоченность и усердие. На его эскизе был изображен русский богатырь — возмужавший Добрыня Никитич, защитник и просветитель, призывающий народы к единению и братству. Идея была проста и прекрасна. Панно должно было хорошо смотреться с расстояния, это было ясно с первого взгляда.
— И за что вам так везет, Алексей Викторович? — воскликнул Бенуа.
— Да, это именно то, что нам нужно, — протянул Щусев, не отрывая от эскиза взгляда.
— Вы действительно в этом уверены? — с робкой улыбкой спросил Лансере.
— Продолжайте разрабатывать тему, — строго сказал Бенуа. — Вы оказались ближе всех к цели.
И Щусев и Бенуа сердечно пожали руку раскрасневшемуся художнику.
С течением времени появились и новые удачи. Художница Зинаида Евгеньевна Серебрякова, первая из женщин-художниц, выдвинутая в академики живописи, в свои тридцать лет прославилась жанровыми полотнами из крестьянского быта. В ее панно для Казанского вокзала ярко предстали образы сибирских хлебопашцев и казаков — первопроходцев таежных просторов России.
Превосходную разработку темы «Город и деревня» дал молодой художник Сергей Васильевич Герасимов, которому Щусев поручил два панно для украшения вестибюля главной башни вокзала.
А война между тем загоняла в сырые окопы все новые толпы мужиков, отрывая их от сохи и плуга, от топора и мастерка. Одного строителя за другим провожали на фронт и вокзальные артели. Сокольническая строительная контора вместо ушедших на фронт мастеров отряжала на стройку безусых допризывников да инвалидов. Все заметнее падал темп работ, и все чаще выражал Щусев свое недовольство на совещаниях в правлении дороги.
От выделенных на строительство вокзала трех миллионов золотых рублей беспощадно отрывались на военные нужды все новые и новые суммы. Вокзал вокзалом, а железная дорога была обязана перевозить солдат, лошадей, пушки, снаряды, продовольствие, обмундирование. О живописных панно на время пришлось забыть. По настоянию министерства путей сообщения Щусеву предложено было убрать из проекта дорогостоящие архитектурные детали.
«Урисовка» архитектурной отделки вокзала, к которой с душевной мукой вынужден был приступить зодчий, привела, как это ни странно, к еще большей художественной выразительности сооружения. Лаконизм пилястр, колонн, наличников, карнизов сделал внешнее оформление вокзала, если можно так сказать, еще более щусевским. Здание приобрело ту простоту и выразительность, которая свойственна произведениям таких архитекторов, как Баженов, Воронихин, Захаров. Благодаря «урисовке», которую Щусев продолжал считать большой бедой, проект, а с ним и здание подошли к той грани изысканной простоты, которая поставила произведение зодчего в ряд шедевров мировой архитектуры.
Глава XII
С именем Ленина
С раннего утра в просторной столовой петроградской квартиры Алексея Максимовича Горького большими и малыми группами толпились люди. Было 7 марта 1917 года. Снег на тротуарах сошел, в стрельчатые окна светило розовое солнце.
Большими неторопливыми шагами ходил из угла в угол хозяин, покашливал в кулак, горбился и настороженно вслушивался в то, что говорил ему Александр Николаевич Бенуа.
— Мысли хорошие, да тон не тот, — задумчиво заметил Горький, заглядывая в записки художника, которые Бенуа теребил в руках. — Не поглядывая на народ свысока, поучать, а сотрудничать с ним. Учить его и у него учиться. Узнавать, любопытствовать, что ему от нас всех надобно.
— Наше искусство слишком долго жило под сенью министерства двора, — сказал Александр Николаевич, — в один день ни барства, ни рабства не вытравишь, Алексей Максимович.
— Мы умеем и хотим работать на ниве просвещения России! Это надо сказать так, чтобы услышали все. У свободного народа и художники свободны...
— Все не так просто, — с сомнением покачал головой Бенуа.
— Затем мы и собрались, чтобы сообща во всем разобраться, — громко сказал Алексей Максимович, выпрямился и, оглядев всех с высоты своего роста, добавил: — Будем начинать наше собрание.
Получив от Горького приглашение посетить его на квартире, Алексей Викторович очень удивился, потому что лично с писателем он знаком не был. Среди известных художников, театральных деятелей, композиторов, артистов Щусев встретил у Алексея Максимовича немало своих коллег. Тут были И. А. Фомин, В. А. Щуко, А. Е. Белогруд, а вскоре пришел и И. В. Жолтовский.
— Алексей Викторович! — воскликнул он. — И вы здесь! Сердечно рад видеть. Как же вы Москву-то оставили?
Статный и красивый, со свежим румянцем на лице, Жолтовский крепко жал Щусеву руку и улыбаясь смотрел ему прямо в глаза.
— Счастливое, братцы, время грядет. Веселое, — неожиданно услышали они сдержанный и вместе с тем звучный бас. — Здравствуй, Ваня, дай облобызать тебя, — сказал сияющий великан, один из самых знаменитых людей России.
— Алексей Викторович, вы знакомы с Шаляпиным? — спросил Иван Владиславович Жолтовский, с улыбкой увертываясь от поцелуя. — Вот вам Федор Иванович в собственном обличье.
— Щусев, — представился Алексей Викторович. — Рад знакомству.
— Еще бы не рад... — засмеялся певец и протянул Щусеву огромную, как пуховая подушка, ладонь. —Так вы тот самый Щусев, который самого Шехтеля обскакал?.. Тот, вижу, тот. Максимыч поддельных людей к себе не зовет. Не знаю, как вам, а мне Шехтеля жаль. Кто теперь такие домины, как у Морозова в Подсосенском переулке да у Рябушинского на Малой Никитской, сотворить сможет?
— Да вот Алексей Викторович и сможет, — сказал Жолтовский. — Притом в истинно русском духе. Ему только развернуться дай, а уж он такого наворотит, что другим и не снилось!
— Чго же, поглядим. Я авансов не люблю.
— А я, Федор Иванович, их и не приму. Если моя работа не понравится, то виноват в этом буду только я.
— Молодец! Нет, каков молодец! За это люблю. Телефонируйте мне через недельку, у нас найдется, о чем потолковать. Мне дача нужна в Крыму.
— Через неделю я буду в Москве. Так что прошу ко мне в «гридницу» на вокзальную стройку, я там каждый день бываю.
В столовую стали вносить стулья, втаскивать диваны, кушетки. Алексей Максимович попросил всех устраиваться поудобнее. Сам он стоя ждал, пока гости рассядутся.
— Федор, если не трудно, принеси из прихожей скамью, — сказал хозяин, и Шаляпин послушно пошел в прихожую.
Вскоре гости расселись. Стихли разговоры, в воздухе повисло ожидание.
— Серьезно и искренне хочу всех вас поздравить с успешной русской революцией! — сказал прокуренным глухим басом Горький. — Довольно разговоров о том, как беден и неразвит русский мужик. Пришла пора всерьез подумать, как сделать наше искусство достоянием народа...
Открывая Особое совещание по делам искусства, писатель утверждал, что деятели искусства могут и должны искать в своем творчестве новый социальный смысл, обозначенный самой сутью революции. Многие из присутствующих здесь служителей российской музы пребывали в состоянии растерянности. Пожалуй, один лишь хозяин реально представлял себе суть будущей работы. Он уверенно говорил о том, как русские художники, воспитанные примером передвижников, умели достучаться до сердца простого человека, будя в нем сокровенные мечты о свободном труде, о борьбе за право называться человеком.
Горький напомнил о том, что этими идеями уже немалый срок жил Московский Художественный театр, создавая понятное и дорогое народу искусство, — недаром театр этот называется общедоступным. Подчеркнув заслуги К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в создании театра, Алексей Максимович убежденно заключил, что нет такой области искусства, которая не обогатилась бы, вобрав в себя боли и радости своего народа.
Щусев искал в своей душе отзвук на призыв Горького. Вспомнились мечты открыть в родном Кишиневе общественную картинную галерею — для этой галереи он даже несколько лет закупал картины. Вспомнилась и идея открыть под Кишиневом, в Долине Чар, Дом творчества архитекторов, где молодое поколение зодчих перенимало бы мастерство у старшего. Но все это казалось теперь мелким, второстепенным. Нужно было большое полезное дело, равное идее великого Баженова о создании народного музеярусского архитектурного мастерства. Но и это было бытолько начало. Нужен поворот в русском зодчестве — лицом к народу!
Вместе с тем Щусев понимал, что архитекторам труднее, чем кому бы то ни было, откликнуться на горьковскийпризыв: невозможно одним махом избавиться от ощущения, что судьба проекта больше не зависит от сиятельного лица и что нет нужды угождать вкусам очередного действительного тайного советника.
Зодчество было и останется социальным искусством.Оно теснее других искусств связано с требованиями дня. В «палитру» зодчего всегда включены земля, фонды, инженеры, чертежники, рабочие. Творчество архитектора отражает господствующие в обществе вкусы, которые формирует правящий класс.
Отныне надо строить, уча своей постройкой, строить, пробуждая и развивая самые высокие чувства и благородные устремления. Такова цель. Мысли эти отрадно отозвались в сердце. То, что он всегда стремился быть понятным простым людям, уже было его, Щусева, вкладом в тубольшую просветительскую работу, к которой призывалГорький. Алексей Викторович приободрился и продолжалследить за ходом собрания.
С обстоятельным, можно сказать, программным докладом выступал Александр Николаевич Бенуа. Он ратовалза сохранение ценнейших отечественных памятников искусства и архитектуры, предложил организовать немедленную охрану художественного наследия народов, населяющих пределы бывшей Российской империи.
— Это народное имущество, — страстно заключил Бенуа, — это наше добро, и нужно сделать все от нас зависящее, чтобы народ это осознал и чтобы он вошел во владение тем, что ему принадлежит по праву.
Особое совещание по делам искусства, подчиняясь воле и целеустремленности своего председателя А. М. Горького,наметило план действий. Литераторы задались целью восстановить закрытый в 1901 году Союз русских писателей, художники запланировали серию выставок, скульпторы и архитекторы вдохновились идеей создать на Марсовом поле памятник жертвам революции. Совещание постановило приступить к организации отдела русской революции при городском музее Петрограда.
Одной из главнейших забот деятелей культуры стала забота о создании заслона, препятствующего вывозу за гранипу памятников национальной и мировой культуры. Одним работникам искусства было трудно справиться с этой задачей. По предложению Горького в инициативное объединение деятелей культуры и искусства вошли депутаты Петроградского Совета большевики М. П. Неведомский, Н. Д. Соколов и А. Н. Тихонов. С их помощью настойчиво проводилась ленинская ориентация творческой энергии писателей, художников, композиторов, артистов.
8 марта 1917 года Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов выпустил знаменитое воззвание, начинавшееся словами: «Граждане, берегите дворцы, берегите картины, статуи, здания — это воплощение духовной силы вашей и ваших предков...»
Вскоре Особое совещание по делам искусства было реорганизовано в Совет по делам искусств. Хотя формально он подчинялся комиссару Временного правительства, всеми его практическими шагами руководил Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов.
Уже на второй день существования Совета по делам искусств в нем были созданы комиссии музейная и охранная, революционных торжеств и пропаганды достижений искусств, архитектурная и строительная. «Поболее действовать — поменее говорить!» — призывал Горький.
Необходимым шагом было постановление Петросовета об осмотре и учете состояния городских и загородных дворцов бывших сановников и знати. Деятели культуры решительно поддержали это постановление, взяв на себя роль экспертов. Квалифицированно составленные описи и реестры художественных ценностей были нужны Петросовету, чтобы разработать действенные охранительные меры, установить посты в тех местах, где это необходимо, и постепенно налаживать народные экскурсии, развивать искусствоведческую работу.
Товарищами председателя Совета по делам искусств А. М. Горького были утверждены А. Н. Бенуа и Н. К. Рерих. Делами архитектурной и строительной комиссии на первых порах ведал А. В. Щусев. Квартира Горького стала настоящим штабом борьбы за передачу сокровищ национальной культуры в руки революционного народа. Ленинская идея о рабочем учете и контроле распространилась и на предметы искусства.
Первые успехи обнадеживали. А. М. Горький предложил И. Э. Грабарю и А. В. Щусеву подумать о том, чтобы наладить подобную работу в Москве и Московской губернии, где в старинных домах и усадьбах также веками скапливались творения художественного гения.
Горький был всего пятью годами старше Щусева. Ни академического, ни даже гимназического образования, ни знания древних и иностранных языков у Горького не было, не было и того, что в светском обществе почиталось всего выше, — изысканности манер. Зато были талант понимания человеческой беды и скорби, чувство спаянности снародом, которому он беззаветно принадлежал.
Сам Горький выше всего ценил в людях это ощущение сокровенного родства с народом. Он легко угадывал его в том или ином человеке, с которым сталкивался, и тогда был готов простить ему любые недостатки. Эта черта характера писателя пленила Щусева. Ему открылись огромность этой чистой души, прозрачная ясность мысли этогочеловека, твердость его позиции. Цельных людей АлексейВикторович ценил очень высоко.
Порою в художественной среде раздавались голоса всепрощения, призывы пожалеть «титулованных трутней». Горький одной фразой пригвоздил к позорному столбу всю сановную рать, назвав Николая II «первейшим мерзавцем Европы». Определение было настолько метким, что немедленно распространилось повсюду.
Общаясь с Горьким, Щусев ясно видел, как убежденность рождает почти нечеловеческую энергию. Гнев, боль, сострадание, казалось, переплавились в вечный свет. Лучи этого яркого света грели души. Как Горький писал, так он и жил. Это был художник-деятель, который своей общественной работой показывал, как нужно понимать творчество вообще и как нужно поступать. Вернувитись в Москву, Алексей Викторович еще долго жил впечатлениями бесед с Горьким и совместных с ним дел.
Стоило Щусеву окунуться в московские будни, как показалось просто немыслимым начинать в Москве то, на что отважились художники в Петрограде. Военные учреждения, полицейские службы действовали здесь как будто с тем же рвением, что и прежде. Московская знать, правда, попритихла, настороженно следя за бурными событиями в северной столице.
Весной на шумных площадях Москвы распускали свои разноцветные шатры цирки шапито. О победах цирковых борцов московские газеты писали как о важнейших событиях городской жизни. Знаменитые акробаты и фокусники, дрессировщики и клоуны владели сердцем «почтенной московской публики». Ремесленники, повара, половые, дворники, извозчики любили цирк восторженной любовью. И не только они — цирк пользовался популярностью.
Когда Игорь Эммануилович Грабарь предложил Алексею Викторовичу собрать митинг художников, литераторов, артистов в цирке Саламонского на Трубной площади, тот сначала воспринял это предложение как шутку. Однако Грабарь не шутил. В полдень 18 марта, когда плавились под солнцем серые бугры счищенного с тротуаров снега, толпы народа потянулись к «цирку на Трубе». Превратить цирковую арену в трибуну народного обсуждения задач революционного искусства догадалась только Москва. У городовых и жандармов веселый московский люд, устремившийся в цирк, не вызвал никакого опасения.
Как оказалось, цирк Саламонского стал действительно удачным местом для политического митинга, который на всю Россию объявил «о необходимости теперь же образовать при Временном правительстве художественный совет из компетентных лиц, по указаниям которого комиссары правительства на местах при содействии местных художественных сил и организаций осуществляли бы охрану всех художественных ценностей».
Художественная Москва сделала по сравнению с Петроградом более смелый шаг — она вознамерилась диктовать Временному правительству, какие необходимо принять меры, чтобы сохранить ценности искусства, составляющие гордость и достояние народа.
Московское архитектурное общество — одно из старейших обществ России — включилось в работу по защите художественного наследия страны. 25 марта инициативная группа Московского архитектурного общества созвала на совет деятелей культуры и искусства Москвы. Тон задавало возглавляемое А. В. Щусевым содружество художников и архитекторов. Художники и архитекторы призвали все демократические силы Москвы «включиться в борьбу за охрану памятников старины и искусства». Был избран инициативный орган, объединивший художественные силы Москвы.
Важным событием в жизни Москвы стало создание Союза деятелей искусства с самыми широкими полномочиями. Союз выступил с требованием «об отчуждении памятников искусства, принадлежащих церквам, монастырям и бывшим царским сановникам, в пользу революционного народа». Работу союза Щусев и Грабарь вели рука об руку с Московским Советом рабочих и солдатских депутатов.
Московские газеты дали подробный отчет об организации Союза деятелей искусства, о первых его решительных шагах. За животворной работой чувствовалась рука могучего идейного руководителя, упорно ведущего революционные преобразования в стране, — рука партии большевиков.
Вскоре был налажен деловой контакт художников Москвы и Петрограда. Дворцы и галереи, музеи и садово-парковые ансамбли после грамотной описи художественных сокровищ стали доступны для всех. Русская художественная культура открыла двери новой эпохи.
Пожалуй, ни в одной стране мира капитализм не был таким диким и хищным, как в России, где он развивалсяпод крылом монархического орла. Бесславные войны последних лет царствования дома Романовых, полный развал землепользования, оскудение деревни вызвали лавинообразный приток крестьянского люда в город.
Уже в 1907 году население Петербурга перевалило заполтора миллиона. Менее чем на сто пятьдесят тысяч жителей отставала от столицы Москва. Как писал журнал«Городское дело» в 1909 году, по количеству жителей Петербург занимает девятое место в мире, а Москва десятое(1 359 886 человек). Всего лишь за четверть века население обоих городов возросло более чем в два раза.
Россия не была готова к великому переселению сельских жителей. Резко ухудшилось санитарное состояние городов. Города европейской части страны на глазах теряли свое лицо — вдоль водных артерий выстраивались заводы и фабрики, которым неведома была какая бы то ни было техника безопасности. Что уж говорить о чаде, о копоти, что черным снегом ложилась на город, «отравляя дымом и смрадом соседние кварталы и отрезая их от берегов реки или моря».
Капитализм обрекал миллионы людей на жизнь в таких условиях, в каких трудно было не потерять человеческий облик. По данным этнографа Ф. Енакиева, обследовавшего рабочие слободки Петербурга, плотность населения доходила здесь до одного человека на квадратную сажень. Улицы превратились в каменные коридоры, где гибла всякая растительность. В таких условиях человек должен был восстанавливать силы после двенадцати-четырнадцатичасового рабочего дня.
Если все правительственные реалии, по данным министерства финансов, за более или менее благополучный 1912 год составляли 943,1 миллиона рублей, то поступления от монопольной «продажи питий» в казну его величества равнялись 824,7 миллиона рублей — почти 90 процентов от общей суммы.
Подавляющая. часть населения не знала водопровода, а тот, кто и «владел медным краном», часто пил ржавую воду. Износ труб достиг такого состояния, что утечка воды в 1917 году превышала в Москве 40 процентов.
В аристократических оазисах российских столиц знать, вздыхая о Вене и Париже, бранила «хамов», сваливая в одну кучу крестьян, рабочих, промышленников и купцов и не признавая за собой никакой вины. А в авгиевых конюшнях мануфактур шла гибельная для трудящихся там людей работа, пожирая их молодость, здоровье, красоту. Далеко не райскими были условия труда и в железнодорожных депо и мастерских.
Когда рельсы вторглись в самое сердце городов, по обе стороны железнодорожного полотна, у самых насыпей стали вырастать, как поганки, кособокие бараки, сараи, сбитые из горбыля склады. Над всем этим царством висела зловонная гарь. Смрад поднимался из канав и отвалов, куда паровозы сбрасывали из топок шлак. Этот смрад заползал и в «гридницу», стоило лишь приоткрыть форточку.
Архитектурная мастерская А. В. Щусева занималась теперь не только вокзалом, по существу, все железнодорожные сооружения восточного направления создавались здесь — станции, здания депо, жилые здания для служащих, механиков и рабочих подвижного состава, дистанционные путейские сооружения, даже складские помещения. «Гридница» приняла на себя и заботы по благоустройству железнодорожных поселков по Казанской дороге. Для линий Казань — Екатеринбург, Аргыз — Воткинск, Нижний Новгород — Котельнич, Шахунья — Яранск, Арзамас — Шихранов, то есть для всех ключевых маршрутов восточного направления щусевская мастерская заготовила серии проектов благоустроенных железнодорожных станций, жилых домов для железнодорожников, школ для их детей, амбулаторий, больниц.
Построенные по этим проектам станционные здания с комнатами отдыха для паровозных бригад, со столовыми и чайными долго оставались единственными очагами культуры, где можно было узнать свежие новости, отдохнуть, встретиться с приятелями. Многие из этих построек служат людям по сей день, и теперь вряд ли кто задумывается, почему большая их часть решена в традиционных для московского барокко красном и белом цветах. Архитектурный образ множества железнодорожных сооружений тесно связан с образом Казанского вокзала.
Так Москва через щусевскую «гридницу» распространяла по городам и полустанкам свои формы и краски. На месте старых почерневших деревянных платформ дорожно-строительные службы сооружали новые благоустроенные станции, Казанская железная дорога переживала возрождение.
Справляться с невиданным объемом работы, не роняя качества архитектуры, Щусеву помогала творческая независимость — «счастье развязанных рук». Проекты детализировались до мелочей: фонари, ограждения, станционные скамейки, кресла, столы, буфетные стойки — ничто не ускользало от острого глаза Алексея Викторовича и его помощников. Когда Щусев докладывал в Московском совдепе о произведенных на Московско-Казанской железной дороге работах, депутаты-железнодорожники выкрикивали с мест названия станций, которые зодчий не упомянул, и благодарно хлопали ему.
Среди потока проектов, что ложились на ярко-синие кальки, были удивительные. Настойчиво искал Щусев облик станционных зданий в Керженце и Семенове.
Пленяющую притягательность русского мотива запечатлела станция в Керженце. Нависающие карнизы, тяжелое крыльцо, продолговатые узкие окна, которые прорубают в охотничьих становищах, позволили Алексею Викторовичу углубиться в старинный уклад русского быта, передать атмосферу знаменитой керженской медвежьей охоты.
В Семенове станция превратилась в стилизованную древнерусскую крепость. Это было сооружение «еще более древнего стиля», чем Казанский вокзал, однако обе постройки воплощали идею преемственности традиций русского искусства.
Московское барокко Казанского вокзала было той ветвью, от которой пошли сильные ростки. Из «гридницы» в те годы вышло много проектов железнодорожных зданий, построенных в стиле петровского и елизаветинского барокко. А станционные строения на линии Арзамас — Шихранов, казалось, совершенно неожиданно были решены в стиле русского классицизма.
Как бы широко ни раздвигал зодчий свою палитру, он никогда не допускал смешения стилей, эклектики. Вдохновляясь той или иной эпохой, он раскрывал одну из страниц истории, помогая соотечественникам понять себя, почувствовать связь между прошлым и будущим. «Мы не Иваны, не помнящие родства», — говорит Щусев каждой своей постройкой.
Ранним утром 26 октября 1917 года на крыльце щусевского дома позвонил в колокольчик курьер-рассыльный из Московского совдепа. Алексей Викторович прочитал записку с просьбой прибыть и спросил, в чем дело.
— Наши Временное правительство арестовали!
— Вот это новость! Спасибо, голубчик. Передай — скоро приеду.
В здании Московского Совета была напряженная обстановка. Боевые посты застыли возле каждой двери. К Ногину Алексея Викторовича не пустили — он второпях забыл дома свой депутатский мандат. В коридорах, как назло, никого из знакомых не попадалось. С досады он собрался было уходить, как ему повстречался член Совета Малиновский.
— Алексей Викторович, — торопливо заговорил он, — вам бы надо из Москвы уехать...
— Куда же, позвольте узнать? И зачем?
— Да куда угодно. Неровен час — наткнетесь на шальную пулю. Каково всем нам будет без вас!
— Так меня за этим вызывали? — сердито спросил Щусев.
— Я вас не вызывал. Чтобы строить баррикады, архитекторы не нужны.
Вернувшись домой, Алексей Викторович решил отвезтисемью на станцию Прозоровская, где находилась закрепленная за ним железнодорожная дача. Мария Викентьевна с двумя младшими детьми, Лидой и Мишей, — восемнадцатилетний Петр ехать отказался — вселилась в холодный дощатый дом, где хорошо было летом, но не поздней осенью.
В Москве гремели выстрелы. Тем не менее каждое утро Алексей Викторович отправлялся к себе в «гридницу» и возвращался поздно вечером. «Гридница» изо всех сил сопротивлялась обстоятельствам, не сворачивала фронта работ. Казалось, для Щусева нет другой цели в жизни, как завершить начатое здесь дело, и нет таких сил на земле, которые бы воспрепятствовали этому. По созданным в «гриднице» эскизам вокзал одевался в праздничное убранство.
Художественный кузнечно-слесарный механический завод П. Н. Шабарова уже свертывал производство, когда Алексей Викторович прибыл на Николоямскую улицу с целой кипой эскизов.
Сохранился любопытный документ.
«25 ноября 1917 г.
Смета
По данному г-ном художником А. В. Щусевым и исполненному мною образцу изготовить из латунной меди чеканные плафоны.
Шабаров».
Копию этого приказа мастерам завода его хозяин Павел Николаевич Шабаров переслал в бухгалтерию правления Казанской железной дороги.
На копии рукою Щусева написано:
«Цену за первую партию нахожу подходящей, на остальные 100 надо удешевить.
Академик-прораб А. Щусев».
Казалось, ничто не может выбить Алексея Викторовича из колеи. Где бы он ни появлялся — у маляров или гранитчиков, у плотников или жестянщиков, он заражал всех своей увлеченностью. Каждый стремился угодить академику-прорабу. Щусев просто физически страдал, если работа выполнялась кое-как. Общаясь с ним, рабочий видел «свою собственную часть общей красоты», проникался чувством не сопричастности, а участия в общем деле. Не прибегая ни к уловкам, ни к уговорам, Алексей Викторович одним профессиональным интересом к работе каждого артельщика добивался того, о чем другие архитекторы и строители могли только мечтать.
В конце ноября внезапно заболела любимица Алексея Викторовича — маленькая Лида, Лидуня, как звал ее отец. Щусев попросил у правления дороги теплую дачу. Прошло всего два дня, и семья перебралась в теплый благоустроенный дом из железнодорожных шпал. В доме были большая изразцовая печь и камин. Но тепло не помогло — у девочки стремительно развивался менингит, который врачи сначала приняли за сильную простуду...
Вечером, добравшись до дачи и едва успев снять пальто, Алексей Викторович брал дочь из постели и уже не спускал с рук. Горе его было безмерно. Порою отчаяние было готово овладеть им. Измученная Мария Викентьевна валилась с ног. Алексей Викторович как мог поддерживал ее, уговаривал, старался ободрить. Случалось, Лидуня в полубреду, как прежде, тоненьким голоском напевала любимые детские песенки про «комарика», «перепеличку», «мороз-морозец». В слабой улыбке дочери, в каждом се слове он видел соломинку, за которую тут же хватался. Он знал, как важно поддержать в ребенке дух бодрости, — рассказывал ей сказки, пел и счастливо улыбался, когда видел живой отклик в ее глазах.
Итальянские сказки она любила больше всех и капризно требовала снова и снова свою самую любимую — о волшебном яблочке. Он терпеливо начинал рассказывать снова. Порою она весело смеялась, глаза ее ярко загорались, но через минуту улыбка таяла, взгляд гас. У отца холодело сердце.
Часто в Прозоровскую наведывался и Петр — старший сын Алексея Викторовича. Занятия в училище живописи, ваяния и зодчества, где он учился, прекратились. Москва переживала смутное время.
Семья всегда была предметом особой гордости Алексея Викторовича. Когда в Москву приезжал его брат-холостяк Петр Викторович, морской бродяга, врач, путешественник, писатель, ученый-этнограф, все семейство окружало его плотным кольцом, начинался долгий семейный праздник. Петр Викторович вдохновенно рассказывал об Абиссинии, которой посвятил целую книгу, об островах Океании, об обычаях и нравах разных народов.
Особенно любил Петр Викторович приезжать к брату под Новый год, чтобы своими руками поставить для детей елку и украсить ее невиданными игрушками и масками.
Вместе с племянником Петей дядя вел семейную хронику — сам он сочинял забавные стихотворные тексты, а племянник рисовал к ним иллюстрации, в которых были зорко подмечены характеры домочадцев. Петр Викторович, не скрывая, завидовал семейному счастью Алексея Викторовича. В семье брата он чувствовал себя совершенно своим. Он конечно же знал, что старшего сына брат назвал в его честь. В доме Алексея Викторовича он забывал свое одиночество.
Под Новый год Лиде стало получше. Ждали вестей от Петра, но вместо привычного послания: «Еду! Петр» — из Калифорнии пришло письмо, написанное незнакомой рукой. В письме сообщалось, что Петр Викторович с сильным приступом тропической малярии списан на берег. Больше всего пугала неизвестность. Алексей Викторович впервые почувствовал себя беспомощным: как помочь брату? Сбережения, какие еще оставались в семье, без раздумий были отправлены в далекую, как луна, Америку.
О состоянии Лидуни врач пока еще не мог сказать ничего определенного, лишь посоветовал давать ей козье молоко. Алексей Викторович поехал на базар в Малаховку и купил там двух коз. В полдень он на веревке торжественно ввел их в гостиную. Кухарка Авдотья Онуфриевна немедленно потребовала расчет. Алексей Викторович в растерянности стоял в своей бобровой шубе посреди гостиной, а козы, как собачки, испуганно жались к его ногам. Глава семьи пустил в ход все свое красноречие, чтобы убедить Авдотью Онуфриевну не покидать их. Он клятвенно обещал ей, что уход за козами не коснется ее.
Петя «по проекту отца» сколотил в сарае теплый загон. Забот хватало всем. Коз мыли и стригли, выводили пастись. Коза по кличке Анюта, никак того не ожидая, стала даже «артисткой» Большого театра — вместе с другом семьи Щусевых балериной Екатериной Гельцер она несколько лет была «занята» в балете «Эсмеральда».
К весне доктор заверил Алексея Викторовича, что появилась надежда на успешный исход болезни маленькой Лиды.
12 марта 1918 года Советское правительство прибыло из Петрограда в Москву, вернув забытой на два века «собирательнице русских земель и городов» звание столицы.
Гражданская война, которую изо всех сил пыталась предотвратить Советская власть, превратила страну в полыхающий костер. Враги революции объявили ей войну. «Республика в опасности!» — с таким воззванием обратилось правительство к народу.
Одни силы, опираясь на прошлое, пытались превратить в него будущее, другие, живя настоящим, в невероятно трудных условиях творили новое, светлое будущее.
Декрет о мире, Декрет о земле сплотили вокруг партии большевиков рабочих, солдат, крестьян. В шумном оркестре революционных призывов и лозунгов ленинские декреты звучали могучей прекрасной музыкой, вселившей в людей веру в счастье.
Казалось, неподходящая для мечтаний была пора, но Ленин говорил: «Мечтать! Надо мечтать!»
По заданию Ленина в архитектурной мастерской строительного отдела Московского Совдепа начались проектно-изыскательские работы по реконструкции столицы. Только что созданный научный совет «Новая Москва» объединил лучшие архитектурные силы страны. Совет возглавил единственный не прекративший в ту пору работу архитектор, стараниями которого продолжалось строительство Казанского вокзала.
К тому времени всякий причастный к архитектурному творчеству человек уже знал, что каждый проект Щусева воплощается в жизнь, что и общественная деятельность зодчего не сводится к выступлениям и статьям, а выражается в конкретных делах. Поэтому первый план реконструкции Москвы был поручен Алексею Викторовичу Щусеву.
Пытаясь осмыслить огромность предстоящей работы, формулируя главные идеи проекта «Новая Москва», архитектор писал: «Забытой оказалась наша старушка Москва с ее дивным Кремлем и чудной схемой старого кольцевого плана. Если бы Москва в забытьи консервировалась, это было бы даже хорошо, мы имели бы вторую Венецию, без воды, но Москва — промышленный центр России — все-таки строилась и воспринимала по-своему европеизм, а потому дошла она до нашего времени в скверном и испорченном издании. Наконец настал черед мечтать и для Москвы. А Москва если начнет мечтать, то эти мечты будут вовсю...»
К началу 1919 года рабочие идеи перепланировки Москвы стали уточняться. Глубокой заботой о сохранении памятников прошлого проникнуты первые наметки. Главная особенность предварительного проекта — активный поиск советской архитектурной стилистики.
Известно преклонение Щусева перед красотой старинных русских ансамблей, но в плане «Новая Москва» Алексей Викторович идет по пути, вытекающему из нового мировоззрения, из новых социальных задач. Какими быть новым формам жизни и труда? Каковы градообразующие формы в условиях социалистического общежития? Какой будет новая жизнь столицы?
Целые кварталы обветшалой застройки «сносит зеленая волна культурных насаждений, которые по радиусам проникают до самого центра», — так писал о планах преобразования Москвы первый номер журнала «Художественная жизнь» за 1919 год. Ключом к задачам переустройства города становится решение комплекса градообразующих и инженерно-технических проблем общегородского масштаба. Вычленение радиально-кольцевой структуры столицы, по замыслу Щусева, должно осуществляться за счет расширения круговых зеленых поясов. Зеленые пояса прорезаются стремительными радиальными магистралями.
Внимательно вглядываясь в исторически сложившуюся структуру Москвы, архитектор укрепляет ее, вскрывая заложенные в ней самой потенции развития — перспективные зоны застройки и благоустройства.
Непростым оказалось инженерно-техническое преобразование маршрутов передвижения москвичей по своему городу. План впервые связал радиально-кольцевое движение наземного транспорта с пригородным железнодорожным движением. Что уже совсем невиданно по тем временам, сеть общественного транспорта завязана в плане в единый узел на основе радиально-кольцевой схемы Московского метрополитена. Так в 1919 году Щусев угадал самые сокровенные мечты Москвы.
Давней притчей во языцех был московский водопровод, что самотеком доставлял в город по каналам и акведукам, по знаменитому Миллионному мосту самую вкусную в России мытищинскую питьевую воду. Похожий на римские акведуки Миллионный мост увековечил в своем названии ту баснословную сумму, которая была истрачена на строительство акведука через Яузу. Подрядчики-казнокрады умудрились растянуть это строительство на двенадцать лет. Миллион золотых рублей осел в их карманах. С 1781 но 1804 год — почти четверть века — строился водопровод протяженностью шестнадцать километров. С тех пор его много раз чинили, улучшали. Система водоснабжения, доставшаяся столице в наследство, была хуже, чем в иных губернских городах. Шутили, что не Георгий Победоносец, а водовоз должен бы украшать городской герб.
Предложенные в проекте система зарегулирования мелких рек и речек в русло Москвы-реки, подъем ее уровня за счет шлюзов и каналов, система очистки воды, благоустройство берегов должны были вместе с решением проблемы водоснабжения города украсить Москву полноводной рекою, увлажняющей и очищающей воздух. Зеленые клинья вдоль магистралей и кольцевой зеленый пояс, по выражению Щусева, призваны были стать «здоровыми легкими столицы».
Впервые в истории проектирования городов Щусев предложил расположить в зеленых пригородных зонах рабочие поселки с квартирами для семейных и комнатами для одиноких рабочих. При каждом таком поселке, которые через пятьдесят лет станут называть городами-спутниками, планировались библиотека, стадион, баня, прачечная, столовая. Безумно смелыми казались в 1919 году эти планы.
«В противовес Москве живой, с садами и бульварами, — писал зодчий о новой столице в статье «Перепланировка Москвы», — центр Москвы монументален и строг. Старина сквозит ярким ажуром исторического прошлого, углубляя значение великого центра республики. По кольцам бульваров, обработанных пропилеями и лестницами, располагаются памятники великим людям, писателям, политическим деятелям, музыкантам, ученым — это наглядная азбука для подрастающих поколений».
Эстетика не повисает в воздухе, как эфемерная греза, а тесно сплетается с инженерным решением — зодчий впервые поднимает вопрос о разработке и законодательном утверждении основных градообразующих норм — норм высоты и плотности застройки городов, согласованных с размерами площадей, бульваров, улиц, дворов. «Обилие солнца и света должно стать главным девизом наших северных широт», — утверждал Алексей Викторович.
Это был первый Генеральный план благоустройства столицы, вырисовывающий программу формирования социалистического образа жизни.
В обращении к зодчим России, составленном Щусевым от имени Московского архитектурного общества, мощно прозвучал призыв:
«Архитекторы должны создать образцовое жилище для рабочего и крестьянина; оздоровить города и поселки; должны вдохнуть живительный дух мощи и силы в монументальное зодчество, сделать достижения техники орудием для обновления форм зодчества.
...Мы должны причаститься к созданию жизни, а не быть ее пассивными созерцателями».
Шел пятый год Советской власти. Весна 1922 года выдалась дружная. Москва была залита солнцем. Оно согревало иззябших, измученных тяжелой зимой людей. Страна по зернышку собирала семенной фонд. Обилие влаги на полях обещало добрый урожай, конец голоду.
IX Всероссийский съезд Советов, работой которого руководил Владимир Ильич Ленин, постановил: собрать воедино весь накопленный за годы Советской власти опыт хозяйствования, чтобы на лучших достижениях молодой республики показать, на что способен свободный труженик. Так родилась идея сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки.
Первую Всероссийскую сельскохозяйственную и кустарно-промышленную выставку В. И. Ленин предложил провести в Москве. Съезд Советов обязал Наркомат земледелия не мешкая приступить к подготовке и организации выставки. В середине лета наркомат пригласил на совещание крупнейших архитекторов Москвы и поручил им немедленно приступить к проектированию комплекса выставочных сооружений.
Всем помнились знаменитые парижские, чикагские и, конечно, нижегородские выставки, но какой быть всенародной социалистической выставке, этого не знали ни архитекторы, ни только что избранный Главвыставком.
Бо́льшая часть архитекторов, приглашенных на совещание, была в ту пору не у дел. Один лишь Щусев упорно продолжал возводить свой вокзал, но и там работы были почти полностью свернуты — не было ни строительных материалов, ни фондов.
Сначала Алексей Викторович скептически отнесся к идее выставки: идей в ту пору было действительно много, значительно больше, чем возможностей их осуществить. Однако, когда ему стало известно, что сам Ленин держит вопрос о выставке под постоянным контролем, сомнения его начали рассеиваться. «Придаю очень большое значение выставке; уверен, что все организации окажут ей полное содействие. От души желаю наилучшего успеха», — писал В. И. Ленин Главвыставкому. По опыту работы в Московском Совете Щусев уже знал, что означает личный ленинский контроль. Надо было подойти к делу со всей серьезностью.
На совещании Щусев подал реплику с места:
— Товарищи, разве можно говорить о проекте, если мы даже не знаем, где будет площадка под застройку?
Сидящий в президиуме Калинин сердито вздернул бороду, но Щусев спокойно выдержал его взгляд.
— А ведь архитектор, пожалуй, прав, — сказал Михаил Иванович Буденному.
— Что ж, посмотрим на его правоту в деле, — ответил Семен Михайлович.
На следующий день Калинин с Буденным выехали на машине из Кремля. У Боровицких ворот их ожидал Щусев.
— Надо бы вам, Алексей Викторович, пропуск в Кремль выправить, — сказал Буденный, жестом предлагая Щусеву место рядом с собой.
Сидящий рядом с шофером Калинин повернулся к ним.
— Хорошо ли вы знаете Москву? — поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, снова спросил: — Где, по-вашему, сподручнее строить выставку?
Алексей Викторович задумался на минуту и, как бы размышляя вслух, ответил:
— Самая сильная стройконтора у нас в Сокольниках. Там и место следует поискать.
Калинин кивнул и велел шоферу держать путь в Сокольники.
Ехали через Марьину рощу. Вместо того чтобы свернуть направо, к Сокольнической заставе, повернули к Бутырскому хутору — уж больно красивые были там места. Полюбовались цветущими липами и решили обследовать Соломенную сторожку: Буденному казалось, что вблизи старинной Сельскохозяйственной академии устроить выставку будет лучше всего.
Пригодный для строительства участок в 60 — 80 гектаров найти было нетрудно, но, памятуя о том, какой размах требовал придать выставке Ленин, сколько делегаций со всей страны и из-за рубежа надлежало там принять и какими малыми средствами предстоит выставку создавать, решили поискать еще.
Повернули обратно и поехали через Останкино в Сокольники. В огромном парке Щусев предложил остановиться. Вековая дубрава дышала в этот июльский знойный день прохладой, аллеи манили в тень.
— Это сколько же дубов-то погубить придется... — покачал головой Михаил Иванович.
Поехали дальше. Уже далеко за полдень, наездившись по разным районам города и вдоволь наглотавшись пыли, добрались до Калужской заставы с намерением через Крымский мост вернуться в Кремль, дальнейшие поиски отложив на завтра.
— А не поискать ли нам вблизи Москвы-реки? — предложил Буденный и скомандовал шоферу: — К Воробьевым горам!
Вскоре по тенистой дороге подъехали к краю речного обрыва. По склонам расположенного рядом оврага дымились костры — здесь жгли мусор, который дворники свозили сюда со всего Замоскворечья.
— Еще одни авгиевы конюшни надо вычистить, — негромко сказал Калинин и вдруг, словно рассердившись, решительно приговорил: — Тут и стройте!
Щусев недоуменно поглядел по сторонам:
— Да ведь мусор будут возить...
— От этого мы вас избавим. Посмотрите, какую красоту в свинарник превратили! Здесь райским кущам быть — вид-то каков!
Прямо под ними внизу плавилась золотом река. На дальнем склоне оврага густел лиственный лес, за ним виднелась ровная площадка, посреди которой вырисовывались контуры двух недостроенных домов и остов завода Бромлея. А вокруг — неоглядные кучи дымящегося хлама.
У Алексея Викторовича першило в горле, кружилась голова. Возражать не было сил. Со свалкой ему дел иметь еще не приходилось.
На следующий день Калинин предложил Главвыставкому утвердить на посту главного архитектора академика Щусева. Работа предстояла необъятная — все огромное пространство от Крымского вала до Нескучного сада предстояло превратить в образец садово-парковой архитектуры. Такой была задача. Здесь было отчего прийти в уныние.
При каждой встрече Калинин не упускал случая напомнить Щусеву, что тот сам планировал сделать Москву лучшим городом на земле, украсить ее садами и парками. Так не взяться ли сразу за самую трудную и грязную работу?
Все наличные силы Сокольнической стройконторы Алексей Викторович бросил на благоустройство выставочной зоны. Нужно было очистить территорию, провести сюда водопровод и канализацию. Едва дело сдвинулось с мертвой точки, Щусев перепоручил освоение стройплощадки своим помощникам, а сам занялся главным.
Каким должно быть архитектурное решение выставки? Нужна была идея, а для того, чтобы отыскать ее, требовалось время. Что могла показать страна, только что вышедшая из гражданской войны, кроме страстного энтузиазма, революционной решимости переделать жизнь по-новому? Идея эта созревала, набиралась сил, пока не выплеснулась с четкой определенностью: она сложилась из двух понятий, которые прежде трудно было соединить, — труд и праздник. Праздник труда, трудовой праздник. Праздничный труд у станка и в поле. Задача прояснилась: суметь в общей композиции выставки и в каждом отдельном ее элементе отразить желание народа сделать радостным каждый день трудовой жизни.
Нет ничего удивительного в том, что первый конкурс проектов устройства выставки, объявленный Главвыставкомом, не дал, по существу, ни одного яркого решения. Ничего, кроме общей идеи, Щусев как главный архитектор выставки пока предложить не мог. В итоге «идея выставки ни у кого из конкурентов выявлена ясно не была, характер архитектуры павильонов не был прочувствован», — таково было заключение Алексея Викторовича.
Тогда Щусев решил взяться за дело с другой стороны. «Я сплотил коллектив из ста человек, — писал он потом в своих воспоминаниях, — на выставке работали лучшие мастера архитектуры и внесли в постройку свой труд и творчество». И ни слова о том, как ему это удалось, сколько потребовалось сил и убежденности, чтобы каждый из его коллег почувствовал после многих лет творческого простоя свою нужность, осознал свою незаменимость. А ведь в то время многие известные архитекторы начали было подумывать о загранице, где надеялись найти применение своим силам. Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка сберегла лучшие архитектурные силы страны для будущего Родины.
Выставка оживила архитектурные силы страны, помогла зодчим привыкнуть к новым условиям работы. А ведь многим из маститых архитекторов было совсем не просто спуститься со своего Олимпа и на равных сотрудничать с рабочими, десятниками, конструкторами. Сам Алексей Викторович являл собою образец терпения, такта, стремления к взаимопониманию в, казалось бы, безвыходных конфликтных ситуациях. Сколько душевных сил и великодушия нужно было зодчему, чтобы руководить строительством выставки, которое осуществлялось по чужому проекту!
Алексей Викторович потребовал, чтобы Главвыставком организовал новый, теперь уже закрытый, конкурс между архитекторами И. В. Жолтовским, И. А. Фоминым, В. А. Щуко, И. А. Голосовым и С. Е. Чернышевым. Участниками конкурса были те, кто вместе со Щусевым разрабатывал план «Новая Москва». Состав участников конкурса определялся надеждой, что каждый из них, вдохновленный Генеральным планом перепланировки столицы, невольно привнесет в проект выставки частицу этого вдохновения.
Щусев не ошибся. Иван Владиславович Жолтовский с изумительным мастерством выполнил общий план выставки, расчленив его территорию на своеобразные оазисы, в каждом из которых царствовали разные отрасли хозяйства. Очерченные беглым контуром павильоны выстраивались в гармонический ряд, были незримо связаны между собой общей идеей.
Тонкий мастер классической архитектуры, Жолтовский придал выставке грацию и изящество. Он точно понял характер выставочного ансамбля и даже пошел чуть дальше — «праздник труда» обещал стать не только грандиозным, но торжественным и великолепным. И этот необыкновенный выставочный городок нужно было сделать из обыкновенных пиломатериалов.
Иван Владиславович Жолтовский, которого Щусев близко знал еще по Академии художеств, был человеком властным, самолюбивым, нелегким в общении. Алексею Викторовичу тоже было «гонору не занимать», но выше всяческих самолюбий была цель, и он подчинил ей самого себя.
В самом начале стройки Щусев сделал единственно верный ход — он пригласил на стройку весь коллектив сотрудников и помощников Жолтовского, включая чертежников и копировщиков. Он создал Ивану Владиславовичу все условия для работы и, оставаясь его начальником, сумел не только сохранить, но и укрепить дружеские отношения с «капризным гением», с которым в других условиях готов был спорить каждый день.
Непросто было заставить Жолтовского, забыв о времени, работать сутками. Щусев делал все возможное и невозможное, чтобы стройка, не знавшая ни выходных, ни отдыха, не останавливалась даже ночью.
Вручную, почти без техники творил сплоченный зодчим коллектив первую советскую промышленную и сельскохозяйственную выставку. По ночам на стройке горели костры, пыхтели полевые кухни, не умолкали пилы и молотки. В минуты отдыха люди пели. Рабочие, архитекторы, художники, конструкторы недосыпали, недоедали, брались за любое дело, лишь бы стройка двигалась вперед. Так, автор проекта вегетационного домика И. С. Николаев превратился по ходу работ в десятника плотницкой артели и в этом качестве довел свою постройку до конца.
С давних времен Алексей Викторович славился умением оказываться в нужном месте в критическую минуту, быстро вникать в ситуацию, находить верное решение.
На этой столичной стройке Страна Советов дала свой первый рекорд скорости и качества строительных работ, которые по объему приблизились здесь к полумиллиону квадратных метров площади. Даже при сегодняшнем уровне техники сопоставление этих цифр — десять месяцев и полмиллиона метров — вызывает уважение.
Удивительное дело — прежде Жолтовский не любил работать с деревом, здесь же оно было главным строительным материалом, и, несмотря на нелюбовь к деревянным постройкам, план выставки был составлен с великолепным знанием возможностей именно этого строительного материала. Не случайно зарубежные архитекторы позднее назвали выставку «архитектурной поэмой русского леса».
Проект был завершен к началу 1923 года, выставку предстояло открыть в том же году. Обычными методами строительства уложиться в установленные сроки было невозможно. Щусев делает ставку на новую, несамостоятельную еще отрасль строительного дела — строительное конструирование. Впервые в отечественном строительстве создавались сводные каталоги деревянных строительных конструкций, из которых предстояло собирать каркасы павильонов выставки. Рядом с маститыми архитекторами работали студенты Вхутемаса и архитектурной школы МВТУ, где учились первые наши строительные конструкторы. Во главе этой школы стоял Александр Васильевич Кузнецов. Его Щусев назначил главным конструктором выставки.
Выставка стала «опытным полем», на котором произросла целая плеяда советских строительных конструкторов. Представители этой новой специальности широко раздвинули горизонты стройки. На деревянных сборных конструкциях учились будущие руководители строительного производства. На берегу Москвы-реки шли поиски нового стиля в строительстве.
Дерево издавна считалось исконно русским строительным материалом. Щусев отдал весь свой опыт и старания, чтобы дерево, хранящее тепло солнечного света и тепло человеческих рук, сумело выразить высокую созидательную идею выставки. Ленинский замысел устроить «общесоюзные смотрины первых трудовых успехов» удался как нельзя лучше. Идея трудового праздника вошла в павильоны и демонстрационные залы.
От одного поколения к другому на Руси многие сотни лет переходили одни и те же орудия труда — соха, борона, серп да коса, а стальные плуги — «немец»-«бехер» и «датчанин»-«сак» — пугали русского мужика, приросшего пуповиной к сохе. Заскорузлые руки, привыкшие к чапыгам сохи, с осторожной опаской гладили полированные рукоятки первых советских плугов и плугов иноземных.
Построенная всего за десять месяцев, Всероссийская выставка поражала воображение своим размахом, красотой, обилием невиданных экспонатов. Мужик ехал в Москву на выставку, услыхав, что в земледельческой работе тоже происходит своя революция. По сводкам Главвыставкома, за два месяца работы выставку посетило миллион триста семьдесят пять тысяч восемьсот девяносто человек, причем организованных экскурсантов в Москву прибыло более шестисот тысяч.
На шестом году Советской власти и на первом году существования СССР на выставку привезли свои экспонаты шестнадцать стран; с большей частью из них у нас еще не было дипломатических отношений. Сельскохозяйственные машины, орудия, механизмы и приспособления привезли в Москву пятьдесят восемь японских фирм, девяносто четыре германских, тридцать восемь французских, шестнадцать итальянских, восемнадцать американских, четырнадцать английских, тридцать семь австрийских. Четыреста одна иностранная фирма приняла участие в выставке.
Москва жила выставкой, жадно читала бюллетени Главвыставкома, обсуждала экспонаты, изучала доклады, торопилась на оргмероприятия — концерты, массовки, кинопросмотры.
Долгий праздник шумел своими знаменами над Москвой-рекой. С воды поднимался в небо и кружил над новоявленным чудо-городком гидроплан — гости выставки любовались ею с высоты птичьего полета.
Повсюду звучали частушки:
Толпы людей окружали «объяснителей» и без конца задавали вопросы. Возле гидростанции, на широком деревянном настиле, задорные каблуки девчат выбивали плясовую. Лихо взвизгивали гармони, не смолкали песни.
А за воротами выставки, по другую сторону Садового кольца, как гранитная скала, высился главный иностранный павильон. Его окружали непривычного вида легкие строения из прессованной фанеры, металлических прожилин и стекла. Их спешно возводили запоздавшие строительные зарубежные фирмы. Вокруг было многолюдно, но тихо. Москвичи с удивлением разглядывали необычные постройки. Москва приглядывалась, что может пригодиться ей самой для будущего.
Гости из-за рубежа, наоборот, тянулись на советскую сторону. Особенно привлекал всех затейливый павильон «Махорка» архитектора Константина Степановича Мельникова. Вычерченный вдохновенно смелыми линиями, этот павильон стал гордостью выставки. Его изображения украшали бюллетени Главвыставкома.
На выставке, построенной из деревянных конструкций, сам Щусев остался верен камню. Он взял на себя, как и положено главному архитектору, одно из самых сложных дел. «На его долю, — писал его помощник В. К. Олторжевский,— выпала трудная задача трансформировать здание бывшего механического завода, существовавшего на территории выставки, в выставочный павильон. Его богатый творческий опыт помог ему превратить фабричную коробку в один из лучших павильонов выставки...» Павильон был построен в стиле русской классики. «Я русский, русская земля еще не перевернулась», — упрямо повторял зодчий, утверждая мотивы русской классики в советской архитектуре.
Центральный павильон выставки украшали изваянные Сергеем Тимофеевичем Коненковым монументальные скульптуры из дерева — пахарь и рабочий. Они олицетворяли могущество и духовность человека труда.
19 октября 1923 года пришло известие, что Владимир Ильич приехал из Горок в Москву, чтобы посетить выставку. Все, кто был причастен к выставке, восприняли внимание к ней Ленина как самый дорогой подарок. «Все на выставке жило именем Ленина, — говорил И. Ланцов, один из помощников А. В. Щусева. — Мы знали, что Ильич, несмотря на болезнь, обязательно приедет, мы ждали его каждый день».
С утра солнце светило по-осеннему скупо, но день обещал быть ясным. К обеду сырая вата облаков стала обкладывать небо, и Алексей Викторович то и дело с беспокойством поглядывал ввысь.
Из Кремля передали: Владимир Ильич находится в зале заседаний Совнаркома, но решения посетить выставку не отменил.
В 15 часов 25 минут Владимир Ильич с сопровождавшим его профессором Владимиром Николаевичем Розановым выехал из арки Иверских ворот Красной площади и по Бульварному кольцу направился в Наркомпрос за Надеждой Константиновной Крупской, чтобы вместе с ней следовать на выставку. Не знал тогда Ленин, не мог знать, что эта поездка была его прощанием с Москвой.
Над Рождественским бульваром уже повисла прозрачная сетка дождя, освежившая осенние краски. Омытые дождем деревья стояли в задумчивой печали.
На горке автомобилю, держащему путь к выставке, пришлось замедлить ход: две подводы, запряженные ломовыми лошадьми, везли бедный домашний скарб.
— Погорельцы? — спросил Владимир Ильич.
— Рабочие вселяются в особняки московской знати, — ответил шофер. — Хотите, спросим?
— Не стоит, — сказала Надежда Константиновна. — Поезжайте скорее, а то стемнеет скоро.
Автомобиль ускорил ход. Под прозрачной пеленой дождя чистый уголок заповедной Москвы напоминал Владимиру Ильичу улицы Петрограда, только здесь было больше зелени, тепла и уюта.
Владимир Ильич улыбался каким-то своим мыслям и радовался быстрой езде. Ему верилось, что поездка по Москве благотворно скажется на нем, и он в самом деле чувствовал прилив сил и душевный покой.
Миновав Покровский и Яузский бульвары, выехали на набережную Москвы-реки. У Крымского моста Ленину захотелось понаблюдать за взлетом гидроплана. Когда кургузая яркая лодка с крыльями оглушила окрестность пулеметным треском, снялась с воды и толпы людей на набережной замахали флажками, захлопали и закричали «ура!», Владимир Ильич жестом попросил ехать дальше. Автомобиль нырнул в железный створ моста, составленного из замкнутых тяжеловесных ферм. Было такое ощущение, что машина катит по длинному темному коридору.
Едва она вырвалась на простор, как взору открылась панорама огромного многоцветного раздолья: на высоких флагштоках реяли на ветру яркие полотнища, газоны и опытные делянки светились изумрудной зеленью, по демонстрационной площадке двигался похожий на кузнечика трактор «фордзон», окруженный кольцом людей. Все это яркое пространство жило светлой и радостной жизнью и, казалось, не замечало дождя.
Владимир Ильич проехал по центру выставочного городка, помахал кепкой узнавшим его людям. Он с радостью ощутил деловую атмосферу, что сливалась здесь с праздничным нарядом выставки, почувствовал ее рабочий ритм.
Все намеченные Главвыставкомом встречи и речи пришлось отменить: профессор Розанов, заметив, что дождь усиливается, настаивал на возвращении в Кремль. Владимиру Ильичу не хотелось покидать выставку, не объехав ее хотя бы по кругу. Он просил ехать как можно медленнее. Глаза Ленина то и дело зажигались любопытством. Не прошла мимо него прекрасная планировка выставочного комплекса и удивительная своей вдохновенной ясностью архитектура. Возле скульптурной группы Коненкова он велел остановиться и долго, прищурившись, вглядывался в нее.
Алексей Викторович успел увидеть вождя, когда машина приостановилась у главного павильона. Вспомнилось, что о больших и значительных делах, подобных выставке, Ленин говорил в своей последней публичной речи на пленуме Московского Совета 20 ноября 1922 года: «Мы перешли к самой сердцевине будничных вопросов, и в этом состоит громадное завоевание. Социализм уже теперь не есть вопрос отдаленного будущего...»
Врач Ленина на следующий день отметил: «Посещение выставки, где Владимир Ильич увидел, как претворяются в жизнь многие его замыслы, оказалось для него могучим укрепляющим средством».
А Щусева долго не оставляло ощущение, что он близко познакомился с Лениным, что между ними состоялась долгая беседа. Алексей Викторович не сомневался, что Владимир Ильич заметил, почувствовал, сколько сил и старания вложили люди в выставку, сколько сделали для того, чтобы она оправдала и даже превзошла связанные с ней ожидания.
С наступлением темноты дождь пошел на убыль и вскоре как бы растворился в тумане. Алексей Викторович шагал по Пречистенке домой, подставляя сырому ветру лицо. Был поздний вечер. Тускло горели одинокие фонари, улица обезлюдела. В освещенных окнах мелькали незнакомые лица, за стенами домов шла обычная жизнь. Но в этой обыкновенной человеческой повседневности произошло нечто громадное. Разом стала безмерно далекой та, вчерашняя, жизнь, с блеском и радостью на одной половине человеческого дома и с убожеством и рабством — на другой. Все, чем обещал разрешиться новый уклад жизни, с его новыми горизонтами планов и перспектив, новыми представлениями о труде, о счастье, — все связывалось с именем человека, которого он, Щусев, сегодня видел так близко.
Позднее он написал об этом так: «Настала новая жизнь, открылась невиданная страница в мировой истории, все перестраивалось на новых основах. Те великие принципы, которые были преподаны нам нашим великим вождем В. И. Лениным, создавали особый подъем в архитектурных кругах. Мы знали из истории буржуазной французской революции, что Конвентом были исполнены большие работы по перепланировке Парижа. Мы же ожидали у нас гораздо большего, то есть грандиозного строительства».
Пятидесятилетний человек медленно шел по городу, в который когда-то попал случайно. Город этот с каждым годом все крепче привязывал его к себе, открывая все новые свои стороны, пока окончательно не завладел его сердцем, преображаясь в его мечтах. Вряд ли Алексей Викторович смог бы сказать, когда начал чувствовать Москву родной, полностью для него открытой. Но она стала частью его самого, как и сам он стал частью Москвы.
Войдя в тесный дворик своего дома в Гагаринском переулке, Щусев поднялся на крыльцо и долго глядел в ту сторону, где лежала выставка. За ужином он был оживлен и светел. С гордостью рассказал он о посещении Владимиром Ильичем выставки, и в рассказе всплыли все новые подробности ушедшего дня.
Волнуясь, слушал рассказ отца старший сын, Петр. Время от времени он просил Алексея Викторовича передать характерные жесты Ленина. Расспросы сына помогли Алексею Викторовичу находить точные слова, из которых складывался живой образ.
До поздней ночи не гас свет в Петиной комнате. Рано утром, когда отец собирался на работу, сын вынес на его суд портрет Ленина. Глаза вождя глядели задумчиво и строго. С первого же взгляда на портрет Алексей Викторович почувствовал: Петру удалось передать бесконечную работу ленинской мысли, необъятность его забот. Портрет ни в коей мере не подгонял образ вождя «под мастерового» — с него глядел убежденный в правоте своего дела человек, русский интеллигент, наделенный богатейшим знанием, человек мысли и действия, умеющий видеть и творить будущее.
— А как ты считаешь, папа, Ленин поправится скоро? — спросил сын.
— Он не может допустить слабости долго болеть. По-моему, болезнь вообще не в его натуре — она ему противопоказана, — ответил отец.
Снег лег на сырую землю, и в одну ночь установилась зима, которую до самого Нового года не потревожила ни одна оттепель. В январе затрещали классические крещенские морозы, от которых даже лошади простужались и кашляли.
В «теплом» вестибюле Казанского вокзала, где снова появились белокаменщики и штукатуры, стоял лютый холод. Вести отделочные работы было невероятно тяжело. Но белокаменщики брались за свои резцы, не дожидаясь моделей, и создавали каменные кружева прямо по шаблонам. Побывавшие на стройке Казанского вокзала зарубежные строители и гости выставки утверждали, что советские рабочие, пожалуй, ни в чем не уступят итальянским мастерам-белокаменщикам, а кое в чем и превзойдут их.
После успешного завершения выставки Стройбанк выделил ассигнования для продолжения работ над вокзальным комплексом. Несказанно обрадованный Алексей Викторович расценил это как высшее доверие и награду. Он немедленно провел на стройке строжайшую инвентаризацию. На учет были взяты все наличные материалы, которые хоть как-то можно было использовать. В этой стройке теперь был смысл его жизни. Многое ему здесь удалось вопреки войне, назло разрухе и голоду. Он так и не позволил стройке угаснуть, хотя временами казалось, что поток превращается в едва живой ручеек.
Он оставался на стройке прорабом, когда распалось железнодорожное акционерное общество, когда перестало существовать правление Московско-Казанской железной дороги. Он не дал умереть стройке и тогда, когда она полностью лишилась кредитов. Более полугода платил он артели отделочников из собственных сбережений, из своего кармана, как будто строил не общественное здание, а собственный дом...
Долгое время Алексею Викторовичу не давала покоя идея возвести на Каланчевской площади мощный гранитный виадук. Этот виадук должен был объединить здания всех трех вокзалов, организовать их в единый ансамбль. Сначала архитектора увлек образ виадука из красного гранита с зубцами, как на кремлевских стенах. Это была бы достойная для его произведения рама, как нельзя более выгодно зазвучала бы цветовая полифония Казанского вокзала. Но чем строже приглядывался Щусев к этой затее, тем больше убеждался, что декоративные зубцы виадука поставили бы его вокзал в привилегированное положение по сравнению с другими. Сама идея стала казаться ему театральной.
Он понял, что «рама» должна быть выбрана по принципу контраста со зданием Казанского вокзала. Серые нетесаные глыбы гранитного виадука поставят все три вокзала в равное положение, но больше всех выиграет Ярославский, решенный в неброской цветовой гамме. Виадук придаст ему необходимую теплоту, снимет ощущение неприкаянности... На всю жизнь сохранил Шехтель признательность Щусеву за это решение площади.
Алексея Викторовича не смущало, что Казанский вокзал окажется в окружении инородной ему архитектуры, включая и сам виадук: это окружение лишь подчеркнет национальную тональность вокзала, заставив другие строения следовать ей. Гранитные глыбы должны были заставить остальные вокзалы «заговорить» на русском языке. На Каланчевской площади теперь будут представлены три эпохи русского зодчества, при этом самая ранняя из них — московского барокко — получит представительство позже всех...
21 января 1924 года на вокзальной площади слились в единый гул заводские и паровозные гудки, разнося по свету печальную весть о кончине Владимира Ильича Ленина. Эта весть оглушила весь народ. Она казалась невозможной. После бюллетеней, обещавших скорое выздоровление вождя, никто не хотел верить в нее. Невероятно трудно было пережить отчаяние, перебороть боль утраты. Со смертью Ленина осиротел мир.
На всю жизнь Алексей Викторович запомнил ночные костры на Воскресенской площади (ныне площадь Революции), между которыми тянулась лента движущихся людей. Шли, чтобы проститься, шли, чтобы возле гроба величайшего человека Земли найти в себе силы жить и работать дальше.
Глава XIII
Живая память
Когда Щусев прощался с Лениным, он видел, как возле гроба застыл с окаменелым лицом молодой артельщик. Казалось, никакие силы не могут сдвинуть его с места.
— Идем! — тянул его за руку товарищ.
— Не могу. Я уйду, а он без меня встанет.
Горе не умещалось в слова.
Дома Алексей Викторович закрылся у себя в кабинете, зажег зеленую лампу над столом и надолго задумался над чистым листом. Он сидел неподвижно, пока не онемело тело, а встав, не мог вспомнить ни одной своей мысли. Подошел к узкой кушетке, лег. Сна не было. Перед ним проносились обрывки каких-то образов, виделись чьи-то лица, слышались речи. Он испугался своего состояния. Единственным выходом из него была работа.
Снова сел к столу, взял грифель и в этот момент услышал требовательный стук в дверь.
— Алеша, Алексей Викторович, к тебе пришли! — раздался голос Марии Викентьевны.
Он встал, подтянул галстук, одернул жилет, надел пиджак.
В кабинет ввалился здоровенный детина с заиндевевшей бородой и простуженным голосом сказал:
— Товарищ академик, я за вами. Велели доставить вас незамедлительно...
— Кто? Куда? На дворе ночь... — удивился Алексей Викторович.
— В Колонном зале заседают... Вы потеплее одевайтесь — холод лютует, — заботливо сказал рассыльный, и Алексей Викторович оставил свои расспросы.
Когда он надел шубу, Мария Викентьевна протянула ему не надеванную еще меховую сибирскую ушанку — подарок младшего брата Павла, теперь инженера Павла Викторовича Щусева, строящего в Сибири железнодорожные мосты и тоннели. Алексей Викторович взялся было за свою обычную шапку, но рассыльный сказал:
— Но нонешнему морозу в самый раз будет!
И Алексей Викторович натянул на облысевшую голову лохматый треух.
На заснеженной улице в клубах морозного дыма тарахтел автомобиль.
В этот день Щусеву довелось увидеть Ленина еще раз...
Наступило 23 января 1924 года. Шли первые часы третьего дня жизни страны без Ленина. На Щусева возлагалась надежда, что он сумеет воздать должное памяти вождя.
Вот что позднее писал об этом сам Алексей Викторович:
«В артистической комнате при Колонном зале, куда меня привели, находились члены правительства и комиссия по похоронам В. И. Ленина. От имени правительства мне было дано задание немедленно приступить к проектированию и сооружению временного Мавзолея для гроба Ленина на Красной площади... Я имел время только для того, чтобы захватить необходимые инструменты из своей мастерской, а затем должен был направиться в предоставленное мне для работы помещение. Уже наутро необходимо было приступить к разборке трибун, закладке фундамента и склепа Мавзолея...
...Надпись на Мавзолее я предложил простую — одно слово, в котором заключено столько волнующего смысла для всего трудящегося человечества. Это слово — Ленин... К четырем часам утра эскизный набросок Мавзолея был готов, я наскоро поставил размеры глубины, высоты и ширины и вызвал конструкторов для подсчета деревянных конструкций.
Ранним утром мною на Красной площади была произведена разбивка плана сооружения, вбиты колышки, ограждавшие место постройки, и раздались первые взрывы мерзлой земли. Скованная 25-градусными морозами земля не поддавалась лопатам и ломам, и для рытья котлована пришлось взрывать ее с помощью команды подрывников. Взрывные работы заняли почти сутки; только после этого землекопы смогли приступить к рытью котлована.
Тем временем отдел сооружений Московского управления коммунального хозяйства завозил на Красную площадь деревянные брусья и доски и плотники занимались подготовкой каркаса. Строители время от времени отогревались в специальных палатках военного типа, где были установлены печи...
Планировка Мавзолея была мною рассчитана таким образом, чтобы создать график движения, обеспечивающий беспрерывный пропуск значительных масс народа без сутолоки и пробки. В Мавзолее должны были быть две двери — одна входная, другая выходная. Входя, народ должен был спускаться по лестнице, ведущей в центральный зал с гробом Владимира Ильича, и, обходя его кругом, подниматься по такой же лестнице, ведущей к выходной двери. Для утепления Мавзолея было принято решение выстлать пол, стены и потолок центрального зала двойными досками со слоем чистых опилок между ними. Лестницы оставались холодными. Зал должен был быть декорирован материей по рисункам художника Нивинского.
Вся работа по сооружению Мавзолея продолжалась около трех дней; строители удалились с Красной площади в момент, когда уже на нее вступали войска, участвовавшие в похоронах великого вождя».
Последний взгляд, брошенный архитектором при уходе с площади на скромное, выделанное «в русскую елочку» деревянное сооружение, оставил у него смутное чувство, в котором было и удовлетворение от законченной в срок работы, и горький привкус сожаления: разве такого Мавзолея достоин Ленин?
Правительственная благодарность за оперативное возведение Мавзолея лишь усилила чувство вины перед памятью вождя; это чувство не оставляло его, мучило. Зодчий понимал, что в этой временной постройке ему не удалось выразить и сотой части того, что он хотел сделать. При каждом взгляде на постройку художник роптал в нем. Единственное, что вполне удалось, — организационная сторона, и это было, конечно, немало.
С середины февраля Щусев начал добиваться разрешения создать художественно-архитектурную модель нового Мавзолея. Все готовы были пойти ему навстречу, но предупреждали, что новый Мавзолей пока тоже должен быть построен в дереве. Приближалась пора сева, ресурсы за зиму были выбраны, на монументальную постройку не было средств. Но архитектор оставался художником «каменных дел», лучше всего он чувствовал камень, понимал его и лишь из камня хотел творить истинную красоту.
Условия созданиямонументально-художественного Мавзолея с устойчивым температурным режимом погребальной камеры, который не нарушался бы открытым доступом народа к Ленину, не страшили зодчего: слишком много строил он в самых различных климатических поясах России, и не только России, чтобы не знать, как создать внутри постройки необходимый микроклимат.
Вся его энергия теперь сосредоточилась на невероятной задаче, которую он сам поставил перед собой: как создать из дерева подобие каменной монументальной постройки, которая была бы органичной на Красной площади и достойной вождя?
Куб — символ вечности, взятый Щусевым за основу первого Мавзолея, был счастливой находкой зодчего: После тысяч вариаций образ трансформировался в ступенчатую пирамидальную композицию, в основе которой остался тот же куб. Развитие символической идеи Мавзолея нацелило Щусева на поиск гармонии в новых для него, интернациональных, формах. Это было первое произведение зодчего, выполненное в новой манере.
Опыт, накопленный на строительстве Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки, не прошел бесследно.
В конце марта, когда проект был готов, правительственная комиссия, не внеся в него ни одной поправки, предписала немедленно приступить к возведению нового Мавзолея.
Несмотря на относительно небольшие размеры (высота — девять метров, длина — восемнадцать), деревянный Мавзолей производил впечатление монументальности, которая, как говорили, у Щусева свободно сочетается с легкостью.
Тончайшая пластика сооружения, свободный перелив уступа в уступ — от легкого венчающего портика до обитых пластинами из кованой меди темных дверей — рождали ощущение чистоты и единства образа. Трудно, почти невозможно было отделаться от впечатления, что Мавзолей построен из камня, а не из дерева. Глубоко продуманная цветовая гамма (использовались разные виды древесины — от темного мореного дуба до белой сосны) напоминала о черном, белом и сером мраморе, хотя дерево было даже не покрыто лаком, а лишь отполировано. Существенное значение имело то, что мемориальный памятник был объединен с трибуной. Уравновешенность архитектурных масс была совершенной.
1 мая 1924 года Мавзолей открылся взорам демонстрантов. Он сразу покорил всех своей естественностью и художественной правдой.
После демонстрации москвичи группами и поодиночке возвращались на Красную площадь, чтобы снова посмотреть на невысокую уступчатую пирамиду, сколоченную из обыкновенных досок обыкновенными гвоздями с большими медными шляпками, но вызывающую необычные чувства.
Алексея Викторовича поразило всеобщее понимание его идеи. Отрадой отозвалось оно в сердце. Здесь, на этой старинной русской площади, в обрамлении мощной стены и царственных башен, встало современное сооружение, возведенное в строгом стиле новейших архитектурных форм — ни одного завитка, ни одного узора... И тем не менее Мавзолей занял здесь свое место. А люди все шли и шли к нему, шли поклониться Ленину. Не каждый мог выразить свои ощущения, но никто не оставался равнодушным — простая и строгая композиция взволновала всех.
Перешагнув пятидесятилетний рубеж своей жизни, человек обычно тянется к оседлости, к покою, подводит какие-то итоги. Щусев об итогах не задумывался. Каждый день начинался для него с чистого листа бумаги, с нового вдохновения.
Художники малого дыхания всю жизнь стараются греться у чужого огня, им страшно зажигать костер внутри себя. Лишь истинному художнику дано уживаться меж двух полюсов: на одном — рабская преданность своему ремеслу, на другом — свобода, стихия пожара. Истинный художник не учится у жизни — он впитывает, вбирает ее в сердце, он живет, а учится он прежде всего у самого себя.
Когда-то молодой Щусев, увлеченный европейским Ренессансом и равнодушный к древнерусскому зодчеству, сердцем постиг мотивы псковско-новгородской архитектуры, открыл их для себя и для людей. Сказочная палитра московского барокко тоже дождалась своего времени и в руках мастера зазвучала современно и мощно.
Прелестью деревянного зодчества русского Севера с его изысканной простотой дышали деревянные постройки Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки. Руководя этой огромной стройкой, Щусев остро приглядывался к возможностям новых открытий в деревянном зодчестве. Оказалось, что его давние экспедиции по русскому Северу заронили в кладовые памяти образы, которые помогли в нужный момент созданию Мавзолея.
Художника, как и поэта, нельзя спрашивать, что он хотел выразить своим произведением, — глядите и постигайте сами! Это знали еще древние. Заложенная в человеке неистребимая потребность красоты никого не оставляет слепым и глухим к тому, что сами художники называют настоящим, то есть подлинно прекрасным.
Останавливая внимание лишь на главных произведениях Щусева, которые получили воплощение в материале, опуская сотни (действительно сотни) второстепенных и неосуществленных проектов, стоит задержаться на одном нереализованном проекте, который, по общему признанию, относится к таким, что легли в основу современного социалистического зодчества.
В начале лета 1926 года был объявлен конкурс на сооружение Центрального телеграфа на Тверской улице (ныне улица Горького). Это было время, когда молодая архитектура заполнила своими проектами все архитектурные издания. Выставки пестрели стрелами «космических» линий, проектировщики соревновались друг с другом, изобретая композиции одна фантастичнее другой. Ошеломленная новаторскими лозунгами лидеров конструктивизма архитектурная среда встретила завершение Казанского вокзала гробовым молчанием. Привыкший к общественному резонансу зодчий был обескуражен этой тишиной.
Больше всего на свете он боялся стать ретроградом, новаторство лежало в основе его творчества. И вдруг новые архитектурные силы, рвущиеся в будущее, перестают его замечать, видимо считая его осколком прошлого. Щусев отказывался принимать залихватский лозунг «Мы разрушим — мы построим!», зная по опыту, что рушить легче, чем строить. Настойчивость, с какой он отстаивал памятники старины, многим казалась нелепой и несовременной. Но Алексей Викторович был уверен: архитектор, не чувствующий национальных корней, отрекающийся от них, не способен создать художественных ценностей, как бы талантлив он ни был.
Более всего Щусева удручал формалистский подход к ансамблям русских городов, в которые, не считаясь с их сложившейся архитектурой, «левые» требовали немедля вписать «новую логику геометрических схем». За словом шло дело: через несколько лет упал выдающийся памятник московского барокко — знаменитая Сухарева башня, невзирая на громкий ропот протеста. А ведь в башне когда-то была первая в России математическая и навигацкая школа, находилась обсерватория сподвижника Петра I Я. В. Брюса. Разрушить башню оказалось гораздо проще, чем отремонтировать и покрасить.
Десятилетия спустя стало ясно, что архитектура, как и природа, не восстановима в первозданном виде. Памятник гибнет не только тогда, когда он разрушен: он также перестает существовать, если у него отнимают его окружение, если он теряет способность эмоционально воздействовать на нас. «Отнимая своим объемом воздух и небо, архитектура не должна загромождать город унылыми скелетами зданий, хотя бы и логично построенных», — писал Щусев.
Было и еще одно обстоятельство, которое несказанно удручало зодчего, — падение общего уровня художественной культуры у молодого поколения архитекторов. У каждого времени свои песни. Алексей Викторович никогда не мешал поискам нового, он и сам всю жизнь искал новые формы для выражения своего времени, но требовал, чтобы, «сочиняя архитектурные формы, не забывали грамматику и синтаксис архитектурного языка».
Став председателем Московского архитектурного общества, Щусев с высоты своего положения не мог не видеть, что архитекторы все более превращаются в проектантов-копировщиков творений так называемого нового стиля. И виноваты в этом, как он считал, не требования экономики или поиски аскетизма в архитектуре, которые были вполне законны и диктовались временем, повинно забвение культуры строительного искусства.
Статья Щусева «О принципах архитектурного строительства» дает точное представление о том, что заботило его в середине двадцатых годов. Можно подумать, что она написана сегодня, а не в конце 1924 года.
«Если обратиться к настоящему времени, — пишет Алексей Викторович, — с его огромным интересом к инженерному искусству, а также к связанному с ним промышленному строительству, и сделать выводы о том, что нарастает новый «стиль», подобный «элеваторам Буфалло», что стиль этот грозит подчинить себе все виды строительства, включая и жилищное, и что в этом будет решение задачи «современности», то этим будет сделана непоправимая ошибка... Только самое серьезное и вдумчивое отношение к архитектурному творчеству позволит нам найти на протяжении последнего 25-летия и отделить здоровые и «неустаревшие» произведения, проследить в них эволюцию творчества и определить полезные и вредные элементы для создания стиля современности».
Щусев дает четкие ориентиры: «Переходя к нашей современности, можно указать на конкурс Дворца труда для Москвы, где Московским Советом даны были директивы и пожелания выработки типа здания применительно к новому строительству СССР. Специальная комиссия лишь формулировала здание, разработала его и сделала предпосылку о желании не пользоваться типами уже существовавших стильных концепций. Это было требование подлинной жизни, и мы видим, что этот конкурс начал оформливать конкретно смутные идеи, абстрактно бродившие в головах зодчих».
В разгар споров о новаторстве конструктивизма Щусев решил показать на примере, что осмысление динамики и ритма времени в архитектуре всегда опирается на мощный пласт духовной культуры, что и конструктивизм имеет полное право на существование, если исполнен духовности. Щусевский конкурсный проект Центрального телеграфа в Москве, созданный в 1926 году, поразил даже приверженцев конструктивизма. Сугубо конструктивистская схема телеграфа несла в себе идею связи — связи эпох, интернациональной связи между странами и континентами. Художественный образ телеграфа был предельно строг. И вместе с тем тонкое изящество завораживающе смелых линий, легкость, свежесть дыхания покоряли с первого взгляда. Утилитарность здания подчеркивалась ритмикой гранитных вертикалей и стеклянных поясов.
Проект показал: современная ритмика может соединять монументальность с простором, легкость с мощью. В пояснительной записке к проекту Щусев писал: «Здание по своей программе — узкотехническое, по конструкции соответствует принципам рационализма и экономии. Разбивка этажей, пропорция пролетов и столбов составляют сущность его архитектуры».
Конкурсная комиссия единодушно присудила проекту первое место, хотя большинство в комиссии составляли конструктивисты, прежде убежденные в том, что Щусев их недруг. Зодчего поздравляли с победой, надеясь, что он укрепит и разовьет конструктивизм.
И в самом деле, если бы на улице Горького в конце двадцатых годов встал щусевский телеграф, то совсем не исключено, что уже в тридцатые годы облик Москвы стал бы самым современным в Европе. Архитектурное пространство — жизненная среда любого города — подчиняется одним законам: процесс «обживания» новой архитектуры идет тем труднее, чем более инородным оказывается новое здание для своего окружения: Каждый настоящий зодчий мыслит и творит сообразно идеям, уже заложенным в архитектуру города. Грубое нарушение этой закономерности растягивает процесс «обживания» иногда даже на весь срок существования здания. И это — смертельный приговор архитектору, приговор, который выносит ему время.
Щусевская композиция, созданная в 1926 году, когда социалистическое строительство бурно набирало разбег, несмотря на сугубо современное решение, не противоречила городской застройке. Спустя годы появились стекляннобетонные карикатуры на щусевский телеграф. В них сохранились умозрительность и заданность конструктивизма, а красота и пластичность линий и форм исчезли.
Щусевекий проект был полон динамики, экспрессии, в ритме и соразмерности архитектурных масс были грация и изящество. За что бы Щусев ни брался, он никогда не забывал, что архитектура предназначена для людей, что она как искусство в меньшей степени принадлежит зодчему или узкому кругу специалистов — она принадлежит всем, потому что, разглядывая здание, живя, работая, отдыхая в нем, человек приобщается к тем духовным ценностям, которые несет в себе архитектура.
Но зодчий обязан уловить готовность людей к восприятию новых архитектурных форм... Для своего времени щусевский телеграф был сугубо новаторским, его проект по этой причине не был осуществлен. На Тверской стал сооружаться тяжелый, как танк, телеграф Ивана Ивановича Рерберга.
Алексей Викторович повторял про себя: художественная ценность архитектуры тем выше, чем большему числу людей понятен замысел архитектора, чем больше сердец его работа способна полонить. Эти мысли не оставляли сго, когда он, стоя на Каланчевской площади, следил, как молодой верхолаз Вячеслав Ильин укрепляет на башне Казанского вокзала золотого крылатого змия Зиланти, символ города Казани. Вспоминались долгие поиски объемов фигуры золотого чудища, споры с мастером Павлом Шабаровым. Вспомнилось, как отливали и золотили трехметрового змия, как берегли его до нынешнего дня... Нет, не вышел из него конструктивист. Вот его вокзал — он выше моды. Кажется, он вправе гордиться своим творением...
Толпа скучилась на жаркой вокзальной площади и, затаив дыхание, следила за работой верхолаза. Все люди па площади вдруг на время как бы стали детьми, и это значило, что в них затронуто живое начало. Синие часы, на которых горели золотые стрелки и знаки Зодиака, показали час дня. И сразу на часовой башне застучали била и молоточки, разливая над площадью нежную малиновую музыку...
За принесенную Щусевым дань конструктивизму он был жестоко наказан — его давние соратники и друзья Михаил Васильевич Нестеров и Виктор Михайлович Васнецов резко отвернулись от него. Современную архитектуру Васнецов называл варварской. Центральный Дом культуры железнодорожников (ЦДКЖ), которым Щусев завершил свой ансамбль на Каланчевской площади, Виктор Михайлович счел не достойным вокзала. В 1926 году Васнецов умер. Щусев так и не получил от него прощения...
Экономические трудности восстановления хозяйства страны были веской причиной упрощений и аскетизма в искусстве архитектуры. Почти невозможно было в этих условиях не снизить художественного качества построек, и как это удалось Щусеву, по сей день остается загадкой.
ЦДКЖ, или клуб Октябрьской революции — КОР, как его тогда называли, еще в проекте заслужил самые высокие оценки за конструктивную смелость и остроумное решение плана зрительного зала и фойе. Лаконизм внешних форм ЦДКЖ «сохранил тему стены и полихромию» Казанского вокзала. Сочетание резного белого камня и кирпича было предельно просто. Простота архитектурного убранства круглого приземистого здания как бы открывала начало прочтению вокзального ансамбля. Музыка московского барокко, музыка красного и белого камня звучала все сильнее, пока не достигала небесного свода там, где башня Казанского вокзала пронзала высоту. Здание Дома культуры стало своеобразной современной увертюрой к каменной опере.
Предметом гордости Алексея Викторовича была конструкция здания ЦДКЖ. Воздушный амфитеатр зрительного зала был подвешен на выносных консолях, сконструированных Александром Васильевичем Кузнецовым. ЦДКЖ стал одним из лучших концертных залов страны. Центральный Дом культуры железнодорожников сделался неоспоримым доводом зодчего, когда он доказывал, что самая смелая конструкция не может и не должна вступать в противоречие с художественными принципами архитектуры.
Громадные окна вокзала с переплетами в ромбах уже были застеклены венецианским стеклом, когда Алексей Викторович, несмотря на недостаток отпущенных на оформление средств, решил, что пришла пора звать художников. Из прежних художников, что еще до революции делали эскизы панно, на призыв Щусева отозвался лишь Евгений Евгеньевич Лансере.
Когда Алексей Викторович водил художника по залам и галереям вокзала, Евгений Евгеньевич только вздыхал.
— Так беретесь? — спросил зодчий и быстро добавил: — Мне ведь больше положиться не на кого...
— Конечно же, конечно, возьмусь. А за результат не ручаюсь...
— Старайтесь, и все получится. Вы ближе всех были к цели.
Вскоре Лансере прислал Щусеву письмо: «Ну и молодец же Вы, ну и искусник же, ну и настойчивый же человек!!... Конечно, Вы не ждете от меня какого-нибудь ярого модерна или футуризма, но «эпошистость», «историчность» меня теперь не влечет... Зал ресторана очень эффектен, но масштаб лепки и вообще так велик, что все до сих пор запроектированное было бы страшно мелко (и отличные эскизы Серебряковой, и Бенуа, и мой). Считаю, что это прямо судьба нас спасает. Да, в сущности, только повидавши в натуре, и можно как следует скомпоновать!»
Страна жила, вглядываясь в будущее, и эту устремленность в будущее Лансере сделал главной темой своей живописи, которая по сей день украшает стены и своды парадных залов Казанского вокзала. Его панно трогают своей искренностью и светлой радостью. Разглядывая их, мы не забываем о том, что они были первыми произведениями советской монументальной живописи.
По-новому зазвучал в них мотив России, сплачивающей народы. Равноправие и дружба — вот основа братства народов СССР. Сквозным рефреном проходит эта тема через полные динамики композиции. Соединяя дали нашей Родины, летят по небу самолеты, меряют бескрайние версты мачты линий электропередачи, республики, края и области страны рассказывают о своих богатствах. На лицах людей — тот свет праздника, передать который просил Лансере Щусев. Тема праздника труда впервые получила здесь достойное выражение в монументальной живописи.
Нестеров долго не мог простить Щусеву его «уступок конструктивизму». Он чуть-чуть оттаял лишь тогда, когда архитектор занялся живописным оформлением стен и сводов Казанского вокзала.
Но когда Алексей Викторович пришел к Михаилу Васильевичу, тот встретил его сухо. Стародавние друзья даже назвали своих сыновей именем друг друга (Алексей Викторович дал своему младшему сыну имя Михаил, а Михаил Васильевич назвал сына Алексеем). Скрепившие свою дружбу назывным родством, два близких человека встретились, как чужие.
Нестеров терпеливо выслушал клятвы Щусева в верности традициям русской классики и, подумав, сказал:
— Мне бы очень хотелось, Алексей Викторович, верить, что вы снова наш. Но, невзирая на все ваши доводы, вы мало похожи на воротившегося блудного сына.
— Просто сейчас никому не позволительно стоять в стороне от дела, — сказал Щусев.
— После «Марфы», любезный мой друг, я поклялся более на стены не лазать. Так, как пишет Лансере, никто пока не умеет. И не скоро научится...
Вскоре друзья помирились. Первым на сближение пошел Михаил Васильевич, узнав, что на Алексея Викторовича обрушилось несчастье.
Надежда и гордость зодчего — старший сын Петр, так похожий на него темпераментом, вдруг неизлечимо заболел. Временами он начинал заговариваться или принимался смеяться и смеялся до слез. Вдруг беспричинная веселость обрывалась, и он впадал в столбняк, за которым неизменно следовал приступ ярости. Врачи объясняли это так: Петр долго носил в себе вялый вирус менингита, которым болела его сестра. Сильный организм, доставшийся Петру от отца, одолевал готовую вспыхнуть болезнь. А в пору выпускных экзаменов в Строгановском училище, когда организм ослаб от перенапряжения, вирус ожил и теперь сжигал юношу, как пожар.
Теплый и радостный дом, родной дом, куда Алексей Викторович всегда спешил, как на праздник, превращался в ад. На семейном совете, обливаясь слезами, Мария Викентьевна наконец согласилась определить сына в больницу. Медицинское заключение не оставляло никаких надежд на выздоровление.
Временами Алексею Викторовичу казалось, что негде взять сил, чтобы не дать отчаянию овладеть собой, чтобы постоянно поддерживать Марию Викентьевну, которая все больше уходила в свою беду. Алексей Викторович изо всех сил, но безуспешно пытался переключить внимание Марии Викентьевны на других детей.
Совсем еще недавно он с надеждой следил за яркими успехами сына. Он настолько привык к мысли, что его Петр непременно станет настоящим художником и счастливым человеком, что расстаться с этой мечтой было невыносимо.
Младший сын готовил себя к инженерному поприщу, дочь не возражала против профессии архитектора, и только. Мечты Щусева, что дети сумеют достичь в искусстве того, что не удалось ему, мечты, которые он связывал прежде всего со старшим сыном, развеялись в прах.
В этот момент Михаил Васильевич Нестеров протянул Алексею Викторовичу руку помощи.
Наркомат просвещения уже не первый год искал подходящую кандидатуру для того, чтобы возглавить сложное и большое дело, — нужен был художник с большим знанием мировой культуры, к тому же наделенный талантом организатора, и надлежало этому художнику в короткий срок преобразовать одну из главных сокровищниц искусства страны в центр художественного просвещения народа. Этой сокровищницей была Третьяковская галерея.
Кандидатуру Алексея Викторовича Щусева на пост директора галереи предложил Михаил Васильевич Нестеров.
В ту пору Третьяковская галерея представляла собой больной запасник — хранилище художественных ценностей, свезенных сюда со всей страны из брошенных дворцов, особняков, имений. Даже основной художественный фонд галереи, собранный Павлом Михайловичем Третьяковым, не имел научного описания.
Щусев не был бы Щусевым, если бы в каждом новом деле не ставил неожиданных целей. Он органически не мог подходить к делу ординарно, привычно, как все. У Парижа есть Лувр, у Ленинграда — Эрмитаж и Русский музей. У Москвы своего Лувра не было. Галерея в Лаврушинском переулке должна стать московским Лувром как по богатству своей экспозиции, так и по своей популярности.
Эту пору жизни Щусева знаменует целый поток писем его старому другу и советчику Петру Ивановичу Нерадовскому — бессменному смотрителю Русского музея в Ленинграде.
«Каталог типа луврского я писать заставил, — сообтщает А. В. Щусев П. И. Нерадовскому 16 ноября 1927 года. — Несмотря на доводы, что без постоянной экспозиции нельзя писать каталог, оказывается, лучшие каталоги не зависят от экспозиции. Я очень обрадовался, что был прав в своих предположениях».
Алексей Викторович впервые находился в окружении людей, которых прежде сторонился, — он говорил, что не любит искусствоведов, как и всяческих других «ведов». Он считал, что, в отличие от художников, эти люди могут спокойно жить одними лишь разговорами и «нянчить» свое знание. Предоставленный сам себе, этот капризный и самолюбивый народ бывал временами, по мнению Щусева, отзывчив на высокий и чистый призыв, но как легко возгорался, так быстро и остывал, искренне любя рутину и в то же время беспощадно ругая ее.
Нужны были щусевская энергия и его искреннее благоговение перед истинным искусством, чтобы уже через год Третьяковская галерея стала ярким и, главное, постоянно действующим художественным очагом не только московского, но и всесоюзного масштаба.
Под руководством Щусева сотрудники галереи осуществили ее полную реорганизацию, создали службу реставрации, вывели галерею на самый высокий уровень научной и экскурсионной работы. Через год Алексей Викторович думал об искусствоведах уже совсем иначе, чем прежде.
Основной экспозиционный фонд, все, что хранилось в запасниках, было классифицировано и научно описано. В запасниках нежданно-негаданно обнаруживались все новые шедевры отечественной и мировой живописи.
Сплотить сотрудников галереи в коллектив единомышленников, объединить их высокой идеей просвещения народа — вот самое трудное, что сумел сделать Алексей Викторович на посту директора Третьяковской галереи.
Он взвалил на свои плечи огромный труд по организации выставок, которые сменяли в галерее одна другую. Именно к этому он и стремился — быть необходимым множеству людей, и прежде всего художникам. Щусев привлекал к участию в выставках крупнейших живописцев, отыскивал молодые таланты.
«Выставка Сурикова, каталог и перевеска удались как нельзя лучше. Все довольны, — писал он Нерадовскому 22 марта 1927 года. — Вчера Кончаловский открыл свою выставку, хотя вещи и этюдного характера, но, по-моему, есть сильные: портрет японца, сапожника, натюрморт (заяц) и несколько пейзажей».
У Щусева был ценный дар — дар общения. Те люди, которым приходилось сталкиваться с ним, дорожили его вниманием. Их привлекали обаяние и мягкость Алексея Викторовича, внутренняя сила характера, его умение, как выразился И. В. Жолтовский, «держать факел искусства».
Щусев организовал массовый выпуск серий цветных репродукций лучших картин Третьяковской галереи. С упорством, которое многим казалось упрямством, добивался он качественных типографских оттисков, безжалостно бракуя одну пробу за другой.
«Получил, наконец, образцы открыток Госиздата, — пишет он Нерадовскому, — удачные, в конце февраля (1928 г.) их выпустим». А через месяц сообщает: «Открытки наши производят фурор, поставили 3-й стол для продажи, и то стоят очереди».
Все, что касалось галереи, Алексей Викторович принимал близко к сердцу. Его радовало, что в галерею толпами стекался народ, что в воскресные дни к ее открытию полуторки привозили в Лаврушинский переулок рабочих с заводских окраин, что в экскурсионном бюро не умолкая трещал телефон — шла запись экскурсий. Каждый приезжий старался обязательно попасть в галерею.
Когда Ассоциация художников революционной России опубликовала громкую статью под названием «Весна народов», где живопись Третьяковской галереи противопоставлялась «задачам дня, стоящим перед художниками — современниками революции», Алексей Викторович страстно обрушился на нее в письме начальнику Главнауки. Он требовал достойного отношения к великим мастерам кисти, в особенности к передвижникам, которые ввели в искусство правду жизни. Щусев утверждал: преступно восстанавливать массы против учреждения, у которого нет другой цели, как приблизить лучшие образцы национального искусства к широким слоям народа.
Профессиональным глазом художника Щусев видел, что недостатки общей культуры для художника не просто пагубны, они несочетаемы с избранным делом и не могут быть восполнены знанием основ ремесла. Прочувствовать и осмыслить художественную идею, тем более превратить ее в факт подлинного искусства может лишь развитая душа. Поэтому Третьяковская галерея нужна не только массам трудящихся, это школа гражданского и профессионального воспитания новых поколений советских художников, она необходима самим художникам.
Череда выставок, смена экспозиций, тематические показы, практикуемые Третьяковской галереей, вскоре поставили Щусева перед фактом, что пришла пора расширить площади, занимаемые галереей. Сколько убежденности и настойчивости проявил зодчий, чтобы доказать необходимость развития, расширения галереи, добиться фондов для нового строительства! 30 ноября 1928 года было получено разрешение Наркомпроса на возведение двух новых корпусов галереи. Щусев назначался главным архитектором строительства.
Алексей Викторович был уверен в том, что мог бы быть искусствоведом, реставратором, организатором лучшего художественного музея страны, а мог и не быть. Но не быть зодчим было для него невозможно. Не случайно в одном из его писем П. И. Нерадовскому проскользнуло признание: «Как ни увлекательно дело галереи, но берет оно много времени и энергии». Теперь Щусев выступал в двух лицах — архитектора и руководителя галереи, но свои директорские обязанности он все смелее перекладывал на заместителей. Галерея стояла на верном пути.
Всю жизнь Алексей Викторович считал Илью Ефимовича Репина своим учителем. Он вдохновлялся его полотнами, поклонялся ему, изучал его манеру. Каким счастьем было, когда приехавший к нему в гости Нерадовский прочитал ему письмо от Репина. «Недавно я получил письмо от Щусева, — писал Репин Нерадовскому,— он также деятельный член этой комиссии Третьяковской галереи. Я бесконечно радуюсь, что там собрались такие желательные силы. Значит, сделают все, как надо. Щусев мне писал, что с картиной «Ив. Грозный» предстоит реставрация. Я боюсь реставраций. И так как картина под стеклом, то она уже хранится хорошо. Следует только быть осторожным».
Значит, Илья Ефимович удовлетворен его деятельностью в галерее. А был бы удовлетворен другой художник, которого уже три года, как нет на земле?
Фасад Третьяковки, выполненный когда-то по эскизам и под наблюдением Виктора Михайловича Васнецова, как бы с немым укором глядел на Алексея Викторовича, каждый день напоминая ему о старшем товарище, который умер, так и не сказав ему последнего «прости».
Если допустимо говорить о скульптурности щусевской архитектуры, то с определенной мерой условности можно назвать васнецовский фасад Третьяковской галереи архитектурной живописью. Два новых здания галереи, которые предстояло возвести Щусеву, должны были составить единый ансамбль с живописной архитектурой Васнецова.
Гармоничность ансамбля была для зодчего высшим законом. Он начал искать способ высветить васнецовский фасад, включив новые здания в единый гармонический ряд. Он сознательно как бы убирал свою архитектуру в тень, создавая старому фасаду галереи выигрышный контраст с простыми, неброскими по выразительности формами новых строений. Его постройки должны были стать всего лишь достойным обрамлением произведения Васнецова.
На эскизе огромная площадь белой стены скромно украшена бордюром-пояском сине-зеленого растительного орнамента. Так в светлой крестьянской украинской хате украшают стены. Недаром Щусева называли кудесником светотени. Он так повернул новые здания, что игра солнечных лучей заставляла взгляд двигаться к васнецовскому фасаду и любоваться его волшебной вязью, его Георгием Победоносцем на фронтоне галереи. Зодчий как бы говорил: он не отрекся от художественных традиций русской классики, которые всю жизнь утверждал Виктор Михайлович Васнецов, он верен им, как верен памяти русского художника.
С течением времени Щусев полюбил Москву, как любят дорогое существо. У них с Марией Викентьевной сложилась устойчивая привычка каждый вечер, невзирая на погоду, отправляться на длительную прогулку по городу, и многочисленные их маршруты неизменно включали набережную Москвы-реки, куда должна была спускаться торжественная парадная лестница несостоявшегося баженовского Кремлевского дворца.
С годами Алексей Викторович сделался говорлив и говорил, как бы увлекаясь течением собственной мысли, звуками своего голоса. Все, кто слышал публичные выступления зодчего, как один, отмечали артистизм и деловитость каждого его доклада и сообщения. Создавалось впечатление, что о Москве говорит заботливый и радушный хозяин, который призывает всех ее жителей облагораживать свой город, холить его, украшать, как собственное жилище.
А какие восторженные планы рисовал Щусев Марии Викентьевне во время их вечерних прогулок над Москвой-рекой! В юности он обещал ей дворец, а теперь дарил великий город, потому что все, что дорого нам, что мы искренне любим, нам и принадлежит. Эту мысль так же непросто понять, как непросто и объяснить. И в тысячу раз труднее воплотить, реализовать свою любовь, как воплотил ее Щусев в камне, сделать ее понятной и доступной всем.
Любовь бывает разная. Любовь созерцательная восторженна... и бегла. Любовь сострадательная полна жалости и часто бывает безнадежна. Случается любовь трагическая, с которой, как ни борись, ничего не поделаешь. Прыгнешь за ней в пропасть, едва увидишь, что она уходит, хотя без нее — ты в этом совершенно уверен — только и возможно продолжать «нормальную» жизнь. Но бывает еще одна разновидность этого чувства — любовь деятельная, когда ты все свое существование подчиняешь предмету своей любви. Ты растворяешься в нем, и он становится не то чтобы частью тебя самого, а тобою самим, твоею сутью.
Вскоре Алексею Викторовичу пришлось распроститься с постом директора Третьяковской галереи. Столица призвала его к другому высокому и ответственному делу.
Едва Москва выбралась из разрухи и голода, которые принесла с собой гражданская война, как стала задумываться о своей роли и своем нынешнем значении на земле, постепенно осознавая себя столицей первого в мире социалистического государства. На исполком Моссовета была возложена обширная, но пока не вполне конкретная задача — придать городу облик, достойный столицы Страны Советов. Предстояло организовать при Моссовете архитектурно-проектные мастерские, и Алексей Викторович понял, что пришла пора воплощать в жизнь первый план реконструкции столицы — проект «Новая Москва», разработанный в 1919 году.
Многие мечты и прогнозы того времени теперь казались наивными, ведь неустроенность и аскетизм обстановки тех лет то сковывали фантазию, то увлекали ее в заоблачные выси. Но Алексей Викторович с удовлетворением отмечал, что та давняя работа как в идейном, так и в практическом плане сохранила по большей части свою значимость и по сей день. Вместе с тем он знал по собственному опыту, что выполнить реальную задачу всегда труднее, чем придумать самый оптимистический план.
Нет большего счастья для зодчего, чем воплощать свои мечты в явь. Именно Щусеву надлежало создать архитектурно-проектные мастерские Московского городского Совета депутатов трудящихся. На эти мастерские возлагалось осуществление первого этапа реконструкции Москвы.
Все последние годы Алексей Викторович, на каком бы посту он ни находился и к какой бы стройке ни был привязан, продолжал оставаться председателем Московского архитектурного общества — МАО, сменив здесь Ф. О. Шехтеля. Председательский пост не тяготил Щусева, но времени и сил эта работа отнимала много.
Когда К. Е. Ворошилов предложил Алексею Викторовичу возглавить мастерские Моссовета, тот неожиданно для всех и, наверное, даже для себя самого отказался. И прежде не раз первой его реакцией па подобные предложения был отказ. А теперь со всей убедительностью, как он это умел, Щусев доказывал, что новое дело ему в настоящий момент не по плечу, что есть более достойные работники, которые успешно справятся с реализацией плана реконструкции столицы. Взять хотя бы Жолтовского. Иван Владиславович Москву любит, знает, он бесконечно предан городу и владеет градостроительным искусством лучше, чем кто бы то ни было. Это он доказал изумительной по смелости и красоте планировкой выставочного комплекса. И хотя главным пристрастием Жолтовского остается Москва после пожара 1812 года, а самому Щусеву ближе город допетровской и петровской эпохи, тем не менее именно Жолтовскому следует доверить создание нового облика Москвы.
Соображения Алексея Викторовича были выслушаны внимательно, но ссылки на то, что предстоящий размах работ ему не по плечу, не убедили. Конечно, реконструкция Москвы — это не строительство выставочных залов Третьяковской галереи или Казанского вокзала, художественной отделкой интерьеров которого Щусев не переставал заниматься все эти годы, сил реконструкция потребует больше. Несмотря на весомость доводов, Щусеву не позволили отстраниться от им же начатого дела. Да, признаться, он и сам уже начал сожалеть, что отказался от увлекательной и благородной работы — искать и воплощать новый облик социалистической столицы.
Вскоре было принято решение: учитывая большой размах предстоящих работ по реконструкции Москвы, организовать при Моссовете не одну, а две мастерские. Во главе первой утвердить академика архитектуры И. В. Жолтовского, во главе второй — академика архитектуры А. В. Щусева.
А через совсем небольшой срок Алексей Викторович счел, что его отказ стать во главе всего дела — серьезная ошибка. Первый же конкретный шаг мастерской Жолтовского — здание на Моховой, исполненное в стиле итальянского Возрождения, вызвало у Щусева неудержимый протест. Этот дом Алексей Викторович сравнивал с кирасиром, что вышел прогуляться под стены Кремля в золоченой кирасе.
Начались бесконечные споры, ссоры, перемирия между первой и второй мастерскими. Тем временем в облик Москвы отдельными вкраплениями вносились смелые штрихи, органично вписываясь в него и открывая новые возможности. В чести обоих мастеров, следует сказать, что ни одно их сооружение не оказалось инородным телом на площадях и улицах столицы.
Осуществилась и стала подлинным украшением Москвы спланированная Щусевым широченная магистраль Ленинградского проспекта, прорезанная зелеными поясами с пешеходными дорожками. В ту пору эта магистраль многим казалась бессмысленно просторной, расточительной даже для такого города, как Москва, но время подтвердило правоту архитектора.
Алексея Викторовича заботило, какими силами будет осуществляться реконструкция. И Щусев зачастил во Вхутемас. Там он надеялся отыскать молодые дарования, способные проникнуться идеями светлого и прекрасного города, каким должна стать столица. Несмотря на нелюбовь к преподаванию, Алексей Викторович одно время даже стал вести курс во Вхутемасе, пытаясь зажечь мыслями развития градостроительных традиций Москвы будущих молодых зодчих. Но архитектурная поросль в этот период чуть ли не поголовно была увлечена творческой манерой Корбюзье и тех, кто следовал за ним, причем в основном поверхностной и поэтому легче всего доступной пониманию стороной нового архитектурного стиля.
И Алексей Викторович предпринимает отчаянный шаг: для наглядности он решает поставить посреди города архитектурный эталон, увидев который всякий причастный к зодчеству вспомнит о главном назначении архитектуры — облагораживать жизненную среду. На Советской площади, прямо напротив здания Моссовета, Щусев сооружает по своему проекту портик-пропилеи, выполненный в наистрожайних традициях древнегреческой классики. Под портиком он подолгу любил рассказывать, как с помощью проникновения в основы классики сам он добивался завоеваний на своем пути, в каком бы стиле ни работал и какое сооружение ни создавал. Пропилеи напоминали: не теряй строгости и целесообразности, благозвучия и красоты, которые содержит классика. И снова зодчий неустанно твердит: «традиция» означает «передача», передача наследникам лучшего, что собрано по крохам тысячами их талантливых предшественников.
С высоты своего художественного опыта Алексей Викторович пытался представить архитектуру города будущего с ее пластикой и совершенством форм. Как сохранить ни с чем не сравнимое лицо Москвы? Эта мысль ни на минуту не оставляла его, временами даже терзала и мучила. Иногда ему казалось, что древние черты столицы сглаживаются, что она теряет свой колорит. А ведь прежде Москва была так же своеобразна, как Владимир или Суздаль. Посетивший эти города хоть раз человек уже никогда и ни с чем их не спутает, даже ввези его туда с завязанными глазами, а потом развяжи их и спроси, где он находится.
Москва, несмотря на хаотичность новой застройки, затаенно хранит в себе яркое своеобразие, в котором сплелись седая древность, праздничное московское барокко, строгая желто-белая классика екатерининских и более поздних времен. Нет, не смеет Москва утратить своего лика! Через сколько бы лет ни вернулся москвич домой, он должен с благодарностью и отрадой узнавать повсюду черты родного города. Величественность и торжественность Москвы как столицы огромного государства не смеют лишить ее уюта, мягкости, доверчивой простоты.
Пришла весна 1929 года. Заканчивалось строительство дополнительных корпусов Третьяковской галереи. И вдруг вокруг проекта Мавзолея разгорелись новые страсти.
«Возмутителем спокойствия» оказался Владимир Владимирович Маяковский. Вот что писал Щусев в своих воспоминаниях: «Один из моих оппонентов по проекту Мавзолея — Маяковский — не хотел примириться со статическим памятником Ленину. Он требовал другого решения...»
Владимир Владимирович настаивал на сооружении динамичного, сверхсовременного памятника вождю. Ему напомнили слова Надежды Константиновны Крупской: «Не устраивайте ему памятников, дворцов его имени, пышных торжеств его памяти — всему этому он придавал так мало значения, так тяготился всем этим. Помните, как много еще нищеты, неустройства в нашей стране...»
Маяковский обладал огромным авторитетом и, зная об этом, стучался во все инстанции. Он предлагал поставить на Красной площади «исполинских размеров фигуру Ленина, призывающего пролетариат на смертный бой с капитализмом. Таким он должен остаться там навсегда».
Вскоре был объявлен Всесоюзный конкурс на создание постоянного Мавзолея.
Деревянный Мавзолей, поблекший от дождей и снегов, продолжал «держать» площадь.
Конкурсных проектов было великое множество, они приходили отовсюду, в том числе из-за рубежа. Но странное дело, бо́льшая часть проектов даже известных архитекторов представляла в той или иной степени модификацию щусевского Мавзолея с круглым, эллиптическим или шестиугольным планом. Была в этих проектах монументальность, но ни одному из них не удавалось естественно войти в ансамбль Красной площади.
В итоге конкурса правительственная комиссия, возглавляемая К. Е. Ворошиловым и А. С. Енукидзе, предложила Щусеву «перевести временный Мавзолей из дерева в гранит». Так Мавзолей снова позвал к себе своего зодчего.
Он знал, что временный Мавзолей рано или поздно придется перестраивать, не исключал, что это придется делать ему, но он не знал, когда этот срок наступит. И временное увлечение Щусева конструктивизмом, и работа в Третьяковской галерее, и возведение ее дополнительных зданий были, как оказалось, совершенно необходимы, чтобы он смог по-новому взглянуть на Мавзолей.
Сделать точную копию деревянного Мавзолея в камне? Но за эти годы Щусев изменился, как изменился и мир, в котором прочно утвердилась Страна Советов. Теперь архитектор был убежден, что по ходу развития мировой истории имя и дело Ленина будут год от года звучать все громче. Таких людей, каким был Владимир Ильич, земля рождает чрезвычайно редко.
Этот человек отличался ни с чем не сравнимой духовной силой и скромностью, великой заботой о людях труда, глубокой верой в народ. Через всю свою жизнь пронес он мечту о социальной справедливости. Больше всего Щусева поражала в Ленине безмерная преданность этой мечте, умение подчинять ей всего себя, упрямо воплощать ее в действительность каждым своим поступком, каждым шагом.
Нравственная потребность справедливости, живущая в душе трудящегося человека, накрепко связывалась с именем Ленина, каждый успех страны в индустриальном строительстве и на хлебной ниве сопровождался этим именем. И зодчий уже не мог удовлетвориться только гранитной копией.
В своем кабинете при свете зеленой лампы набрасывал Алексей Викторович эскиз за эскизом. Тем временем строители уже приступили к разборке деревянного Мавзолея. А зодчий оставался так же далек от цели, как и вначале. Было ясно одно — Мавзолею надлежало по-прежнему «фокусировать» площадь, оставаясь главной доминантой. Зданию Мавзолея нужно придать всенародную притягательную силу. На решение такой задачи мог отважиться только художник, одержимый идеей создать памятник, утверждающий бессмертие ленинских начал.
Если решать Мавзолей в стиле русской архитектуры, то, «подверстанный» к Сенатской башне, он потеряется под стенами Кремля. А выдвинутый вперед, он невольно вынужден будет спорить красотой с собором Василия Блаженного...
В один из мучительных дней поиска Алексею Викторовичу пришла мысль: Мавзолей должен принадлежать не прошлому, как надгробия, и даже не настоящему, а будущему — вот тогда люди задумаются об интернациональной сущности дела Ленина.
Чем упорнее зодчий искал новый образ, чем глубже проникался главной идеей Мавзолея, тем больше убеждался, что особенности нового материала — гранита — уводят его от деревянного прообраза. Внешние плоскости деревянного Мавзолея создавали за счет своей рельефности иллюзию монолита. Иллюзорная монументальность свободно уживалась в дереве с легкостью и какой-то домашней простотой. Но когда дерево потемнело, глубина утратилась, Мавзолей помрачнел.
Зодчий чувствовал: он должен оторваться от ранее созданного образа. Но как стереть его, тем более что именно повторения образа от него ждут? И тогда Алексей Викторович решился прибегнуть к новому средству: построил небольшую гранитную модель Мавзолея с подвижными ярусами. Сотни эскизов сделал он, отыскивая нужный ритм уступов, соразмерность масс, объемов.
Когда начало казаться, что цель близка, он решил сделать макет из крашеной фанеры, но в натуральную величину. В макете была выполнена четверть предполагаемого объема, он был как бы вырезан из целого объема по осям двумя ножами.
Этому макету суждено было сыграть решающую роль в поиске гармонии форм, объемов и цвета. Щусев двигал ярусы и смотрел, смотрел и двигал, заставлял маляров без конца перемешивать краски, снова и снова окрашивать конструкцию. Перемещением ярусов, поиском цветового решения он занимался даже во сне. Временами он вскакивал с постели и спешно наносил на бумагу мелькнувший в сознании образ, а утром пробовал его уже на макете.
Отпущенные на строительство сроки поджимали. Кажущиеся бесконечными передвижки и прикидки привели к тому, что зодчий снова вернулся к гранитной модели, которая подтолкнула его к решению отодвинуть воздушную колоннаду венчающего портика Мавзолея до последнего допустимого предела к стене Кремля. И — о чудо! — как светло и чисто зазвучали гранитные уступы, как ясно вдруг увидел он гармонию и ритм, которые так мучительно отыскивал!
Прежде образ Мавзолея жил где-то рядом, но все время ускользал от него. Наконец он обнаружился и теперь как бы само собой развивался. Мавзолей поднялся, достиг двенадцатиметровой высоты, что было равно одной трети высоты Сенатской башни и одной шестой высоты Спасской башни, три дробных его уступа слились в один. Нижний пояс с траурной лентой черного гранита смело выдвинулся вперед и настойчиво потребовал вытянуть венчающий портик почти до зубцов кремлевской стены. Пришла и еще одна удивительная находка: если смягчить левый угол, то почти незаметная асимметричность оживит перепад уступов, игру объемов, цветовую гамму поясов.
— Все! — воскликнул Щусев и распорядился готовить площадку под фундамент.
Гранитный Мавзолей будет с каждой новой точки площади видеться в неожиданном ракурсе. Он нашел способ заставить его уступы звучать торжественной музыкой. В ритме ярусов Мавзолея соединились величие и монументальность, свобода и легкость.
В светлом расположении духа отправился Алексей Викторович в каменоломни на Волынь организовывать добычу нужного гранита. На Головинских карьерах его нетерпеливо ожидал уполномоченный по постройке Мавзолея инженер К. С. Наджаров. Уполномоченный принадлежал к типу выкованных революцией людей, которым ничего не нужно для себя лично, для которых смысл жизни — порученное дело.
Доверие между Щусевым и Наджаровым возникло как бы само собой. С благоговейным почтением относился Наджаров к архитектору. Он видел в нем носителя высокой идеи, точно знающего, как воплотить ее в жизнь. Инженер был интеллигентным человеком. Известно: интеллигентный человек понимает, что такое творческая личность. Наджаров покорил Щусева тактом, необычайной предупредительностью, умением предвидеть, что надо предпринять завтра. О таком помощнике Щусеву прежде приходилось только мечтать.
Каменотесы, взрывники и вырубщики слушались только Наджарова, и это поначалу даже немного обижало зодчего, которому общение с рабочими всегда доставляло истинное удовольствие, но потом он понял, что для пользы дела так и должно быть — распоряжаться всем здесь должен один человек.
Сверяясь с художественным образом Мавзолея, обдумывая его цветовую гамму, Алексей Викторович попросил Наджарова:
— Нельзя ли попытаться добыть монолит черного лабрадора, этакий брус длиною метров шесть, а лучше восемь?
— Если нужно, то будет, — услышал он в ответ.
Когда монолит весом шестьдесят тонн был вырублен из основания гранитной скалы, Щусев попросил каменотесов отполировать небольшую плоскость, чтобы увидеть рисунок камня. Не прошло и трех часов, как его снова позвали в карьер. Он удивился, зная, что полировка квадратного метра гранита занимает у опытного рабочего трое, а то и четверо суток.
В лучах уходящего солнца камень нежно светился голубыми прожилками, выделяющимися то на глубоком синем, то на черном тоне, на котором лежал мягкий голубой отсвет.
— Да как же такое можно, как вам удалось, братцы? — спросил Щусев, любуясь игрою камня.
— То не мы, то природа отполировала, а мы только зачистили, — весело отозвались каменотесы, пряча за спину сбитые в кровь руки.
В результате последующих поисков Алексей Викторович выбрал для Мавзолея армянский черный лабрадор с золотыми прожилками, карельский красный кварцит, порфир, лабрадорит, габронорит. Но больше всего потребовалось красного гранита и розового мрамора, который от полировки становился нежно-розовым.
Однажды, когда уже шла облицовка Мавзолея, к Щусеву прибежал взволнованный прораб:
— Гранит просвечивает, плиты не стыкуются по узору.
Выдержав паузу, Алексей Викторович спокойно сказал:
— Именно это мне и нужно. Не бойтесь структуры камня, она оживляет, без нее сооружение было бы картонным, холодным, без глубины и воздуха.
Год и четыре месяца длилась стройка, на которую было отпущено четыре года. Три тысячи квадратных метров — такую площадь полированного гранита потребовал Мавзолей. Дни слились с ночами, ночи со днями. Это была, пожалуй, единственная стройка, на которой Щусев был суров и непреклонен, не позволяя малейшего отступления от проекта.
12 октября 1930 года сверкающий монолит Мавзолея открылся взорам, засветился на утренней площади. Чрезвычайно редко случалось, чтобы постройка до конца нравилась самому архитектору. На этот раз Щусев был доволен. Мавзолей стал естественной принадлежностью Красной площади, необходимым ее звеном и центром, который сразу начал диктовать площади, какой ей надлежит быть. Мавзолей «потребовал» разобрать Иверские ворота у Исторического музея, замостить площадь гранитной брусчаткой, передвинуть памятник Минину и Пожарскому ближе к храму Василия Блаженного. Памятник много выиграл от этого перемещения. Раныше он должен был «держать» площадь и оттого выглядел сиротливо, подавленный мощью башен Кремля. От этого страдала п площадь, которая в архитектурном смысле была до Мавзолея не площадью, а широкой проезжей дорогой.
Мавзолею оказалось по силам организовать и «держать» площадь. Чем же берет, чем привлекает Мавзолей как архитектурное сооружение? Скромностью! Скромностью и простотой. Мавзолей прост, как все великое, как велик человек, для увековечения памяти которого он возведен.
Как памятник архитектуры Мавзолей показал, что сохранять традиции можно, лишь развивая их. Именно благодаря Мавзолею на Красную площадь вошла современность, вошло будущее. Интернациональное начало влилось здесь в национальное, сплелось с ним воедино.
Площадь открылась, ансамбль ее сделался цельным. Архитектору блестяще удалось вписать в площадь, казалось бы, инородное по архитектуре сооружение и органично подчинить Мавзолею все, что здесь есть.
Когда рабочие разошлись по домам, Алексей Викторович медленно спустился по ступеням Мавзолея и пошел вдоль кремлевской стены к реке. Начиналось новое утро его жизни, череда дней и лет, где каждому его шагу будет сопутствовать народная признательность. Он шел по своей Москве, для которой ему так много предстояло сделать.
У него еще будут высокие взлеты. Но вряд ли он мог думать тогда, что Мавзолей Ленина — пик его творчества, вершина жизни.
Дебют архитектора А. В. Щусева — дом на Пушкинской улице в Кишиневе. 1898 г.
Загородная вилла М. В. Карчевского в Долине Чар, построенная студентом А. В. Щусевым в 1896 г.
Мария Викентьевна, жена А. В. Щусева
Алексей Щусев — студент Академии художеств. 1894 г.
Родительский дом Щусевых на Леоновской улице в Кишиневе
Колизей — «самая величественная руина Рима». Итальянский карандаш, 1898 г.
Портретные зарисовки в Тунисе. Уличные типы. Бедуин. 1899 г.
Мавзолей Биби-Ханым в Самарканде. Акварель, 1897 г.
Древнейший памятник русской архитектуры XII в. — храм Святого Василия в Овруче. Вид до реставрации
Памятник, поднятый из праха
Алтарная преграда Киево-Печерской лавры. Проект А. В. Щусева, 1900 г.
Преображенный особняк графа Ю. А. Олсуфьева
Проект Марфо-Мариинской обители. 1908 г.
Свято-Троицкий собор Почаевской лавры. Панно Н. К. Рериха
Центральный портал собора. Панно Н. К. Рериха
Художник Н. К. Рерих
Куликово поле.Воплощенная в камне мощь и слава русского оружия
Первоначальный, «сказочно-сусальный», эскиз храма-памятника
Гостиница для русских паломников в итальянском городе Бари. 1912 г.
Дом русских художников в Венеции. 1913 г.
Храм-музей, построенный А. В. Щусевым в Натальевке Харьковской губернии. Скульптурные композиции созданы С. Т. Коненковым. 1910 г.
Дверь звонницы Марфо-Мариинской обители
М. В. Нестеров и А. В. Щусев под сводами «Марфы». 1910 г.
Зодчий Алексей Викторович Щусев
Всем своим видом Казанский вокзал говорит: «Не забывайте, кто вы и откуда родом». Эскиз, 1913 г.
Проект Нижегородского банка — «предтечи» Казанского вокзала
Стройка в лесах. 1914 г.
Архитектор Ф. О. Шехтель, соратник и соперник А. В. Щусева
Виадук — обрамление вокзальной площади . Проектные эскизы А. В. Щусева
А. В. Щусев в окружении членов правления Казанской железной дороги. 1914 г.
Проект нового здания Третьяковской галереи, разработанный и осуществленный А. В. Щусевым
А. В. Щусев, директорТретьяковской галереи, в своем кабинете с сотрудниками
Часовая башня Казанского вокзала. Рисунок А. В. Щусева
Эскиз главной башни Казанского вокзала
Портрет сына Миши
Прогулочный дворик теремного павильона (проект не осуществлен)
Макет неосуществленного павильона-терема
Эскиз росписи плафона З. Е. Серебряковой
Эскиз-набросок композиции А. Н. Бенуа
А. В. Щусев — главный архитектор строительства Первой Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки
Архитектор И. В. Жолтовский, автор генерального проекта выставки
Здание Наркомата земледелия — щусевское назидание конструктивистам. 1928 г.
Так начинали строить Мавзолей. Январский мороз сковал землю
Вскрышные работы шли и ночью. Наконец котлован готов
Завернули рельсы, вынули столбы, в трамвае оборудовали теплушку
По проекту потребовалось углубить траншейный ход
Каркас Мавзолея — итог работ первого дня
Работы второго дня
Правительственная комиссия по организации похорон Владимира Ильича Ленина
Поиски образа нового Мавзолея
Лестничный марш
Стройка в разгаре
Развертка бокового фасада
Под надзором пожарников
Венчающий портик отделывали особенно старательно
Перед открытием
Скромное украшение Мавзолея — покрытие антаблемента полосками красной меди
Усыпальница вождя
Здесь, в домашнем кабинете, родился образ гранитного Мавзолея
Вскрываются древние пласты Красной площади
Таким Мавзолей видел Ф. О. Шехтель
Один из многочисленных вариантов А. В. Щусева — Мавзолей с выносной трибуной
Разметка и начало кирпичной кладки
Дробильщик камня на строительстве Мавзолея
Фанерная модель Мавзолея в четверть натуральной величины
Головинский карьер. Здесь добывали гранит для Мавзолея
Единым порывом
Главный монолит
Открылась высокая идея, воплощенная в граните
Гранитчик за работой