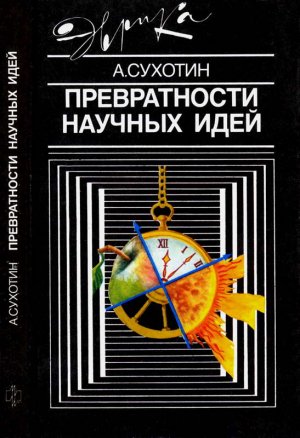
От автора
С давних дней наука помогает обживать внешнее пространство, постигать наш внутренний мир, свои возможности и пределы. Она и появилась, чтобы содействовать освоению среды, ее преобразованию в очеловеченные ценности, приспособленные к интересам и нуждам людей.
Однако между столь высоким назначением и его олицетворением в осязаемых итогах — напряженная цепь преодолений, борьбы идей и характеров.
Не сразу, не вдруг становится очевидным практический смысл научного открытия. Как говорится, наука не любит выставлять напоказ свою красоту и величие. Многое из ее обещаний выглядит поначалу далеким от запросов момента, а то и вовсе беспомощным. Даже самому первооткрывателю отнюдь не всегда ясно, на что годится его результат, где найдет он широкожеланный прием. Уходят годы, быть может, десятилетия и более, прежде чем завоеванные истины вернутся к нам изобретениями необходимых орудий, механизмов, вещей.
Такова повседневная, еще не переписанная набело жизнь науки, продвигающейся сквозь заслоны и драматизмы.
Книга и предлагает невыдуманные истории, казалось бы, бесплодных открытий, курьезов, которые, однако, в другое время, в другом измерении оборачиваются ценными воплощениями в человеческих решениях и делах. Перед нами пройдут не принятые родной эпохой фантазеры, приносящие несбыточные проекты, чудаки, наводняющие мир нелепыми гипотезами, вообще люди, рискующие идти вразрез общепринятому и… побеждающие. Ведь все в последнем звене полезные вещи у истоков не более чем поток воображения смелых, но увы, не признанных умов.
Наше повествование пройдет и по территориям действительно бесполезного знания, каковым оно становится под властью известных обстоятельств, препятствующих воплощению задуманного мыслью, а также из-за недостатка нравственной чистоты у тех, кто, заступая в науку, лелеет корыстные цели.
Надеемся, что рассказанное поможет молодым смелее войти в научную жизнь, понять устремления, заботы и радости — все, чем наполнена ее текущая, будничная работа, понять и вынести из этого идущие к делу применения.
Наука на весах практического отсчета
Чем дальше в дальнее уходит цивилизация, тем ощутимее вклад науки в размер ее шагов, выше зависимость жизни от успеха ученых, глубины их помыслов, величины исполнения. В свое время М. Ломоносов написал: «Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие». С тех ломоносовских дней наука еще старательнее входит в нужды общества, теснее проникаясь его интересами.
Ее лучшие умы всегда внимали этому предназначению, не ведая иных побуждений своим силам. Выдающийся немецкий ученый XVII — начала XVIII столетия Г. Лейбниц был тверд: «Цель науки — благоденствие человечества, преумножение всего, что полезно людям». Его слова не разомкнулись с делом. Он многое успел у себя в Германии, а затем проникся участием к заботам народа российского (не потому ли, что по происхождению славянин, уроженец одной из пограничных с немцами земель?). Г. Лейбниц встречался с Петром Первым, помогая ему распространять и укреплять науки. В награду получил звание советника юстиции русской службы — седьмой по табели о рангах чин из четырнадцати, дававший дворянское звание на уровне подполковника.
Заинтересованность в жизненной отдаче своего труда по-особому занимала многих русских ученых, вообще отечественную интеллигенцию. Великие в познании природы — Д. Менделеев, К. Тимирязев, другие — были столь же великими в пристрастии к судьбам России.
Вступая в науку, Д. Менделеев определил это как шаг помощи в закреплении новых форм хозяйствования, в повышении пульса жизни, овладении знаниями. Выдающийся химик немало успел на этом пути, и не в одной лишь химии. Он берется за исследования в горном деле, в металлургии, по морскому ведомству, участвует даже в пробных полетах на шатких воздухоплавательных конструкциях. Д. Менделеева заботили экономическая обстановка в стране, положение торговли, денежное обращение. Он тщательно проникал в вопросы управления, обременяя себя многими социальными проблемами. С таким же пристрастием входил в темы переустройства народного К. Тимирязев.
Так наука, ее сыны, по крайней мере любимые сыны, во все времена близко участвовали в переменах жизни, в подъеме ее состояния, культуры, нравственности.
Наше время много решительнее, чем прежде, обращается к науке. На глазах вершатся дела, которые можно воплотить, лишь сверяясь с резолюцией ученых. Вопрос не только в том, что с их приговором необходимо считаться, с ними искать встреч. Обществу выгодно разворачивать научные исследования, часто даже более выгодно, чем, скажем, умножать производство, возводить новые предприятия, линии транспорта и связи. Все более оправдываются описания К. Марксом науки как «самой основательной формы богатства». Не случайно ныне в большинстве развитых стран (США, Японии, СССР, ФРГ) доля затрат на научные, опытно-конструкторские цели составляет до 5–6 процентов национального дохода. А почему?
Прежде других по той причине, что научно-техническая мысль умеет предъявить наиболее эффективные промышленные установки и технологические режимы, посоветовать удобные схемы упорядочения труда. При том важна затратная, точнее, антизатратная страница в государственном плане и бюджете. Это факт, что однажды полученный наукой результат можно использовать вновь и вновь, решительно не расплачиваясь каждый раз за подобное использование. После того, как открытие сделано, оно становится всеобщим достоянием и практически не знает цены в том смысле, что не является предметом купли-продажи.
Что касается трат на само получение открытия, то и здесь у науки своя привилегия: оплата научного труда обходится, как правило, ниже его стоимости. Сейчас посмотрим почему.
Будучи поглощен решением задачи, исследователь — если, конечно, перед нами неподдельно исследователь — не «отпустит» ее. Он станет думать про то не только в часы службы (за что, собственно, ему и выходит заработанная плата), но и дорогой на службу, во время обеда, на отдыхе и даже… во сне.
Рассчитывая экономичность науки, учтем также, что воспроизводство ее «продукта» требует — в отличие от обычного — много меньше затрат (времени, сил, материальных расходов), чем его первоначальное производство. Научное открытие дается дорогой ценой и лишь избранным, но освоить, понять его (воспроизвести) доступно практически широкому кругу людей, к тому же в гораздо более спрессованные дни. Так и оборачивается, что гении в неимоверных трудах добывают то, что мы проходим в школе…
Такова подоплека считать науку одной из рентабельных в народном хозяйстве структур (если не самой рентабельной) и рассчитывать в поисках наиболее эффективных путей промышленного и социального развития на нее.
Возьмем дефицит сырья. XX век преподает такие скорости извлечения полезных ископаемых, что сеет полное смятение умов. В течение 80 последних лет взято у земных глубин намного больше, чем за всю человеческую историю «от неолита до теодолита». И то сказать, нас уже пять миллиардов. Но каждому отдай на сутки 300–400 литров воды да два килограмма пищи, а еще около килограмма многих разных материалов — металла, бумаги и прочее.
Ныне ежегодно у Земли изымают около 35 миллиардов тонн горных пород. Верно, и возвращают немало: столько же миллиардов литров промышленных стоков каждый год пополняют наши и без того мутные реки. И все от того, что используется лишь три-пять (по другим данным — всего только два) процентов вещества, доставленного наверх, остальное — в отвал. Сейчас на каждого землянина ложится около 20 тонн отходов ежегодно!
Естественные запасы планеты на исходе. Уже прибрано к рукам 85 процентов мировых запасов меди, 87 процентов железа. Не лучше рисунок и по другим ископаемым. Если пойдет и далее с таким же разворотом, то изведанные земные источники свинца, олова, цинка, всех благородных металлов будут в ближайшие годы «съедены». Лишь немногим удачливее судьба алюминия, марганца, никеля, ряда других. С ними обещают «справиться» на старте следующего столетия. Что же предпринять?
Рецепт, и, пожалуй, единственный, — искать обходные пути, подставляя заменители металлов, изобретая новые технологии, режимы производства, то есть уповая на мощь науки. Не случайно так настойчиво пробивается убежденность, что современная экономика должна опираться скорее не на естественные ресурсы, а на головы ученых. А то ведь впору на Луну идти за железом. Но и тут без науки ни шагу.
От науки, ее творцов, естественно ждать изобретений и открытий, несущих уверенную практическую прибавку. Если теория не продвигает нас по пути воздействия на нашу жизнь, совершенствуя и украшая ее, то в оценках такой теории наблюдается заминка. Это и понятно, нужны ли исследования, которые вдали от каждодневных забот, которые не умеют облегчить труд или обставить наш быт полезными вещами?
Эту позицию можно понять. А. Эйнштейн как-то заметил: «Теперь я знаю, почему столько людей на свете охотно колют дрова. По крайней мере сразу видишь результаты своей работы». Великий физик знал, что от его теорий к практической науке путь неблизкий.
Знание, имеющее прямой выход в хозяйственную жизнь, в промышленность, быт, обычно и квалифицируют как полезное.
Когда речь заходит о фундаментальной науке, кажется, все принимают ее значение (хотя и не все едины в толковании самого обозначения). Между тем именно на головы «фундаменталистов» сыплются прежде и теперь упреки в оторванности от практики, в неспособности подойти к темам эпохи. У этих наветов давняя традиция, не остывшая до нынешних распрей. Пометим ее хотя бы немногими примерами.
В конце прошлого столетия французскому архитектору Ж. Вьелю в статье под многообещающим названием «О бесполезности математики в деле обеспечения прочности сооружений» выпало желание написать, будто «при возведении зданий не нужны сложные вычисления с их степенями, корнями и алгебраическими выражениями». Может быть, Ж. Вьель действительно уберегся от корней и выражений, поскольку ему не довелось созидать крупные комплексы, может, была иная причина… Но вот другой случай. В 1922 году сотрудник английского института гражданской инженерии, автор работ по прикладной механике и сопротивлению материалов Т. Тредгольд вышел в печать с заявлением, что прочность зданий обратно пропорциональна учености его созидателя (имея в виду, конечно же, теоретическую ученость).
Возьмем поближе. В 1939 году советская Академия наук не пощадила пионера ядерной энергетики И. В. Курчатова, обвинив в расхождении его исследований с научной актуальностью. Не где-нибудь, а на академической сессии видные ученые объяснили ему, что он ушел в тему, «не имеющую отношения к практике».
И уже совсем сегодня французский историк науки и философ А. Койре объявил: «Можно возводить храмы, дворцы и даже кафедральные соборы, прорывать каналы и строить, развивать металлургию и керамическое производство, не обладая научными знаниями или обладая лишь зачатками последних». Наверно, и в самом деле можно, но будет ли стабильный прок?
Безусловно, предрассудку о бесполезности фундаментальных исследований помогают корениться трудности в определениях меры практической ценности продукта труда ученого. Не говоря уже о внешних науке ценителях, сами первооткрыватели порой не только не знают, с какой стороны к этой мере подступиться, но сомневаются даже вообще в возможности использований их результатов в практике.
Когда Г. Герцу удалось экспериментально обнаружить электромагнитные волны, нашлось немало энтузиастов, готовых осуществить в деле новую систему связи — без столбов, без проводов или кабелей. Удивительнее всего то, что против выступил… сам Г. Герц. Он обнародовал расчеты, которые должны были «доказать» невозможность беспроволочной передачи сигналов. Более того, ученый заявил, что найденные им электромагнитные волны вообще никогда не найдут какого-либо практического применения. Он даже просил Дрезденскую палату коммерции, от которой зависело финансирование научных работ, запретить исследования радиоволн как бесполезные.
Столь же неосторожным оказался прогноз К. Рентгена в оценках прикладного использования открытых им лучей, в частности, для распознавания болезней, при выявлении бракованных отливок в металлургии и т. п. Каких-либо практических выходов своим лучам он не обещал.
А вот факт, по времени вплотную близкий нашим дням. Трудно переоценить долю Э. Резерфорда в становлении атомной энергетики. Он не только объяснил явление радиоактивности, создав вместе с Ф. Содди ее теорию, но первым в эксперименте расщепил атом. Тем не менее выдающийся физик был убежден, что всякий, кто предрекает извлечь из превращений атома энергию, произносит вздор. Об этом сподручнее помечтать неудержимым фантастам, нежели ученому. Вообще, полагал он, пользу ядерной физики для практики люди если и смогут извлечь, то не ближе, чем через сотню лет.
Как известно, вскоре после кончины Э. Резерфорда, в 1939 году, один из его учеников, немецкий исследователь О. Ган, вместе с коллегой Ф. Штрассманом обнаружил деление атомных ядер урана под действием нейтронов. Это возвещало, что человечество на пороге использования мощи атома. К сожалению, поначалу оно прошло не в мирных целях.
Характерно и то, что случилось с самим О. Ганом. Еще до описанного события к нему в 1934 году обратилась талантливая соотечественница химик И. Ноддак (Вместе с мужем они открыли последний стабильный элемент в таблице Менделеева — рений.) И. Ноддак поделилась совершенно «нелепой» мыслью попытаться с помощью нейтронов разбить ядро атома на части и просила О. Гана обговорить эту идею с физиками. Ответ был удручающим: если она не хочет потерять репутацию хорошего ученого, то о подобном лучше и не заикаться.
Итак, факты свидетельствуют, насколько зыбки, подвижны грани между практически полезным и бесполезным при оценке научного результата, насколько быстро знание, только вчера казавшееся далеким от практических забот, сегодня становится нужным. В наше время отношения между теоретической наукой и ее приложениями еще сложнее. С одной стороны, увеличивается абстрактность знания, уходящего дальше и дальше в глубь вещества и Вселенной, растет применение формализмов и «математизмов». С другой же стороны, современное развитие, подгоняемое волной НТР, предъявляет науке свои счета на практический эффект. Так все сильнее растягивается линия переходов между теоретической частью научного знания и его прикладными разделами. Следовательно, путь от теории к практике становится сейчас длиннее, напряженнее. Он насыщен непредвиденными поворотами и событиями, которые отнюдь не содействуют укреплению доверия к абстрактно-теоретическим построениям.
Дело в том, что вообще вложения в науку в значительной мере — ставка на риск. Возьмем такой подсчет. В США 67 процентов оплачиваемых научных исследований в промышленности оказывались, по сведениям середины 60-х годов, безрезультатными. А из тех, что несут прибыль, лишь десятая часть по-настоящему выгодна. И только один процент дает приличный доход, сравнимый с тем, что принесли работы по гибридизации семян кукурузы (700 процентов прибыли). Конечно, определить заведомо, где 700, а где ни одного, практически невозможно.
Так обстоит дело с исследованиями, можно сказать, пригретыми производством, понятными ему. Но что говорить о науках фундаментальной окраски, которые мало что могут обещать «кукурузного». Это и предопределяет политику. Ощущается пресс так называемого «технического давления». Он особенно чувствителен там, где рассчитывают видеть науку орудием взвинчивания гигантских доходов. Ученых понуждают высокими окладами, обещанием лучших условий для научной работы и т. п. развивать прикладные направления, фактически превращая исследователей в технологов, а тех, кто не «превращается», записывать в ряды бесплодных.
Проясняют обстановку данные современного американского социолога Р. Ритти. Стремление получить результат фундаментального характера находится (по шкале так называемых «незримых наград») у инженера промышленной лаборатории США на пятнадцатой из шестнадцати позиций. Зато желание обогатить идеями практическую сферу занимает первое место. Вообще культивируется мнение, в согласии с которым коллективы, не завязавшие дружбы с производством, теряют кредит доверия и отчисляются в бесперспективные. Подобный уклон на получение скорых отдач сообщает сильнейшую тягу к практицизму и бросает тень на теоретические заделы.
Но здесь мы отлично узнаем себя, словно это списано с отечественных моделей. В угоду скоротечным заказам промышленности решительно поднимались и (не будем таить греха) поднимаются на щит хоздоговорные исследования, которые порой достигают чуть ли не половинной доли финансирования академической науки. К этому обязывают показатели, специально введенные, чтобы подстегнуть работы на прикладной путь. Например, такой критерий, как «сумма экономического эффекта» от внедрений научных разработок.
Нашей бедой, питающей утилитарные программы науки, является его превосходительство вал. Погоня за валом смещает приоритеты полезности к прикладным работам, которые, дескать, только и могут быть эффективно использованы в отраслях (что и они используются из рук вон — это уже другой пункт). Отсюда снижение престижа теоретических тем, практика тотального давления со стороны ведомств на фундаментальную науку с целью ее «облагораживания» прикладными оттенками.
Но и на этом успокоения нет. Набравши ход, ведомства заставляют командиров и рядовых ученых прикладного слоя самим же и внедрять собственные результаты. Это не только уводит промышленников от ответственности, но и обрекает дело на заведомый провал, поскольку истинно ученый по обыкновению не наделен предпринимательской сметкой и определенно упустит возможность для внедрения.
Сейчас зреют новые опасности. Набирает темп идея самоокупаемости науки. Что на это сказать? Конечно, идея выглядит прогрессивно. Однако стоит помнить: то, что оправдано для отраслевых, прикладных направлений, сомнительно без оговорок переносить на фундаментальные работы, потому что это грозит погибелью для «фундамента»; ведь по хозрасчетным эталонам такие науки определенно убыточные.
Итак, опыт прошлых и нынешних генераций отдает предпочтение тем дисциплинам, которые несут (или, по крайней нужде, обещают) скорую практическую выгоду, выставляя их как нужные и отодвигая остальное за черту полезности.
Естественно желание понять: разве все знание, которое сей же час не сообщает практических рецептов, бесполезно? И разве справедливо с ходу, не вникая, третировать теорию за то лишь, что она бессильна, будучи едва написанной, поработать на практику? В то же время ни у кого нет сомнений, что рядом с достойными теориями живут застойные, рядом с наукой — лженаука.
Ясно, существует линия, по одну руку которой располагается полезное, а по другую бесполезное знание. Однако пытаться определить, где именно проходит эта линия, пока не станем. Сейчас нас заботит иное: разобраться, в какой мере и почему абстрактное, теоретическое построение следует также считать общественно значимым.
Спору нет, наука должна обслуживать практические цели. Вся неразбериха проистекает от незнания, каким образом этому научиться. «Идти ли ученому по указке практических житейских мудрецов и близоруких моралистов? — задает вопрос К. Тимирязев. — Или идти, не возмущаясь их указаниями и возгласами, по единственно возможному пути, определяемому внутренней логикой фактов?»
С позиций выдающегося естествоиспытателя, идеалом истинной науки не должно стать преследование сиюминутной пользы, которой охотнее всего гордятся псевдоученые, ибо «никакая мысль не может принести столько вреда успехам умственным и материальным, как убеждение, будто наука в своем поступательном движении должна руководствоваться утилитарными целями».
Стоит различать практицизм и полезность. Исследователь не вправе сторониться общественных запросов. Стало быть, нет и выбора, служить или не служить им. Однако лучшим применением сил становится не просто отклик на текущие хозяйственные заботы, а изучение закономерностей естества.
К сожалению, наших ученых нередко ориентируют на поиск ближайших ответов, отвлекая от глубинных тем.
Наивысший урон науке от двух зол: территориальная ограниченность и ведомственность. Слишком многие регионы, хозяйственные органы и кабинеты хотят иметь свою науку, свои НИИ, хотя бы крошечные. Но, получая укороченные задания, такая наука обрастает мелкотемьем и хиреет.
Вот типичная жалоба. Президент Белорусской академии наук В. Платонов пишет, что в угоду раздуванию хоздоговорной тематики на поводке у хозяйственников оказались многие исследовательские институты республики. Они брошены клеить неисчислимые заплаты на теле местной промышленности. «Мы получаем, — сетует президент, — множество столь мелких заказов и заданий, что просто стыдно их называть».
Подобный «территориальный» подход, преследующий прежде всего интересы региона, не способствует творческому поиску, ибо вольно или невольно ориентирует на ценности местного масштаба. Однако значение научной идеи, разработки тем выше, чем обширнее поле, на котором они найдут применение. Критерием эффективности теории является как раз ее способность к расширению, к экспансии и экстраполяции на смежные, тем более дальние территории. А то, что годится лишь для региона, области, получая только местное использование, хотя и приносит, конечно, пользу, но она сиюминутна и преходяща.
Напомним методологически выверенное наблюдение: «Кто берется за частные вопросы без предварительного решения общих, тот неминуемо будет на каждом шагу натыкаться на эти общие вопросы». Ленинские слова итожат многозначный опыт не только научной, но и политической, хозяйственной и других работ. Можно прочитать целую лекцию про то, когда ученый, решая конкретную, частную задачу, только и сумел справиться, осмыслив ее как общую.
Именно так, в безуспешных попытках отыскать касательную к данной точке, родилось под рукой Г. Лейбница могучее дифференциальное исчисление, для которого начальная задача (она пришла из строительной механики) — всего лишь частный факт, не берущийся, однако, никакими частными ухищрениями. Интегрирование и вовсе обязано прозе жизни. И. Кеплеру захотелось проверить, насколько верно купцы измеряют объемы винных бочек. Он отыскал решение, однако вышел при этом на глобальный метод определения объемов, очерченных кривыми поверхностями. А бочки — только одно из его бесконечных приложений. Впрочем, как бы в благодарность им за подсказку, давшую жизнь методу, И. Кеплер озаглавил свою книгу вполне несерьезным, по нашим строгим временам, названием — «Стереометрия винных бочек». Или громкий Архимедов закон, управляющий поведением тел, погруженных в жидкость, — плод узенькой задачки, про которую вспоминают лишь в исторических легендах, или… и т. д.
Философы тут как тут. Это клад для методолога, это же заманчиво переводить частную задачу в ранжир общей, которую, оказывается, легче одолеть. Но, одолев, вернуться к началу и уж теперь играючи взять и ту, исходную. Прием так и назван — «метод обобщающей переформулировки задачи». А назвал его так и обследовал молодой философ из Томска Виктор Чухно.
Как видим, не только не уходить с головой в частные, мелкие проблемы, но, более того, если подобная проблема явилась, то стоит попытаться перекроить ее в общую, осознать как класс задач и в этом виде решать. Теперь спросим себя: нужно ли звать ученого сосредоточиваться на решении региональных проблем, затрагивающих интересы лишь области, района, города, не способных выходить на союзный, мировой масштаб?
Сходными болезнями поражен и ведомственный подход к научным исследованиям. Это же факт, что отрасли, показывая жгучий интерес к «своей» науке, навязывают ей эгоистические задания, сковывая инициативу и размах. Статистика безжалостна. На одном из пленумов Московского городского комитета КПСС в 1987 году, например, было показано следующее. В значительной части научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро Москвы (а их насчитывалось тогда без малого 10 871) устойчиво, в продолжение 20 лет сокращалось (и, видимо, сокращается) доля новых разработок.
Не упустим момента сообщить поистине «примерный» факт, серьезно обозначающий тупиковость ведомственной научно-изыскательской мысли. Недавно пресса сообщила, что отраслевые институты Министерства коммунального хозяйства страны вот уже три пятилетки бьются над разработкой микромашины для уборки тротуаров. Отчего же столь долго и столь безутешно? Не потому ли, что ищут мелко, по-ведомственному, не умея выйти к обобщающей идее? Не умея, да и не смея. А вдруг изобретут нечто более значимое, что сгодится за чертой коммунхозной потребности? Не только при уборке тротуаров, но, скажем, и на других площадях. И необязательно для удаления мусора, а и пошире…
Подобно территориальной науке, ведомственная страдает той же узостью исследовательских решений. Кроме того, она периодически, по мере демонстрации усердия родному министерству, склонна обрастать лженаукой. Но об этом особо и в ближайшее время.
По поводу отраслевой политики в науке хотелось бы обратиться к западным примерам. Возьмем США. Хотя здесь лишь 7–8 процентов поисковых тем имеют практический выход, тем не менее их считают настолько выгодными, что каждая крупная фирма держит проблемную лабораторию. В ней ученые работают отнюдь не по заказу промышленности, поскольку знают больше, чем сами промышленники. Это, как их называют, «вольные птицы», свободные в выборе исследовательского интереса, располагающие возможностью уйти в дальний поиск. Фирма не требует обязательного результата. Она просит лишь, если появится стоящее, передать ей.
Статистика неумолима и здесь. Оказывается, научный поиск наиболее удачлив в случаях, когда стимулируется внутринаучными механизмами, а не потребностями фирмы. Науковеды Иллинойского университета (США) провели обследование ряда научных новшеств, имеющих явную экономическую ценность. И что же? Они увидели, что 63,5 процента новинок принесли ученые, которыми руководило просто любопытство. Так называемый ориентированный поиск (когда намечены подсказывающие результат вехи) дал 28,8 процента, и всего-то 7,7 процента пришлось на долю нацеленных, выполняющих специальную задачу, разработок. Казалось бы, последние должны были править бал и выйти вперед?
Получилось же наоборот. Получилось, что музыку заказывает свободная мотивация: она есть лучший путь к успеху даже в тех звеньях науки, которые близки производственно-практическим делам, тем более когда речь идет о сугубо теоретических работах.
Можно подытожить. Любое научное исследование питают мотивы, в последнем звене уходящие в глубь практических начал. Но обречен ли исследователь исключительно держать сей мотив перед глазами, неустанно охотиться за ним, даже и не прикидывая дальше того?
Утилитарная заостренность способна стать помехой в делах. Ученый должен руководствоваться все-таки поиском знания, а не извлечением практических выгод. Что же касается последних, они появятся, но появятся как следствие, как приложение, ибо высокая истина обязательно несет и высокую информационную, а следовательно, в обозримом будущем и практическую потенцию.
С учетом заявленного понятие полезности явно раздваивается. Наряду с непосредственной отдачей в производство исследовательский результат имеет внутринаучную ценность, содействуя приращению информации и — тем самым — развитию науки. Стало быть, добываемое знание неверно судить (точнее, не всякое знание стоит судить) по меркам прямого сиюминутного успеха.
Наука хотя и вызвана к жизни практическими надобностями, но обременена не только этой внешней заботой. Она обслуживает также и себя, увеличивая свою информационную мощь. В этом ее внутренняя, теоретико-познавательная и предсказательная обязанность, потому что знания нужны также для того, чтобы ковать новые знания. Уклоняясь от этого, наука вскоре бы выродилась, слившись с обычными производственно-бытовыми навыками. Сугубо теоретический, любопытствующий интерес ученого к природе, интерес, так сказать, «не запятнанный» определениями непосредственной выгоды и прямых хозяйственных отдач, не только оправдан, но и необходим. Соответственно складывается и структура науки, ее межведомственные нити и назначения как особого, до известной меры автономного организма.
По классификации, предложенной современным физиком П. Оже, в ней выделяются четыре слоя.
1. Фундаментальная область «чистой» науки. Ее удел — свободное теоретическое плавание, когда ученый задает вопросы сам себе и сам же на них отвечает.
2. Целенаправленное теоретическое исследование. Оно решает проблемы, набегающие извне. Вопросы ставит природа, а ученый дает на них ответ.
3. Прикладные ветви, где условия диктует производство, определяя задачи, подлежащие решению.
Наконец, 4. Конструкторские разработки. Получение технологических схем на основе прикладных находок.
Прямой путь к практике знают только прикладные разделы да конструкторские проекты. Что же касается первых двух, то их выход на производственный простор достаточно опосредован. Из некоторых данных видно, что явно просматриваемым практическим прогнозом заканчивается из числа фундаментальных работ примерно лишь десятая часть, а из прикладных и проектно-конструкторских — до 80 процентов.
Это не значит, что науки первой и второй линий (фундаментальные и целенаправленные) обделены практической полезностью. Просто их служебное усердие разворачивается на других полях, где добывается информационное обеспечение всем подразделениям науки. Что же касается прикладных направлений, то они способны вести свою партию лишь в той мере, в какой развит теоретический слой совокупного знания и в какой он подкармливает все остальное.
Иногда развитие науки сравнивают с боями по овладению зданием. Сначала прорыв на новый этаж, а затем схватки уже на этаже. Прорывы — и есть дело фундаментальных дисциплин, утверждающих новую парадигму, на основе которой идет потом прикладная работа.
Чтобы успешно идти вперед, теоретические исследования должны протекать в обстановке, свободной от утилитарных давлений производства. Известный английский физик XX столетия, лауреат Нобелевской премии Л. Брэгг выразил даже такую мысль. Если результат можно непосредственно использовать в технике, то его фундаментальность сомнительна. И еще условие: чтобы поток плодотворных для практики идей не пересыхал, следует создать солидный теоретический задел. По расчетам специалистов, для получения одной-двух годных к широкому внедрению разработок необходимо иметь до пятисот новых идей.
Часто говорят, что под влиянием социального заказа наука проделывает решающие скачки. Конечно, импульсы, бегущие от производства, промышленности и т. п., благотворны. Но само по себе наличие общественной потребности и даже четкое осознание нужды в том или ином научном продукте вовсе не составляют гарантии, что ответное слово ученых будет сей же час объявлено. Необходимо еще, чтобы в самой науке выросли соответствующие и именно теоретические посылки, позволяющие эту проблему взять. Таким образом, удачу в решении конкретной темы предваряет общее состояние знаний, глубина проработки фундаментального остова науки. Понятно, что ориентир прибрежной полосы, рассчитанный на ловлю истин, необходимых для типично производственных удовлетворений, ограничен. Такие истины часто не способны ответить даже на собственные вопросы производства.
Насколько трудно удовлетворять заявки жизни, не имея сложившейся системы знаний, питающей прикладные исследования, узнаём из опыта поколений.
В древней культуре Китая немало образцов выдающихся научных по своему времени находок. Однако то были лишь эпизодические вспышки блестящих догадок, так и не сложившихся в единый организм науки (в том понимании, как она обозначилась в XV–XVI столетиях в Европе). Причина именно в отсутствии целостной структуры знания, организованного, распределенного по системным единицам и сохраняющего эволюционную преемственность.
Впрочем, этого недоставало не только Китаю, но и фактически всем царствам и государствам древних цивилизаций. «Есть мнение», что наука не сложилась даже в Греции, не говоря уже о Египте, Риме, других оазисах античности. Не было науки, значит, не было систематических результатов, снабжающих практику. Более того, и в периоды развитого научного знания, каким оно стало, например, в новое время, часто возникали позиции, когда ученые оказывались бессильными выполнить практический наказ.
…В начале XIX века, в самый разгул континентальной блокады, объявленной Франции, Наполеон ставит отечественным химикам задачу создать искусственные красители (поскольку подвоз природных красок из английских колоний прекратился). Была названа высокая премия. Несмотря на ясность проблемы и солидный уровень химического знания, решить ее не смогли. Лишь в 60-е годы, когда обозначилась структурная теория вещества, удалось разгадать строение молекул красителей и синтезировать их искусственным путем. Как видим, социальный запрос не получил ответа. А вот другая заявка тех же блокадных дней была удовлетворена сполна.
Наполеон назначил тогда еще одну премию в миллион франков за изобретение продукта, могущего заменить ввозимый в страну сахар.
Сахар пришел с Востока. Первыми европейцами, вкусившими его сладость, были воины Александра Македонского, но только в XVIII столетии Европа узнала, что сахар («мед без пчел», «сладкая соль» и другие «вкусные» названия, под которыми он в ту пору жил) содержится в тростнике, из коего и добывался. Конечно, наиболее естественный способ получения этого деликатеса — использовать тот же тростник. Но Франция его не имела, и вообще он произрастал в Европе лишь на юге Испании, к тому же в прибрежных землях да на малых площадях. Надо было искать иные решения.
К счастью, наука кое-чем располагала. К тому времени уже провели микроскопический анализ срезов тростника и выявили строение кристаллов его сока. Этим удалось заложить теоретические разработки сахароносных веществ: состав, химические свойства, реакции. Следующий шаг — выявление подобных тростнику по физико-химическим характеристикам растений, их испытание на сахар и отбор подходящих в условиях Франции кандидатов на «сырьевую» вакансию. Взоры ученых мужей скрестились на свекле. И тоже не случайно. Еще чуть ранее, в том же XVIII веке, она попала в поле внимания немецкого химика Маркграфа. Ему посчастливилось выделить из белой свеклы сахаристое вещество, сходное соком с тростником. Он же провел и первые его исследования.
Наконец, наступили решающие события — поиск технологий. Остановились на том, чтобы выдавленный свекольный сок фильтровать, пропуская через уголь и просветляя известью. Этим научно-теоретическая часть работы завершилась, и результат был предъявлен промышленникам, которые тут же наладили добычу сахара в молниеносно построенных заводах.
Кстати, хотя в 1813 году блокада была снята, свекольное производство, поставленное к тому времени на широкий шаг, укрощать не стали. Наоборот. Оно набирало темп. Заметим, что вторым свеклосахарным заводом в Европе стал наш отечественный, сооруженный в 1812 году в селе Алябьеве Тульской области. Однако россияне поворачивались тогда в решении продовольственного дела проворнее иных сегодняшних агропромов. И еще заметим, что ныне страна наша производит ежегодно 12 миллионов тонн сахара, занимая первое место в мире и первые позиции в его потреблении (и истреблении на самогон) — 43 килограмма на душу в год!
Два противостоящих результата, а говорят об одном: без теоретической подоплеки науке не с руки отвечать брошенным практикой жизни выводам. Точнее сказать, то вообще не наука, если в ее составе нет мощного теоретического слоя.
Так, на одном полюсе научное знание тесно увязано с производственными проблемами, деловито обслуживая потребности жизни, а на другом уходят в выси абстрактных нагромождений, внешне как будто шатко увязанных со злобой дня. Потому-то желательно (и обязательно) говорить о пользе науки в двух измерениях: с позиций социально-практических отдач, а также с высоты ее внутренних задач. Однако приходится помнить, что если о практической лояльности прикладных, технических и т. п. исследований можно рассуждать уверенно, то общественно значимая прибавка от сугубо теоретических занятий просматривается вяло. В связи с этим неизбежно еще и еще не раз подтвердить: хотя конечным пунктом науки надо ставить материальные цели, осуществить это прямым включением, обходя «теоретические углы», по существу, не удается.
Итак наука неоднородна ни по составу, ни по тем ролям, которые предначертаны ее подразделениям. Перед нами достаточно богатый разброс структур и назначений, где высокотеоретичные, склонные к абстрактной жизни отделы соседствуют с прочно завязанными на эмпирию образованиями.
Все так. Но при подобном обилии разнообразий наука — единый организм, части которого, будучи функционально пригнаны, составляют особый мир, отграниченный от остальной реальности и примерно несущий свои поручения. Сугубым делом науки является добывание информации. Какие бы ее слои ни взять, каждый озабочен умножением знаний. Даже те ячейки, которые упираются в материальное производство и работают непосредственно на него, даже они заняты не самим производством, а получением знаний о нем. Другое дело, что эти знания тут же преобразуются в материальную силу, тогда как, например, абстрактные дисциплины добиваются такого успеха (если, конечно, добиваются) много времени спустя и целой серией переходов да превращений.
Науку и отличает от обычного производства идеальность ее продукта, погоня за знанием как таковым. В глубинах науки явно просматривается нацеленность на распознавание обступающих нас тайн, страсть к «разоблачению» природы и разгадке самих себя. Будь человечество устремленнее в преследовании узкожитейских надобностей, не проявляй такого «безыдейного», безадресного любознания, интереса знать просто так, ради знания, едва ли нам вообще довелось бы обзавестись наукой, по крайней мере в тех значениях, которыми она располагает ныне.
Характерно, что некоторые исследователи, говоря о фундаментальности, усматривают ее не только в теоретических (собственно фундаментальных) дисциплинах, но и в прикладных. Ю. Ходыко, например, ставит под сомнение практику распределения наук по дихотомической шкале на фундаментальные и прикладные. Он склонен рушить границу и говорит о комплексности исследований в том и другом случаях, оснастив, таким образом, прикладную науку собственной фундаментальной частью, и наоборот: придав фундаментальному слою прикладной оттенок (умалчивая, правда, о характере этого прикладного придатка к фундаментальной науке). Близкие взгляды делят академик Г. Флеров, а также Ю. Замятин, В. Веселовский, другие исследователи.
Здесь одно отклонение. Присваивая науке в качестве характеристической, точнее, даже определяющей ее природу особенности увеличение познаний, не притупляем ли ее социально-практическую обязанность? Подобные опасения реальны. Делая ударение на познавательные клавиши в работе ученого, мы рискуем вольно или непроизвольно укротить его прорыв к решению злободневных тем.
Высказаны сомнения, способна ли наука одинаково без ущерба для дела обихаживать оба эти фронта. Э. Резерфорд, например, склонялся к тому, что «нельзя служить Минерве (богине мудрости и покровительнице наук) и Маммону (богу богатства) одновременно». Что касается самого Э. Резерфорда, то он отдавал себя чистой науке. Как вспоминает один из любимых его учеников, П. Капица, великий физик не питал пристрастий к технике и техническим заказам, может быть, даже имел к ним предубеждение, поскольку считал, что исследования в этой области завязаны на денежном интересе.
Конечно, Э. Резерфорд отражает умонастроения известного круга ученых в этом непростом вопросе. Приблизительно в сходных тонах распорядился акцентами и В. Гейзенберг, касаясь затронутой темы. «Существо науки, по моему мнению, — написал он, — составляет область чистой науки, которая не связана с практическими приложениями. В ней, если можно так выразиться, чистое мышление пытается познать скрытую гармонию мира».
Наверно, в наиболее заостренной фазе предъявленная установка бытует в сознании математиков, поле деятельности которых характеризуется особо рафинированными качествами, не допускающими прорастания категорий, заземленных на житейско-утилитарную почву. Не случайно же видный английский ученый середины нашего столетия Т. Харди однажды выразил желание стоять за чистую математику, которая никогда не найдет практического применения.
Насколько подобные откровения влиятельны, особенно когда идут от авторитетов науки, свидетельствует Ч. Сноу, известный современный писатель, пришедший в литературу из научных кругов. В 30-е годы он работал в лабораториях знаменитого Кембриджа, как раз в пору, когда физика Англии развивалась под знаком Э. Резерфорда.
В годы войны он состоял на государственной службе в качестве представителя науки в военном министерстве.
Вспоминая университетские дни, Ч. Сноу выделил одно место: молодые сотрудники Кембриджа, признался он, «больше всего гордились тем, что научная деятельность ни при каких обстоятельствах не может иметь практического смысла». И далее замечает: «Чем громче это удавалось провозгласить, тем величественнее мы держались». Более того, сложилось даже пренебрежительное отношение к инженерам и техникам, поскольку полагали, будто «практика — удел второсортных умов» и все, «связанное с практическим использованием науки, совершенно неинтересно».
Это уже голос не одиночки, но поколения, молодой генерации научных деятелей. И все же нет оснований отторгать от науки такой плодородный слой исследований, тяготеющих к практическим разработкам. Насколько бы они ни были близки производственным интересам, все же их назначение — добывать научную информацию, и в этом прикладные науки ничем не выделяются в сравнении с фундаментальными. Прикладные дисциплины характеризует также и особая манера обращения с окружающим миром: подвергать его испытаниям, мысленным или вещественно-телесным, на предмет извлечения тайн.
Науку отличает от ненауки не то, чем занят ученый, в каком бы ранге он ни трудился, а как он этим занят. Человек производства ставит целью изменить материал природы, человек науки — изучить его. Скажем, производитель худо ли, хорошо ли преобразует природу (хотя бы и так, что обращает ее в окружающую среду). Исследователь в крайнем варианте помогает этому, но лишь рекомендацией, советом, инструкцией.
Возьмем тот же научный эксперимент. По видимости, он как будто вносит перемены в вещество природы, испытывает, преобразует его. Однако то лишь прием к распознаванию вещей. Ведь после окончания эксперимента, имеющего к тому же точечную пространственность, все возвращается на прежние позиции: пока-то опытные результаты найдут обобщение, воплотятся в теорию, а теория — в практику! Да и это дело рук уже производства, а не собственно науки, которая, таким образом, свои функции здесь и прекращает. Следовательно, хотя по форме взаимодействий с природой эксперимент несет все признаки практических начал, но это не практика, поскольку здесь не поднимаются до высоты материальных, структурных преобразований самого облика природного естества, до переустройства мира.
Теперь, признав специфической чертой науки поиск информации, любой новой информации, можно возразить тем, кто сомневается, — относить ли занятые практическим обслуживанием дисциплины к числу научных? Мы смогли бы сказать, что наука способна одинаково успешно решать и теоретические (фундаментальные), и производственно-хозяйственные задачи, что она готова молиться одновременно двум идолам — и Минерве и Маммону. Это удается как раз благодаря тому, что ее развитие и углубление и секреты бытия проистекают из единого корня — тяга к знанию, «любознание». Ни одна ее ветвь (фундаментальная ли, прикладная или промежуточная) не в силах уйти далеко в отрыв, в одиночное плавание без поддержки остальных.
В своем неугасающем развертывании наука опирается на весь массив познаний. Работая только в подобном режиме, она может выполнять свои теоретические и идущие от практики задания. Положение таково, что однажды добытое становится общей добычей, распоряжаясь которой очередные поколения ученых, инженеров, политиков решают самые разные, тематически расходящиеся вопросы. Совокупность накопленной информации и составляет тот фон, который всегда к услугам людей, всегда расположен включиться в активную научно-поисковую, общественно-практическую и т. п. жизнь. Надо только обратиться по точным адресам.
Налажена Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), в которую входит и наша страна. Работа этой организации замкнута на самое себя. Забот у нее достаточно. Она изучает собственные категории и структуры, способы их пополнения и функционирования и т. п. Например, определяет, что есть научное открытие («установление свойств и законов материальной Вселенной, до сих пор не познанных»), выясняет вклад отдельных государств в общую казну мировых запасов знания, поощряя радивых, проводит информационную службу и прочее.
Кстати, обозначая взнос различных стран, отметим, что советские ученые забрали 7 золотых медалей ВОИС, и наиболее свежую принес кандидат технических наук Юрий Лебедев из Горно-Алтайского педагогического института за изобретение силового элемента, позволяющего создать сверхвысокое давление. Он и самый молодой. В день «получки» за ним числилось немногим больше тридцати, а за плечами уже 77 исследовательских работ и 46 изобретений. Его силовой элемент запатентован почти во всех европейских странах, а также в Японии, Китае, Корее. Так, не занимающий высоких позиций в списке мировых научных пунктов, вообще надежно упрятанный в горах, Горно-Алтайск положил свой капитал в запасники интеллектуальной общечеловеческой собственности.
Владения ВОИС масштабны. Из кладовых этого уникального хранилища интеллектуальных богатеев и черпаются идеи, необходимые для решения постоянно вырастающих перед обществом теоретических и практических задач.
Поскольку наперед трудно знать, что именно и в какой точке пути понадобится то или иное открытие, чем воспользуются люди будущего из массива когда-то завоеванных истин, «ко двору» может оказаться любое знание, любое, казалось бы, никому и не нужное исследование. Здесь логично просятся заключения, которые, собственно, и сделаны рядом ученых, историков науки, науковедов, — заключения о том, что, вообще говоря, бесполезных знаний нет. Каждый исследовательский результат так или по-иному, сегодня или повременя, будет запущен в познавательный или производственный, наконец, в хозяйственно-бытовой цикл.
Известный французский физик XX века П. Ланжевен так понимает ситуацию: «Ни одно чисто научное изыскание, каким бы абстрактным и незаинтересованным оно ни было, не остается без того, чтобы рано или поздно не найти своего применения».
Обретя знание, общество не транжирит тут же добытое, а наподобие рачительного хозяина кое-что закладывает про запас, который долго может храниться невостребованным капиталом в виде своего рода полезного ископаемого. Мы порой даже не подозреваем, какими богатствами владеем. Но вот надвигается час, когда объявляется потребность на определенную идею, и обнаруживается, что ее и не надо изобретать, расходуя силы, а следует просто извлечь из глубин социальной памяти, можно сказать, из небытия и бросить на острие событий.
Необходимо давать отчет, как опрометчиво заведомо объявлять некие, добытые наукой итоги бесплодными потому лишь, что кто-то посчитал их таковыми. Взгляд на познание в его историческом развертывании убеждает, насколько плодотворным становится порой исследование, объявленное бесперспективным. Академик М. Лаврентьев любил подчеркнуть: «Бесполезных открытий не бывает». Он считал, что «нельзя говорить ученому: прекрати свои поиски, потому что сегодня они не нужны».
В самом деле. Отвергая работу, которая выглядит сейчас ненужной и даже ошибочной, мы рискуем потерять возможно ценное приобретение.
Вместе с тем надобно показать следующее. Далеко не всякое ученое занятие, не каждая деятельность, производимая людьми науки, оправданы. Тезис о полезности любого исследовательского предприятия неверно принимать безоговорочно. Однако здесь мы лишь заявляем об этом, подробности оставим до особого разговора, который будет развернут в свое время.
Прогнозы и курьезы
Развернем намеченные пунктиром идеи прежней главы относительно полезности однажды добытого, но позабытого знания.
Обычному производству знакомы лишь ближние цели, учитывая которые производители прикидывают свои возможности и берут посильные задачи. В науке другие приоритеты. Ее вожди и исполнители неизменно в глубокой разведке обступающих нас тайн, чем и определяется строй научной занятости: направлена ли она на изучение человека или природного вещества. Это формирует профессии науки, которая работает как бы про запас, не устанавливая заранее (в отличие от остальных видов труда), где именно добытое ею знание найдет применение, каким путем одолеет оно дистанцию, разделяющую научную идею и ее материально-техническое продолжение.
В разных руках эта особенность трудиться в счет будущего ведет себя по-разному. Одни разделы словно бы вышли из жизни и теснятся в ее близи, другие, наоборот, отрезаны от насущных дел и оттого воспринимаются как игра ума, обещающая весьма зыбкую пользу. Такие «отрешенные» науки судьба уносит вдаль, за горизонт. Правда, замечает Д. Гранин, «если упреждение большое, открытие бьет мимо цели». Мы бы уточнили, не мимо цели вообще, а в сторону от сегодняшней утилитарной, узкопотребительской цели. Лишь много спустя приходит поправка, запоздалая, покаянная.
Наиболее выпукло такие упреждения с последующим превращением бесполезного знания в полезное предъявляет математика — одна из ультраабстрактных, уязвимых в поименованных грехах дисциплин. На ней хорошо отпечаталось то, как знание, лежавшее в стороне от магистральных потоков науки, тем более практики, неожиданно выходит в первые очереди теоретического, а затем и прикладного назначения. Причина, по которой этим особо отличалась математика, заложена в характере ее построений.
Обычные, то есть нематематические, понятия (понятия остальной науки и обыденной жизни) закрепляют природные свойства вещей. Математику же такие повседневности не интересуют, она поднимается повыше, водя дружбу только с количеством предметов, какими бы они свойствами ни обладали. И то сказать, вещи наделены физическими, химическими, биологическими качествами, и, когда естествоиспытатель сортирует явления, он распределяет их по вещественным признакам, объявляя: «Это деревья, это коровы, а это воробьи». Иной расклад у математика. Предметы объединяются им только по числовым значениям: «Это пять, это семь, это десять…», и никаких указаний на то, из чего конкретно состоят такие пятерки или семерки. Важно не то, каковы природные характеристики сосчитываемых предметов, а сколько их. В. Маяковский как-то пошутил, дескать, математику все едино, он может складывать окурки и паровозы… Безразличие к веществу выдвигает математику в ранг общенаучного знания, принося ей независимость в обращении с реальным миром.
Действительно, каждая конкретная дисциплина изучает законы, то есть отношения, которые обусловлены свойствами вещей, математика же, как видим, отвлечена от любых свойств. Спрашивается, чем же обусловлены отношения, которые записывает математика? Что или кто задает ей отношения?
Остается признать, что это делает сам математик. Потому его наука и не имеет законов, не ставит экспериментов, не проводит наблюдений, чем заняты все другие науки. Она работает умозрительно. Как сказал однажды известный советский геометр И. Яглом, «единственная лаборатория математика — его интеллект».
Конечно, это не означает, что тут властвует исключительный произвол, мол, что хочу, то и ворочу. Математики тоже «считывают» свои структуры с действительности, но у них с нею особые связи, описание которых требует специального разъяснения. Здесь ограничимся лишь тем замечанием, что математические объекты, будучи свободными от любых вещественных характеристик (кроме количественных), могут быть поставлены в самые произвольные отношения. Здесь нет ничего сверхмудрого. Математические теории сплошь да рядом и расцениваются как имеющие весьма приблизительную связь с жизнью, и оттого кажутся беспомощными в повседневной практической работе, совсем как в предлагаемом эпизоде.
Громкий литературный герой, ставший частью жизненных реальностей, Шерлок Холмс путешествует с коллегой на воздушном шаре. Их унесло далеко от родных мест, так далеко, что они и сами не знают, куда. Наконец приземлились, огляделись. На счастье, показался человек. «Где мы находимся?» — спрашивают путешественники. «Вы находитесь в воздушном шаре, который коснулся поверхности Земли», — ответил незнакомец. В этот момент порыв ветра приподнял шар, и он понесся дальше. «Черт побери, этих математиков!» — воскликнул Шерлок Холмс. «Откуда вам известно, что это был математик?» — удивился спутник. «Только математики могут произносить верные, но совершенно бесполезные истины…»
Но что Холмс. Послушаем самих математиков. Мы уже написали про Гарольда Харди. Он так откликнулся по обсуждаемой теме в книге «Исповедь математика»: «Если говорить о „бесполезности“ шахмат в грубом смысле, то то же самое можно сказать и о большинстве ветвей современной математики».
Иными словами, польза, которую порой несет любезная ему наука, сродни той, что дают шахматные увлечения: они шлифуют интеллект. А вот признание математика Л. Диксона из Чикагского университета: «Слава богу, теория чисел не запятнана никакими приложениями». Близкие выводы делает еще один американский ученый — Д. Стоун.
И все же математика не может замыкаться и не замыкается на себя. Она постоянно находит возможность выйти из белых одежд чистой науки, испытать свою мощь во внешнем пространстве, что называется, показать силу мускулов на практических полигонах. Однажды в полемическом запале польский ученый С. Янишевский объявил, что не для того, мол, занимается он математикой, чтобы ее примеряли к строительству домов. Математики же и ответили: неужели коллега думает, будто дома строят с той лишь целью, чтобы математикам было где жить. Иначе говоря, дома возводят не только для математиков и не только для жилья. У строителей куча многообразных забот. Столь же немало их и у математиков.
В ранге общенаучного знания математика владеет глубокой практической инициативой, обеспечивая все науки (решительнее других, конечно, естественные, а в последнее время и общественные, гуманитарные) аппаратом количественной обработки любого добытого содержания. Все подвластно математическому описанию, все перемалывается ее жерновами.
Как-то в конце прошлого века в одном из государственных ведомств США обсуждался вопрос о преподавании английского языка в американских школах. На совещании присутствовал известный физик-теоретик Д. Гиббс, который отличался немногословием и на заседаниях обычно отмалчивался. Он и здесь молчал, а потом неожиданно объявил: «Математика — тоже язык». Дескать, что вы все об английском да об английском. А математика?.. Она ведь тоже язык. Афоризм понравился и легко пошел в обиход, закрепив мнение о математике как удобном, повсеместном и неизбежном языке научного мышления, языке количественных описаний.
Математику обступают, с одной стороны, заботы, налагаемые общественными потребностями (в том числе нуждами остальной науки), а с другой — задачи, определяемые логикой ее собственного движения. Подгоняемая этими запросами (и прежде всего по линии внутренних дел), математика продвигается вперед, надстраивая новые и новые этажи и совершенствуя свой аппарат. Лишь следуя этому, она способна удовлетворить все возрастающие претензии разнообразных научных дисциплин и требования жизни.
Естественно, что математика должна иметь большой задел, уходить в своих отвлечениях решительно ввысь, поднимаясь над конкретностью прозаических тем. Потому относительно многих ее результатов трудно заранее сказать, по каким векторам проявится их теоретическое могущество, какими удачами войдут они в остальные науки, а через них — в производство, в промышленность. Тьма завоеванных математикой истин на долгое время оседает невостребованными решениями, не отыскавшими своего пути к практической цели формулами, уравнениями. Но в том и особенность, что позднее, порой десятилетия, а то и века спустя, вдруг, на изумление, обнаруживается необходимая полезность некогда добытых знаний.
Выводим на сцену еще одного литературного героя, созданного американским писателем, и философом XX века А. Эмерсоном. «Мир проложит дорогу к дверям человека, который усовершенствует мышеловку». То есть с позиций широкой популярности науку ценят за изобретение полезных в повседневности вещей, за здоровый практицизм. «Но мы, математики, — продолжает наш герой, — должны понимать следующее: какие бы хорошие мышеловки мы ни изобретали, мир, очень медленно осознав нужду в них, и столь же медленно будет находить удобные пути к нашим дверям».
Придуманные во II веке до нашей эры арабские цифры проникли в Европу только в XIII уже нашего летосчисления, а чтобы утвердиться в практике, потребовалось еще несколько сотен лет. Даже в XVIII веке было мало школ, где обучали арабской «грамоте». Императрица австро-венгерской монархии Мария-Терезия, например (время правления 1740–1780 годы), издала указ, запрещающий вести торговые книги арабскими знаками.
Современная математика (а за нею многие точные знания) немыслима без отрицательных, комплексных, гиперкомплексных и т. п. чисел. Однако с каким напряжением входили они в математическое обращение, насколько долго ждали своего звездного часа. Пользу их люди обнаружили, к своему удивлению, лишь годы и годы спустя.
Отрицательные величины появились еще у индусов за 600 лет до рождества Христова и в течение тысячелетий фактически находились в подполье, пользуясь репутацией «ненастоящих». Медленно и с большими оговорками входили они в математическую жизнь европейцев. Первые применения обнаруживаем у Р. Бомбелли, Ж. Гарриота и Р. Декарта (XVI–XVII вв.), хотя Декарт же отнес их вместе с комплексными числами к «мнимым». Постепенно привыкали и другие математики. Но еще долго держалась оппозиция необычным для тех дней величинам, даже у великих ученых.
Уж что может быть внушительнее, чем имена Б. Паскаля или Г. Лейбница. А что они? Б. Паскаль настоятельно противился утверждению отрицательных чисел. Скажем, операцию вычитания из нуля полагал лишенной всякого смысла. Написал: «Я знаю людей, которые никак не могут понять, что если из нуля вычесть четыре, то и получится нуль». Вослед тому шел также Г. Лейбниц. Число –1, убеждал он, не существует, так как положительные логарифмы соответствуют числам, большим единицы. Отрицательные же логарифмы (!) соответствуют числам, заключенным между нулем и единицей. То есть для отрицательных величин логарифмов просто не хватает.
На стороне гонимых выступил выдающийся итальянец Д. Кардано, который стал систематически их употреблять. Ему в решающей мере и обязан мир внедрением столь необычных чисел в научный обиход. Им же введены мнимые, или комплексные, величины, равным образом встреченные поначалу категорической неприязнью. Их внесли в разряд понятий, кои никогда не понадобятся. Даже сам родитель сокрушался, что в операциях с комплексными числами «арифметические соображения становятся все более неуловимыми, достигая предела, столь же утонченного, сколько и бесполезного». Не случайно Д. Кардано однажды записал: «Умолчим о нравственных муках и умножим (5 + √–15) на (5 – √–15)».
Но пришло время, и комплексные переменные стали необходимы для многих не только теоретических, но и близких к практической нужде дисциплин: в гидродинамике, в теории упругости, в электротехнике.
Обвинения в бесплодности тех или иных математических результатов, оказавших позднее серьезную услугу науке, сыпались слишком часто. Памятно, как в 1910 году английский астрофизик Д. Джинс неосторожно предрек, будто математическая теория групп никогда не придет в физику. Истекло не столь уж много дней, как разразилась так называемая «групповая чума». Теорию начали широко применять во многих науках. И не только для систематизации и описания больших массивов фактов, но и в предсказаниях новых явлений, к примеру, элементарной частицы омега-минус-барион.
Столь же шумно провалились прогнозы по поводу ненужности математической логики, без которой была бы немыслима «компьютерная эпоха» и вся «машинная математика». И сколько еще подобных прогнозов перешло в курьезы, показав свою некомпетентность перед будущим.
Указанные качества математики отрешаться от конкретных свойств возвышают ее над остальной наукой и делают своего рода разведчиком на дорогах познания. Она первой прорывается к таким структурам, о которых другие не смеют и подозревать. В свое время И. Кант назвал математику наукой, брошенной человечеством на исследование мира в его возможных вариантах. С годами эта ее репутация только подтвердилась.
Ныне стало привычным представлять математика изобретающим модели не только сущих, но и воображаемых и невообразимых явлений и состояний, из коих естествоиспытатель может, соответствующим образом интерпретируя их, отбирать для своих нужд подходящие формы. Это — своеобразные заготовки впрок, аристократические (потому что изящно выполнены) одежды для будущих процессов, вещей, организмов. Они — эти процессы, вещи и т. п. — еще неизвестны миру либо вообще пока не народились, но неугомонные математики уже держат для них готовые костюмы.
Есть термин «богатая интерпретация». Мать, общаясь с младенцем-несмышленышем, еще не умеющим говорить, ведет себя так, словно его лепет и поведение имеют смысл, присущий взрослому. То есть она дает «богатую интерпретацию».
Понятно, что подобным образом работать способна лишь раскованная и рискованная мысль, владеющая пространством для воображения. Так ведь и говорится, что математика — это роскошь, которую может позволить себе цивилизация: ринуться вперед очертя голову.
И потому, что математика выводит формулы, не раздумывая, где им предстоит работать (и предстоит ли), это приносит ей славу безадресного знания. Поэтому можно услышать: «Математики не знают, о чем говорят, а также верно ли то, что они говорят» (Б. Рассел, кстати, сам математик и логик). Или: «Математика верна, поскольку она не относится к действительности, и она неверна, поскольку относится к ней» (А. Эйнштейн). Говорят и так: «Математику фактически все равно, о чем он говорит», ибо «ее, математики, закономерности, ее доказательства, ее логика не зависят от того, чего они касаются» (Р. Фейнман, физик) — и т. д. Конечно, сказано в тоне шутки, к ситуации, но момент правды тут не укроешь.
Порой такая откровенность сеет в ряду ученых постоянную смуту. «Непостижимая эффективность математики» — так выразил свое недоумение известный американский теоретик современной физики Е. Вигнер. Его смущает, что математики выстраивают зависимости, пишут уравнения, не публикуя списка ситуаций, на которые это распространяется, а то и вообще не имея никакого списка. Все бы терпимо, пусть математики упражняются… Но ученые других родов войск, они же берут это на веру. И снова в режиме шутки Е. Вигнер устанавливает, что «физики — безответственные люди», поскольку используют математический аппарат, часто не зная, верны ли предлагаемые решения. Когда физик обнаруживает некое отношение между величинами, напоминающее ему связь, хорошо знакомую из математики, он немедленно приходит к заключению, что найденная закономерность как раз и есть та, которая рассматривается математикой, поскольку ничего другого он не знает. Так формируется «безответственность», питаемая священным пиететом перед всевластием математиков.
Однако если, сняв украшения стиля, войти в суть полемики, то привлекательнее, понятнее позиция тех, для кого эффективность математики все же постижима, только это не лежит на виду. Связи математики с грешным миром своеобычны. Между нею и действительностью — слой конкретных наук, которые и принимают заявки производства, промышленности, быта. Но когда «госзаказ» достигает слуха математиков, они откликаются на эти предложения (как и на свои внутренние призывы), совершенствуя аппарат исчислений, усложняя и отодвигая его на еще более далекие от практики расстояния. А наука, и в первую голову физическая, требует все более «высокой математики».
Поэтому сколько бы ни были при внешнем осмотре абстрактны и спекулятивны математические строения, в основании их ажурной вязи лежат вполне земные дела. Именно по этой причине математике и удается верно схватить, «угадать» переплетения вещей. Как справедливо замечает В. И. Ленин, в процессах творчества математик может создавать, придумывать такие отношения, которые не наблюдаются в природе, опираясь на те отношения, которые в ней наблюдаются. Но это и означает, что, надстраивая новые этажи своих абстракций, математическая мысль способна записать и такие формы, что им найдутся во внешнем мире соответствующие природные образования, пока еще науке неизвестные. Короче, мир предъявляет свои права на математику, обязывая работать так, что это делает ее результаты неотвратимо эффективными в практических вопросах.
Характерность математики проявляется также в том, что она умеет предложить конкретным наукам неведомый им типично математический, умозрительный путь решения задач, минуя эксперимент, эмпирическую наблюдательность, фактологический расчет и т. п. приемы, использование которых к тому же оказывается при известных обстоятельствах невозможным. Имеется хорошая иллюстрация.
Когда М. Борн и В. Гейзенберг строили матричную квантовую механику, у них возникли затруднения, и они обратились к царившему тогда на математическом Олимпе Д. Гильберту. Вот что он сказал. Когда ему приходилось иметь дело с матрицами, они получались у него в качестве побочного продукта собственных значений некой краевой задачи для дифференциального уравнения. Д. Гильберт и посоветовал поискать уравнение, которое, возможно, стоит за этими матрицами. Не исключено, напутствовал он молодых физиков, вам откроется нечто интересное. Но они не вняли совету, сочтя это бестолковой идеей и порешив, что великий математик чего-то не понимает.
А через несколько месяцев Э. Шредингер вывел знаменитое волновое уравнение, явившееся другим вариантом квантовых описаний. Теперь пришло время посмеяться Д. Гильберту, который заметил, что если бы его послушали, это уравнение открыли бы по крайней мере на полгода раньше. Видно, заключил он, «физика слишком сложна для физиков». И добавил вовсе уж убийственное: «Физика достаточно серьезная наука, чтобы оставлять ее физикам».
Современное естествознание, а за ним и обществознание все более проникаются пониманием роли математики в их делах. «Физику наших дней не обязательно знать физику, ему достаточно знать математику». В этой парадоксальной формуле академика Л. Ландау заключена не просто шутка. Здесь есть своя правда — истина, улавливающая тенденции роста математизации познания.
Умелое применение математических методов приносит не только теоретический успех, но и прямые экономические результаты. В частности, математический эксперимент, математическая гипотеза, математическое моделирование позволяют избежать материальных затрат, поскольку исследование идет не с веществами в лаборатории или на полигоне, а путем решения соответствующих дифференциальных уравнений.
Скажем, эксперимент, особенно физический, стал ныне крайне дорогостоящим. Ушли времена, когда, по выражению американца Р. Вуда, хороший физик мог с помощью… палки, веревки, сургуча и слюны изготовить любой научный прибор. Ныне другие отсчеты. К примеру, магнит для синхрофазотрона Объединенного института ядерных исследований в Дубне (СССР) имеет в диаметре более 60 метров и весит около 40 тысяч тонн. Это был самый тяжелый в мире магнит в начале 80-х годов. Или взять ускорители: серпуховской имеет в диаметре 1,5 километра, а длина кольца ускорителя в Протвине — 20 километров. Подобные установки представляют настоящие промышленные сооружения, с которыми вовсе не вяжется понятие прибора. Можно представить, какую экономию приносят математические методы, когда они способны заменить работу на таких «приборах».
…Как-то, осматривая обсерваторию Маунт-Вильсон (США), А. Эйнштейн задержался у телескопа. Впечатляли размеры. Зеркало, например, имело в диаметре 2,5 метра. «Для чего, собственно, нужен такой гигантский инструмент?» — поинтересовалась жена А. Эйнштейна, Эльза. «Его главное назначение заключается в том, — деликатно пояснил директор, — чтобы узнать строение Вселенной». — «В самом деле? … А мой муж обычно делает это на обороте старого конверта». Сама того не ведая, фрау Эльза показала глубокую правду о преимуществе математических исследований перед физическими.
Связь математики с практическими делами несомненна, хотя от первого знакомства с нею такого впечатления ввиду крайней отвлеченности ее построений не остается. Как был прав Н. Лобачевский, заявляя, что даже самая абстрактная математическая теория когда-нибудь обязательно отыщет себе применение.
Похожие проблемы у физики, многие теории которой также поначалу попадают часто в графу бесполезных, и лишь годы спустя они получают прописку на карте знания. Больше всего страдают фундаментальные идеи.
Так, в пору своего рождения теория относительности обычно встречала в ученых (тем более не ученых) кругах настороженный прием. К примеру, один из основоположников современной физической химии, немецкий исследователь В. Нернст, упорно именовал ее философией, то есть, по его понятиям, областью достаточно невразумительной, чтобы представлять науку. Но миновали десятилетия, и расчеты на основе положений А. Эйнштейна легли на чертежи конструкторов при создании ускорителей, при составлении графиков космических полетов, в других практических делах.
Аналогичный поворот ожидал квантовую механику. Вначале непонимание, неумение найти ей работу, более того, попытки отказаться от нее (даже со стороны первооткрывателей, в частности, М. Планка, Э. Шредингера), но затем стремительный, все нарастающий триумф.
В 30-х годах исследования в области атомного ядра считались далекими от настоящих путей науки, видные ученые находили бесполезным отвлекать на это средства, столь необходимые молодой Советской власти для других более важных затрат (в том числе и в науке). А ныне атомные электростанции — солидная добавка в энерговооруженность страны. Сейчас похожая обстановка вокруг теории элементарных частиц. Ведутся их глубокие исследования, но практическая выдача пока очень приблизительна. И все же мы вправе на нее рассчитывать.
Подытоживаем. Только владея достаточно большим набором фундаментальных истин, наука способна выполнять свое назначение. Вообще, ответы ее теоретической части должны быть шире, чем вопросы, которые ставит и может поставить перед ней текущая повседневность. Благодаря этому наука и работает, не только удовлетворяя запросы момента, но и в счет будущих заданий.
Однако трудиться с заделом на завтра умеют не одни лишь фундаментальные дисциплины. Сейчас мы повернемся к другому полю — к превращению бесполезного знания в полезное, — связанному с эмпирической наукой.
Казалось бы, исследования, насыщенные и перенасыщенные тематикой, близкой к жизни, практическому делу, не витающему в сферах высокой абстрактности, такие исследования изначально, с момента получения результатов, должны включаться в полезную работу. Но здесь вырастают свои сложности, свои препоны на пути к признанию, а уж к применению — и того более. Налицо тот же штамп: значимо лишь то, что быстро дает практическую выгоду. Соответственно распределяются и квалификации научности, а с ними кредиты, лимиты, доверие.
Более широкий, «вневедомственный» взгляд на события науки, взгляд, не приуроченный к сиюминутной нужде, а брошенный с высоты исторической перспективы, внушает иные оценки, обнаруживается, что результаты, лежавшие десятилетиями и даже веками без движения, вдруг становятся фокусом внимания и вовлекаются в практический цикл.
В XVI — начале XVII столетия в университетских центрах Франции, Германии, Швейцарии работали ботаники братья Иоганн и Каспар Боугины. Упорные и основательные, они обыскали огромные пространства и выделили несметные даже по нашим меркам количества видов растений: Иоганн — около 4000, Каспар — 6000. Старшему особенно полюбилась полынь, и он употребил на ее описание отдельный том (из его многочисленных томов). В те времена исследование не нашло применения, и вообще, исписать на полынь целый том?.. Даже Г. Лейбниц, сам бесконечно ушедший в науку, отдавший ей многие часы, даже он оценил это «полынное» увлечение как вызывающий недоумение курьез.
Но полынь — удивительное явление растительного царства. В наши дни из нее научились добывать антибиотики, эфирные масла, ценный сердечный препарат камфару. Короче, растение обрело исключительное народнохозяйственное значение. Конечно, ни братья, ни кто другой и тогда и много позднее о том и подумать не могли. Исследования шли из чистой любознательности. Однако современной науке пришлось заняться полынью уже в иных интересах.
Медицинские и другие обращения к полыни потребовали ее обследования со стороны биологических характеристик, химического строения, мест произрастания. Возникла необходимость повести регулярное наступление на полынь, то есть завершить то «курьезное» дело, в котором увяз старший Боугин. И вот в 1962 году в издательстве Академии наук Казахской ССР выходит книга «Химический состав полыней», написанная М. Горяевой, С. Базилицкой и П. Поляковым. Одному из авторов пришлось, как сказано в предисловии, специально заняться систематикой и указанием свойств полыней. Интересно, что ныне их выделено до 500 видов, и, кстати сказать, половина «проживает» в Советском Союзе.
Еще один коллектив поглощен полынью — исследователи Центрального ботанического сада Белорусской академии наук. Их занимает другое. Прикидывая возможности замены (при консервации кормовых трав) дорогостоящих химических веществ растениями с антимикробной «склонностью», ученые повернули взоры на один из видов полыни — эстрагон, «поселившийся» в районах Средней Азии, Западной Сибири, предгорьях Кавказа.
Так обширные сведения И. Боугина, засвидетельствованные своим временем как бесполезные, пришлись ко двору через несколько веков. Стало ясно, что прогноз великого Г. Лейбница, объявившего исследования коллеги курьезными, сам оказался курьезом.
Аналогичным образом разрешилось дело о лишайниках. Первые сведения о них собраны еще в XVI столетии, а в XVII К. Линней насчитывает уже 80 видов. Тогда же его соотечественник З. Ахариус проводит их описание и закладывает основы новой науки лихенологии.
Однако вплоть до середины нашего века лишайники фактически не находили применений в практике, и от их изучения не видели проку. Вдруг обстоятельства круто меняются. Виновником поворота стал А. Флеминг, открывший в спорах грибковой плесени пенициллин. А она растет на лишайниках. Начали развертывать промышленное производство пенициллина, тогда и понадобились знания о лишайниках, в богатом наборе предложенные лихенологией. Как будто она только того и ожидала, заготавливая эти сведения впрок.
Обсудим еще одну особенность познания, которая также на первый взгляд смотрится курьезом.
Движение науки сопровождается дроблением знаний. Наиболее «грешат» этим биология, медицина, география и некоторые другие (всех не назовешь) дисциплины. В своем усердии членить и распределять они, кажется, утрачивают временами ощущение черты. Скажем, ныне известно 20 тысяч видов пауков. В каждом выделено что-то особое, в чем не замечены другие, на каждый из видов заведено досье. Но это даже скромная величина в сравнении, например, с поголовьем бабочек, где дотошные ученые определили 100 тысяч видов. Столь же усердно изучили жуков, боевые отряды которых, как выяснили, состоят из 130 тысяч видовых подразделений. А дробление идет…
Неизбежно закрадывается сомнение: неужели эти гигантские списки насекомых кому-то понадобятся? Не работают ли порой уважаемые энтомологи вхолостую, понапрасну сжигая силы и средства? Некогда Ф. Достоевский решительно осмеял подобные увлечения в медицине. Совсем исчезли доктора, которые лечили бы от всех болезней, жалуется он. Остались одни специалисты. Положим, у вас заболел нос. Вы к врачу, а тот шлет в Париж, дескать, там светила европейского размаха лечат носы. Но вот вы в Париже, идете к светиле. И что же? «Я вам, — скажет, — только правую ноздрю могу вылечить, потому что левых ноздрей не лечу, это не моя специальность, а поезжайте после меня в Вену, там вам особый специалист левую ноздрю вылечит».
По нынешним временам недоумений о пользе узкой специализации не убавилось: дифференциация знания идет, и ученые свой маневр понимают. Каково же должно быть отношение к ситуации?
Ясно, что науку не остановишь. Дробление знаний, его расслоение на все мелкие единицы будет продолжаться, и никакие уговоры, высмеивание, запреты не помогут. Но вопрос даже не в этом. Возьмем биологию. Членение, отыскание неизвестных биологических форм, видов, выделение среди известных новых и т. п. не только неизбежны, но и поворачиваются несомненной практической выгодой. Ведь заранее не определишь, какое именно знание тех же насекомых понадобится человеку будущего в его обширной занятости.
Жил, к примеру, в России ученый Б. Шванович, изучал бабочек. Он годами рассматривал узоры на их крыльях, подмечал геометрию рисунка, переливы красок, классифицировал. Внешне пользы никакой. Правда, и вреда тоже: обожает человек бабочек, так и пусть… Оказалось, однако, что систематика Швановича несет беспрецедентные сведения для уяснения морфологии и проблем эволюции. Ибо узоры — проявление общей гармонии живого, так как в сочетаниях красок проглядывает совершенство биологических форм.
Это факт, так сказать, внутринаучной полезности, от нее еще предстоит навести переходы к материальной нужде. Но вот прямая линия. Возьмем тех же пауков-«двадцатитысячников».
Установлено, что у некоторых видов (а расселились они повсюду — в умеренном и жарком поясе и даже на антарктических островах) нить обладает уникальными достоинствами. Будучи чрезвычайно тонкой и обгоняя по этому качеству любую швейную нитку, она тем не менее очень «вынослива». Если нитью паутин обернуть земной экватор, эта «масса» будет весить всего 300 граммов, но прочностью превосходить в два раза сталь.
Чудо-материал сам шел в руки. Предприимчивые умы скоро нашли ему дело. Еще в самом конце прошедшего столетия во Франции был изготовлен канат из паутины. Сочетая эластичность и фантастическую прочность, он как нельзя лучше подходил для заявленной цели — удерживать махину — воздушный шар при всех капризах погоды на привязи. Не случайно канату была оказана честь представлять инженерную мысль Франции на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.
Выдающиеся качества паутины отмечены хозяйственным глазом давно. Еще с неизвестных времен жители ряда островов Тихого океана «приручили» пауков плести рыболовные сети. Другие наловчились ткать из паутины одежду. Рассказывают, что перчатки и чулки из нее были в свои дни подарены французскому королю Людовику XIV, властвовавшему в XVII — начале XVIII столетия. Неизвестно, носил ли сии сверхмодные дары абсолютный монарх, но вот супруга Карла VI, правителя Священной Римской империи XIV века, показывалась — надо полагать, на зависть дамам — в перчатках из паучьего шелка.
Однако то были эпизоды. Систематическая «эксплуатация» пауков началась позднее.
В конце прошлого века по острову Мадагаскар странствовал один французский миссионер. Дела божии не мешали ему наблюдать природу, и однажды он остановил внимание на паутине необычно крупного калибра и высокой прочности. Это была сеть, созданная местным пауком из «вида-племени» шалабе. Предприимчивый путешественник быстро усвоил, что ему открывается редкая доля без особых затей извлекать фантастическую выгоду. В 1897 году он открыл невдалеке от Антананариву мастерскую, где приступили к работе первые 30 тысяч шалабе. Надо сказать, производство трудоемкое: чтобы получить всего-то 500 граммов паутинного шелка, надо организовать «труд» около 700 тысяч пауков в течение целого сезона. Но зато какие работники!.. Ни одежд им, ни обуви, и бастовать невдомек.
Сейчас на Мадагаскаре раскинуто уже несколько предприятий, выдающих шикарную ткань золотисто-кремового оттенка, которую, впрочем, можно при желании «одеть» в любые цвета, поскольку паутина, подобно шелку, легко окрашивается.
Паутинная пряжа используется и по другому назначению. Чтобы получить фотографии звезд, необходима точная фиксация их положений, а для этого требуется оснастить телескоп очень тонкой и в то же время прочной нитью. Лучшего материала на такую «должность», чем паутина, не сыскать.
Просматривается еще одно хозяйственное использование пауков. Объявилась их исконная вражда к вредителям рисовых плантаций. На этом и построили расчет сотрудники Международного научно-исследовательского института риса в городе Лос-Баньосе на Филиппинах. Они намереваются выставить специально обученное войско пауков навстречу непрошеным потребителям риса, особенно из отрядов кузнечиков.
Следующая глава трудовой деятельности пауков касается их «инженерно-строительных» способностей.
Практике конструирования широко известны висячие мосты. Известно также, что их изобрел английский инженер С. Браун. Однако саму идею подсказали… пауки. Как это бывает, изобретатель долго и безуспешно пытался решить задачу сооружения перехода без опор (к примеру, над пропастью). И вот однажды, отдыхая в лесу, он обратил внимание на паутину, легко переброшенную с одного дерева на другое. Вспыхнула догадка, которая и нашла инженерное воплощение, обогатившее человечество гирляндами висячих мостов.
Более того, замечено, что даже при сильном ветре паутина не рвется, поскольку обладает высокой прочностью, а ее сопротивление ветрам практически ничтожно. Это навело советских архитекторов на мысль строить здания, опираясь на расчеты, подсказываемые конструктивными решениями столь интересных насекомых. Такие сооружения воздвигаются, в частности, в Киеве, в Москве.
Вот сколько полезного принесло знание одних лишь пауков. А теперь спросим себя: смогли бы мы быстро добыть эти сведения, не имея в запасе такой обширной информации? Читатель может возразить: конечно, все так, но разве необходимо знать все разнообразие свойств и определений, какое сосредоточено в описаниях 20 тысяч видов пауков? Понятно, что многое из того, что собрано, остается в «запасниках» науки и еще долго будет там находиться. Однако, кто укажет заранее, что именно понадобится, кто определит, что вот этот вид пауков принесет практическую пользу, а этот не принесет? Наука верна себе. Она изучает объект без изъятия каких-либо граней, сторон. Если же идти выборочно, делая пропуски, то вполне может случиться, что среди пропущенных как раз и находятся трудолюбивый шалабе или же пауки, поставляющие нить для астрономов.
Наконец, в актив значений «бесполезной» дифференциации надо положить и то, что подробным членением задается обязательная эмпирическая опора, над которой только и может возвышаться многообещающая закономерность.
Придадим повествованию несколько иное склонение. Речь шла об употреблении даров науки, так сказать, по прямому назначению: математических открытий как математических, а, скажем, биологических как имеющих биологическую ценность и т. д. Теперь мы выходим на такое рассмотрение, когда завоеванные истины оказываются полезными не у себя дома, в стенах родного «ведомства», а совсем далеко от обжитых мест.
Если продолжить «биологический» разговор, то пространством эффективного использования сведений о живом становится, например, бионика — ветвь кибернетики, занятая строением и поведением организмов с целью созидания приборов, аппаратов и машин.
…В свое время авиаконструкторы долго искали способ гасить возникающий при перегрузках флаттер — резкие колебания крыльев, оперения, других структур самолета при ошибочном выборе модели. С возрастанием грузоподъемности, скоростей вибрация стала настоящим бедствием, приносившим неисчислимые жертвы. Поиск противофлаттерного устройства затребовал многих средств. Наконец, когда его изобрели, обнаружилось, что оно уже создано и описано в литературе. Только как могли о том знать авиаторы, если его «придумала» природа, а сообщалось это в специальных работах биологов? Оказывается, изобретенный людьми противофлаттер почти точно воспроизводит очертания специальных утолщений на кончиках крыльев стрекозы. Знай про то конструкторы, не понадобилось бы тратить столько денег и сил.
Затем у стрекоз выявились другие летные качества, достойные подражания. К делу приступили сотрудники Колорадского университета, и вот что они обнаружили.
Стрекоза способна зависать в воздухе, а также передвигаться вбок, резко уходить назад, выполняя такие маневры на высоких скоростях. При том подъемная сила стрекозы в три раза выше, чем у обычного самолета. И создается эта сила благодаря движению воздуха в непосредственной близости от крыльев (как и у самолета).
Авиаконструкторы свой маневр тоже поймали, надеясь заложить столь завидные качества в проектные разработки, чтобы и самолеты умели исполнять такие же крутые развороты, быть менее «обидчивыми» на порывы ветра, бросающие машину в аварию, и т. д.
Самолетостроение еще не раз поворачивалось к живым аналогам и помимо стрекоз.
На первый взгляд исследования взлета комара — его способность прямо с места уходить в зенит — кажутся куда уж бесполезней! Где приложить эти искания, по какой графе практического назначения их провести? Энтузиаста, обследовавшего комара на момент «безразбегочного» взлета, мало сказать не понимали. Его высмеивали, ставили в «пример», обличали, притом (заметим особо) свои же люди — биологи.
Оправдание явилось совсем по другой статье. Конструкторов, помышлявших о машинах, которые умели бы при ограниченной полосе разбега (или вовсе без нее) взмывать ввысь, привлекла анатомия крыльев и ног комара, владеющего столь желанными преимуществами. Но почему именно он, комар, а не, скажем, птицы, другие насекомые? Во-первых, другие взлетают все же не вертикально, а хоть немного, но вбок, как бы разбегаясь. Во-вторых, комар проще, «нагляднее», его структуры обнажены для глаза исследователя и потому позволяют увидеть подъемный механизм перпендикулярного взлета. Наконец, в-третьих, удобство наблюдения: попробуйте так же близко, «за компанию» войти в контакт с птицами, мухой, оводом и тому подобными летающими существами.
Одним словом, комар обрел популярность и быстро вошел ударной темой в авиационные программы. И чтобы уж «покончить» с комарами, отметим еще одно.
Наверное, таит свой шанс (если не в самолетном деле, то на других направлениях) и такая примечательность комариного воинства. Оказывается, в его рядах есть один вид, особи которого способны производить до 2200 взмахов крылом в секунду. Фантастически заманчиво хотя бы издали приблизиться к подобным скоростям и выйти на технические решения.
Прочерчена линия касаний авиации с биологией еще по одному, очень важному, кричащему пункту, каким стоит вопрос о беззвучности полетов. Образец «бесшумной» жизни дает сова. Нельзя ли приучить к такому поведению воздушные лайнеры? Поначалу идея смотрелась безнадежной. Но в ученой среде всегда находятся «отверженные», готовые взять на себя самое безнадежное дело. Исследуя сову, они увидели, что передние края ее крыльев несут образования наподобие зубчиков. Построили модель авиационной турбины, оснастив ее лопастями с зазубринами. Оказалось, зубцы, разбивая воздушную струю на множество мелких, препятствуют появлению беспорядочных потоков, которые и приносят оглушающий шум.
Бионика хорошо показала себя при создании сверхчувствительных навигационных систем, приборов для ориентации, в разработке различных датчиков, локационных сооружений, да мало ли где? Она показала и еще многое покажет, только не надо смущать инициативу первопроходцев, забрасывая их обвинениями в бесплодности поиска.
Совсем недавно инженерная мысль билась над созданием планетохода. Испытали традиционное колесо — не работает, гусеничный ход — то же самое. Тогда спохватились: не предложит ли что живая природа? Обратили внимание на то, как ходят насекомые, взялись изучать устройство ног и утвердились, что решение проблемы здесь. Тогда повели розыск в кладовых человеческой памяти, отбирая все, что сказано про транспортные возможности насекомых. Сотрудникам Института земных машин (СССР) удалось отыскать книгу одного безвестного автора прошлого столетия, описавшего многие способы перемещения организмов и среди них — подходящий аналог трактора с шагающим колесом.
Одним словом, живая натура дает немало примерных конструкций для копирования. Нам есть что взять у природы в нашем победоносном нашествии на природу. Хорошо еще, как считает поэт, что мы пока лишь подмастерья у нее.
Очень плодотворными по шкале «вневедомственной» полезности оказались космические исследования.
Можно услышать, что увлечения космосом ложатся бременем на плечи общества, исчисляясь тоже космической мерой, что, мол, слишком щедра оплата прогресса. Наверно, доля правды тут есть, но есть и другое. Не станем касаться тех аспектов, которые эти работы несут для мировоззренческого понимания природы. Возьмем, как обещали, лишь те результаты выполнения космической программы, которые являются побочными продуктами ее неудержимой деятельности, ее, так сказать, «отходами».
Предпринимая неутомимые запуски, осуществляя высокие виражи, прослушивая биение внеземных пространств, человек узнает больше, видит дальше не только в космосе или в глубинах материи, но и во многих обычных состояниях, в знании о нашей Земле, ее ландшафтах, климате, полезных ископаемых.
Поднимая искусственные спутники, например, конечно, надеялись умножить приток научной информации. Оказалось, что он шире всех предсказаний и идет по самым неожиданным линиям, часто далеким от собственно космических тем. Так, с позиции, на которой зависают спутники, удалось точно измерить расстояния между континентами, очертить гравитационную фигуру Земли, увидеть вертикальные перемещения земных пластов и глубинные разломы, погребенные толщей верхних слоев, и многое другое.
Прорыв в космос вывел в жизнь новые неслыханные направления науки: спутниковая океанография, космическая биология и медицина, космическая агрономия, внеатмосферная астрономия и сравнительная планетология, космическая технология. И хотя все это называется «космическим», касается оно все же откровенно земных наших дел. Скажем, с точки спутникова парения хорошо просматриваются потаенные места полезных ископаемых и другие внутренние откровения отчего дома — Земли.
Сведения столь обильны, что в США создан специальный комитет, изучающий «отходы» космических исследований в целях использования этих побочных продуктов. Впрочем, решающие усилия брошены и на отладку военных программ, которые подмяли многое остальное.
Развитие космонавтики особо проявилось в совершенствовании средств связи, охватив все ее каналы: радио, телефон, телеграф, телевидение.
Неслыханные возможности несет космическая технология. Например, выращивание на орбитальных траекториях кристаллов, что называется, кристальной пробы, по надежности превосходящих «все, все земное». Или получение пеностали — материала, владеющего прочностью стали, но тяжестью близкого воде. В обстановке невесомости надеются также создать особо очищенные лечебные препараты, по которым истосковались люди, подняв тем самым медицину на не досягаемую прежде космическую ступень.
Таковы далеко не полные послужные списки побочных доходов, найденных на «отвалах» космической темы. Но ведь космический день едва разгорается, на внеземные проспекты вышли представители лишь первого поколения приборов, за которыми, конечно, потянутся более проникновенные внедрения в космос.
Уже начальные шаги многому учат. Деятельность, казалось бы, с избытком вознесшаяся над бурями земных нужд и потому не обещающая видимой пользы, неуклонно налаживает звенья практических сближений, принося золотоносные урожаи.
Ткань главы, речи, в ней произнесенные, вызывают другую заботу. Если то и дело обнажается, что изыскание, не имевшее утилитарного нюанса, становится со временем столь же практичным, значит, в качестве истоков творческого беспокойства рядом с ориентацией на производство и промышленность надо поставить желание знать просто так, знать, чтобы понять тайны природы, утолить интеллектуальный голод.
Сей мотив — ожидание нового — составляет решающий пункт человеческого поведения. Мы не стали бы людьми, не заложи в нас природа инстинкта любознательности, извечную страсть уяснить, «что это такое?».
Однажды Л. Ландау увлеченно рассказывал про новые идеи, над которыми он работал. Шла речь о вещах высокой абстрактности, уходившей далеко в структурную ткань материи. Его спросили, можно ли надеяться, что когда-нибудь, пусть через много-много лет, эти идеи получат практическое использование. Наверно, инженеры найдут тому прикладное применение, ответил ученый. «А я этого не знаю. Меня интересуют только законы природы».
Жажда истины, новых знаний должна определять линии поведения исследователя. Дело не исчерпывается тем лишь, что наука постоянно наращивает собственный познавательный потенциал, добывая знания безотносительно к тому, найдут ли они выход к запросам производства. Есть и другая сторона в этой деликатной теме.
Откровенно практическая заинтересованность в результатах, стремление ученого во что бы то ни стало выйти на практику могут обрасти худшей формой утилитаризма, обернуться погоней за славой, званиями, степенями, за материальным уютом. Исследователь — и это самое важное — не должен уступить давлению обстоятельств. Путеводителем в науке может быть лишь один идеал — искание истины, а уж практическая польза пусть приходит потом (если она вообще захочет прийти).
Сходные выводы рождаются и в наблюдениях художественного творчества. Писатели, особенно большие, напоминают, что стимулом к деятельности выступают не поиски земных благополучий, не жажда славы, известности, а потребность к самовыражению.
Драматург В. Розов, например, убежден, что творчество не должно направляться заранее заданными внешними целями, что оно свободно от всего, кроме собственного «я». И писать надо только потому, что это занятие тебе нравится. В свое время А. Барбюс заметил: «Искусство кончилось, когда за него стали платить». Также и А. Рыбаков подчеркивает: «Писатель может состояться только тогда, когда не думает, напечатают его или нет». И далее: «Если человек руководствуется желанием публиковаться, из него никогда не получится писатель». Должно быть просто желание писать, не оглядываясь на то, что из этого выйдет.
Но вернемся в науку.
Какие почести и социальные приоритеты сулило профессору из Томска А. П. Дульзону изучение языка крохотной народности кетов, затерявшейся в просторах томского Севера? Народность обитала только в Сибири и насчитывала, когда Андрей Петрович подступился к ней (50-е годы), всего около 700 человек. Едва ли он рассчитывал на вескую теоретическую и практическую отдачу. Просто увлекал интерес, а в этом случае вовсе не обязательно, чтобы тема слыла громкообещающей.
Примечательно и другое. Ученый уходил в страну кетов в пору летних отпусков, когда привычная наука устремляется на отдых, к теплу. Вместе с профессором к неуютному Северу шли его аспиранты, студенты, которых учитель заряжал не только жаждой познаний, но и бескорыстием: он снаряжал эти походы на свою профессорскую зарплату.
Наконец изучен грамматический строй, составлен словарь. И тогда объявились удивительные свойства кетского языка, его сходство с языком басков (проживающих в Испании) и индейцев Северной Америки. То есть была обнаружена близость языка у народов, разведенных большими пространствами размером в целый континент. Но установление языкового родства повлекло ряд предположений об особенностях исторического, геологического и иного далеко идущего прошлого. Была высказана, например, гипотеза о единстве экономической жизни этих трех народностей на ранней стадии развития и возможных путях их миграции по лику Земли.
Так, имевший поначалу узколокальное значение труд, который, казалось бы, мало чем полезен для широкой научной гласности, тем более для социальной практики, неожиданно обрел межгосударственный смысл и был оценен высокой научной мерой. А. Дульзону присуждена Ленинская премия.
Факт поучителен. Исследование очень скромного, неприметного явления жизни способно приносить первоклассный результат, если изучение ведется добросовестно, истово, при полной отдаче сил.
Внешне малополезное занятие выросло в дело государственной важности также и в руках молодого естествоиспытателя комсомольского возраста Ю. Баранчикова.
В начале 70-х наш герой окончил биологический факультет Уральского университета. Еще в студенчестве его увлечением стали бабочки — предмет явно не из тех, что составляют ныне большую науку. Ю. Баранчикова не понимали даже на кафедре зоологии, где занимались более острыми, по их представлениям, сюжетами, «исповедуя» жуков. Но молодой биолог остался верен теме. Углубляясь в нее, он знакомится с классическими трудами по энтомологии прошлых веков, изучает все, что ему удалось найти в библиотеках. А это около 150 томов. Одновременно наблюдает натуру, собирая живые факты, из которых у него громоздится богатейшая коллекция чешуекрылых (он начал составлять ее еще в школе).
Но все оставалось до поры лишь собственным достоянием увлеченного студента. Никому это было особенно не нужно, пока не пришло его время. А пришло оно хотя и с первого взгляда неожиданно, тем не менее закономерно.
Периодически на лесные массивы обрушивается страшная беда, настоящее испепеление растительности. Его вызывают два вредителя — шелкопряды: так называемый непарный и сибирский, доморощенный. Они сплошной тучей оседают на тайгу, не оставляя малейшей надежды на спасение, и только обглоданные скелеты деревьев напоминают о том, что здесь шумел лес.
Бороться можно, но следует хорошо знать этих насекомых, уметь предсказывать очередное нашествие, чтобы быть готовым к встрече. На многие вопросы и помогает ответить Ю. Баранчиков. Он изучил о шелкопрядах все: повадки, места обитания, особенности размножения и многое такое, о чем они и сами не ведают и что необходимо для охраны лесов. Молодого исследователя сразу же после защиты дипломного сочинения пригласили сотрудником Института леса и древесины Сибирского отделения академии.
Так провинциальные бабочки и ветхие фолианты вывели неутомимого студента в гущу захватывающих хозяйственных проблем. Напишем еще раз: заведомо, заранее не только трудно, а, по существу, даже вредно объявлять какие-то темы бесполезными, хотя в том имелась бы стопроцентная уверенность. Часто будущее безжалостно опрокидывает подобный скоротечный прогноз, распределяя все по иной норме. Ученый должен определить себя не по сиюминутным соображениям пользы, а исходя из желания постигнуть истину.
Практически любая тема, имеющая познавательный интерес, достойна внимания, сил и средств. Когда обсуждался, например, вопрос о строительстве ускорителя в Дубне (а стоило это дорого), И. Курчатов сказал: если есть надежда получить на этом ускорителе хотя бы одну новую элементарную частицу, его надо строить. Тем более не стоит экономить на разработках теоретического характера, свободных от изнуряющих денежных трат.
И еще специально для молодежи. Порой юные умы, жаждущие успеха в науках, подвержены максимализму: если уж браться за тему, то с полной уверенностью в удачу. Но ведь до срока никто такой гарантии не обещает! Не вернее ли поступать из убеждения, что ведущим должен стать поиск истины, какой бы она ни представлялась, большой или малой, значительной или не очень.
Сумерки богов
Оставленная глава заполнена фактами плодотворности безадресно накопленного знания, в котором по обстоятельствам можно брать подходящее для возникающих событий жизни. Теперь приблизилось время несколько повернуть сюжет.
Наука иссякла бы, не умей она решительно уходить в отрыв. Вообще, как продвигаться, если нет горячих идей и горящих людей, беспокойных, идущих по краю фантазии и риска?
В науке есть целые отрасли знания, исполняющие разведывательную службу. Это, как мы настаивали, математика, задача которой прежде других дисциплин отыскивать неслыханные связи, придумывать невиданные (для сегодняшнего зрителя) отношения. И хотя она доносит их на языке формальных зарисовок, позднее им будут найдены (если, конечно, будут) содержательно насыщенные подобия, которые, оказывается, хорошо укладываются в эти формализмы.
Кроме такой стратегической разведки в масштабах всей науки, в каждой дисциплинарной ветви немало пионеров, готовых высадиться на еще не обжитые земли и провести там изначальные работы. Ясное дело, пионеры встречаются с проблемами, имеющими большую степень неопределенности. Но это привычные заботы науки, назначение которой в том и состоит, чтобы снимать неопределенность. Однако, прежде чем неопределенность снять, надо догадаться о ее существовании, догадавшись, прочувствовать и войти в нее. Так уж заведено, что на подступах к ускользающим истинам лежит неизвестность.
Извечная диспозиция: человечество каждый раз знает много меньше, чем предстоит узнать, Постигнутое ограничено, а то, что подлежит постижению, бесконечно. И сколько бы ни черпали из него, оно «неистощимо», ибо неизменно обширнее, чем поле, на котором мы хотя бы что-то знаем (или кажется, что знаем). Словом, чем дальше продвигаемся в познании, тем сильнее входим в непознанное.
Всегда важно обнаружить, что же именно нам неизвестно, чтобы скрестить на нем копья внимания. Это многообещающий шаг. Он означает, что поймана проблема, которую и окрестили «знанием о незнании». Пусть это не будет понято так, будто перед нами сплошь «белое пятно» на карте знаний (незнаний).
Во-первых, осознание самого факта ущербности, ограниченности нашей осведомленности в каком-либо разделе науки уже предполагает, что многое постигнуто и проработано. Потому незнание здесь — от большого знания, результат не только дефицита, но обилия информации. А во-вторых, и это главное: на основе знания о незнании рождается интерес, настрой на поиск нового. Конечно, встреча с проблемой еще не встреча с истиной, но, как замечает Т. Манн, «уже предвосхищение знания, рвущееся вперед сквозь зияющие пустоты незнания».
Если проблема опознана, внесена в список неотложностей, значит, наука в преддверии к ее решению, каким бы дальним ни оказался путь. Теперь уже не остановиться, потому что неизвестное заманивает и влечет даже сильнее, чем известное. Можно понять Ф. Крика, одного из авторов дешифровки кода наследственности, когда он заявил: «Наше незнание поразительнее наших знаний». Обнаруживая пробелы, наука выходит на острие новых проблем, ведущих к еще не завоеванным вершинам. Поистине, не было бы знания, да помогло незнание.
Развитию науки вообще характерна смена состояний знания и незнания. Добытая истина не столько что-либо утверждает, сколько поощряет искать, не только проясняет, но и загадывает очередные загадки. «Что знаем мы, того не надо нам, а что надо нам, того уж мы не знаем». Поэтому когда ученые говорят, что вопрос ясен, это значит, что здесь-то и надо разворачивать исследования, ибо за каждой победой наступают, по выражению академика И. Е. Тамма, «сумерки богов».
В отличие от религии, которая всегда права, наука не права никогда, потому что постоянно отменяет собственные результаты, замещая их новыми. Ньютон «отодвинул» Аристотеля, но самого Ньютона «потеснил», в свой черед, Эйнштейн, испросив, правда, извинения. «Прости меня, Ньютон» — такой репликой оповестил творец теории относительности свое намерение оспаривать классическую парадигму. Очевидно, придет день, «очертят» и Эйнштейна, выявив предельные возможности его концептуальных построений.
Наука неизменно ставит своих бойцов в ситуацию поиска, ибо не может решить ни одной проблемы, не подбросив десятка очередных. Она постоянно в пути, постоянно в ремонте, и впереди неиссякаемое поле приложения сил.
Неопределенность — не просто неизбежный этап в движении знания, этап, может быть, досадный своей удручающей смутностью. Вместе с тем неопределенность желанна науке, поскольку несет момент, подготавливающий ее к развитию в неожиданных плоскостях и направлениях. Порвав же со всем неясным, темным, наука, очевидно, утратила бы одно из древних назначений — искать ответы в лабиринте природных тайн. «Представьте себе, — заметил однажды К. Чапек, — какая была бы тишина, если бы люди говорили лишь то, что знают». Иначе сказать, не обсуждай мы непонятное, таинственное, просто незнакомое, все так и оставалось бы по своим позициям, и не было бы и шага в сторону, тем более вперед.
Небезынтересно отметить, что не так давно в Англии издали своего рода собрание вопросов, ответы на которые еще неизвестны человечеству — «Энциклопедия неведения». Она несет подзаголовок «Все, что вы хотите знать о непознанном». В ее составлении приняли участие специалисты практически всех ведущих отраслей науки. В отличие от привычных энциклопедий, предлагающих общепризнанные, отстоявшиеся определения и неукоснительные факты, это издание рассказывает о том, что сомнительно, зыбко, задерживает взгляд на двусмысленном.
Словом, в науке, как в науке. Она открывает движение с неясного, запутанного. Однако там, где такая запутанность обозначилась, надо ждать подвижки мысли. Неопределенность обычно и возникает на главных линиях развития науки, именно в точках ее роста. Современный французский философ и методолог науки Г. Бошляр заметил: «Интеллектуальные сумерки имеют структуру». Иными словами, состояние невнятности — это не убивающее мысль монотонное однообразие, а нечто, обещающее высокую истину.
Наука продвигается вперед благодаря прежде всего новым теориям. Но глубокие теории обычно и несут моменты недоговоренности, как свидетельства того, что они еще способны к прояснениям и совершенствованию. Действительно, неопределенность и смута, будучи в истоках научных проблем и методах их решения, накладывают отпечаток и на само содержание теории. Это особенно характерно для масштабных, поворотных истин, круто меняющих взгляды на мир.
Квантовая механика давно обрела репутацию великой истины. Однако едва ли отыщется более странная, малопонятная концепция, какою она предстала поначалу: «волны материи», «квантовые скачки», нелокализуемость «мест обитания» микрочастиц, отсутствие четких траекторий их движения и т. д. Но и сейчас, прожив не один десяток лет, эти понятия, увы, не обрели желанной четкости. Притом дело касается не только широких кругов. Неясность имеет место и в умах больших ученых, которые, подобно простым смертным, не готовы войти во все тонкости новых идей. Смог же, например, Р. Фейнман объявить, что, дескать, квантовую теорию не понимает ни один человек в мире. И решительно добавил, что готов утверждать это вполне ответственно. Приобщим и свидетельства А. Эйнштейна. Однажды он жаловался, что, сколько ни добивался, никто так и не смог дать точную формулировку принципа дополнительности Н. Бора. В определениях принципа всегда оставалась недоговоренность.
Стало быть, неопределенность в науке неизбежна, она гнездится не только в исходных состояниях каждой приличной теории, но «поражает» часто и взрослый период ее жизни. Задача нашего повествования в том, чтобы попытаться понять, какие шероховатости, неудобства, а, быть может, напротив, удобства (сколь это ни парадоксально) несет неопределенность исследователю научных тем. Об этом пусть скажут следующие страницы книги.
Обратимся к тем событиям в жизни науки, когда именно наличие неопределенности выводило поисковую активность к постановке и решению проблем, крупно влияющих на прогресс научной мысли.
Влияние неопределенности, надо сказать, неоднозначно.
В иных местах размытость содержания погружала исследователя в отчаяние. Характерна, например, реакция голландского физика Г. Лоренца, когда в 1924 году в самый разгар квантово-механических страданий он записал: «Я потерял уверенность, что моя научная работа вела к объективной истине, и я не знаю, зачем жил; жалею только, что я не умер пять лет тому назад, когда все еще представлялось ясным».
Близкое смятение чувств испытали в свое время Э. Шредингер и М. Планк при внедрении в физическую картину природы квантовых представлений, к формированию которых они имели прямое отношение. Эту сюжетную линию мы еще продолжим.
Однако, как показывает история познания, неопределенное и смутное, врываясь в теорию, не ведут ее к гибели. Скорее наоборот. Они полезны ей, о чем и свидетельствует эволюция науки, которая всегда выходила из полосы смут обновленной, готовой к новой жизни, прозревшей. Но сначала покажем, что работать в режиме неопределенности можно, да не просто работать, а еще и получать результаты.
Только что был отмечен Г. Лоренц, выбитый из научной колеи смятенным состоянием дел, которое царило в квантово-механическом понятийном аппарате. Однако сам же Лоренц и показал, как не надо складывать оружия перед неочевидностью. Правда, то произошло раньше и на других плацдармах.
…Ознакомившись с уравнениями электродинамики К. Максвелла, Г. Лоренц в смущении обратился к переводчику за разъяснениями физического смысла теории. Переводчик же объявил: «Никакого физического смысла эти уравнения не имеют, понять их нельзя, их следует демонстрировать как чисто математическую абстракцию». Тем не менее Г. Лоренц все же применил результаты Максвелла к движущимся телам и получил свои знаменитые преобразования, в свою очередь, использованные затем А. Эйнштейном. Как известно, Г. Лоренц и тут не понял и оттого вначале «опротестовал» действия творца теории относительности. Но это уже другой сюжет. Сейчас важно отметить, что хотя у Лоренца не было ясности в истолковании теории Максвелла, однако он работал с нею, и, как видим, небезрезультатно.
Похожие отношения с теми же максвелловскими уравнениями и у Л. Больцмана. По его признанию, всякий раз, начиная читать студентам электродинамику, он предварял курс эпиграфом из Гёте:
О том, что можно успешно вести науку, не имея отчетливости, говорят и другие. К примеру, М. Борн писал: «Мой метод работы состоит в том, что я стремился высказать то, чего, в сущности, высказать еще не могу, ибо пока не понимаю сам». Не менее рельефно и заявление Ф. Крика: «В процессе научного творчества мы сами не знаем, что мы делаем». Пожалуй, еще одно свидетельство, слова которого только что прозвучали. Конечно, В. Гёте — прежде всего поэт. Однако он также и виновник заметных сдвигов в естествознании. Настолько заметных, что, не будь известен как большой художник, все равно вошел бы в историю культуры незаурядным естествоиспытателем. (Открыл межчелюстную кость у человека, гребенчатую форму облаков, заложил основы психофизиологической теории света, стал у истоков морфологии; за ним и другие успехи.) В. Гёте утверждал: «Мой принцип при исследовании природы — удерживать достоверное и следить за недостоверным».
Представляется, дело не просто в том, что смутные состояния на путях познания неизбежны. Скорее, ситуация такова, что подобные состояния содействуют поиску, обеспечивая режим благоприятствования ищущему уму. Примечательно одно рассуждение Д. Гильберта. Как-то он очень заинтриговал слушателей, поставив вопрос, знают ли они, почему именно А. Эйнштейн принес самые оригинальные и глубокие идеи о пространстве и времени. «Любой мальчик на улицах Геттингена, — заявил он, — понимает в четырехмерной геометрии больше, чем Эйнштейн». Тем не менее именно Эйнштейн, а не «мальчики» (сиречь, математики) сделал эту работу.
В чем же преимущества, которые несет науке неопределенность?
Прежде всего создаются подходящие условия для научного поиска. Состояние неопределенности сообщает мысли неизбежную вариабельность, подстрекая к раскованности. Освобожденный от заведомо предначертанных ходов и регламентов, ум обретает свободу выбора тем, возможность фантазии и риска, благодаря чему становится доступней прорыв к новым пластам знания.
Обратим в связи с этим внимание на оценки роли строгости в развитии теорий. Строгость вошла обязательным критерием надежности научных построений. И вместе с тем безусловное и неукоснительное следование этому требованию, усилия по очищению от любых нестрогих образований способны в известные моменты поиска ограничить, пресечь творческий взлет исследователя.
П. Капица, например, считал, что острое логическое мышление порой мешает ученому, поскольку окончательная ясность может закрыть выходы к новым проблемам и нестандартным поворотам ищущей мысли. Прислушаемся также к замечанию известного советского физика, академика Л. Мандельштама: «Если бы науку с самого начала развивали такие строгие и тонкие умы, какими обладают некоторые современные математики, которых я очень уважаю, точность не позволила бы двигаться вперед».
Атмосфера неопределенности, сопровождаемая отсутствием однозначных теоретических установок, создает неплохие виды на будущее, поскольку остается шанс испытать некие еще не испытанные пути, раскинуть веер возможностей. Э. Резерфорд однажды заметил, что они делали больше, чем понимали. То есть он сознательно вел коллег дорогой, на которой нет ясности.
Но дело не только в том, что неопределенные состояния выступают подходящим условием для работы, побуждая к раздумьям, помогая наладить поисковую обстановку. Очевидно, неопределенность влияет и на выбор познавательных средств, предопределяя методы, набор образных представлений, весь арсенал орудий, привлекаемых исследователем для достижения успеха, а также сам путь исканий, характер действований.
Иными словами, ученый вынужден использовать столь же размытые ходы, недостаточно строгие категории, «размазанные» понятия и образы. Стремление уже в зародышевой стадии поиска добиться четкости понятий может оттеснить исследователя к испытанным решениям и обернуться бессилием пробиться к новым рубежам. Так, едва успев народиться, никнет, может быть, интересная идея.
Вот мнение П. Капицы: «На таких начальных этапах развития науки точность и пунктуальность, присущая профессионалам, может скорее мешать выдвижению смелых предположений». Этот вывод, как полагаем, служит хорошим аргументом в пользу неопределенности, когда дело касается первых шагов в решении познавательных задач. А не об этом ли раздумывал и Ф. Тютчев, обронив тот достаточно приблизительный афоризм: «Мысль изреченная есть ложь». Рискуем переложить это место таким образом.
Поскольку новое знание решительно меняет представления о предмете, оно не может быть выражено прежними понятиями потому, что они неизбежно увлекут в старое русло. Однако и новых, приличествующих ситуации слов еще не найдено. Остается одно: держать до поры явившуюся догадку в смутной форме непроясненного знания (чаще всего оно дано образами, тоже размытыми, зыбкими) и вести изучение средствами, которые хотя и недостаточно определенны, либо даже вовсе неопределенны, зато способны порой подсказать верный ход. Всякая попытка тут же одеть едва вспыхнувшее решение в четкие смыслы невольно понуждает вернуться к прежним категориям, то есть сойти на уже проложенные познанием магистрали и… благополучно загубить дело.
Чтобы не спугнуть птицу открытия, лучше дать мыслям «побродить», повариться в исходной неопределенности, пока они не поднимутся до нужной отметки, встав на твердую землю собственных понятий. Значит, не стоит и пытаться сразу же все прояснить, чего бы то ни стоило отыскать слова и названия. Пусть обретенное диво побудет в одеждах неявной выраженности. А уж потом найдутся подходящие обозначения и символы. Поистине, как говорит опять же Ф. Тютчев,
Возьмем историю. Описывая развитие математики на достаточно длительной дистанции, измеряемой XVI–XVIII столетиями, американские ученые Р. Курант и Г. Роббинс отмечают, что хотя математическое доказательство должно проводиться строго, однако, осуществляя его, ученые использовали в ту пору (да и не только в ту) средства отнюдь не строгие. Более того, «основные понятия… определялись весьма туманно и даже с элементами мистики, например, бесконечно малые, мнимые и иррациональные числа и т. п.».
Много неясного несли с собой теории неэвклидовых пространств. Н. Лобачевский, например, не случайно называл свою геометрию «воображаемой».
И уже в наши дни утверждается логико-математическая «теория расплывчатости», в основу которой вписаны такие неопределенности, как «нечеткое понятие», «нечеткие множества», «нечеткие операции». Все эти странные с точки зрения привычной математики и логики образования начал разрабатывать современный французский ученый А. Заде. Его исходная установка покоится на том, что чем глубже задача, тем неопределеннее ее решение. Под эту установку и вводятся нестрогие методы, поскольку подобного рода ситуации только и можно одолевать посредством указанных приемов.
В случае жестких (традиционных) множеств принадлежность (или непринадлежность) к ним объектов определяется однозначно: «да» или «нет». Нечеткие же множества предполагают подобную принадлежность объектов лишь с известной долей определенности: «с какой степенью необходимости принадлежит», «вероятно, принадлежит», «может быть, принадлежит» и т. п. Здесь допустимы такие высказывания, как, например, «этот человек, очевидно, болен», «возможно, этот остров обитаем», которые с точки зрения классической теории множеств недопустимы.
Этим открываются возможности исследования областей действительности, которые ранее были недоступны логике. Вообще, полагает академик А. Колмогоров, наметилась перспектива «уничтожения расхождений между „строгими“ и „нестрогими“ методами математических рассуждений». На этом пути можно, в частности, преодолеть или, по крайней мере, сгладить действие «принципа несовместимости», по которому сложность предмета рассогласована с точностью его количественных отображений, а глубина изучения — с определенностью результата.
Отметим еще одну «заслугу» фактора неопределенности. Если говорить о готовой, построенной теории, то, конечно, она обретает четкость. Однако и здесь не всегда и не во всех деталях можно избежать непонятных мест, о чем мы и вели разговор в начале настоящего раздела. Сейчас хотели бы обратить внимание на следующее.
Наличие в теории неопределенностей, смутных и темных пунктов не грозит катастрофой. Наоборот, в этом просматривается даже известное преимущество, которое обеспечивает жизнестойкость теории. Неопределенность придает ей известную эластичность, способность быть готовой к освоению вновь появляющихся фактов и процессов. Семантическая рыхлость теории есть гарантия выживаемости, знак того, что она не разрушится в случае открытия новых явлений, несущих некоторые «неприятные» для ее установок данные.
Допуская, благодаря размытости понятий и положений, гибкость, теория способна впускать новые, не предусмотренные заранее результаты опыта и тем самым сохранять себя. В подобной обстановке чрезвычайная строгость оборачивается догматизмом, нетерпимостью и способна вызывать «интеллектуальные судороги».
Подытожим. Движение в неопределенности всегда чревато неоднозначностью результатов. Любое рассуждение здесь умозрительно, окутано не просто догадками, но сетью домыслов и вымыслов, потому что по-крупному свежая идея появиться в отчетливой печати, без предварительных раздумий, страданий и сомнений не может. «Несчастны люди, которым все ясно», — заметил однажды Л. Пастер, пуская стрелы в тех самоуверенных мужей, которые не дают себе труда выйти на всю глубину проблемной обстановки и потому задерживаются на внешней линии событий.
Австрийский философ недавней поры Л. Витгенштейн поделился некогда мыслью, будто «все, что может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать». Конечно, иных словоохотливых ораторов из ученой среды неплохо и ограничить. Но речь не про них. Подобных деятелей быстро узнают и не тратят на них внимания. Речь о другом — о самом предмете высказываний. Полагают возможным окружающий мир поделить на то, о чем можно рассуждать со всей ясностью, и на то, о чем надобно придержать речь.
А надобно ли? Ведь сия инициатива склоняет к бездействию. Столкнувшись с упорством фактов, не укладывающихся в четкие схемы, исследователь из боязни показаться смутным обречен томиться в кругу очевидностей, увы, израсходовав свои силы и оттого оказавшись бесплодным. Если вооружиться такой философией, нам только и достанется, что не размыкать уста либо говорить прописными высказываниями.
Таким образом, выкорчевав все неясное, расплывчатое, наука станет рассуждать лишь общими фразами, с помощью которых не продвинуться вдаль. Точная и определенная позиция — не лучшая позиция в стратегии научного поиска. Здесь хорошо укладывается аргументом поэтическая лесенка из В. Маяковского:
Теперь оставив позади общетеоретические соображения и доказательства, рассмотрим неопределенность в работе на конкретных участках научного поиска, когда неопределенность послужила основой для раскованных шагов ищущей мысли. Одной из форм такого прорыва в будущее науки являются гипотезы. С них начнем.
Движение на линиях пересечения знания и незнания, отмеченное постоянным вторжением в область неопределенного, рождает проблемы. Естественно, что, возникая в подобной приблизительной обстановке, проблема и сама далека от ясности. Это значит, что любые попытки ее решений будут поначалу лишь пробой сил, прикидкой, имеющей достаточно предварительный рисунок. Потому гипотеза часто воспринимается как нечто искусственное, придуманное. Памятно заявление И. Ньютона: «Гипотез не измышляю», которым он, по существу, отторг право естествоиспытателя на построение таких вот пристрелочных, еще не проверенных, а нередко и вообще своим временем не проверяемых допущений. Верно, сам же и нарушал это свое обещание тем, что нередко оперировал как раз «измышлениями». Взять хотя бы закон всемирного притяжения.
И. Ньютон дал только математическое описание закона, заявив, что пытаться понять гравитацию в виде силы, которая имеет физическое содержание, представляется нелепым. Ни одному трезвомыслящему исследователю такое не придет и в голову. Поэтому, заключает И. Ньютон, вопрос о носителе тяготения он оставляет открытым в надежде, что со временем удастся найти физическое объяснение этой силы. А пока будем принимать ее лишь в математической оболочке.
Недоверие гипотезе, как методу познавательного действия, выразил также И. Кант. Он откликнулся на эту тему довольно резко. «Все, что имеет хотя бы малейшее сходство с гипотезой, — записал великий философ, — есть запрещенный товар, который не может быть допущен в продажу и должен быть изъят тотчас же после его обнаружения». Однако же, равно как и Ньютон, И. Кант не избежал гипотетической работы. И не только в своих философских размышлениях, где сам материал выводил на дорогу домыслов. Известно, что ему довелось испытать свои силы и в естествознании. Именно он сотворил грандиозную и, как показало время, плодоносную концепцию происхождения Солнечной системы, вошедшую в историю науки под знаком небулярной гипотезы Канта — Лапласа.
Конечно, в ряду претендующих на достоверность гипотетических предположений немало вздорных. Наверно, даже большинство их именно и есть вздор, однако ведь поносят, к сожалению, не просто отдельные, лишенные доверия вымыслы, а само право их изобретать.
Между тем отыскание истин крайне нуждается в гипотезах, ибо часто ситуация такова, что наука не может (не приспело еще время) ни назвать прямых «виновников» тех или иных явлений, ни обозначить сами эти явления и дать вразумительные объяснения на запросы дня. А время не терпит, время ускоряет бег познания, бросая ученых на поиски решений все новых и новых задач. По меткому замечанию Р. Фейнмана, мы постоянно ходим, вытянув шею и заглядывая в будущее, то есть находясь в состоянии неиссякаемого любопытства. Гипотеза всегда на переднем крае событий, она рискует сообщать о чем-то пока еще не наблюдаемом, прогнозировать его причину, управляющий им закон. Без вымысла, без умозрительных обещаний не обойтись. Иных ходов нет.
Скажем, астрономия, которая всегда осваивала реальности на самых окраинах досягаемости, сегодня отваживается восстановить (в союзе с физиками) картину мира, взяв его, скажем, «на исходе ночи», в те секунды, когда из ничего рождалось и современное вещество, и сама Вселенная. Как тут не обрасти вымыслами, не поиграть в догадки, если речь заходит о состоянии материи по ту сторону сущего!
Наука уходит не просто в даль пространства и времени к первородным структурам. Она погружается и в донные слои материальной субстанции, питаясь надеждой выведать у природы ее «последние» основания (кои, правда, оказываются вскоре лишь предпоследними). Также и здесь не убежать от догадок, могущих рождаться только в свободном режиме гипотетических всплесков.
Вообще, познание не может все время развертываться по сюжетам однажды продуманного сценария, пользуясь некогда хорошо разработанной теорией. Как говорится, нельзя долго гнать факты кнутом по одной дороге. Рано или поздно образуются заторы, с которыми прежним набором кнутов уже не справиться. Нужны свежие описания, но их не достать без риска оступиться, увлечься и открыть щель для предположительного, невнятного, что рождается в точках перехода от знания к незнанию и затем к новому знанию. Словом, неотвратимость гипотезы очевидна.
Прежде всего она необходима на стадии первичной обработки новоявленной наблюдательной эмпирии, той, что, не укладываясь в прежние объяснения, требует иного с собой обращения. Исследователь прорубает путь в лабиринте фактов, распределяя их вокруг выдвинутого гипотетического стержня, нередко сознательно поставленного нести службу всего лишь рабочей гипотезы. И пусть она, работница, наивна, спекулятивна, даже ошибочна, но в сутолоке еще не прибранного к рукам знания, в неразберихе фактологических нагромождений — это все же некий ориентир, дозволяющий проделать первые шаги по необжитой земле. В сходных обстоятельствах, делится Д. Менделеев, лучше придерживаться гипотезы, которая может оказаться неверной, чем не иметь никакой. Она помогает отыскать дорогу к истине подобно тому, как плуг земледельца прокладывает борозды на пути к выращиванию полезных плодов.
Но на гипотезу ложатся и более сильные ответственности, ибо она — предтеча теории, превратиться в которую ей мешает лишь дефицит подтверждений со стороны фактов. Скажем, дерзкое предсказание П. Дираком существования антиэлектрона (позитрона) оставалось «беспочвенным» всего несколько лет. Бывает и так — ищут по предсказаниям одно, а находят…
Японский физик X. Юкава, наш иностранный почетный гость, то есть член Академии наук СССР, в 1935 году чисто гипотетически «арендовал» у природы на роль переносчика ядерных сил π-мезон. Стали искать. Через год обнаружили. Познакомились. Оказалось, что это не π-, а μ-мезон, то есть не то, что искали, но столь же нужное. Позднее обнаружили и самого виновника, другие мезоны. Недаром про те годы интенсивных находок кто-то из наших физиков, кажется, С. Вавилов, пошутил: «Каждый сезон — новый мезон». Для нынешнего разговора важно отметить, что вначале мезоны открывала гипотеза и уж потом занаряженный ею эксперимент.
Тем же гипотетическим поворотом, чисто умозрительно, не имея опытного подспорья, был заявлен нейтрино. Он понадобился для спасения закона сохранения энергии в пору, когда физики столкнулись с его нарушением, то есть с проявлениями его «несостоятельности» в ядерных взаимодействиях: без видимых причин куда-то уходила часть энергии. Над законом зависла угроза. Чтобы восстановить его репутацию, пошли на «приписки», объявив в 1931 году о существовании ненаблюдаемой частицы — нейтрино. Его пришлось наделить довольно искусственными обязанностями, именно теми, которых недостает, чтобы спасти закон.
«Отец» нейтрино, немецкий физик В. Паули, напутствовал свое дитя не вступать ни в какие контакты, избегать знакомств, стараться проходить напролом любые преграды, не удостаивая их ни малейшим вниманием. Гипотетически пришедшая в научный обиход частица была настолько странной, что сам В. Паули сокрушался: «Я сделал что-то ужасное: физику-теоретику никогда не следует этого делать». И далее: «Я предложил нечто, что нельзя будет проверить экспериментально».
Первоначально так и считалось, что, обладая столь угрюмо-необщительным характером, нейтрино неуловим. Вскоре, однако, удалось разработать метод регистрации солнечных нейтрино. Его предложил известный итальянский физик Бруно Понтекорво, впоследствии переехавший в Советский Союз, где стал академиком, лауреатом Государственной и Ленинской премий. С помощью этого метода нейтрино и был уличен: его «взяли» вблизи атомного реактора.
Ясное дело: не имея на руках такого инструмента, как гипотеза о нейтрино, поиск пропадавшей энергии оказался бы затруднен, равно как и в попытках обнаружения другой элементарной частицы — позитрона, и во многих аналогичных и вовсе не аналогичных случаях.
Однако это все частные события, эпизоды в истории науки. Нам хотелось бы сказать о роли гипотез в более широком контексте. Именно о гипотезах, выступающих элементом культуры, формирующих и пронизывающих стиль мышления на отрезке веков, определяющих, если угодно, глобальные составляющие познавательной активности. В частности, одной из подобных гипотез стало предположение об атомном строении вещества.
Явившись еще в IV веке до рождества Христова Демокриту, эта мысль вплоть до конца XIX столетия оставалась гипотезой, поскольку в обычный микроскоп атом ненаблюдаем, а рассчитывать его свойства на основе сопутствующих наблюдаемых эффектов не умели. Однако, несмотря на явную умозрительность, неясность, идея остроумного эллина легла основой многих великолепных теорий, открытий, разработок.
Атомы материи были переосмыслены И. Ньютоном в неделимые исходные частички света, составив начала его корпускулярного учения. Спустя два столетия М. Планк не без подсказки «спекулятивного» Демокрита рассекает излучение, считавшееся доселе непрерывным, на кванты — порции. Кванты — те же атомы, только не вещества, а энергии. Недаром Э. Шредингер назвал Демокрита основоположником квантовой механики. Конечно, в те дни идея атомарности материи уже перестала быть гипотезой, но ее не перестали примерять к новым гипотетическим ситуациям, демонстрируя то, как надлежит вести поиск.
Одним словом, последствия того далекого прогнозирующего шага Демокрита грандиозны. Этому просто нет аналога. Л. Мандельштам так оценил величие идеи. Если бы, фантазирует он, вся накопленная человечеством информация погибла, то ее удалось бы восстановить, имея одну-единственную гипотезу об атомарном строении вещества.
Гипотеза — у начала начал. Это одухотворенный прогноз в будущее науки, преддверие ее побед. Очень важно не дать прогнозам уходить в песок: как в том, чтобы избежать зачеркивания и погибели плодоносного прогноза, объявляя его курьезом, так и в том, чтобы не взять курьез за серьезный прогноз.
Гипотеза повязана тесными нитями с фантазией. Именно фантазия распаляет воображение, пробуждая ассоциации и поставляя образы, столь желанные в гипотетической работе. Выход на новые познавательные рубежи недоступен для мысли, следующей курсом уже проторенных решений. Надо идти в разрыв. Фантазия здесь у дел. Заполняя брешь между сущим и полагаемым, между тем, что изведано, и тем, что еще предстоит постичь, она совершает незаменимую работу. Гипотеза обсуждает цели, фантазия предлагает средства для их достижения.
Конструируя сущности, подводя под них причинную догадку, придумывая закон, гипотеза хотя и считается с тем, что все это ненаблюдаемо, умозрительно, однако принимает сие как действительное. Фантазия к подобной оговорке не прибегает. Она сооружает призрачные замки, наполняет мир сказочными героями и неосуществимыми сюжетами, вовсе не смущаясь тем, что за всем этим пусто и никакой хотя бы предполагаемой гипотетической структуры нет. Полный разлад мысли и реальности.
В том и преимущество фантазии, что она свободна, не стиснута ни диктатом природных течений, требующим от образа строгих подобий, ни принятыми наукой заповедями, ничем. Это творение как бы для себя, вольный набор причуд. Человек, «ослепленный» фантазией, способен к решениям, до которых, если оставаться преданным норме обычных процедур и стандартов мысли, ему не дотянуться.
Однако верно и то, что фантазии то и дело осуждаются как бесполезные упражнения праздных умов. Характерный факт. В начале 60-х годов ряд крупных советских естествоиспытателей были вовлечены в разговор о перспективах космических исследований. Им прислали анкеты, где среди прочих стоял вопрос, как можно использовать космос. Некоторых это застало врасплох: «фантастикой не увлекаюсь» — так реагировали иные. А вскоре в космос ушли спутники, за ними — Гагарин, последовали другие события. И уже не мечтательно, а в суровом деле повелось освоение внеземных сред. Конечно, формировать космическую погоду выпало не тем, кто испугался смелых прогнозов. Такие не полетят. Случай лишь подтверждает, насколько могут быть реальны отчаянные фантазии и, напротив, беспочвенны самые, казалось бы, трезвые заявления.
Итак, фантазии нужны. В них вызревают идеи, зовущие вдаль, прорастают начала многих удивительных происшествий славной истории. Мечтатели, фантазеры, прорицатели первыми пересекают запретную черту, прорисовывая контуры того, что еще предстоит изобрести, построить, внедрить.
XIII век. Полоса беспросветного застоя бытия и мысли. Тем удивительнее, что именно в эти дни в глухом монастыре Англии алхимик и схоласт Роджер Бэкон спешит в ожидании скорой смерти сказать о том, каким просвечивается для него будущее. Он пророчит судá, бегущие без гребцов, а колесницы — без лошадей, мечтает о том, как полетят, раскачивая крыльями, люди и как пойдут они под водой, словно посуху. Он живописует приборы, несущие на дальние пространства буквы и слова, а также приборы, которые смогут приближать звезды, Солнце и Луну. Так, Р. Бэкон выписал себе патент на механизмы, в которых мы узнаем зарисовки многих теперешних изобретений и открытий. Он за столетиями, хотя бы и смутно, усмотрел те вещи, которые пришли к нам лишь сейчас и в появлении которых иные высококлассные специалисты сомневались буквально на пороге их вступления в жизнь.
Сии пророчества не обходились вниманием, и одно из них Р. Бэкон оплатил религиозно-уголовным преследованием. То были очки. Вообще, их изобретение присвоено И. Кеплеру. Но вот что открылось. Во время занятий в Парижском университете анатомией и физиологией Р. Бэкон изучает также эффекты преломления световых лучей и шлифует стекла. Он нашел, что сегмент стеклянного шара способен хорошо поработать на тех, у кого ослабло зрение. Более того, говорят, будто в старости ученый и сам пользовался таким стеклом-помощником. Во всяком случае, на исходе жизни Р. Бэкон 14 лет провел в одиночной камере монастырской тюрьмы, куда его бросила инквизиция за связь… с дьяволом. И виной были выставлены как раз отшлифованные стекла, сквозь которые, дескать, мир виден вовсе не таким, как его создал господь бог.
Через два столетия явился еще один гений фантазии — Леонардо да Винчи, стараниями которого на головы удивленных современников были обрушены чертежи — проекты многих вещей, коими насыщена и пресыщена современная жизнь. Вертолет и планер, экскаватор и механизм для забивания свай, подвесной мотор, швейная машина, выдвигающаяся пожарная лестница — все хорошие наши знакомцы, но все они входили в жизнь долгими путями с немалым сопротивлением, потому что принимались поначалу как причуды ума. Скажем, парашютная история.
Кто из окружения да Винчи мог всерьез брать следующее его заявление? Вполне возможно, писал он, что человек, бросившись вниз с любой высоты, не разобьется, если будет иметь над головой палатку размером 12 на 12 локтей. Конечно, смельчаки прыгали потехи ради с небольших строений. Но чтобы с любой высоты?.. О том лишь в легендах. Суровому испытанию затею да Винчи подверг столетие спустя, в 1628 году, французский авантюрист Лавен. За подделку денег его поселили в крепостную тюрьму. Однако бурной натуре совсем не подходила столь монотонная жизнь, и он надумал бежать, соорудив ту самую палатку. Прыгнув с достаточной высоты, Лавен гладко приземлился внизу. Правда, его тут же обступила стража, но это уже иной сюжет, уводящий нас от высокой темы.
Состоялись другие прыжки. Среди них — предпринятый, например, в XVIII веке одним из знаменитых братьев Монгольфье, Жозефом, с высокой башни при поддержке зонтообразного купола собственной конструкции. Словом, идея жила, совершенствовалась, ждала практической удачи. Решительный поворот этому придал русский офицер Г. Котельников.
Как-то он оказался очевидцем гибели летчика Льва Мациевича. Был потрясен. С того дня и начал неотступно искать решение. Действующие конструкции имели то неудобство, что хотя парашют и находился в самолете, однако лежал рядом с пилотом, и при несчастье его надлежало надевать на себя и прыгать. Но времени на то уже не оставалось. В 1911 году Г. Котельников предложил ранцевый вариант, при котором купол и стропы укладываются в специальный мешок. Надоумил случай: однажды изобретатель увидел, как большой кусок шелка легко уместился в дамской сумочке. Теперь, имея парашют на себе (а не возле), летчик мог в любой момент покинуть самолет, а затем раскрыть купол.
Отличная мысль. Увы, военное ведомство не проявило усердия, отклонив изобретение, хотя испытания шли успешно. Воспользовавшись заминкой, ловкий делец В. Ломач приобрел чертежи и вывез новинку во Францию, где ею быстро распорядились. Россия вскоре тоже спохватилась. Во время первой мировой войны в 1914 году парашютом Котельникова были обеспечены, в частности, летчики тяжелых бомбардировщиков «Илья Муромец».
Ныне парашютные разработки продвинулись настолько, что фантастическая идея да Винчи прыгать с любой высоты под покровом палатки в 12 на 12 локтей вошла в реальные берега. Недавно советский спортсмен Е. Андреев, например, покорил высь в 26 километров! А неуемная фантазия ищет себе новых приключений. Возникли парашюты-гиганты, умеющие деликатно принести на Землю груз практически любого, сколь угодно большого веса, лишь бы достало сноровки поднять его в небо. Недавно родился «парашют-крыло», сподобленный надувному матрацу. Лавируя им, мастера экстра-класса (в их числе советские) попадают в круг радиусом… 10 сантиметров. Налицо поистине парашютная «калейдоскопия». Вот насколько предусмотрительной оказалась безоглядная по своим временам фантазия да Винчи.
Особой неудержимостью прочерчены космические мечтания, куда мы и намерены сейчас проникнуть, тем более что рассказ о славном итальянском мечтателе уже вывел нас на почти космическую траекторию.
Сразу же заявляет о себе личность К. Циолковского. Конечно, наше время выравняло оценки, но когда он начинал (конец прошлого столетия), его принимали не иначе как безнадежного фантаста.
Понятно, что с приговором стоило бы помешкать, не суетиться. Как показали сроки, то, что внушал калужский мечтатель, о чем он имел твердое понимание, осуществилось, и именно по задуманному им сценарию.
В сочинениях К. Циолковского была разверстана далекая программа оккупации мировых пространств. В его книгах предусмотрено (и не только для первых шагов) практически все: подготовка к полету, старт, сам полет, последующая многоплановая работа космонавтов. На удивление прозорливо, скажем пророчески, расписаны поведение корабля и «пассажиров», маневры, условия, какие сбудутся по мере погружения в космос, режимы работ и т. д. Заглянул ученый и в дальние дали наступления на космос, когда начнется его обживание… Словом, написана подлинная «космическая энциклопедия», своего рода руководство к внеземному способу жизни.
Удивляет, сколь точно наш великий земляк определил не только общий контур прорыва в космос, но и его конкретные детали. Не случайно, что космонавты обращались к нему за разъяснениями, тщательно изучая его работы.
…1961 год. В Московском Доме ученых — пресс-конференция. В набитом до краев зале держит речь первый космонавт Земли. Ему вопрос: насколько разошлись представления, которые он имел, с тем, что произошло в деле? «В книге Циолковского очень хорошо описаны факторы космического полета, и те факторы, с которыми я встретился, почти не отличались от описания». Так ответил Ю. Гагарин, и далее, рассказывая о впечатлениях, особенно про невесомость, летчик засвидетельствовал: «Я просто поражен, как правильно мог предвидеть наш замечательный ученый то, с чем довелось встретиться, что пришлось испытать на себе!» К. Циолковский смоделировал даже ощущения, которые должны испытывать космонавты. Их подтвердил Ю. Гагарин.
Ничего удивительного, что и конструкторы, снаряжая космические ракеты, «расспрашивали» К. Циолковского. Так, предвидя серьезные стартовые нагрузки, он посоветовал укладывать космонавтов в жидкость. Отлично! В 1958 году американцы принялись искать, как уберечься от перегрузок. В современной литературе ничего подходящего. Тут и выручил русский мечтатель. По наброскам Циолковского в США сконструировали гидрокомбинезон весом в 326 килограммов. Залили водой, установили на центрифуге и провели испытания. Все точно: в такой «одежде» человек способен перенести тридцатикратные нагрузки в течение 30 секунд. Результаты легли в основу действующей на корабле конструкции. Нашла поддержку и другая мысль Циолковского — собирать испаряемую космонавтами воду и, охладив, снова запускать ее в дело.
На редкость точным оказалось описание Циолковским церемонии выхода космонавтов из корабля во время «плавания». Надо заметить, что до самого момента, пока такой эксперимент не прошел в натуре, все это казалось не ближе, чем любопытной зарисовкой, взятой, скорее, из серии фантастических причуд. «Как можно рассуждать о том, что произойдет в открытом пространстве, когда еще нет ни ракет, из которых шагнут космонавты, ни самих космонавтов?» — примерно так судили-рядили, читая труды «сочинителя из Калуги». Но вот показания А. Леонова, которому выпало впервые оставить кабину ради свободного космического парения. Еще ранее, готовясь на выход, летчик написал: «Никто не может точно сказать, что ждет человека вне стен корабля». И добавил уверенно: «Никто, кроме Циолковского». И уж позднее, примерив все на себя, он и вовсе заявил: «И до полета, и после него, перечитывая „Вне Земли“ (книга К. Циолковского, ставшая для космонавтов настольной. — А. С.), я поражался, насколько верную инструкцию оставил нам великий заслуженный учитель».
В те же предстартовые годы жил и творил в России еще один космический чудак, еще один мечтатель — изобретатель Ю. Кондратюк.
По специальности и образу жития совсем посторонний космосу человек — элеваторный механик, Ю. Кондратюк издает в 1929 году в Новосибирске на собственные средства книгу «Завоевание межпланетных пространств». Появившаяся в глубокой научной периферии, каковой состоял тогда Новосибирск, весьма скромным тиражом (всего-то две тысячи), к тому же под грифом «Издано автором», книга тем не менее получила хорошую аудиторию. Не случайно сразу же после войны, в 1947 году, она переиздана Оборониздатом.
Конечно, Ю. Кондратюк в чем-то, и немалом, повторил доводы К. Циолковского (было бы странно, если бы он их не повторил). Но его методы совсем иные, порой более эффективные, поэтому за ним свои, столь же важные вклады в теорию космонавтики. Ю. Кондратюком выведены основные формулы полета ракеты и рассчитана наиболее выгодная траектория, проведены обсуждения идей многоступенчатых ракет, промежуточных заправочных баз в дальних полетах и многое другое.
Особого разговора заслуживает проработка метода стыковки на лунной орбите. То, что предложил Ю. Кондратюк, оказалось наиболее надежным в решении проблемы выхода из корабля на Луну. Дело разворачивалось в таком порядке. Осуществляя программу высадки космонавтов на лунную поверхность, американцы взяли курс на использование специального, отделяемого от ракеты аппарата (модуля), который и был опущен на Луну вместо того, чтобы сажать на нее весь корабль. Модуль сконструирован безвестным американским инженером Д. Хуболтом вскоре после оглашения в 1961 году призыва президента США Д. Кеннеди к нации о высадке людей на Луну.
Но вот что примечательно. Конструкция Д. Хуболта повторяет решение Ю. Кондратюка, работы которого были переведены на английский как раз в 1960 году. Но Д. Хуболт прочитал их уже после того, как он предложил свой проект. Повторилось и остальное: непонимание, насмешки, попытки замолчать — все то, что в свое время выпало и на долю Ю. Кондратюка.
Стоит заметить, что в памяти народной Ю. Кондратюк заслуживает большего. Его имя как-то пребывает в тени гиганта К. Циолковского, хотя исследователи, связанные с ракетной техникой и космическими программами, признают, что работают «по Циолковскому и Кондратюку».
Хранитель отдела редких книг научной библиотеки Томского университета В. Лобанов рассказал. Когда американский профессор Нил Армстронг, первый человек, ступивший на Луну, был в Новосибирске, поинтересовался, есть ли памятник бывшему жителю города Ю. Кондратюку. Узнав, что памятника нет, высказал сожаление и пояснил. Оказывается, при посадке «Аполлона» во время лунного путешествия американцы использовали одну из формул Юрия Кондратюка. Сообщая об этом, В. Лобанов показал упомянутую его работу, изданную им самим и, конечно, ставшую ныне библиографической редкостью. Кстати заметим, в университетской библиотеке Томска немало и других редких изданий, а среди них есть и такие, которых нет ни в одной иной библиотеке Союза (например, полный комплект газеты «Монитор» периода Великой французской революции).
Как видим, сбылись многие космические предсказания выдающихся русских ученых. И особенно дорого, что сбылось их самое заветное предвидение — поставить нашу Родину в первые ряды стран-покорителей космоса. Так, К. Циолковский писал: «В одном я твердо уверен — первенство будет принадлежать Советскому Союзу». Если соотнести это пророчество со временем, в котором оно было высказано, временем самых начальных шагов молодой державы, помеченных днями разрухи и голода, станет еще более удивительным четкий рисунок его «фантастических снов» и его продуманная уверенность в талантливости отечественной мысли.
Напомним. За нами первенец в семействе искусственных спутников, первый в истории цивилизации корабль с русским на борту, первый выход космонавта в открытое пространство и так далее, и все в том же порядке. Интересно следующее. В 1964 году одна американская газета, подчеркнув, что выход в космос станет волнующим событием эпохи, написала далее: «И если таким человеком не будет американец, это огорчит нас всех. Однако, если нам внушат, что он должен быть американцем, что, как мы совершенно уверены, он будет американцем, а он вместо этого окажется русским, то просто страшно подумать, как все мы будем деморализованы».
Конечно, сейчас время собирать посевы и удивляться прогностической мощи русских теоретиков космоса. Однако поучительно вернуться и к тем далеким дням, когда сии искрометные идеи были заявлены, когда они, едва вспыхнув, пробивались в жизнь. Тогда их воспринимали как проявления фантазии на грани чудачества и вздора. Но именно поэтому они и вносили сильное возмущение в умы, пробуждали мысль. Пусть тех, кого подобные фантазии заинтересовали, оказалось немного, но это были твердые люди, сумевшие довести смелые проекты до логического конца.
Таково назначение фантазии в цепи превращений гипотетического домысла в полезные дела, в выдвижении смелых прогнозов, определяющих облик мыслей и действований на много шагов вдаль.
Наука в лице ее наиболее беспокойной части всегда впереди представлений века. Обгоняя время, ученые-новаторы вооружаются мечтой, которая и выводит их в мир будущего. Советский физик Я. Альперт говорит так: «Наука — это прежде всего фантазия и только потом знание. Иначе сказать, она начинается с фантазии и заканчивается знанием». «Изрядным фантазером» называет себя академик Г. Петров, настаивая на том, что фантазия должна быть главным качеством ученого, ибо «она порождает идею, а идея двигает наше знание».
В том и сложность, что всякое новое дело прежде, чем оформиться, должно пройти стадию предположений, допущений, прописавшись на первых шагах своей жизни в виде всего лишь догадки. Здесь и надо помечтать, испытать самые невообразимые варианты решений.
Одно методологическое примечание.
Нередко люди стесняются, а то и боятся помечтать, боятся фантазировать, опасаясь обвинений в прожектерстве, невежестве. Они порой страшатся своих мыслей, но чаще — оклика со стороны «бдительных» коллег, чиновников науки, бодрствующих философов, когда в каждой нешаблонной идее усматривают подкоп под материализм. Давно известно: когда человек не умеет сам, он учит других, а кто и этого не умеет, тот учит тому, как надо учить.
Острый вопрос. Почему фундаментальные открытия в теоретической физике последних десятилетий, такие, как идея кварков, разработка электрослабой теории, концепция Великого объединения, теории струн и другие, почему все они пришли с Запада? Так ставит тему профессор В. С. Барашенков и считает: хотя у нас в Союзе нет недостатка в талантливых генераторах мысли, свежих идей не видно потому, что они нередко подвергаются очень уж острой критике за их необычность, а это и не дает им ходу.
Подводя итоги главе, отметим, что успех в науке сопутствует тем исследователям, кто умеет помечтать, пофантазировать, кто решается безбоязненно строить прогноз, ибо, как сказал еще Ж. Верн, «все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать». Словом, наука, как и положено ей, идет от неопределенного, фантастического, смутного к бесспорному и общепризнанному. И то, что воспринималось размытым, обретает устойчивость, постепенно наступает прояснение, а то и просто привычка обходиться с непонятными значениями на «ты». Говоря словами поэта,
Методология риска
Заявим тему еще круче. Логика жизни поворачивает так, что, если нечто народилось, оно неумолимо пойдет к развязке. Впустив в мир строгой научности фантазирование, уже не остановить его движения. И коли исследователю позволена фантазия, с той же изначальностью он способен взять в услужение фикцию, нелепости, абсурд, опираться в работе над истиной на заблуждения и ошибки. Словом, он готов вовлечь в дело не только смутное, но и мутное.
Верно, имеется особенность. Положим, фантазия может обернуться крахом, но это по крайней мере не влечет вреда. Иной исход, когда в рассуждении показывается ересь. Цена оплошности здесь много выше, как в случае, когда курьез возводится в научный прогноз, так и в том, когда истинный прогноз объявляется курьезом. Такие оплошности одинаково успешно вводят науку в тупики.
История познаний свидетельствует, что переход к новым рубежам не отличается плавностью вытеснения одряхлевших постулатов. Привычнее картина, когда предлагаемое взамен вызывает бунт, тем более внушительный, чем непримиримее новое, чем оно глубже вспахивает традицию. Нужна отвага, нужна раскованная и рискованная речь, несущая вызов прежнему миру. «Удивить, — значит, победить» — так воевал А. Суворов. Годится и для науки: взять неожиданный, нелепый (в границах старого развития) ход, удивить и ошеломить — вот приемы, с которыми подручнее овладевать пространством в борьбе за истину.
Народившиеся теории часто принимаются (и чем они крупнее, тем чаще) не просто бесполезными, но опасными, поскольку размывают устои рациональности. Лишь позднее, когда страсти войдут в берега, к абсурду или ереси начинают прислушиваться и даже признавать их, пока новые вожди не оповестят о новых абсурдах. «Истина рождается как ересь, а умирает как заблуждение» (Гегель).
Подкупает история точного знания. Тем подкупает, что со временем четко выводит оценки неоспоримости заслуг прежних «нелепостей» и учит уважать бесстрашие идущих, наказывая (хотя и поздним часом) их гонителей.
Обратимся еще раз к математике. В ее природе есть все для процветания абстрактных форм и далеких от наглядности строений. Это и вызывает у самих же математиков более осторожного склада, а то и завистливых, реакцию отторжения нового. Вспомним историю чисел. По существу, каждый их новый вид встречал твердое сопротивление, поскольку всякий раз «выпадал» из ряда, образующего согласованное здание анализа.
Трудная доля выпала, к примеру, иррациональным величинам. Уже само название, которое им сообщили от рождения, обещало мало хорошего: иррациональное, — значит, лежащее за чертой осмысленного. Ведь их происхождение отмечено знакомством с несоизмеримостью отрезков, то есть невозможностью выразить в рациональных (целых или дробных) числах длину одного отрезка, если за единицу принять другой.
В подобных отношениях находятся, в частности, сторона и диагональ квадрата. Каждая из них, будучи взята отдельно, безропотно поддается измерению, но их никак не склонить к тому, чтобы измерять себя друг через друга, скажем, определять длину диагонали, взяв мерой сторону того же квадрата. Сторона не желает укладываться на диагонали определенное (хотя бы и дробное) число раз. Всегда окажется остаток, который также не готов помещаться на отрезке целиком.
А что же греки? Обескураженные столь непонятным упорством, они лишили те величины права называться числами, заявив их длинами. То есть перевели на язык геометрии и назвали иррациональными. Но не только греки. Настороженность сохранялась столетиями. У Н. Лобачевского эти числа проходили как «искусственные», а учение о них он находил «сухим» и лишним для аналитики и ее приложений.
Еще драматичнее судьба комплексных величин. Появившись в XVI веке, целых три столетия не могли выйти в свет: считалось, что никакого отношения к реальным вещам они не имеют. А считалось так оттого, что они включают в себя так называемую мнимую единицу (число, квадрат которого равен — 1). Даже великий Г. Лейбниц, всегда открытый новому слову в науке, даже он окрестил их «уродами», несущими «двойственную сущность, которая лежит почти между бытием и небытием». И Л. Эйлер, тоже чуткий к свежим идеям, полагал, будто величины эти «по своей природе невозможны, ибо существуют только в воображении». За ними так и тянулась слава мнимых в отличие от остальных, почитаемых действительными. Еще К. Гаусса, одно время увлекшегося комплексными значениями, стали подозревать в патологической наклонности, а уж Д. Кардано, когда он вводил их, меньше чем душевнобольным и не числили.
Отношение сменилось лишь в середине XIX века, когда нашли способ геометрического представления комплексных чисел как места определенных точек на плоскости и тем самым перебросили мосты к уже привычным понятиям. Одним из тех, кто успешно поработал на этом поле, как раз и был К. Гаусс. Наконец, числа нашли дорогу и к практике. В начале нашего столетия русские ученые Н. Жуковский и С. Чаплыгин рассчитали с их участием форму, которую стоит придать крылу самолета, чтобы он полетел. Так распалась «мнимость» этих вовсе и не мнимых, а вполне достойных быть среди других чисел величин.
Вынесенные из истории математики ситуации уподобляют перипетиям эволюции живого, когда принимаемое сегодня за уродство завтра дает начало линиям тонкого приспособления к среде. Таковы редкие, но богатые результатами мутации, те внезапные взрывы наследственных признаков, которые могут проложить дорогу новой эволюционной ветви, более широко подготовленной освоить для жизни не занятое еще никаким видом природное пространство либо приспособиться к резко меняющимся условиям обитания.
Концептуальные «мутации — уродства» хорошо просматриваются и в физике. В свои дни ученые, двигавшие квантовую концепцию, тоже ведь прошли сквозь свою «иррациональность». Именно так, а не иначе обозначил Н. Бор гипотезу квантов М. Планка. Те же определения выбрали М. Борн, говоря о квантовом постулате, а В. Гейзенберг — о квантовых скачках, и даже сильнее — о теории квантования в целом. Не удержался и де Бройль привлечь иррациональное в поисках пути перехода от классического представления о мире к новому мировоззрению. Так дружно физики защищали прежнюю науку перед лицом нового мышления, несущего, как им казалось, крах рациональности.
Методология еще с давних лет выработала отличное правило, запрещающее умножать сущности сверх необходимого (о нем мы будем далее говорить). Но вот вопрос: где край того необходимого, сверх чего «не умножать»? Что именно подлежит удалению, какие включения становятся лишними? Как раз подобные, казалось бы, искусственные нововведения часто и выводили ученую мысль из безвыходных состояний.
Поэтому такие придуманные и надуманные сущности не должны быть запрещены вообще. В каких-то линиях творческого метания ученый не только может, но и обязан допустить (по крайней мере, испытать) фикцию, то есть понятие, не имеющее, как утверждают философы, природных «референтов», то есть объектов вне нас, которые эти фикции обозначают. Но таких объектов мы не фиксируем не оттого, что они вообще не существуют, что природа ленива или не способна их породить, а потому, что наука еще не научилась их распознавать, не умеет как следует ее спрашивать. Их допущение видится странным, граничащим с мистикой, иррациональным. Между тем странно не наше понятие, а то, что за ним идет, та реальность, к которой оно пытается привлечь наш взгляд. Вещие слова: «Ум человеческий открыл много диковинного в природе и откроет еще больше, увеличивая свою власть над ней…» Так В. И. Ленин представлял себе развертывание познавательных могуществ человека. Просто надо быть готовым к неожиданностям, к тому, что в любой момент природа способна предъявить невероятное.
Случалось, что, прежде, чем обнаружить некие сущности в эксперименте, естествоиспытатель отыскивал их в своей мысли, в своей голове, принимая в качестве идеального, которому нет еще вещественного соответствия, и надеясь, что со временем оно найдется. Так, в пору интенсивных построений теории элементарных частиц получили виды на реальность немало таких образований, которые, по всем правилам «строгой мысли», подлежали изъятию из научного оборота. Но странное дело. Едва исполнилось четыре года призрачному существованию позитрона (антиэлектрона), как он был обнаружен в натуре. Та же судьба, но с разрывом в 12 лет, у одного из π-мезонов и в 25 лет — у нейтрино. Спросить их, а где они «жили» в прежние дни, почему не объявились?
Как видим, допущение ирреальности имеет смысл, оборачиваясь неуклонной теоретической, а вослед тому и практической пользой. Польза та, что, допуская такие умозрительные объекты, науке удается выстроить более или менее законченное теоретическое здание, в котором можно работать, хотя бы и запуская в дело откровенные фикции.
Опыт поколений оправдывает тех, кто в поворотные дни научного штурма решительно вводил не наблюдаемые доселе образования, допуская в теорию призраки, нелепости. Ведь если не грешить этим, придешь ли к чему-то стоящему?
Однажды, беседуя о судьбах познания, В. Гейзенберг, верный позитивистской норме устройства науки, заявил, мол, ученый вправе обсуждать только то, что поддается эмпирическому испытанию. А. Эйнштейн резко воспротивился и в ответ на это объявил: «Теория и решит, что именно можно наблюдать». Иными словами, не факты ведут теоретическое описание, а, наоборот, оно предшествует факту и предвосхищает его.
Конечно, допуская вымышленные сущности, ученый явно рискует, зато протягивает логическую ниточку в будущее. Тут есть свои резоны: опровергается предубеждение, будто теория надежна только тогда, когда она идет след в след наблюдательным фактам, а если она не укладывается в прежние стереотипы мышления, то назревает теоретический переворот. Стало ясно, что хорошую теорию можно создать, и не имея полного списка реальных «действующих лиц». Часто она зарождается из противоречий в наличном теоретическом багаже или выступает естественным развертыванием логики предшествующих идей.
К примеру, предложения теории относительности были составлены независимо от показаний опыта Майкельсона — Морли о постоянстве скорости света. Позднее, когда А. Эйнштейна допрашивали, знал ли он в пору создания теории об этом эксперименте, ученый ответил, что не помнит, по-видимому, не знал. То есть это не имело для него значения.
Идея относительности возникла логически, как следствие из других идей, а не из эмпирии. Смущала его одна общепризнанная самоочевидность, отнюдь не самоочевидная, которая упиралась в понятие одновременности. Однажды А. Эйнштейн прозрел: как можно говорить об одновременности, например, двух газовых вспышек на Земле и на Солнце, если наблюдатель находится близ Земли, а сигнал из окрестностей Солнца идет к нам восемь минут? Чтобы стать для земного наблюдателя одновременными, они должны произойти в разное время.
Как видим, «методология риска» состоит в том, что в решающих точках роста наука вводит нелепые сущности: абсурдные, вздорные. Мы и хотели бы повести речь о процедурах обращения к нелепостям ради поиска истины, подчеркнуть их рекомендательную услугу.
«Элемент абсурда должен присутствовать в науке» — таково мнение академика П. Капицы. Слишком уж часто исследование заходит в тупик, выйти из которого невозможно, не заступив в ересь. Возникает спрос на рискованное мышление, способное предложить нечто из ряда вон выходящее, некую вполне несуразную идею. Заглянув в опыт больших умов из мира науки, обнаружим, насколько резонно они тяготели к риску, показывая, как не надо бояться себя, своих мыслей, какими бы ни представали они невероятными.
На одной из встреч с Н. Бором во время посещения им Советского Союза Л. Ландау спросил гостя, в чем секрет, что вокруг него постоянно теснилась молодежь, что ее так притягивало. Ученый ответил: «Никакого особого секрета не было, разве только то, что мы не боялись показаться глупыми…» Не умолчим и о такой детали, сопровождавшей этот разговор. Переводчик (в ту пору еще молодой, а впоследствии известный физик-теоретик Е. Лифшиц), излагая это признание Н. Бора, замялся и перевел так: «Мы не боялись показать своим ученикам, что они глупы». Присутствовавший при сем П. Капица тут же пришел на помощь: «Перевод неточен. На самом деле Нильс Бор сказал, что они, руководители молодежи, не боялись назвать себя глупыми. Но эта ошибка не случайна. Она показывает, — под общий смех закончил П. Капица, — разницу между школами Н. Бора и Л. Ландау». Эта реплика станет понятной, если напомнить о том, что Ландау не стеснялся в квалификациях своих сотрудников, показавших оплошность, непонимание, а то и ограниченность…
Возможность произносить вздорные суждения задает режим наибольшего благоприятствования для прорастания творческих умов. Прямые советы на этот случай подает и выдающийся австрийский физик П. Эренфест. Когда-то, в 1907–1912 годах, он работал в Петербурге, содействуя развитию теоретической физики в России, и позднее, уже после революции, не однажды побывал в нашей стране. В один из приездов он выступал в Ленинграде перед молодыми исследователями. Прозвучало странное для столь серьезного гостя напутствие: «Ради бога, не бойтесь говорить глупости! Лучше 99 раз сказать ерунду, чтобы один раз что-нибудь выскочило».
К мнению П. Эренфеста стоит тем более прислушаться, что это голос души, и слова его выстраданы. Именно ему как раз и недоставало отваги наговорить «глупостей». Он владел колоссальными познаниями, многие шли к нему узнать меру новизны задуманных идей. Вся беда в том, что, имея пронзительно-критический ум, П. Эренфест неизменно стремился довести каждое свое исследование до предела ясности и лишь тогда объявлять о результатах. Это мешало, стесняло воображение. Недаром А. Эйнштейн сказал о нем: «Он постоянно страдал от того, что его способности критические опережали способности конструктивные». И хотя за ним числилась слава большого ученого, он ушел бы дальше, сделал неизмеримо значительнее, выдерживай сам те советы, с которыми обращался к молодежи, воздавая хвалу глупости.
Того же упрека заслуживают немецкий физик середины текущего столетия В. Паули и английский математик прошлого века В. Гамильтон. Не осталось следа, подавали ли они сходные рекомендации, но обоим часто недоставало решительности в публикации необычных идей. На память идут и другие имена.
Биографы великого К. Гаусса уже после его смерти отыскали в черновиках подробные разработки неэвклидовой геометрии, а с ними признание ученого, что он не хочет рисковать обнародованием новой теории пространства потому, что опасается крика беотийцев. Речь про тех самых жителей средней Греции, Беотии, что отличались — в силу низкого развития ремесел — особой необразованностью. Это тем более резало глаза, что Беотия соседствовала с Аттикой, в центре которой сияли Афины. Заклинание «Бойся криков беотийцев» стало сигналом опасности, исходящей от людей невежественных, но воинственных в своем невежестве.
Обвинений в нелепости не убоялись другие творцы «странной» геометрии — венгр Я. Бойяи и наш соотечественник Н. Лобачевский. Правда, зато и получили сполна. Особо прошлись по Лобачевскому, потому что в открытый бой он вышел раньше (Я. Бойяи чуть опоздал). Ему — первые удары, но ему и приоритет, хотя по времени разработок впереди всех К. Гаусс.
Вообще, если окинуть историю науки пристальным взглядом, то узнаем, как много всего осело в ее черновых набросках, вариантах, складских помещениях. Конечно, все ценное когда-нибудь получает признание, превращаясь из застойного в достойное, но для науки интереснее, чтобы это пришло скорее. И ее творцы не ждут, торопят себя и время, отыскивая каналы в гласность и выставляя напоказ порой сомнительное, не во всех линиях проверенное, стопроцентно безупречное.
Французские математики, например, основали фирму «Никола Бурбаки», под прикрытием которой публикуют все, что избегают отдать в свет, подписывая собственным именем. Американский журнал «Физикал ревью», отвергая понятные тексты, дает на своих страницах жизнь тому, что непонятно; не пропуская законные теории и описания, публикует незаконные, сомнительные. Советский физик Я. Смородинский, определяя программу популяризации науки, настаивает: «Крайне важно приучить читателя к тому, что новые великие идеи, которые изменяют ход развития нашего познания, всегда кажутся странными и даже нелепыми».
Очевидно, отыщутся еще какие-то шаги, открывающие перспективу для свободных провозглашений ересей, для налаживания оборота и кругооборота необычных представлений. Никакой возможностью нельзя пренебрегать, помня, что «отсутствие утопий в науке есть варварство». Лучше уж пропустить в научное обращение абсурд, чем в борьбе за чистую парадигму вымести заодно с мусором полноценную идею.
К сожалению, такие утраты нередки, только выявляется это тогда, когда время уже истаяло и потерянного темпа не нагонишь. Одна из главных причин сбоя — отсутствие в науке подходящего климата, когда всякая попытка признать отпавшую от научной нормы крамолу получает недремлющий отпор со стороны блюстителей чистоты, которые лучше всех понимают, что на пользу, а что во вред. Этим людям все доподлинно известно, где лежит истина и где ее антитеза, кто правоверные и которые отступники.
Опыт продуманной организации успешных научных исследований также показывает, что необходим свободный полет мнений. Добиваясь этого, Э. Резерфорд, например, не только не мешал заниматься бредовыми идеями, но и помогал им вызревать, всячески поощряя инакомыслие. Его ученик П. Капица рассказывал про лабораторию учителя: «Тут часто делают работы, которые так нелепы по своему замыслу, что были бы прямо осмеяны у нас».
Резерфордовская выучка, как видно, не прошла бесследно. Вернувшись на Родину, П. Капица кое-что внедрил у себя в коллективе. На теоретических семинарах стало правилом никого из выступающих не критиковать, какие бы положения ни высказывались. Можно было только развивать идею, наращивая, углубляя ее, отыскивая новые оттенки, приложения. Считалось, что критика безусловно способна загубить любую мысль. Более того, это может вообще посеять неуверенность среди участников собеседования, особенно в умах молодых.
В самом деле. Согласно данным французских науковедов, под обстрелом критики не смущаются только 3 процента работников науки, готовых отстаивать свои новации в обстановке неверия в их истинность, в обстановке сомнения и осмеяния. Интересная деталь: широкое внедрение электронно-вычислительной техники породило новую болезнь. Ее имя — киберофобия, выражающаяся в страхе перед компьютером. Киберофобией заболевают операторы, программисты, вообще сталкивающиеся с ЭВМ. Дело в том, что машина безжалостно отмечает малейшие ошибки людей, вызывая у персонала своей безапелляционностью комплекс неполноценности.
Процедура щадящего обсуждения новых проблем плодотворна именно тем, что позволяет спокойно рассмотреть все мнения, вовлечь в разговор участников, в том числе рабочих, подвластных смущению, застенчивых. Важно не только рекомендовать и призывать к исследованиям в режиме методологии риска, но и создать атмосферу творчески раскованного поиска.
Подведем итог. Наука постоянно ощущает дефицит нестандартной и, более того, патологической мысли. Особенно велик спрос в переломные для науки дни. Иван Карамазов произносит следующую, созвучную ситуации речь: «Знай, послушник, что нелепости слишком нужны на земле. На нелепостях мир стоит, и без них, может быть, в нем ничего и не произошло». Научная деятельность — первое тому подтверждение: несуразное, абсурдное слишком часто поворачивается здесь началом больших перемен, круто ломающих течение событий.
Может быть, стоит воздать настоящую похвалу глупости. Не той, понятно, про которую произнес речь великий просветитель Эразм Роттердамский, заклеймив обскурантов и невежд. Наше слово во славу «глупости», что растет в умах несогласных, разрушающих гармонию ученого сообщества ради новых завоеваний ума и новой, более высокой гармонии. Характерное откровение из антиутопии Е. Замятина «Мы». Описывается жизнь, размеченная неукоснительным режимом, который не оставляет шанса малейшему не то что свободомыслию, но даже отклонению от железного порядка. Героиня под номером 1–330 (все персонажи безымянны, имея лишь номера), подавленная удушающе-правильной жизнью, безошибочной, но и безгласной, говорит герою — номеру Д-503: «Отчего же ты думаешь, что глупость — это нехорошо? Если бы человеческую глупость холили и воспитывали веками так, как ум, может быть, из нее получилось бы нечто необычайно драгоценное».
Сколь ни обескураживающи нелепости и абсурды, их появление в текстах науки вовсе не ведет непременно к ошибке. Последняя может произойти, но может и не произойти, заведомо она не предопределена. Другое дело — собственно ошибочная идея. Ее не объявить истиной. Цена уклонения от достоверности здесь выше, чем в допущениях нелепостей, ибо ошибка отсекает (в отличие от абсурда или ереси и т. п.) альтернативные пути и, увлекая по ложному следу, наращивает заблуждение.
Тем не менее есть основания включать и ошибки в арсенал методологии, ведущей по краю риска. Часто обнаруживается, что и ошибки способны помочь науке и войти в долю соучастником продуктивного поиска. Если взять историю познания не только по состоявшимся итогам (где, конечно, все безошибочно или, по крайней мере, должно так быть), но и вникая во все повороты и извивы мятущейся мысли, в ее неожиданности и подпольные ходы; если учитывать не одни лишь взлеты, но и падения и сбои, то там найдется место и для заблуждений, для неверных шагов и ошибок.
Можно сказать еще сильнее. На иных этапах ошибочное знание может выполнять важную познавательную роль, более важную и более познавательную, чем даже истина. Дело касается как раз поисковых ситуаций в науке, когда поступает гносеологический «госзаказ» на новую теорию, новое объяснение только что появившимся фактам либо явлениям, поскольку существующие теории уже не годятся, бессильны. Очень нужное наблюдение советского профессора, биолога Д. Сабинина: «Неправильное, но оригинальное ценнее, чем правильное, но неоригинальное».
Так мы подводим к мысли, что случающиеся в исследованиях ошибки не только вредны и от них не уйти, но что они небесполезны, поскольку на виду та положительная роль, которая ими осуществляется.
Окружающая действительность предстает неискушенному взору пестрой лентой событий, за которыми лишь смутно прорисовываются управляющие ими законы. На внешней же картине все перепутано, все «изложено» нервно и скомканно. В атаках на истину исследователю предстоит пробиться сквозь слой переплетений и за буйством красок усмотреть твердые основания, определяющие эту наружную жизнь.
Прямой дороги нет. Чтобы проникнуть в затаенные углы природы, познающему предстоит испытать трудности, где ошибок не объехать, не обойти, потому что безупречных рецептов, как отмыкать запоры к тайнам мироздания, не придумано. Его подстерегают ложные пути, ведущие в никуда, отступления, зигзаги. Говоря словами поэта, немало понимавшего (что мы уже отметили) также в науке,
Наука постоянно вводит ищущего истину человека в ситуацию, когда он вынужден вступать в область загадочного и рассуждать о неизвестном так, как не приходилось никому из живущих на Земле. Здесь трудно не ошибиться, не сойти с курса. Безошибочное движение возможно лишь в машинном исполнении. Впрочем, одной из особенностей электронного интеллекта именно и является то, что он не ошибается, но он и не мыслит, по крайней мере так, как мыслят люди! Г. Плеханова однажды спросили, чем отличается человек от собаки. С присущим остроумием он ответил: «Собака не умеет ошибаться. Зато она и не умеет решать дифференциальных уравнений».
Стремление к познанию, заложенное в человеке, пробуждает его творческие силы, которые реализуются по самым различным направлениям. Потому рядом с научной версией выстраивается и такое ошибочное объяснение, каким является религиозная версия природы.
Казалось бы, о ней ли говорить! Ей ли держать конкуренцию с научными описаниями, не оставляющими места для постулатов веры. Тем не менее уже тысячелетиями эта ветвь человеческих исканий живет и до сего дня и не думает опускать руки. Более того, необходимо признать, что в некоторых моментах познания религия несла и конструктивное познавательное начало (не говоря уже о роли ее моральных уставов, сдерживающих иных от противоправных, безнравственных и т. п. соблазнов).
Характерно, что Л. Фейербах, определяя религию как проекцию человека на тверди небесной, усматривал в витках ее развития поступь человеческого самосознания. То, что люди знают о боге, они знают фактически о себе. И в той мере, в какой они изучали бога, им дано объяснить и самих себя. Собственно, когда Л. Фейербах заявляет, будто смена общественных устоев предопределяется сменой религиозных догм, он и держал в уме мысль (конечно, выдавая свое миропонимание социального), что пружиной развития общества является его самопознание.
Учитывая сказанное, было бы едва ли верно игнорировать, а тем более запрещать и преследовать попытки религиозного толкования мира, места и назначения в нем человека, попытки по-своему понять движения его души. В. Вернадский исключительно прав: «Прекращение деятельности человека в области ли искусства, религии, философии или общественной мысли не может не отразиться болезненным, может быть, подавляющим образом на науке». Мы уже давно отучены не только так говорить, но даже так думать. А ведь бесспорно, что научное мышление протекает в контексте всей культуры, которой гордится та или иная эпоха и элементом которой всегда оказывалась религия. Пусть это необычно, сомнительно, ошибочно, но, изымая из организма культуры даже одно из его структурных звеньев, мы тем самым разрушаем и организменную целостность, обделяем полноту и глубину проявлений целого и всех остальных его частей, в том числе — науку. У нас еще будет возможность сказать об участии религиозных постулатов в конкретных научных открытиях.
Но обратимся к самой науке, к тем образующим ее остов единицам и морфемам, которые, так сказать, санкционируют заблуждения.
Познавательные шаги, знаменующие переход от наличного состояния знаний к более сложному, влекут смену понятий, законов и иных форм. А это неизбежно сопровождается взрывом дискуссий, в которых ученые активисты, заостряя позиции, бросаются в крайности и подталкивают на то других. Да и разве надо, чтобы все думали одинаково? Единомыслие есть, по проверенным данным, не что иное, как одномыслие.
В битве мнений, конечно, кто-то не прав, кого-то держит ошибка. Но их голоса не уходят бесследно. Они заставляют противную сторону уточнять свою концепцию, оттачивать доказательства, вообще углублять работу, следовательно, вести науку вперед.
Более того, даже и при отсутствии сомневающихся пионеру новой мысли важно пройти сквозь строй возражений, которые он может поставить самому себе, испытать решения, кажущиеся ошибочными, просто взять варианты, какими бы они следствиями ни грозили. Поиску всегда показана политеоретичность описаний, но заказана единственность. В. Вернадский (обратимся к его выдающемуся уму методолога еще раз) так расценивает обстановку: «Я вполне сознаю, что могу увлечься ложным, обманчивым, пойти по пути, который заведет меня в дебри, но я не могу не идти по нему, мне ненавистны всякие оковы моей мысли…»
Конструктивная ценность ошибки состоит в том, что она хотя бы на время (измеряемое сроком, пока рассеется заблуждение) притягивает к себе добытые факты, выступая пунктом сосредоточения знаний, которые, не будучи еще объяты никакой идеей, могут просто кануть в потоке информации, и придется открывать их вновь и вновь. Поэтому, когда нет «обнимающей» истины, лучше для этой цели держать заблуждение, чем не иметь ничего. Опасно не это, а положение, при котором ошибка входит в ткань научного знания и закрепляется в роли единственного распорядителя фактами, выступая нормой, по которой равняют науку.
Напрашивается вывод, что ошибка не есть что-то нежелательное, некая запретная или даже побочная линия в развивающемся познании. Скорее истинное и ложное — это вполне подходящие оттенки для характеристики каждого конкретного состояния науки, когда рядом с достоверным соседствует заблуждение. Привычная ситуация: достигнув известных рубежей и утвердив одни истины, познающий разум идет дальше, совершая новые ошибки и столь же привычно преодолевая их. Так, по признанию известного польского ученого Гуго Штейнгауза, даже в математике, науке повышенной точности, громоздятся груды ошибок. По крайней мере, половина тех утверждений, которые появляются в специальных периодических изданиях по математике, оказываются, по оценке Г. Штейнгауза, ошибочными. Интересно и свидетельство Л. Эйлера, который на склоне жизни говорил о себе, что за последние 40 творческих лет он ошибался 80 раз.
Но мы бы рискнули заявить сильнее. Ложь и истина — не просто соседи, которые рассаживаются рядом, чтобы обмениваться обвинительными репликами. Они обоюдно переходят друг в друга, вторгаясь на смежные территории. Достоверность часто несет ошибочные включения, которые до поры, до срока прикрыты и лишь позднее выступают наружу.
В свою очередь, и заблуждение, вернее, то, что записано таковым, имеет момент истины. Это проступает по двум линиям. Принимаемое ошибочным могло произрасти из истины, то есть взошло на почве такого знания, которое в недавнем почиталось как вполне верное. Это одно. По другому направлению, нередко случается так, что отсвет истины может содержаться в сегодняшнем заблуждении как потенция, которая вполне проявится своим истинностным отточием в будущей перспективе.
И еще. Связь таких внешне полярных категорий, как истина и ошибка, реализуется в том, что они также и шлифуют друг друга, и, проявляя такое взаимное тяготение, изменяются. Заблуждение получает шанс «исправиться», ибо, находясь в окружении истинного, оно не только включено в поиск новых достоверностей, но активно работает на них и, значит, невольно уточняется, сбрасывает изъяны и погрешности и тем самым обретает возможность продвинуться в направлении истины.
Со своей стороны, верное знание, отсеивая ошибочные сопровождения, преодолевая сомнительные ходы, поставляемые заблуждениями, внедрившимися в теорию, так же совершенствуется, обрастая новыми доказательствами, которые добываются в конфронтациях с противоборствующей установкой.
Видно, и в самом деле истина — это, как заявляет современный французский философ Гастон Бошляр, «исправленная ошибка», и они (истинное и ошибочное) настолько крепко повязаны друг с другом, что дружно идут в общей упряжке к единой цели.
Учитывая роли, исполняемые на арене науки ошибками и заблуждениями, имеет смысл различать (что и делают некоторые методологи) истинность и научность, или рациональность. Подразумевается следующее.
Под истиной, как известно, понимают соответствие знания тому, о чем оно сообщает, адекватность описаний предмету, который ими описан. Научность — это тоже соответствие теоретических построений, но уже не объекту, который теорией отражен, а стандартам научной рациональности, то есть тем познавательным нормам, которые приняты сегодняшней наукой. Таким образом, научность ориентирована не прямо на сами истины, а на идеалы научной деятельности, могущие при соблюдении известных правил вести к истине.
Рациональность как раз и позволяет сохранять для науки результаты, которые хотя сегодня, сейчас не попадают в круг истинного знания, но способны оказаться полезными в обозримом будущем. Это своего рода резерв, из которого ученые в подходящих случаях берут нужную информацию.
Таким образом, можно говорить о двух видах знания — истинном и рациональном. Сошлемся на авторитет М. Планка, который отмечал: «Значение научной идеи часто коренится не в истинности. Это имеет значение также для идеи реальности внешнего мира и идеи причинности. В отношении этих идей имеет смысл не вопрос: истинно или ложно? — а вопрос: ценно или неценно для науки».
Как видим, даже характеризуя принципиальные научные положения, имеющие мировоззренческий статус, М. Планк смещает ударения, допуская возможность отхода от истины, то есть истины сегодняшнего дня, истины, принятой наукой своего времени, а, следовательно, истины неполной, может быть, ущемленной, искаженной. Критерием вхождения в научный обиход становится, по мнению М. Планка, ценность. А ведь он убежденный материалист, выдерживавший последовательную линию на очищение знаний от всего околонаучного.
Подобная либерализация критериев расширяет круг допускаемых в науку предложений, поскольку определениями научности наделяются не только истинные утверждения, но и те, что высказаны учеными по ходу размышлений о своем предмете, хотя бы они и оказались ошибочными. Важно одно: добросовестность исследователя, честное отношение к делу. И вовсе не обязательно, чтобы выдвигаемая мысль тут же оборачивалась непременной истинностью.
Приведение содержания науки только к безупречным на истинность положениям означало бы, что пропуск к существованию имеет лишь «правильная» часть добытых сведений, то есть объективно-достоверная. Тогда фантазии, домыслы, все сомнительное уже при рождении вышло бы за черту науки, угодив под запрет. К чему это ведет, мы увидим в следующих главах. Здесь же подчеркнем лишь, что заблуждения владеют правом на существование, как и неопределенное, гипотетическое. И даже сильнее: они допустимы на разных условиях с истинным.
Поэтому ни общественность, ни органы управления наукой, тем более коллеги-ученые не должны чинить преград свободному обращению знаний, для кого-то неудобных, возводить заслоны пусть даже и ошибочным, как им представляется, идеям. Поистине,
Такой методологически коварный вопрос ставит замечательный мыслитель Индии Рабиндранат Тагор.
Подсчитывая итоги, мы хотели бы еще раз напомнить развернутые заглавием раздела слова, определяющие историю научного познания: «Череда заблуждений человеческого духа».
Теперь делу о заблуждениях придадим конкретный вид. Попытаемся увидеть, насколько ошибочные идеи явились не просто звеньями в цепи сохранения знаний, но пунктом зарождения новых истин в те дни, когда исследователи, облокотясь на миражи и обманы (точнее, самообманы), выходили к ценным научным решениям.
В ряду громких подтверждений плодотворности заблуждения прошло одно открытие великого француза XVIII века Р. Декарта. Будучи не только математиком и естествоиспытателем, но и философом, Р. Декарт, вооружившись теорией вихревых движений материальных частиц, нарисовал картину перемещений небесных тел. Та вихревая композиция легла структурой его ошибочной теории света. Но удивительное дело: отталкиваясь от нее, он выводит вполне безошибочный закон преломления светового луча на границе двух сред. И еще удивительнее, что им найдены многоликие приложения этого закона в практике оптических инструментов.
Если уж заговорили о Декарте, то столь же ошибочной оказывалась его вера в идею «животных духов». Но сообразуясь с нею, он развернул учение о рефлексе, показавшем столь богатое содержание.
Часто происходит так, что цель, поставленная перед собой исследователем, научно безнадежна. И не только для его времени, но и, как показывает история, на будущие эпохи. Тем не менее, устремляясь к этой проигрышной цели, преследуя ее, доказывая, проводя эксперимент, ученый порой добывает вовсе не бесполезные результаты либо закладывает ценные программы.
Одно из подобных счастливых заблуждений связано с именем И. Ньютона: изобретение им зеркального телескопа, у истоков которого лежит ошибка. А дело обстояло так.
Ученый проводил известные опыты по разложению света на цвета. Наряду со стеклянными он испытывал также призмы, заполненные водой, и получил идентичный результат. Это дало основание сделать вывод, что разложение белого света на составные зависит не от материала призм, а лишь от их конфигурации.
Тут ошибка. Настаивая на ней, Ньютон стал одну за другой готовить водяные линзы, а чтобы они были прозрачнее, добавлял к воде свинцовый сахар (ацетат свинца, имеющий сладковатый привкус). Однако, поступая так, великий физик не учел одного. Добавление свинца увеличивает плотность воды настолько, что она по оптическим свойствам приближается к стеклу. Тем временем, уверовав в истинность своего вывода о зависимости свойств линзы лишь от внешней формы, Ньютон предложил вместо линз идти при изготовлении телескопа принципиально иным путем — применить зеркало. Ныне использование зеркального телескопа приобрело всеобщее распространение, но обязано это движение, как видим, ошибке.
Поучительна биография воздушного шара. В 1783 году братья Жозеф и Этьен Монгольфье из провинциального французского городка Аннон соорудили огромный шар, надеясь с помощью дыма поднять его в воздух. Наполненный дымом при сжигании соломы и шерсти (запомним эту смесь) шар, к великой радости братьев и удивлению горожан, оторвался от земли и ушел ввысь.
Подъемная сила была получена благодаря разности температур теплого дыма в шаре и окружающего холодного воздуха. Таково научное объяснение случившегося. Однако изобретатели держались на сей счет совсем иных привязанностей. По их представлениям, одновременное сжигание шерсти и соломы соединяет животное начало с растительным и образует дым, якобы обладающий… электрическими свойствами. Поскольку в ту пору сведения об электричестве были весьма шаткими, то на электричество можно было списать все.
Такова родословная таинственной подъемной силы. Здесь цель оправдала теоретически сомнительные средства. Хотя в конечном исходе получили то, к чему шли, но добились того совсем не по той статье, на которую вели расчет.
Был полный успех. Правда, он выпал не сразу. На долю Монгольфье достались и годы ожиданий, недоверия. Постепенно отношение к воздушному шару менялось. И вот запуск повторяет уже профессор Парижского университета Ж. Шарль, конечно, подводя под эксперимент научные основания. Это произошло на глазах изумленной столичной публики. О событии заговорили повсюду, а дамы высшего света начали даже шить юбки в виде воздушных шаров. Кончилось тем, что еще не гильотинированный тогда король Людовик XVI распорядился (верно, после долгих проволочек) отпустить средства на исследования полетов. Вызвав братьев в Париж, он пожаловал им дворянский титул, на гербе которого художник записал: «Так поднимаются к звездам». Поднимались, как видим, ошибочным путем.
Ложная идея руководила И. Кеплером, когда он искал законы, управляющие движением планет. Ученый был убежден, что планеты обладают сознанием, и законы свои открыл не без доли участия этой несуразной мысли об осознанности небесными телами своих «поступков»: по «умно» проложенным орбитам. Но что И. Кеплер, если века спустя вожди копенгагенской группы наделили электрон «свободой воли», чтобы объяснить странности в квантовом королевстве!
Положим, мы ведем речь об идеях, которые несли ошибочные установки, но сами по себе еще не составляли фактической основы для построения новой истины. Обратимся к ошибкам иного рода, когда научный вывод покоился на искаженных результатах измерений, на неверных экспериментах. Казалось бы, уж здесь-то ошибка ничего хорошего не обещает, наоборот. Но странное дело. Порой научное открытие, притом значительное, становится возможным только потому, что в розыск были вовлечены ложные сведения. Заявим еще решительнее: если бы исследователь располагал достоверным значением, открытия не состоялось бы.
Десятилетиями следил датский астроном XVI века Тихо де Браге за передвижением планет. Особый интерес отдал Марсу, собрав детальную информацию о его «поведении» на небесной тверди. Опираясь на эти показания, ученик Т. де Браге И. Кеплер оповестил мир о знаменитых законах, в их числе — закон об эллиптической форме планетных орбит.
Однако позднее выяснилось, что наблюдения де Браге неточны настолько, что, знай Кеплер всю правду, добытую последующей работой, все возмущения, по тем временам от науки еще сокрытые, он не смог бы выявить путь Марса в его, так сказать, «чистой» форме, то есть вывести закон.
Так что же произошло? Какова теоретико-познавательная подоплека этого события, обернувшего ошибочное и, по существу, бесполезное знание в ценную информацию? Неточности, допущенные Т. де Браге (и обусловленные уровнем наблюдательной техники его времени), как бы провели те упрощения, которые следовало провести И. Кеплеру, вообще любому, взявшемуся за этот предмет. Сии упрощения и позволили за сложными и громоздкими формулами вычисления орбиты усмотреть истинный путь перемещения планеты, отказавшись от общепринятого тогда мнения, что планеты движутся по окружностям — мнения, искажающего их законный бег. Неточность сыграла роль своего рода решета, которое, просеяв частности, спасло общее, помогло пройти через подробности и поймать существо дела.
Поучительный случай на подобную же тему имел место в творчестве К. Максвелла (вторая половина прошедшего века).
Свои знаменитые уравнения электродинамики он вырабатывал, опираясь на догадку единоутробного происхождения света и электромагнетизма. Но, вынашивая эту глубокую мысль, ученый использовал, с одной стороны, данные скорости света, измеренные еще посреди XIX столетия А. Физо, и с другой стороны — соотношения между статистическими и динамическими единицами электричества, которые были определены немецкими исследователями того же XIX века Ф. Кольраушем и В. Вебером. Однако самое интересное состояло в том, что хотя результаты А. Физо, как и немецких естествоиспытателей, ошибочны, тем не менее они удивительным образом совпали ровно настолько, чтобы можно было сделать необходимые выводы. И вот, сравнивая показания электромагнитных экспериментов Ф. Кольрауша и В. Вебера со значениями скорости света, вычисленными А. Физо, К. Максвелл и пришел к мысли, что упругость магнитной среды в воздухе подобна той, которую имеет светоносная среда, и что, следовательно, всего скорее это одна и та же среда.
Так, неверные по отдельности сведения, сложившись воедино, показали верный результат. А что, если бы К. Максвелл знал истинные значения только одного из слагаемых: скорость электромагнитных поперечных колебаний в воздухе или же скорость света? Приходится, конечно, лишь гадать, смог ли бы он тогда выдвинуть идею о единой природе света и электромагнетизма. Едва ли. Ведь расхождение было бы налицо. Во всяком случае, историографы науки усиленно в том сомневаются.
Получилось, что из ошибочных и по всем статьям бесполезных знаний выросла полезная теория. В свое время известный австрийский физик XIX века Л. Больцман так отозвался на этот интересный эпизод науки: «Гениальные уравнения Максвелла выведены неправильно, но сами они правильны. Не бог ли начертал их?» Вот и получается: верно, потому что неправильно.
Нам не хотелось бы оставить ощущение, будто описанные ситуации исключительны и несут печать случайности. Расскажем еще об одном событии, подготовившем, благодаря наличию ошибки, выдающееся открытие в науке.
В начале XIX столетия английский врач В. Праут высказал гипотезу, впоследствии блестяще подтвердившуюся, что атомы всех химических элементов образовались из атомов водорода путем их «конденсации». Фактически то была первая научная догадка о сложном строении атомов вещества. Этот вывод покоился на грубых, весьма «округло» взятых при определении атомных весов и потому ошибочных данных. Однако такие округленные сведения принесли добрую услугу, позволив В. Прауту высказать свое предположение. Будь к тому времени атомные веса измерены точнее, скажем, как того добились к середине XIX века Ж. Дюма и С. Стас, В. Прауту предстала бы иная картина химических связей. На той основе ему вряд ли удалось бы так четко увидеть закон кратных отношений.
Быть может, читатель отметит, что все это происходило в давние времена, когда наука, еще не будучи столь изощренной, могла в силу того строиться на недоразумениях и сбоях. Короче сказать, стоило бы поискать подходящие случаи в сегодняшних днях. Они есть, и об одном событии, решительно повлиявшем на ход исследований в атомном веке, сейчас поведем речь. Дело касается трансурановых элементов.
Известный итальянский физик Э. Ферми, изучая взаимодействие медленных нейтронов с различными ядрами, обнаружил, что при этом имеет место активное поглощение нейтронов, сопровождаемое ядерными превращениями. Так он дошел до урана и, работая с ним, получил ряд новых изотопов, то есть разновидностей этого же элемента, различающихся лишь массой атомов. Однако ученый посчитал, что перед ним не изотопы, а новые, так называемые трансурановые (то есть располагающиеся за ураном) элементы, доселе неизвестные. Это обернулось ошибкой. Последовавшие события показали, что Э. Ферми наблюдал не трансурановое семейство, а нечто иное. Но было уже поздно: статья ушла в печать и — не в пример нашей сегодняшней издательской норме — быстро получила огласку, приковав внимание ученого мира.
Э. Ферми глубоко переживал ошибку и до конца так и не мог простить себе оплошность. Однако поистине ошибки великого гениальны. По следам Э. Ферми многие физики повели интенсивные наблюдения, проверки, что же он в конечном счете видел. Эти и другие исследования показали, что захват нейтрона ураном действительно приводит к образованию нового элемента — нептуния, нептуний превращается в плутоний, и так далее. То есть налицо трансурановый ряд. Затем последовали новые работы в области атомного ядра, и наконец О. Ган и Ф. Штрасман открыли его деление.
Так ошибка определила интерес, показала район поисков и в общем-то невольно повлекла за собой большие открытия. Не соверши Э. Ферми того неверного шага, «правильный» ход вещей, безусловно, все равно привел бы физику к трансурановому ряду, да только на известное время позднее.
Состоялось знакомство с заблуждениями, так сказать, непреднамеренного сбоя. Но история науки богата и предсказуемо ошибочными событиями, в которых ученый, проводя исследование, составляя теорию, знал, что идет ложным путем, тем не менее продолжал идти, более того, извлекал удачу.
Еще в XVII столетии математики повсеместно и прилюдно «грешили» правилом фальсификации. Приступая к решению линейного уравнения, сознательно и не таясь, начинали с заведомо ошибочного предположения, которое поэтапно улучшалось и доводилось до необходимой кондиции. Прием именовали «методом последовательных приближений». И хотя он допускал неверность, с его поддержкой удавалось дотянуться до решения задач.
Порой санкционированное заблуждение веками исповедовалось наукой, не желавшей с ним расставаться, несмотря на явную, публично признаваемую ошибочность.
Идея эфира родилась как представление о своеобразном веществе, которое размещается в пространстве между телами, являясь проводником различных воздействий, вначале механических, позднее гравитационных и еще спустя время — электромагнитных. Авторство отдают Р. Декарту. Удаленные расстоянием тела не достают друг друга, чтобы как-то «общаться». Нужен посредник. На эту роль Р. Декарт и назначил особое вещество — эфир.
Гипотеза понравилась, началась ее эксплуатация. Одним из первых пустил ее в дело «враг гипотез» И. Ньютон. Его слова: «Предполагается, что существует некая эфирная среда, во многом имеющая то же строение, что и воздух, но значительно более разреженная, тонкая, упругая». Опытных подтверждений такому допущению никаких, одни спекуляции и фантазии. «Однако, — продолжает Ньютон об эфирной материи, — во избежание многословия и для более удобного представления я буду иногда говорить о ней, будто бы я ее принял и верю в нее».
Возникает достаточно деликатная ситуация. Понятию эфира в природе ничто не откликается. Более того, на ошибочном допущении строится ошибочная теория. И вот парадокс: применение теории дает результат. Этим воспользовался прежде всего сам И. Ньютон: создавая корпускулярную концепцию света, он погрузил светоносные частицы в эфир. Но и его соперник, французский физик О. Френель, выставляя конкурентную волновую гипотезу, также делал ставку на эфир, волны которого и несли у него свет.
Эфирная эпопея достигла кульминации, когда появилась идея электромагнетизма. Распорядитель новых полей К. Максвелл объявил электромагнитные волны особыми натяжениями эфира. С ним, с эфиром, не захотели расстаться ни Г. Герц, ни Г. Лоренц. А Лоренцу, например, он был совсем не нужен и оставался у него в качестве неподвижной среды. Эфир проник на службу даже к А. Эйнштейну, хотя именно он и добил его, расчистив почву новым безэфирным представлениям.
Так, будучи ложным, стало быть, бесполезным, более того, в известных отношениях — вредоносным (а вовсе не светоносным), понятие эфира сохранялось, поддерживая преемственность познавательной деятельности. В частности, оно содействовало формированию в прошлом веке теории поля, которая и заставила в последнем счете идею эфира уйти в отставку, взяв его объяснительную задачу на свои плечи.
Описанный прием допущения в научный обиход заведомо недостоверной посылки практикуется и посейчас. Специалисты обращают внимание, например, на теорию ядерных сил, построенную советским академиком И. Таммом. В ее основе заложено неправильное представление, суть которого в следующем.
Согласно теории Тамма, один из нуклонов (то есть составляющих ядро элементарных частиц — протон или нейтрон) испускает электрон (а захочет — позитрон) плюс нейтрино. Однако, в соответствии с современными взглядами, это неверно, поскольку выяснилось, что ядерные процедуры обеспечены совсем другими событиями: испусканием π-мезонов. Вместе с тем сама мысль, что в глубине ядерных столкновений вершатся подобного рода дела, связанные с испусканием и поглощением частиц, оказалась плодоносной. Она и навела впоследствии на истинных виновников происходящего — на π-мезоны.
При решении вычислительных задач из области микропроцессов в ходу широко используемый способ перенормировки. В случаях определения некоторых величин (длины волны, массы и заряда частицы), связанных с большими энергиями, действующими в малых пространствах, образуются бесконечные значения, что явно абсурдно. Чтобы от этого избавиться, из одной бесконечной величины вычитают другую. В итоге оказывается, что полученная разность соответствует данным эксперимента.
Согласие с опытом и подтолкнуло взять этот искусственный, алогичный прием на вооружение. Многие физики полагают, что метод перенормировки в будущем не сохранится, ибо совпадение результата вычислений с опытно-данными — счастливая случайность. Вместе с тем все сильнее утверждается мысль, что такое совпадение не может быть случайным и что за ним стоят некоторые объективные основания, которые еще предстоит раскрыть.
Если говорить конкретно, то работают так. Окольно, отнюдь не владея опытным подтверждением, вводится спекулятивное образование «голый электрон». Потому «голый», что не обладает зарядом. Это нелепость, но для начала такое подходит. А потом, на должной стадии развития теории, заряд таки вводится, спасая электрон и превращая его в полновесную частицу.
Как видим, сплошные приписки, если не выразиться посильнее — извращения. Р. Фейнман написал об этом следующее: «Люди так набили руку на том, как им прятать мусор под ковер, что порой начинает казаться, будто это не так уж серьезно». Однако, как бы то ни квалифицировать, факт есть: использование заведомо ошибочного приема, будущее которого поставлено под сомнение, тем не менее дает успех.
Подобные казусы наводят методологов на мысль, что при построении и использовании теории вообще без ошибок и даже несущественных сознательных искажений не обойтись. Ученый умеет хитроумно кое о чем умолчать, отодвинуть несущественное или несуществующее, а в иные моменты и того решительнее — свободно обойтись и с самими фактами. М. Борн обозначил это как «мелкое жульничество». Все же сходятся на том, что подобное «озорство» неопасно, поскольку наука способна очищаться от ошибок, сберегая все ценное.
Здесь мы вышли к одной важной особенности познания. Обратимся за подробностями.
Взгляд на историческую глубину убеждает, что, впадая в ошибки и недоразумения, не зарекаясь от заблуждений, наука настойчиво идет к цели. Можно сказать, она утилизирует все, все берет себе на службу: и успехи и отступления. Но вот вопрос. Положим, успехи — это действительно прибавка к сумме истин, это движение по оси прогресса. Однако ошибки-то находятся в ряду помех, кои обычно сдерживают восхождение! Так могут ли они вносить пользу в общую долю? И вообще, надо ли проявлять к ним методологическую терпимость?
Как мы пытались подтвердить, безошибочным знанию не бывать. Страсть же во что бы то ни стало разоблачить ошибку, изгнать ее из науки может откликнуться невозместимыми утратами, когда вместе с ложным, точнее принимаемым за ложное, уйдет и ценное содержание. Очевидно, проблема не в этом. Проблема в том, умеет ли наука корректно обходиться с заблуждениями: способна ли она не дать им разрастись и увлечь себя по неверному пути, равно как и обернуть ошибки себе на пользу?
Здесь стоит заявить о такой закономерности науки, как самокоррекция, и извлечь из этого подходящие методологические следствия.
Познание владеет замечательным свойством преодоления и изъятия (по мере своего продвижения) ошибок и промахов, допущенных прежними авторитетами. Можно сказать так. Если уж ошибка произошла, рано или поздно она найдется, заявит о себе и, как поучает народная мудрость, когда пыль рассеется, станет видно, едешь ли ты на лошади или на осле. Отсюда следуют, по крайней мере, два вывода.
Под действием механизма самокоррекции ошибки не столь уж опасны. Опаснее другое: принять достоверный результат заблуждением и отлучить его от науки. Такая ситуация позволяет (а может быть, заставляет) рисковать. Пусть будут сбои, уклонения, неверные шаги. Но мы подстрахованы тем, что знание расположено к самоочищению и все прегрешения могут быть и должны быть исправлены. Говорят же: «Наука безупречна, а заблуждаются ученые».
И второе: коль скоро наука самокорректируется и благодаря этому самосохраняется, внешний контроль над нею теряет власть. Опираясь на внутренние силы, учиняя собственный «внутриведомственный» надзор, она сама справляется с ошибками. Но, конечно, эти силы должны быть запущены и действовать в форме ли «организованного скептицизма», сомнения или критики, словом, всего набора механизмов, гарантирующих процедуру самокоррекции.
Уяснив роль заблуждений в конкретных ситуациях в науке, переведем разговор в несколько иное течение. Будем итожить рассуждения на уровне, так сказать, философии вопроса: каков теоретический подтекст полезности ошибок и как поступать при встречах с ними?
Если обобщить широкую практику познания, то во всех случаях, связанных с заблуждениями, следует такой ответ: «На ошибках учатся». Этот методологический приговор, уходящий к истокам народной мудрости, и хотелось бы развернуть на примерах из области научных исканий.
Ученые тоже учатся, и в немалой степени на своих и чужих промахах. Выявление ошибок предупреждает их повторение и тем самым сокращает усилия исследователей, ибо по пути, ведущему к браку, больше уже не пойдут. Если же ошибку не поправить сегодня, завтра она умножится, разрастется и принесет урон, гораздо более опустошительный, чем когда ее пресекут вначале. Собственно, заблуждение есть одна из попыток, которую исследователь, вообще наука, взятая как совокупный исследователь, может, получив отрицательный ответ, отставить, забыть и дальше на этот путь уже не растрачиваться.
Но еще полезнее выяснить, почему возникла ошибка. Ведь если она произошла, значит, быть тому, и какие-то причины имеются? Тогда просто надо пропустить ход рассуждения сквозь строй настороженного внимания, памятуя, что одна ошибка способна обучить гораздо большему, чем десятки благополучных исходов.
Особенно же плодотворно изучение ошибок великих. Выдающиеся умы владеют даром интуиции, которая проникает сквозь толщу еще неясных фактов к скрытым основаниям. Потому заблуждение порой и может (не хуже, чем истина) показать какие-то важные с точки зрения метода поиска повороты мысли, упускаемые при «нормальном» исследовании.
Вот что рассказывает один из учеников К. Максвелла, Г. Лэмб. Учитель не слыл добротным лектором, к тому же приходил на занятия без записей. Выводя у доски формулы, он часто сбивался, допускал ошибки. Но, именно наблюдая, как Максвелл искал и исправлял свои ошибки, Лэмб, по его признанию, научился большему, чем из многих прочитанных книг. По этому поводу П. Капица мудро заметил: «Ничто так не поучительно, как заблуждения гения». Присоединим к этому высказывание известного русского публициста, литератора и критика прошлого столетия Павла Анненкова об А. Герцене, что даже его ошибки несли печать гениальности и привлекали внимание; их не так-то просто было опровергнуть.
В этой связи стоит прислушаться к одному методическому совету немецкого физика XIX века Г. Гельмгольца. Верно ли мы поступаем, размышляет он, когда, излагая добытый результат, оставляем лишь путь, который вел к истине, но опускаем побочные линии, ошибки, зигзаги и отступления? Ученый склоняется к тому, что вместе с правильной дорогой следовало бы рассказать и о блужданиях, которые так хорошо видны с высоты достигнутого знания и которые могли бы многому научить молодую научную смену.
Осознание ошибки, или, как выражаются философы, рефлексия над ошибкой, может стать полезным тем, что «сбивает» с выверенной господствующей научной нормы и выводит на дорогу к новым парадигмам, запрещенным сегодняшней наукой. Заблуждение вносит «возмущение», но в силу этого обогащает арсенал познавательных средств, пригодных если и не в этом конкретном исследовании, то при иных обстоятельствах.
Наконец, поскольку ошибка — один из вариантов движения к цели, ее роль также и в том, что она позволяет сравнить два варианта: ошибочный и тот, который дал правильные результаты, благодаря чему уточнить, развить этот последний, а может, и оснастить его за счет правильных моментов того неправильного решения (в котором не все же ошибочно!).
Наверное, ошибки несут и еще какие-то ценности, поскольку истина и заблуждение не всегда проявляются в чистом виде и не лежат рядом, а вместе и одновременно входят в наше сознание, оставаясь противоположными, диалектически связанными его моментами.
Заключаем. Поскольку без ошибок не обойтись, от них не избавиться, то, по существу, познание каждого нового явления проходит через заблуждения. Ими заполнены искания и отдельного ученого, и коллективов, и даже целых этапов в развитии науки. Однако ошибки составляют не только теневой фон жизни науки. Вместе с тем они даруют ценности, воспользовавшись которыми познанию удается пройти дальше и вглубь.
Постулат полезности бесполезного знания и эксперимент чудака
Расскажем теперь о превратностях науки, когда речь идет про события, которые воспринимаются поначалу (особенно современниками) как несерьезные, несущие печать чудачества и потому бесплодные; считаются не как ошибки или заблуждения, тем паче не гипотезы, а просто как бездумное, пустое расходование сил. Однако с позиций более высоких истин многое видится по-другому, проступают иные черты, выносятся иные определения.
Более всего это касается оценок, разделенных толщей времен, оценок, которые разведены опытом целых поколений исследователей, потому показывающих, как бесполезное знание способно оборачиваться полезным.
Признанной областью пустопорожнего приложения ума считалась и продолжает считаться схоластическая философия. Такова предвзятость и такова традиция. Но все ли здесь ладно?
Если брать схоластику в историческом плане, то она противостояла средневековому мистицизму и уже одним этим завоевывает уважение. Мистицизм утверждал возможность постижения истин на пути сверхчувственного созерцания, откровений и экстаза. Философия схоластов, напротив, обращалась за доказательствами к силе разума и именно к его способности рассуждать об окружающем на основе четких, логически выверенных шагов.
Но схоласты, как и мистики, часто брали темой далекие от жизни вопросы. Немалое место занимали в их занятиях проблемы христианской догматики. Это и предопределило характер их исследований, стиль мышления и действования. Имя их стало нарицательным. Очутившись в плену беспочвенных сюжетов, схоласты решали такие, скажем, темы: умываются ли ангелы, сколько чертей можно уместить на конце булавочной иглы.
Даже в тех случаях, когда предмет спора был, что называется, земной, поддающийся прямому наблюдению, осязаемый, даже и тогда схоласты выдерживали равнение, не изменяя профилю словесных баталий.
Однажды во дворике Парижского университета сошлись в жарком споре два видных средневековых философа — Фома Аквинский («ангельский доктор») и Альбрехт Великий («универсальный доктор»). Вопрос был поставлен решительно: «Есть ли у крота глаза?» Несколько часов бились доктора, однако ни один не хотел уступать. Их тяжбу услышал садовник и поспешил на помощь: «За чем дело стало? Я мигом доставлю настоящего крота, вы и увидите…» — «Ни в коем случае, — возразили схоласты, — мы спорим в принципе. Есть ли в принципе у крота глаза?»
Не так ли рассуждаем порой и мы, современные философы, оторвавшись от земных дел, выискивая признаки то ли развитого, то ли зрелого, то ли недозрелого социализма?
Но каков предмет, таковы и приемы полемики — изощренное умствование с помощью логических уверток, софизмов, ссылок на авторитеты, лишь бы загнать противника в угол. Много усилий было брошено на то, чтобы сгладить противоречия в церковных трактатах. Здесь особенно приходилось быть изобретательным, привлекая весь арсенал логических средств. Казалось бы, пустое занятие. И тем не менее…
Чтобы устоять в диспутах, а пуще того — победить, надо было обладать не только гибким умом, но и аппаратом логики. Мало владеть, приходилось, сообразуясь с обстановкой, кое-что созидать, развивая логические учения, пополняя их новыми операциями и правилами. Можно назвать десятки проблем, которые схоласты если и не решили, то, по крайней мере, поставили. И здесь мы прямой дорогой выходим на современность, протягивая нити от схоластических занятий к нашим дням.
Схоласты сумели предвосхитить, хотя бы и отдаленно, некоторые идеи современной математической логики.
Ориентация на формализм, схематизацию рассуждений несла то ценное, что позволяло разбивать текст на логические единицы и применять к ним четкие правила оперирования с такими единицами. В этих занятиях, в этих увлечениях формальными методами схоластам удалось наметить пунктиры будущих исканий в области «машинизации» мышления.
Наиболее преуспел здесь философ и богослов конца XIII — начала XIV столетия Раймунд Луллий из ордена францисканцев, оставивший эти заветные идеи в знаменитой книге «Великое искусство» («Ars magna»). Он же построил «логическую машину». Она представляла семь вращающихся на одной оси кругов, на каждом из которых записаны понятия и операции («равенство», «различие», «противоречие» и т. п.). Так как круги вращались независимо друг от друга, то можно было получать многообразные сочетания понятий.
Эстафету-палочку принял Г. Лейбниц, основатель символической логики и, по выражению Н. Винера, «святой покровитель кибернетики». В его идеях универсальной символики и логического исчисления по праву усматривают зародыш «думающей машины». В частности, Г. Лейбниц надеялся средствами логических формализмов разрешать многие досадные столкновения. «Зачем ссориться, зачем враждовать? — говорил он. — Сядем и будем вычислять».
Но не только логической эквилибристикой знатны схоласты. От них осталось немало ценных философских проблем, методологических разработок, открытий в области теории познания.
К заслугам схоластов следует отнести идею разграничения области знания и веры. К последней они причисляли и догмы религиозного учения, исключив их тем самым из сферы науки. Богословие, по их убеждению, не принадлежит к разряду научных дисциплин. Так рождалась концепция двух истин. Пионерами в этой области были английские схоласты Д. Скотт и В. Оккам. Хотя бы так, хотя бы пока компромисс: пусть религия решает свои темы, а наука — свои, важно признать независимость ученого от церковных догм. Мысль до той поры достаточно смелая и отнюдь не утвердившаяся в правах: церковь была еще вполне всевластна, чтобы подмять под себя науку вместе с ее притязаниями на особое мнение, а смельчаков отправить на костер.
Постепенно наука все сильнее разграничивалась с религией. Но вот что интересно. Обнаруживается, что совершенно чуждая и чужая науке сфера религиозной догматики порой включается в научный поиск и вопреки общепринятой норме и практике поведения ученого, иногда вопреки его убеждениям начинает играть там позитивную роль.
То, что религия со временем покорилась обстоятельствам, признав право науки на жизнь и даже используя ее достижения, давно известно — чуда здесь нет. Однако из этого вовсе не следует, что и наука стала терпимее к религии. Снисходительнее — может быть, но не более. Если церковь готова на известный компромисс с наукой, то последняя ничем из своих завоеваний поступаться не станет.
В плане этих рассуждений, конечно же, выглядит алогичным обращение ученого за помощью к религии в делах сугубо исследовательских. Подчеркиваем, обращение не в личных надобностях, скажем, в поисках веры, обретения душевного покоя, смирения, но именно ДЛЯ решения научных проблем. А такое случалось. Редко, но случалось. О том и хотелось бы сказать. Зачем? Что могут прояснить такие факты? Какие новые грани исследовательской работы они помогут отыскать?
Представляется важным показать, что на пути научного поиска никакое знание не может оказаться лишним, что и при решении познавательной задачи полезно вовлекать всю наличную информацию, оживляя так называемую «вторую эрудицию».
Обычно исследователь «зовет» на помощь лишь то знание, которое лежит близко к предмету его исканий, и ему кажется, что именно это близкое и поможет открытию, а то и принесет ответ. Все иное, взятое из другой области науки, тем паче не из науки, а из религии, он отодвигает прочь как ненужное либо даже отвлекающее от дел.
Опыт же творческих озарений показывает, что догадка нередко приходит как раз со стороны. Она рождается из бытовых впечатлений (образ лестницы при построении молекулы ДНК, пудинг с изюмом в качестве модели атома у В. Томсона); на базе воспоминаний детства (образ наездницы цирка, возникший у Р. Турма при описании вылета электронов в ядерных взаимодействиях); часто помогают художественные ассоциации, навеянные произведениями искусства и т. д.
В этом же ряду и религиозные представления, несущие ученому косвенную подсказку решения занимавшей его проблемы. Вот пример. Слово — законодателю движения планет по тверди небесной Иоганну Кеплеру.
Он учился в Тюбингенском университете богословию и философии, а по окончании должен был работать священником. Однако университетские власти его «распределили» учителем математики в город Гратц. Вначале он сожалел о таком повороте судьбы, однако вскоре притерпелся, заявив: «Благодаря моим усилиям бог прославляется и в астрономии». Так будущий ученый помирил жизненные установки с новой профессией, не забыв свое теологическое происхождение. Оно дало о себе знать, наложив след на его воображение, отозвалось в подходе к предмету исследований и запечатлелось даже в манере изложения мысли.
Создавая картину мира, И. Кеплер проводит аналогию со святой троицей. В центре сферы у него Солнце (бог-отец), а по ее поверхности и объему как бы разлиты два других божества: бог-сын и бог — дух святой.
Но суть не просто в этой внешней атрибутике, настоянной на религиозной терминологии. И. Кеплер был беззаветным последователем идеи Н. Коперника, глубоко веря в гелиоцентрическую «застройку» Вселенной. Эта страсть и руководила им в поисках закономерностей движения планет, религиозная же догма легла моделью для описания мирового порядка, став опорой в его исканиях природной гармонии. Теологическое воспитание, внушив идею стягивающего воедино центра, эвристически помогло гелиоцентризму. И. Кеплер записывает: «В середине всего, не двигаясь, покоится Солнце. Действительно, кто в этом наипрекраснейшем храме не поместил бы источник света в то место, откуда он смог бы освещать все остальное!»
Веря в порядок и совершенство Вселенной, И. Кеплер рассматривает Солнце как физический центр, объединяющий систему планет и небесных тел в одно целое и удерживающий их вместе. Этим ученый предвосхитил идею всемирного тяготения, утверждая, например, что существует некая универсальная физическая сила, родственная магнетизму и пронизывающая все окрест. Далее, Солнце, по Кеплеру, есть математический центр, благодаря чему возможно научное описание движения планет. Наконец, Солнце выступает теологическим центром, чем и достигается порядок и мировая гармония.
Уровень научных воззрений того времени (конец XVI — начало XVII столетия) и наблюдательные данные были еще недостаточны для тех решительных заявлений о строении мира, которые произнес И. Кеплер. И в том, что он все же сделал их, просматривается его глубокое чутье, его вера в природную законосообразность, в которой он усматривал божественное начало.
Вместе с тем это не стоит преувеличивать. Она, вера, сыграла свою роль, но не исключительную и, видимо, даже не первую. Вот признание И. Кеплера: «Моя цель состоит в том, чтобы показать, что небесная машина должна быть похожа не на божественный организм, а скорее на часовой механизм, поскольку все разнообразие движений вызывается одной-единственной и весьма простой магнитной силой». Все же научный подход брал в конечном счете верх над теологическим восприятием.
Активно обсуждавшаяся схоластами концепция триединства божия сыграла еще одну эвристическую роль в научном исследовании. Дело касается одной из теорем теории множеств немецкого же математика конца XIX века Г. Кантора.
Как показал Г. Кантор, в случае бесконечных множеств теряло силу извечно утверждаемое математикой и всем жизненным опытом человечества положение, что «часть меньше целого». Получалось, будто часть равна целому, тому целому, частью которого она является.
Берем натуральный ряд и сопоставим множество чисел ряда и множество квадратов этих чисел соответственно:
1, 2, 3, 4, 5… n;
1, 4, 9, 16, 25… n2.
Совершенно четко видно, что второе, нижнее семейство (где собраны лишь квадраты чисел) — только часть первого, верхнего. Наверху ряд развертывается последовательно, а нижний ряд с пропусками: 1 и сразу 4 (растеряв 2 и 3); 4 и рядом уже 9 (с утратой чисел 5, 6, 7, 8). А дальше «провалы» все внушительнее, когда теряются уже целые «гирлянды» числовых значений, например, между числами 16, 25, 36 и т. д. Итак, убеждаемся, что нижнее множество — лишь часть верхнего. А между тем множества эти равны, эквивалентны, второе ничуть не меньше первого. Как так?
Не забудем, что мы имеем дело с бесконечными совокупностями. Поэтому какое бы сколь угодно большое число верхнего множества мы ни взяли, его всегда можно возвести в квадрат, то есть получить в нижнем ряду соответствующий элемент. И наоборот, поскольку в нижнем ряду собраны только квадраты чисел, любому элементу нижнего ряда найдется соответствующий элемент верхнего ряда. Налицо равномощность множеств, их взаимнооднозначное соответствие. Это и показывает, что часть равна целому. Говорят, когда Г. Кантор провел доказательство теоремы, он воскликнул: «Я вижу это, но не верю этому!»
Однако какое отношение имеют ко всему сказанному схоласты? Оказывается, прямое. Среди вопросов, их занимавших, был и парадокс святой троицы. Согласно учению церкви бог един, но в трех лицах: бог-отец, бог-сын и бог — дух святой, Каждая из частей самостоятельна, но тождественна целому, то есть каждая ипостась троицы есть столь же бог, как и сам бог (просто бог).
Итак, часть равна целому. Г. Кантор, будучи человеком религиозным, знал это в подробностях и, как видим, продуктивно использовал в своем творчестве. Получилось, что автор теории множеств, доказав равенство части целому, «разрешил» также и парадокс триединства божия.
Выдающийся математик на рубеже XIX–XX столетий, соотечественник Г. Кантора, Ф. Клейн, рассматривая истоки указанных теоретико-множественных положений, прямо называет «виновника» — схоластическую философию. «Недаром, — писал Ф. Клейн, — Георг Кантор, творец теории множеств, учился у схоластов». Заметьте, не обращался, даже и не изучал, а именно учился у схоластов.
На связь идей Г. Кантора с положениями средневековой схоластики указывает и советский философ Б. Грязнов, более того, намек на это содержится и у самого Г. Кантора в статье «Учение о трансфинитном» (то есть сверхконечном, бесконечном).
Наконец, еще одно свидетельство в пользу плодотворности теологических представлений. Оказывается, некоторые размышления, проведенные известным чешским математиком XIX века Б. Больцано, опирались на идеи, посеянные все теми же средневековыми схоластами. Речь касается проблемы непрерывности. Как отмечает Ф. Клейн, те первые побуждения к своим исследованиям Б. Больцано почерпнул из схоластических традиций, которые он освоил благодаря своему богословскому образованию.
Характерно, что современники чешского ученого не понимали всей глубины этой темы, оценивая его старания как абсолютно бесплодные. Вот что писал, например, французский математик той поры С. Лакруа: «Подобные умствования… нам в настоящее время не нужны» — и выносит Б. Больцано буквально те же упреки, какие неизменно адресуют схоластам: спекулятивные упражнения, умствования, эквилибристика.
То была глубокая ошибка. Идея непрерывности не испытала «разрыва» после работ Б. Больцано. Более того, интерес к ней в ученом мире нарастал и в последующем оформился как одно из ведущих течений математической мысли. Нам еще предстоит к нему вернуться.
Как видим, в научном поиске все пригождается: любое значение, даже если оно теологического свойства, может оказаться в фокусе событий и выполнить отнюдь не теологическое назначение. Поэтому, находясь в состоянии поиска, устремляясь к решению познавательной задачи, исследователь должен как можно просторнее распахнуть свою душу, открыть все шлюзы интеллекта, чтобы быть готовым впустить любую мысль.
И если уж речь зашла о религии, отметим, что, будучи начальной формой освоения мира и потому предшествуя в этом качестве науке, она, по словам К. Маркса, явилась первой общей теорией этого мира, его «энциклопедическим содержанием», его логикой и моральной санкцией.
Теперь займемся другой составляющей объявленной главы — экспериментами чудаков. Впрочем, Ч. Дарвин отозвался на эту тему куда решительнее — «эксперимент дурака». А дело происходило так.
Однажды, будучи уже всемирно известным, он увлекся странными опытами. Обнаружив, как ему показалось, чувствительность одного растения к звуковым колебаниям, великий натуралист попросил своего сына Френсиса поиграть близ этого растения на фаготе, а сам стал наблюдать. Подобные опыты он и окрестил «эксперимент дурака», закладывая, должно быть, тот смысл, что они не ставят цели непременно получить ожидаемый результат, а рассчитаны скорее на авось и проводятся просто так.
Подобные действия в известном смысле выпадают из нормы науки, ведутся, так сказать, не по правилам. Не зря же говорится: дуракам закон не писан; если писан, то не читан; если читан, то не понят; если понят, то не так. Однако не будем столь уж энергичны в выражениях и смягчим квалификацию до степени чудаков, ибо, как разъяснили еще древние, quod liceat Jovi, non liceat bovi — что позволено Юпитеру (сиречь Ч. Дарвину), то не позволено быку.
Итак, повествование пойдет о действительно необычных, внешне несуразных, порой, что называется, «диких» экспериментах. Но, удивительное дело, немалое число их оказалось вовсе не такими уж пустотелыми. В ряде случаев они дали результат, в ряде — посеяли плодоносные зерна. Но даже если они и не принесли плодов, хорошо уже то, что с их помощью иногда удается обозначить новые научные темы, наметить проблемы.
Одно из направлений приложения научных усилий — опыты на растениях, именно с той же целью, которой в свое время задался Ч. Дарвин: выяснить, не обладают ли они свойствами, движениями, сходными с теми, что отличают низших животных. Ч. Дарвину не удалось тогда извлечь из своих экспериментов что-либо стоящее. Однако опыты не были забыты, и вот уже в наши дни в разных вариантах и ситуациях их воспроизводят все новые и новые энтузиасты.
Есть они и в нашей стране: молодой исследователь В. Фетисов и умудренный годами и званиями профессор психологии В. Пушкин. Оба, как немало других, убеждены, что растениям свойственны реакции на проявленные поблизости от них человеком чувства страха, боли и восторга. Подводится детально разрабатываемая физиологическая основа, которая присваивает растительной клетке способность отвечать на процессы, разыгрывающиеся в нервной системе человека. Не обходится и без сенсационных заявлений вроде тех, что сделал американский криминалист Бакстер, якобы наблюдавший соответствующую реакцию цветка в присутствии преступника.
Увы! Большинство естествоиспытателей считают, что подобные сведения не выдерживают серьезной научной проверки.
И все же не будем выносить столь сурового решения. Ведь уже сколько раз человечество наблюдало, как сообщения, объявленные чепухой, ересью, несли зачатки новых тайн, правда, обретающих признание в другую эпоху, в другой культуре.
Может статься, что и в этих, страдающих чудачеством экспериментах лежит здоровое семя. Во всяком случае, основания для подобных выводов имеются.
Так, внимательное изучение показало, что растения имеют очень тонкую структуру, способную на достаточно «деликатные» реакции. Установлено, что корень умеет «откликаться» примерно на 50 различного рода химических и биологических воздействий, не говоря уже об ответах на притеснения, чинимые по отношению к нему с помощью физических и механических усилий. Весьма чувствительны и листья. Удивительно чувствительны, почти до стеснения. И ничего странного, ведь на каждом квадратном сантиметре поверхности лист владеет богатством в один миллион клеток, а в клетке до пяти миллиардов молекул различных ферментов.
Пойдем далее. Лист — хозяин многих систем передачи сигналов. Он рассылает их с помощью водных растворов, движением ионов, посредством аминокислот, определяя гонцов во все центральные и периферийные точки своей поверхности. А скорость движения сигналов довольно приличная для такой, не способной к перемещению в пространстве организации, какой является лист, равно и растение в целом, — 10–15 метров в час. Впрочем, когда поврежденный корень «сообщает» о поломке наверх, в «центр», скорость бывает и повыше, до 70–100 метров в час.
Так почему бы такой богатой структурами системе не научиться тонким реакциям? Отмечено же, что иные растения несовместимы и, оказавшись рядом, плохо развиваются, например, мари и кукуруза; многие растения не переносят соседства плюща, пырея и лебеды; ромашка «отворачивается» от пиретрума, а молодая виноградная лоза — от капусты. Зато явно симпатизируют друг другу люпин и овес, тополь и жимолость. Подобных фактов настолько много, что появилась даже специальная наука — аллелопатия, занимающаяся взаимоотношениями растений.
Конечно, до чувствительности животных, тем более человека, примитивным «растительным чувствам» еще далеко, но это не значит, что тему надо закрыть и лишить энтузиастов работы. Пусть даже они заблуждаются относительно «верности» или «неверности» растений, относительно симпатий и антипатий, эксперименты чудаков на растениях все равно приносят информацию, которая в чем-то окажется полезной.
Здесь мы поднимем уровень рассмотренной темы и коснемся чувствительности уже не растений, а животных. К этой проблеме приложили старания тоже немало чудаков эксперимента.
Исследователи обратили внимание на то, что ряд насекомых и животных обладает высокой способностью к восприятиям некоторых веществ. В частности, было известно еще со времен последней мировой войны, что лошади, верблюды и особенно собаки хорошо распознают нахождение вражеских мин. Они участвовали в обезвреживании минных полей и зданий, притом были порой надежнее, чем даже современная по тем дням техника. Собаки находили мины, взрывчатку там, где аппаратура вообще оказывалась бессильной, поскольку мина пряталась в деревянной коробке, защищенной от миноискателя. В одном из подразделений Калининского фронта действовал целый взвод, укомплектованный «специалистами» высшего разряда — собаками-миноискателями. А это несколько десятков «бойцов».
Затем уже в послевоенное время исследователи провели серии экспериментов, выявивших незаурядные таланты собак в розыске полезных ископаемых, в делах таможенной службы и по другим назначениям. В нашей стране, например, подобными исследованиями заняты ученые лаборатории Института геологии Карельского филиала Академии наук СССР. Они работают совместно с академическим же Институтом высшей нервной деятельности союзной академии. Профессором-геологом Г. Васильевым создан специальный метод кинологического (то есть использующего услуги собак) поиска полезных ископаемых. Надо ли оговаривать, что этот метод не мог быть выращен никак иначе, чем на экспериментах чудаков с собаками.
Упомянутым качеством собаки обязаны совершенству органов обоняния. Царь природы, человек, различает лишь несколько тысяч запахов, а рядовой щенок — около полумиллиона. Поэтому неудивительно, что собаки чуют мины, ископаемые подземелий, наркотики и т. п., чего не может уловить порой даже специальный прибор.
Наряду с этим обратили внимание и на сверхчувствительность живых организмов к акустическим колебаниям. Эксперименты (тоже не без примеси странности) дали однозначные подтверждения. Установлено, например, что кузнечик, «прописанный» в Подмосковье, способен улавливать толчки среднего землетрясения, случившегося в районе, скажем, островов… на Тихом океане. Это доступно ему потому, что он реагирует на колебания с амплитудой, равной половине диаметра атома водорода.
Биофизики Московского университета заинтересовались медузой: по каким источникам ей становится известным за 10–15 часов наперед приближение бури? Строго «допросили» медузу в эксперименте и создали прибор, способный предсказывать бурю. Он так и назван в честь прародительницы — «ухо медузы» (хотя никакого уха у нее, понятно, нет).
Мы предъявили эксперименты все же более или менее нацеленного характера. Нередко исследователь, проводя опыт, вначале никакой, хотя бы отдаленной, научной цели не ставит, а ставит эксперимент, можно сказать, бездумно: что получится, то и получится. Это неопределенно-значный эксперимент с большим разбросом предполагаемых исходов, — настоящее чудачество. Несколько иллюстраций.
В самом начале текущего века русский ботаник М. Цвет, взяв однажды раствор хлорофилла, пропустил его через стеклянную колонку, набитую мелом. Зачем это делал, и сам не знал, пропустил без всякого умысла, как бы забавы ради. К своему удивлению, он обнаружил, что зеленый цвет хлорофилла разделился на два оттенка — зеленый и желтый. Значение полученного результата осознали не сразу. Вначале даже посмеивались, обыгрывая момент совпадения фамилии экспериментатора и предмета его манипуляций: там и тут участвует цвет, только один раз с большой буквы, а в другой — с маленькой…
Между тем опыт принес новый метод, который стал впоследствии широко использоваться в экспериментальной химии. Порой он просто незаменим. В частности, в ситуации, когда исследователь не видит цвет раствора (реакция идет в закрытом от глаз сосуде). Однако с помощью метода можно определить цвет, зная лишь участвующие во взаимодействии компоненты. Кстати, в свое время сатирик Д. Свифт, издеваясь над бесплодностью занятий ученых из Логадо, рассказывал, как слепые академики смешивают краски, не видя, что смешивают. Открытие М. Цвета как раз и позволяет в условиях, так сказать, «слепоты» определять набор красок, используя специальный прибор спектрофотометр. Так в научный обиход вошло понятие «метод Цвета».
В известном смысле продолжением исследований М. Цвета является разработка английскими биохимиками Л. Мартином и Р. Синджем эффективного способа разделения сложных химических смесей — метода распределительной хроматографии, удостоенного в 1952 году Нобелевской премии.
«Проведем» еще один, поначалу столь же бездумный, эксперимент — выдувание мыльных пузырей. Занятие, что и говорить, пустое, недаром оно стало синонимом для обозначения различного рода бесполезного времяпрепровождения. И тем не менее даже к такому делу некоторые следопыты проявили интерес.
Сообщение из Швейцарии. Один увлеченный умелец собрал специальную машину, чтобы с ее помощью надуть, как выразился изобретатель, самый большой в мире мыльный пузырь. Его усердие окупилось: такой пузырь был получен, он достигал в длину трех метров.
По внешнему рисунку событие, конечно, просится в ряды потешных. Но сквозь толщи этого мнения постепенно пробивалась и другая струя. Прежде всего поняли ту истину, что эксперимент позволяет определить некоторые свойства мыльной пленки, ее поведение в экстремальных условиях (в частности, подобных тем, что возникают при столь усиленном натяжении). Затем «мыльная тема» вывела к решению таких задач, как поиск оптимальных структур при выборе вариантов архитектурных перекрытий, в сооружении различного вида строений и т. п.
Дело в том, что рассчитать в аналогичных случаях параметры конструкции сложно, и мыльный пузырь проявил себя здесь отличным материалом, которым можно «одеть» любой каркас, придав мыльной оболочке самые желанные очертания.
Кроме того, работа с мыльными пузырями оказалась полезной и в том, что позволяет взять их в качестве моделей при создании всевозможных сосудов, объемов, форм из самых различных материалов: например, конструирование шара из сверхтонкой стеклянной оболочки, предложенное американцем Д. Кросби. Наполненный гелием шар может зависать на заданной высоте и находиться в таком состоянии, как показывают расчеты, в течение тридцати лет. Хотя изобретение не вышло пока к практическим применениям, метод изготовления стеклянных шаров, имитирующих мыльные пузыри, запатентован и, надо полагать, найдет клиентуру в наш технически глубоко-эшелонированный век.
Наблюдая за манипуляциями современного американского физика Л. Кларка, мы бы, вероятно, не назвали его действия осмысленными. Он брал морскую свинку, привязывал к хвосту грузик и… опускал ее в сосуд с силиконовым маслом (вот настоящий «дикий» эксперимент). Однако еще больше удивляло то, что свинка как ни в чем не бывало продолжала дышать!
Оказывается, в силиконовом масле растворяется примерно столько же кислорода, сколько его содержится в воздухе. Это дало толчок дальнейшим поискам. Позднее (уже в 70–80-е годы) Л. Кларк после тысячных проб остановился на жидких фтористых соединениях, в которых находится до шестидесяти процентов кислорода. Это и ставит фтористые в ряд лучших заменителей воздуха, в составе которого кислород занимает около 21 процента по объему и 23 процента по весу.
Дальше опыты пошли с использованием соединений фтора уже в качестве не внешней, а внутренней среды организма, то есть как «заместителя» крови. Удалось получить безвредные и устойчивые эмульсии фторуглерода. Хорошо поглощая кислород, они легко отдают его клеткам организма, когда циркулируют в нем вместо крови. Сначала испытания шли на животных, вскоре назрел вопрос проверить на человеке. Появились и добровольцы. Японский профессор Р. Наито заменяет небольшую часть крови подобной эрзац-кровью. Он проводит эксперимент на себе. А дальше… дальше мы еще вернемся к этому сюжету, получившему в нашей стране многообещающее и в то же время трагическое развитие.
Присутствие чудаков полезно также тем, что вносит в обстановку разнообразие, да не просто разнообразие. Эти странные люди создают окрест поле напряжения. Своими предложениями они будят мысль, подогревая желания обсудить непричесанные фантазии, отвергнуть, а может быть, и подхватить их. Не случайно в кадровый состав некоторых исследовательских коллективов Америки специально включаются работники, мягко говоря, «чудаковатые».
«Подсаженный» таким способом научный сотрудник получил обозначение «дурак в коллективе». В общем-то, он, конечно, не дурак. Науковеды сходятся на том, что, когда в творческой группе остаются одни одаренные, высококлассные специалисты, качество научной продукции нередко падает. Стоит в такой коллектив внедрить чудака, как эффективность исследований возрастает. Своими совершенно наивными вопросами или безответственными заявлениями он будоражит умы, заставляя возражать, искать опровержения, вообще не скучать и благодаря этому поднимать тонус научной жизни.
Выступая на XI конгрессе по истории науки, проходившем в Варшаве, английские ученые-науковеды Д. Бернал и А. Маккей предложили включать в штатное расписание научно-исследовательских институтов должность «Сократа» или «королевского шута», приглашая на эту вакансию человека, способного «задавать глупые вопросы». Аналогия прозрачна. Шут короля — единственный в свите его величества человек, на которого не распространялись правила придворного этикета, и ему официально дозволено говорить глупости, выходя за рамки принятых сообществом норм поведения.
Теперь читателю явится новая, ныне распространенная категория чудаков.
По статье бесполезных знаний проходят не только знания, но и умения. Части их мы уже коснулись (говоря об экспериментах чудаков). Чтобы ставить такие опыты, надо уметь. Но этого требует любой опыт. Потому определяющим в экспериментах чудака являются все же знания, идеи, экстравагантные замыслы. А сейчас на авансцену выходят герои иного амплуа.
Речь пойдет об умельцах, точнее, сверхумельцах, мастерах микроминиатюр, работающих на границе с фантастикой.
Отрекомендуем лишь немногих. Мастер А. Сысолятин с Урала. Вот одно из его изделий. Перед нами крошка-столик. Его поверхность «расстилается» на площади в целых пять квадратных миллиметров, что примерно равно торцу обыкновенной спички. Но на этой площади разместились две шахматные армии — весь набор готовых к сражению войск, где каждая фигурка чуть выше полмиллиметра. Весят же они вместе со столиком всего около пяти граммов! Рассмотреть это диво можно только в микроскоп, а уже если играть, то не дыша.
Впрочем, есть шахматы еще миниатюрнее. В 1977 году на выставке уникальных работ народов СССР к шестидесятилетию Октября в Политехническом музее Москвы среди других удивительных вещей были и шахматные фигуры мастера Н. Сядристого. Каждая имела диаметр у основания шесть микрон, то есть 0,006 миллиметра, и высоту восемь микрон. Такое «сооружение» можно посадить на острие иглы: места вполне хватит, правда, без излишеств. В маковом зерне подобных изделий уместилось бы… читатель не поверит, три миллиона! Дотошные люди подсчитали, что из одного грамма золота мастер, под стать Сядристому, мог бы (конечно, при соответствующих условиях) изготовить таких фигур ровным счетом на каждого жителя Земли.
С одной миниатюрой связана забавная, хотя и не столь уж веселая история. Это зáмок, он раскинулся на территории, близкой поперечнику человеческого волоса. Так вот, зáмок пришлось «возводить» трижды, потому что два раза Сядристый его терял. Не где-то, а здесь же, на листке бумаги, когда вел строительство. Приходилось приниматься снова.
В режиме «мини-усилий» трудится и Э. Тер-Казарян. У него несколько иные привязанности — воспроизвести движение. Может быть, заявляет о себе профессия: он концертмейстер симфонического оркестра Армении, а миниатюрам отдает свободное время. Подобные миниатюры открывают новые горизонты — создание двигателей малого масштаба.
Летом 1975 года Э. Тер-Казарян показал в Москве свой «цветной телевизор», вмонтированный внутрь человеческого волоса. На экране микроскопические артисты исполняют армянский танец. Прошло четыре года, и мастер создает еще более уникальную композицию. Море. В его просторах корабль, над которым опускается багровое солнце. А на берегу Ч. Чаплин со своей неизменной тростью, которой отбивается от наседавших пиратов; ему помогают обезьяна, крокодил и змея. Картина приводится в движение электромоторчиком. Уникально! Недаром посетители выставки работ Э. Тер-Казаряна в США назвали его миниатюры «восьмым чудом света».
Каждому россиянину памятен народный умелец из Тулы Левша, сумевший еще в XIX веке подковать блоху. Однако то был всего только литературный герой. Но вымысел Н. Лескова стал явью наших дней. Пришло время, и уже реальные мастера подковывают реальную блоху. Это сделал Н. Сядристый. Сначала «приварил» медные подковы, потом золотые. Когда его спросили на выставке в Монреале, что было самым сложным, он ответил: «Достать блоху».
Но примечательно не только то, что писатель предвосхитил технические и исполнительские возможности более чем за сто лет. Встает вопрос: почему герой левша? Лишь совсем недавно группа французских врачей, ведомая Г. Аземором, установила, что у левшей реакция на несколько тысячных долей секунды быстрее, чем у «правоориентированных». Кажется, невелика прибавка, но в такой деликатной работе эти доли и оказываются решающими. Так, уже не в первый раз интуиция художника предвосхищает результат ученого. Отыскалась и причина. «Виновата» асимметрия мозга.
Понятно, создавать миниатюры сложно. Необходимы особые режимы труда. А. Сысолятин, например, прерывает работу, когда проходит поезд: сбивает перестук колес (из его квартиры это слышно). Дыхание мастера не должно мешать делу, потому стараются дышать ровно, а Н. Сядристый даже надевает на лицо марлю. Сердце тоже надо утихомиривать, либо, как это делает Э. Тер-Казарян, проводить работу в те короткие промежутки, что образуются между ударами сердца.
Однако мы увлеклись. Наверное, у читателя уже давно зреет вопрос. Для чего все это? Не остаются ли созданные с таким тщанием миниатюры обыкновенной забавой? Действительно, в глазах иных микроумельцы — типичные чудаки, увлеченные бесполезным делом.
Конечно, мы обратились к ним не ради того, чтобы поразить воображение, хотя, откровенно заметить, пробивается и такой мотив: гордость за человека, восхищение тем, насколько же мы, люди, талантливы и всемогущи. Это и о них (и, может быть, в первую голову о них), об умельцах, поэт сказал высокие, вполне заслуженные слова:
Даже независимо от практической выгоды, которую дают поделки умельцев и рассказ о которых предстоит, их таланты воодушевляют. Они — пример подражания, а человек, охваченный порывом, способен на сверхвозможное. В конце концов не специальность, не профессионализм сами по себе главное (хотя и важное) в человеке, а его гуманистическое начало. Оно и пробуждается в каждой из встреч с людьми, владеющими талантом исключительного мастерства. Работа на микроуровне — еще и терпение, которому надо одинаково учиться, как и самому профессионализму.
Вместе с тем микроумение приносит и материально необходимые вещи. Оно нужно везде, где требуется повышенная точность, где спрос на чуткий прибор, на ювелирно сработанный инструмент, деталь машины, узел. Поэтому важно увидеть в микроизделиях практический выход и обернуть это на общую пользу. А такие возможности не только имеются, но и находят реализацию. Миниатюры все расширяющегося профиля получают внедрение в дела повседневно-производственные и теоретические, составляя часть научно-технического прогресса. И вот уже не игрушки-безделушки, а «серьезные» вещи, нужные промышленности, службе здоровья, ученым, овладевают вниманием микроумельцев, направляя их по этой живительной стезе.
Немало талантливых мастеров установили контакты с наукой (либо она с ними). Э. Тер-Казарян, например, оказал неоценимую помощь землякам, сотрудникам Бюраканской астрофизической обсерватории. Его стараниями созданы уникальнейшие аппараты, которыми оснащен всемирно известный центр астрономической мысли.
Увлеченных микропроизводством немало и в других странах. Особенно в ФРГ, Японии. Когда американцы запускали космический корабль «Джемини-3», им помогал японский умелец М. Мисиема. Его электромоторчик, величиной поменьше наперстка, был вмонтирован в нутро корабля. Кстати, Н. Сядристый создал электромоторчик еще миниатюрнее, он в 16 раз меньше макового зерна. Правда, мотор пока не у дел.
Если уж о космоплавании, то и наши руководители освоения внеземных «проспектов» также обращаются к мастерству умелых рук. Они не однажды прибегали, например, к помощи талантливого конструктора Тульского оружейного завода Н. Коровякова. Это большой талант. Его и впрямь можно считать продолжателем славного земляка, подковавшего блоху.
В последнее время обратили внимание на то, что микроминиатюры открывают дверь в новую технологию. Работа вершится в несвойственных привычному производству условиях, когда в деле столь хрупкая натура и капризный инструмент, требующие деликатного с собой обращения. Тем не менее оказывается, что и здесь, в пространстве человеческого волоса, можно сверлить, штамповать, вести полировку, чеканить.
Скажем, когда заслуженный мастер народного творчества Украины Н. Маслюк из города Жмеринка, пробурив в человеческом волосе «тоннель», разместил там «эшелон» из пятнадцати вагонов с тепловозом впереди, разве это не выводит к совершенно иным техническим операциям и принципам организации работ? Изучение методики подобных операций, перенос добытого здесь опыта на процессы, выполняемые в макромасштабах, обогащают возможности современной техники, вообще расширяют представления о потенциальных способностях человека.
Микроподелки несут перемены в области физического, химического и особенно биологического (в частности, физиологии высшей нервной деятельности) эксперимента, сея и здесь великую смуту, открывая новые перспективы.
Особой отметки заслуживают связи мастеров миниатюры с медициной. Ныне многие ее разделы выдвинулись на микрохирургический уровень: в операциях на мозге, сердце, на глазу, при сшивании отрезанных пальцев и конечностей, в случаях пересадки органов. Много дал выход «микродостижений» в диагностику и еще больше обещает.
По каким каналам осуществляется эта связь?
Прежде всего медицина нуждается в тонком инструментарии. Скажем, когда восстанавливают оторванную кисть и соединяют сосуды, стенки которых чуть толще волоса, используется игла длиною всего четыре миллиметра и диаметром не более 0,15 миллиметра. Нить и того мельче — до двадцати микрон. (Напомним, микрон — сотая доля миллиметра или одна миллионная метра.) Иглодержатель настолько мал, что его детали (болтики, шайбочки и т. п.) можно разглядеть только при шестнадцатикратном увеличении.
Вообще медицинский инструмент создают специальные научно-исследовательские лаборатории и институты. Вместе с тем врачи часто обращаются к творцам миниатюр. Вот где находят они практическую точку приложения своим удивительным способностям!
Э. Тер-Казарян по заказу специалистов соорудил кольцо для сшивания сосудов на сердце; уральский инженер Г. Зархин, выполняя просьбу нейрохирургов, монтирует ряд приспособлений, незаменимых в операциях на нерве; от Н. Маслюка ведет происхождение сложный прибор, помогающий диагностировать легочные заболевания. Всего не перечесть.
…Однажды педиатры попросили А. Сысолятина придумать, как брать желудочный сок у грудных детей, не причиняя им боли. Созданный прибор отвечал всем стандартам микроизделий. Через обыкновенную соску был протянут шланг толщиной в ниточку, на конце — грушевидная емкость с отверстием, видимым лишь в микроскоп. Вместе с соской спящему малышу достается и этот своеобразный зонд, который опускается в желудок, и желудочный сок миниатюрными долями стекает по шлангу-ниточке в пробирку.
Дружбой с медициной отмечены и отношения талантливого исполнителя в пространстве малых масштабов И. Дацковского. Большие привязанности у него к глазным хирургам, для которых он выполнил более сорока просьб. Вначале, правда, без особой охоты. Но однажды профессор Оренбургского медицинского института Л. Линник пригласил его на операцию. Из глаза мальчика удаляли медную шпонку, запущенную туда рогаткой. Однако медь не идет на магнит, и хирург применил особый пинцет, усики которого расходились уже в глазу, захватывали инородное тело и вновь сходились. Остроумное решение. Глаза Дацковского загорелись — он увидел свой собственный инструмент, который изобрел ранее. Теперь уже его не стоило убеждать, насколько полезны такие конструкции: дело жизни обрастало глубоким практическим смыслом.
В начале 80-х профессор томской медицины Б. Альперович применил в лечении печени уникальный прибор — криоскальпель, объединяющий действия холода с ультразвуком. Дело в том, что при операциях очень мешает кровотечение. Чтобы приглушить его, в медицинской практике уже давно используют холод. Он особенно эффективен в хирургии глаза, на нерве, где насыщенность кровеносными сосудами относительно мала. Но как подобраться к такому полнокровному и даже кроветворному органу, как печень, к другим структурам? Едва нож касается их, как начинается обильное выделение крови.
Профессора не оставляла мысль: неужели нельзя как-то обмануть природу, обойти с помощью некоего хитрого приема? Тогда и пришла идея: подсоединить к воздействиям холода ультразвук. За помощью он обратился к физикам, благо в Томске сошлись солидные физические силы, имеющие вековую традицию и разветвленную сеть академических, вузовских (да и ведомственных тоже) лабораторий, конструкторских бюро, НИИ. Б. Альперович надеялся, что физики сумеют укротить кровопоток.
На призыв откликнулся сотрудник Сибирского физико-технического института (что при Томском университете), кандидат наук Г. Тюльков, который незадолго перед этим стал лауреатом премии Ленинского комсомола. Усвоив идею, талантливый исследователь создает прибор. По сверхтонкой трубке к его рабочей части подводится охлажденный до минус 190 градусов азот. Касаясь пораженного органа, прибор замораживает его. Но ведь металлический скальпель тоже должен промерзнуть и, значит, примерзнуть к ткани. А здесь выручил уже ультразвуковой датчик (столь же, отметим, ультратончайшей работы), которым оснащен прибор.
«Содружество» холода и ультразвука оказалось не менее удачным, чем медико-физический союз. И вот уже идут на выписку прооперированные врачом Л. Парамоновой больные, избавленные от недуга благодаря умению создавать образцы микротехники.
Не запоздало и признание: медаль ВДНХ и поток просьб сообщить о конструкции прибора, поделиться опытом его изготовления и использования.
Ясное дело, хирургия, применяющая такой инструмент, сама обязана выйти на уровень микроусилий. Подобно мастерам миниатюр, оперирующий врач должен в ответственные моменты придержать дыхание и работать, улавливая мгновения между ударами пульса. Необходима микроскопически выверенная последовательность движений.
Недавно кандидат медицинских наук Рамаз Датиашвили (Всесоюзный научный центр хирургии) в буквальном смысле вернул литовской девочке Расе отрезанные в аварии ноги. Не станем рассказывать в подробностях, какая это трудоемкая работа, сколько нервов, сухожилий, мышц и костей пришлось воссоединить. Отметим лишь следующее. В подобных случаях требуется исключительная точность, разорванные сосуды нужно составить, как говорят медики, прецизионно. То есть необходимо получить строго то, что было до травмы, «не промахнувшись ни на микрометр», не сузив сосуды, иначе в том месте пойдут завихрения, а это верный путь к тромбам. Чтобы провести столь отточенную работу, хирург и помощник садятся в специальные кресла, подлокотники которых фиксируют положения рук, двигаются лишь пальцы. Сшивание идет, конечно, под микроскопом при сорокакратном увеличении.
Врачей сходного экстра-класса все прибавляется. Вот и в Военно-медицинской академии в Ленинграде провели столь же сложную операцию рабочему В. Колоколову. Ему отрезало станком обе руки. Уже через сорок минут пострадавший лежал на операционном столе, и две бригады микрохирургов — одну возглавил профессор А. Белоусов, вторую кандидат наук Н. Губочкин — принялись за дело, каждая бригада над своей рукой. Восстановление продолжалось десять часов. (Случается, шьют, и по двадцать пять часов, сменяя друг друга.)
Мы расписали роли так, что микроумельцы создают инструмент, а хирурги им работают. Как говорится, богу — богово, кесарю — кесарево. Однако бывает, что оба эти таланта, оба умения сходятся в одном человеке. Обратимся к врачу из числа ведущих профессоров глазного дела, работающему в Институте микрохирургии С. Федорова — В. Захарову.
Еще когда С. Федоров только начинал свои уникальные операции по вживлению искусственного хрусталика в глаз, он после «изгнания» из Чебоксар оказался в Архангельске. Здесь и сошлись их дороги. В 1961 году в студенческий научный кружок глазных болезней медицинского института пришел пятикурсник Валерий Захаров. Влекла не только хирургия глаза, но и то, что кружком руководил человек, продвигавший такие необычные идеи.
Для операций по новой методике (о том рассказ чуть впереди) нужны хрусталики. Готовить их было некому, вернее, далеко не каждый способен это делать. В. Захаров и взял эту работу на себя. Тут прямые параллели с микроминиатюрами умельцев. Судите сами.
Искусственный хрусталик — это линза и фиксирующее ее в глазу устройство. Размеры уже самой линзочки крохотные. Здесь все на миллионные доли: толщина 160–170 микрон (то есть едва больше полутора миллиметров), диаметр — пять миллиметров, вес — шесть миллиграммов. И в эту невесомую, едва видимую в деталях структуру надо еще «вписать» в металлическом исполнении волоски-дужки и антенки, чтобы крепить все сооружение в глазу. Требовалась ювелирная выучка. Но В. Захарову ее не искать. Еще с детства пристрастился мастерить изделия из дерева и металла.
Сначала успевал за день, точнее, за сутки (в срочных эпизодах засиживался и ночами) сделать всего один хрусталик — такая кропотливая работа. Потом стало получаться два, порой три. Увы, это все, чем располагал тогда С. Федоров. До обидного мало. Хотелось же помочь больным, которые, прослышав о чуде, толпами шли в Архангельск.
Для сравнения. Ныне производство хрусталиков в институте-комплексе С. Федорова выведено на поток. Единственный в своем роде завод при нем поставляет миру около двенадцати тысяч линз в год. Их шлифуют шестьдесят славных девушек (отобранных по специальным тестам), обладающих особо чувствительными пальцами. (Впрочем, число может и устареть, как и все, что касается достижений этого врача-новатора.) Одна из моделей с официальным названием «Спутник» прилюдно именуется «хрусталик Федорова — Захарова». Получены патенты из ФРГ, Италии, Голландии, США. И если уж продолжить аналогию с микроумельцами, можем насладиться ею сполна.
…В одну из первых поездок в США С. Федоров, прочитав цикл лекций о своем методе, сопроводил его практическим подтверждением. Он вживил человекам пятидесяти привезенные с собой хрусталики. Но что это? Уже после, осматривая через сильнейшие микроскопы оперированных, американские врачи обнаружили на линзочках крохотную запись: «Сделано в СССР». И у истоков этих дивных миниатюр стоял, напомним, В. Захаров.
На шестом курсе В. Захаров уже ассистировал на операциях, все больше оттачивая мастерство, ибо кому же не ясно, что и труд в операционной, и обработка хрусталиков одинаково требуют микроскопической прилежности. А ныне В. Захаров — крупный специалист в хирургии сетчатки, заведующий отделом в институте-комплексе. Конечно, это другое назначение. Оно связано с проникновением в структуры, лежащие за хрусталиком. Однажды С. Федоров, озабоченный судьбами своего дела, повел разговор о том, что институт не сможет быть первоклассным учреждением глазных болезней, если не освоит операции на сетчатке. И вновь В. Захаров принимает на себя трудную задачу.
Следует сказать, что ретинология (так обозначена врачебная дисциплина, курирующая «страдания» сетчатки) — одна из особо напряженных областей хирургического вмешательства в глаз. Она требует не только высокого мастерства, но одновременно твердости и риска. Дело в том, что сетчатка — средоточие этих знаменитых, знакомых еще со школьных дней, палочек и колбочек, превращающих световое возбуждение в нервный сигнал. Печать особой ответственности ложится на все, что связано с разрывом, отслойкой и т. п. сетчатки. Самые тяжелые в глазных клиниках больные — «отслоечники», самые невеселые палаты — в отделениях отслойки, и самые «страшные» врачи тоже здесь. На тех, кто с поражениями сетчатки, другие больные смотрят с известным почтением и в тайной надежде избежать сей мрачной участи. Стоит ли доказывать, сколь высокого класса специалист здесь необходим? Бесспорно, от такого сочетания в одном лице специалиста хирургии и микроумений выигрывает дело, выигрывает больной. Кстати, отметим, что В. Захарову привычно ладить хирургическое снаряжение к операциям самому. Чтобы достичь филигранной отточенности движений, хирургу надо совершить еще один подвиг — научиться мастерству. А это дается долготерпением. Доктор Г. Степанов, например, сравнивает эти занятия с тем, как тренируются «балерины, у которых класс — каждый день».
Не обходится и без того, что в народе называют чудачеством, да только без того или иного вида попадания в чудаки здесь, наверно, и не обойтись.
Лауреат Государственной премии хирург В. Францев начал готовить себя к будущим операциям еще в студенчестве. Увидев, как тонко кладет стежки его учитель академик Е. Мешалкин, ведя на сердце шов ровными, словно вымеренными по линеечке шажками, понял, что ему надо. Решительно купил пяльцы, ткань с рисунком для вышивания так называемым болгарским крестом и, несмотря на усмешки приятелей («Вот чудак!»), принялся вышивать пейзажи. Только работал не обыкновенной вышивальной иглой, а «хирургически» изогнутой, да еще вставленной в иглодержатель (совсем как на операции). От той поры сохранились даже некоторые картины.
Вообще, его койка в общежитии второго Московского мединститута напоминала скорее рабочее место мастера пошивочного ателье: вокруг и около все было занавешено нитками, вышивками, заготовками. И еще он постоянно завязывает узлы. Где только можно: во время чтения, бесед, уж, наверно, на заседаниях (только академики про то умалчивают), перед сном…
Интересно и признание врача из Томска А. Савиных. Он так и говорил: «Хирургия — это рукоделие». Выдающийся специалист, лауреат Государственной премии, академик отличался ювелирной техникой, не лишенной изящества. Так бывало, что прооперированных им больных узнавали по шву. Вошло в обиход говорить «шов Савиных». Это была работа, исполненная симметрии, красоты и тонкого расчета, словом, сделано по лучшим образцам рукоделия. Заметим, кстати, что хирург обычно пользовался специальными инструментами, которые, по его заказу, готовили талантливые умельцы, вполне заслуживающие приставки «экстра», — заведующий экспериментальным цехом одного из томских заводов И. Виниченко и сотрудник политехнического института П. Одинцев.
К медицине мы скоро придем вновь. А сейчас, заключая главу, попытаемся придать ей методологическую завершенность. При этом хотелось бы особо адресоваться к молодому исследователю.
Сколь бы ни выглядели с первого захода программные установки схоластов, их энергичная логическая жестикуляция отрешенными от земных опор, даже эти занятия не оказались бесплодными. Точно так же многие эксперименты, названные необычными, порой пустыми, со временем оказываются несущими добротный результат. Это дает основание высказать некоторые эвристические рекомендации.
Представляется полезным в процессах решения познавательных задач не стеснять себя в выборе тем, объектов исследования, проблем, поскольку заранее трудно сказать, что именно способно принести успех. Этим правилом, по-видимому, руководствовался Л. Пастер. Во всяком случае, один из его помощников, Э. Ру, вспоминает: «Какие только нелепые и невероятные опыты мы тогда не затевали!»
Одним словом, надо испытать все, поскольку самые невозможные варианты оказываются возможными, самые недопустимые ситуации — вполне реальными, допустимыми. По-видимому, есть «краешек истины» в словах, которые произнес однажды Г. Гейне: «Гениальные идеи — это всякий вздор, который идет в голову». Добавим только: «в гениальную голову».
В арсенале науковедов есть прием, который они называют «постулатом свободы». Он ориентирует исследователя на выдвижение оригинальных идей, на поиск смелых концепций. Полагаем, что материал главы содержит примеры таких раскованных, не стесненных соображениями узкопрактической пользы подходов и решений.
Великая игра
Текст предыдущей главы прямо выводит еще к одной интересной особенности науки — к ее игровым характеристикам, к такому ее аспекту, как игра.
В самом деле, изощренные схоластические споры, хитроумные логические ходы для разрешения искусственно придуманных тем, спекулятивность и отрешенность от практики дня — не напоминает ли это игру? Еще больше элементов игры видится в эксперименте чудаков, особенно когда эксперимент ставится просто так, ради себя самого, бесцельно и как-то легко, раскованно, так и хочется сказать — играючи.
Конечно, сближать науку с игрой, более того, уподоблять друг другу (а мы собираемся это делать) кажется странным. Тем не менее уподобление проводится, есть немало авторов, которые эту позицию разделяют и развивают.
Прежде всего наука и игра сравнимы как виды человеческой деятельности. Здесь проступает одно важное обстоятельство. Если брать человека в главных значениях, то следует подчеркнуть в нем творческое начало, представляющее выражение его сущностных сил. Еще от знаменитого немецкого поэта Ф. Шиллера идет убеждение — главное в человеке то, что он творец, а это как раз и есть проявление игровой деятельности. «Человек играет только тогда, когда он в полном значении слова человек, и он бывает вполне человеком лишь тогда, когда он играет».
Характерно, что и К. Маркс подходит к человеку именно с этих позиций. Разделяя взгляды Ф. Шиллера, он описывает труд как «игру физических и интеллектуальных сил» и как выражение глубинных человеческих определений. К выявлению игрового начала культуры обращается и современный испанский философ Ортега-и-Гассет, который видит в игре «щедрый порыв жизненной потенции». А голландский историк и социолог нашего времени И. Хейзинга посвятил обсуждаемой теме целую книгу «Человек играющий».
Вооруженные этими представлениями, мы можем не просто сказать, что наука — вид деятельности, но заявить более сильный тезис: наука — вид игры. Недаром же гуляет афоризм: изучение атома — детская игра по сравнению с изучением детской игры. Получается, что наука выходит лишь на стадию «детскости» и еще не поднялась до уровня даже «взрослой», зрелой игры, не говоря уже о том, чтобы преодолеть эти начальные этапы и шагнуть выше.
Взгляд на науку как проявление игры высказывают ряд больших (и не столь больших) ученых. Известный английский физиолог Э. Стерлинг, прославивший свое имя введением в научный обиход понятия «гормон», еще в 20-е годы текущего столетия заявил: «Научное исследование — самая великая игра».
Чуть позже в обсуждение темы включился выдающийся физик Л. де Бройль. Он подошел к выяснению отношений этой пары с другой стороны, отталкиваясь от науки и уже через нее определяя игру, как бы примеривая последнюю к научной работе. Однако вывод тот же. Констатируется их сходство. «Все игры, даже самые простые, — пишет де Бройль, — в проблемах, которые они ставят, имеют общие элементы с деятельностью ученого при его исследованиях».
Обсуждаемой теме отдали дань и другие авторитеты. Притом характерно, что игровая сторона науки сильнее звучит в высказываниях представителей точного знания, где эти моменты работы ученого проступают явственнее, в частности, в физике и особенно в математике (причиной этого мы займемся далее). Но «показания» в пользу обсуждаемой здесь темы дают и лидеры менее «строгой» научной мысли.
Нобелевский лауреат, изобретатель пенициллина А. Флеминг тоже любил сравнения науки с игрой, и настолько, что однажды, уже после того, как достиг известности, произнес красивые и, может быть, на взгляд непосвященного в механизмы творчества, странные слова: «Моя профессия — игра в микробы». Подтверждается, что, изучая и живые организмы (а не только манипулируя математическими символами или «бездушными» предметами физической реальности), ученый так же расположен создавать игровые ситуации.
Теперь поставим проблему так: что характерно для игры? То есть что в ней такого, чем она прежде всего напоминает науку (точнее, наука — ее)?
Наверное, самое сильное сближение надо усматривать в том, что и игра и наука (особенно «чистая», фундаментальная наука) не преследует утилитарных целей.
Относительно игры ясно, хотя, конечно, здесь есть и практический выход: игра учит ловкости, воспитывает готовность к риску, к тем неожиданностям, которые то и дело выстраивает перед нами жизнь. Отсутствие заданности в этом случае делает поведение человека свободным, создает условия для проявления его творческих возможностей.
Подобно этому и научное исследование лишено утилитарных целей. Во всяком случае, для самого исследователя, поскольку он не использует добытое им знание в личных целях. То, что ему удалось получить, применяют другие, внедряя (если, конечно, оно внедряемо) в промышленность, транспорт, быт. Но даже и с точки зрения общественной полезности неверно подходить к науке с узкопрактической позиции, о чем мы уже писали подробно в прежних разделах книги.
Ученый должен решать научные задачи, имея «одну, но пламенную страсть» — открывать законы природы. А какое практическое значение это обретет, покажет время. Сам же момент научного поиска должен быть бескорыстным.
Далее. В игре образуется искусственная ситуация, как бы отграниченная от реального мира. Это задает определенную условность, которая регулируется особыми правилами, записанными рядом с «параграфами» жизни и не совпадающими с ними. По существу, та же судьба назначена и ученому. Он творит свою реальность, в которой работает, руководствуясь законами, в ней установленными.
Идею сравнения науки с игрой по этому признаку развивает Я. Смородинский. «Хотя, — пишет он, — в каждый данный момент наука представляется очень стройной и непоколебимой, на самом деле она полна условностей, как театральная сцена». Аналогия, думается, убедительная, если учесть, что как раз в постановке пьесы достигается наиболее полная (в сравнении с другими видами художественного отображения) иллюзия реального существования искусственно созданного мира. А разве ученый, тоже сотворив систему понятий и оперируя ими по определенным правилам, не принимает ее как особую реальность?
Вспоминается одно размышление известного американского физика наших дней Д. Бома. Отмечая этимологическое (учитывающее происхождение) родство таких слов, как «теория» и «театр», он следующим образом истолковал это совпадение. Теория понимается как прием вживания ученого в мир определенных явлений, выраженных понятиями. Подобно этому входит, вживается в роль и актер, представляя своего героя на сцене.
Названные нами качества игровой и научной деятельности (отсутствие утилитарной цели и условность) предопределяют атмосферу свободы маневра, раскованности, поистине выливаясь в игру интеллектуальных сил. Эта черта особенно свойственна математике.
Наряду с общепринятым убеждением в строгости, «дисциплинированности» математики, подчиняющейся неумолимым законам логики, она вместе с тем признанно свободная наука.
Как мы уже отмечали ранее, математические объекты лишены природных свойств (безразличны к тому, каковы они) и подчинены только отношениям — количественным и пространственным. Поэтому математику все равно, о чем он говорит, требуется лишь, чтобы выполнялись определенные отношения. Скажем, утверждая, что 3 + 6 = 9, мы ведь не имеем в виду какие-то конкретные вещи. Это могут быть вещи самой различной природы. Например, 3 журавля и 5 синиц вместе составят 9, так же, как 3 барана и 6 петухов. Важно, чтобы левая часть равенства была тождественна правой. Получается, что математические высказывания не зависят от конкретных состояний внешнего мира, а справедливы сами по себе, истинны в себе, в силу формального (отвлеченного от свойств сосчитываемых предметов) равенства.
Далее. Отношения, рассматриваемые остальной наукой, определяются характеристиками тех вещей, которые вступают в отношения. Возьмем закон тяготения Ньютона F = (m1×m2)/r2. Он указывает на то, что если тела обладают массой (m1, m2), то они вступают в отношение, пропорциональное произведению масс, деленному на квадрат расстояния между ними. Поскольку математик оперирует с абстрактными объектами, за которыми стоят вещи любой природы, то он может брать отношения тоже любой природы. Все это и наделяет математику статусом свободной науки, во всяком случае, гораздо более свободной, чем другие дисциплины. «Сущность математики именно в свободе», — подчеркивает Г. Кантор, и не один он. Про то говорят А. Пуанкаре, А. Гейтинг и даже осторожные советские философы (Ю. Шрейдер, например, явившийся, кстати сказать, в философию из математики).
Итак, обладая свободой, математик задает отношения. Однако задает-то задает, но не создает, а лишь выбирает. И вот пока выбирает, он свободен, но как только выбрал, на этом его вольности кончаются, и он обязан жестко подчиняться правилам, определяемым избранными (свободно!) отношениями, и работать в соответствии с ними. Этим и объясним известный парадокс: будучи наукой большой свободы, какая недоступна никакой другой науке, математика в то же время — самая строгая, наиболее «ранжированная» область знания. Здесь скорее всего оправдан афоризм: кто желает свободы, тот должен нести и бремя ответственности.
Налицо основные определения игры — свобода действий и волеизъявлений, но одновременно подчиненность известным правилам. Математику отличает дедуктивность ее построений, в чем выразительнее всего и проявляются игровые характеристики этой науки. Вот что писал Д. Гильберт: классическую математику «следует рассматривать как комбинаторную игру с основными символами, и нам надлежит установить… к каким комбинациям основных символов ведут ее методы построения, называемые „доказательствами“».
В самом деле, приняв без определений основные объекты и записав без обоснования и доказательств исходные положения (аксиомы), в которых фиксированы отношения между объектами, математик может затем, соблюдая известные правила, наслаждаться игрой получения следствий из принятых аксиом.
Примечательно также и рассуждение современного американского математика Д. Биркгоффа. Он пишет о «потенциально чистых математиках», называя их «математически одаренными детьми». Это уже само по себе важно, если учесть, что, где дети, там и игра (мы вскоре остановимся на этом сюжете подробнее). Так вот, чистые математики, к которым примыкает и сам Г. Биркгофф, «склонны думать об алгебре как о некоторой игре, подчиненной определенным правдоподобным правилам…».
Еще одна линия сравнений математики с игрой проходит через шахматные поля. Выдающийся советский математик, академик Н. Лузин любил эту аналогию, усматривая в ней вполне реалистичные связи. Как и в шахматной игре, писал он, в математике «любой ход, не противоречащий установленным заранее правилам, законен и истинен».
Впрочем, шахматная аналогия привлекается не только в описаниях математики. Уподобление шагает по всему фронту науки. Его приводит и Д. Менделеев, кстати, неплохой шахматист. Он сражался, например, с самим М. Чигориным и в тридцати партиях одну все же выиграл. Но если Д. Менделеев обращается к сравнению в интересах любимой химии, то В. Гейзенберг примеряет эту аналогию к физике и упрашивает коллегу и соотечественника К. Вейцзеккера написать книгу «Гроссмейстерские шахматные партии», надеясь, должно быть, увидеть в ней сопоставления с теми партиями, которые разыгрывают «гроссмейстеры» науки.
Развивая тезис «наука — это игра» (поскольку и там и тут все делается по правилам), мы хотели бы обратить внимание на одно обстоятельство, подмеченное А. Флемингом.
По существу, все, кто касается указанной стороны уподоблений игры и науки, подчеркивают, что, приняв правила, надо следовать им неукоснительно.
Все это так. И тем не менее… Правила создаются или выбираются и принимаются для определенной поисковой ситуации, связаны с определенной теоретической концепцией. Со временем наступает момент, когда прежняя теория старится и уже не способна вести вперед по дорогам познания. В этот момент, как видно, стоит сменить игру и взять новое объяснение, понятно, сопроводив его новыми правилами.
После триумфа «пенициллиновой» славы А. Флеминга отовсюду приглашали посетить различные страны. Человек деликатный, он никому не отказывал. Во время одной из поездок побывал в городе Лувенсе в Бельгии. Там и прозвучало упомянутое признание в том, что он «игрок в микробы». А далее ученый продолжил: «Но в этой игре есть, естественно, свои правила. Интересно их нарушать, доказывать, что некоторые из них неправильны, и находить то, о чем еще никто не подумал…»
Вот что важно. Игровая природа науки состоит не только в том, чтобы творить, подчиняясь правилам, но и в том (может быть, иногда даже больше в том), чтобы эти правила в необходимые моменты нарушать. При этом нарушать стоит необязательно тогда, когда новая теория (которая несет новые правила) уже наметилась. Возможны два пути.
Один — начинать с изменения содержания теории. Вот характерное признание. «Знает ли алгебраист, что происходит с его идеями, когда с помощью знаков он вводит их в свои формулы? — ставит вопрос французский математик начала прошлого века Ф. Серуа и отвечает: — Безусловно, нет». Происходит же с ними, как можно предполагать, следующее. Новые идеи, облаченные в символические одежды и будучи введены в формулы, как бы взрывают их изнутри. Они вносят такие «возмущения», что заставляют, в соответствии со свежими идеями, пересматривать действующие правила оперирования формулами. То же происходит и в случаях, когда наука еще не вышла на символический уровень, когда нет формул, то есть правил работы с понятиями.
Это один путь. Но возможен и другой, дающий такой же эффект. Он состоит в том, что теорию начинают пересматривать не с содержания, а отталкиваясь от формализмов. То есть пытаются нарушить правила обращения с символами или с понятиями (если наука не досимволической стадии) и смотрят, что из этого получается (точь-в-точь как в эксперименте чудака). И на этот раз привлечем одно свидетельство из области точного знания. Соотечественник и современник Ф. Серуа, тоже математик, Л. Карно, может быть, перекликаясь с коллегой, отмечал следующее. Символы не являются только записью мысли. Они воздействуют на самую мысль, до известной степени направляя ее. Поэтому достаточно переместить их на бумаге, руководствуясь некоторыми правилами, «чтобы безошибочно достигнуть новых истин».
Полагаем, А. Флеминг и имел в виду первый путь, когда призывал нарушать правила научной игры, находить их несоответствие новым фактам, благодаря чему продвигать науку вперед. Марк Твен в свойственной писателю образной манере так преподнес эту мысль: «Сначала добудьте факты, а затем на досуге можете ими поиграть».
Собственно, все великие открытия — примеры нарушения «игровых» правил. Скажем, когда Н. Лобачевский, приняв принципиально новый постулат, в согласии с которым параллельные, вопреки тысячелетней геометрической норме, пересекались, разве не нарушил норму, утвердив другие правила «игры»? А Н. Коперник или творец теории относительности А. Эйнштейн и т. д.?
Итак, отчетливо прорисовываются пункты пересечений науки и игры. Более того, в некотором смысле науку можно истолковать, как нами уже отмечалось, разновидностью игровой деятельности. Эти выводы мы хотели бы дополнить словами известного швейцарского литератора и математика современности Г. Хессе из его поэмы «Алфавит». Обращаясь к ученому, он говорит:
Оценив общий подход к соотношению науки и игры, посмотрим конкретно на вопрос. Тема интересует нас под одним углом зрения: ведь для науки игра не самоцель, ученый включается в нее не ради самой игры, а чтобы решать познавательные задачи. Тут и обнаруживается, что исследовательская работа сродни разгадыванию «китайских головоломок» (Д. Томсон), похожа на решение кроссвордов (Л. де Бройль), шарад, на поиски выхода из лабиринта и тому подобное.
Но как головоломки, кроссворды и чайнворды кем-то составляются, так и многочисленные загадки составлены природой и поставлены перед ученым. Заполняя строчки кроссворда, отгадчик, понятно, волен делать выбор любого слова, но подойдет-то лишь одно, которое и надо отыскать. Не таким ли образом складываются дела в научном поиске? Имея перед собой «пустые клетки» на карте знания, исследователь отыскивает необходимую информацию, чтобы заполнить ею эти клетки и воспроизвести целостную картину реальности. У него тоже есть выбор, но он ограничен вариантами, которые подготовила природа.
Игра увлекает перспективой, заставляя проявить творческие силы, и несет эвристическую функцию, помогая отысканию истины. Вначале рассмотрим те случаи, когда ученый не ставил целью решать научные задачи, а просто включался в игру. Но, играя, находил нечто ценное для науки.
Еще на рубеже первого и второго веков до нашего летоисчисления жил в Древней Греции (теперь мы бы назвали его изобретателем) Герон Александрийский. Дошли слухи, что он придумал немало занятных вещей: пожарный насос, сифон, водяной орган, теодолит и много других изделий.
Особенно удивительным было устройство эолипил, своеобразная паросиловая установка (Эол — у древних греков бог ветров). Пар, вырываясь из трубочек, приводил в движение стеклянный шар. В сооружении Герона видят прообраз паровых турбин. А иные считают даже, что эолипил представляет, по существу, первый, пусть примитивный, зародыш реактивного двигателя (стоит лишь подвести под это экспериментальное чудо теоретическую базу). Во всяком случае, появившееся тысячелетия спустя, в середине XVIII века, так называемое «Сегнерово колесо» (дитя венгра Сегнера) демонстрируется в курсах физики как прибор, работающий на принципах реактивного механизма. У Сегнера колесо, не имеющее обода, приводится в движение водой. Вытекая из трубок, заменяющих спицы, вода и производит отталкивающую силу.
Мы не знаем и не узнаем ход мыслей Герона. Едва ли он рассчитывал на промышленное внедрение своего эолипила. Знаем только, что его изобретение использовалось как игрушка, развлекавшая тогдашнюю элиту. Это нам и нужно для нашей темы. Приступая к сооружению подобных вещей, Герон как бы задавал игровую ситуацию, то есть не ставил заведомо практических, тем более научных целей, а действовал просто из любопытства, что получится.
Поучителен и другой факт. Однажды Л. Эйлер заинтересовался чисто игровой задачей о кенигсбергских мостах.
Река Мемель, протекающая в районе Кенигсберга (ныне Калининград), разделяется в устье на два рукава, которые то сходятся в один поток, то расходятся. Город соединен мостами. Получилась целая сеть из семи мостов. Задача формулировалась так: надо последовательно обойти все семь мостов, но при этом ни разу не возвратиться назад, то есть не проходить какой-либо отрезок пути дважды.
Рассказывают, что Л. Эйлер эту задачку решал в часы отдыха, то есть принимал ее как игру, напоминающую поиск выхода из лабиринта. Впоследствии обнаружилось, однако, что эта была одна из первых задач с топологическим содержанием, учитывающим свойство непрерывности пространства.
Так зарождались идеи новой науки — топологии, получившей основательное развитие в середине прошлого столетия в трудах англичанина А. Кэли и немцев И. Листинга и А. Мёбиуса. Она изучает свойства фигур, не изменяющиеся при любых деформациях, производимых без разрыва и склеивания. Задача о путешествии через кенигсбергские мосты как раз и предлагала найти «безразрывный» (топологически выверенный) маршрут.
Что здесь отгадчика ждала действительно увлекательная игра, читатель может убедиться сам, попробовав решить эту задачу с простым условием. Стоит лишь попытаться, и вы окажетесь в плену этого забавного времяпрепровождения.
Игровая ситуация продиктовала еще одну топологическую задачу, решение которой также подвинуло разработку топологических свойств.
Речь касается известной теоремы о четырех красках, доказанной лишь совсем недавно. Практика нанесения географических карт показывала, что для получения любой из них достаточно иметь четыре краски, чтобы нигде на карте два соседних района не имели одинакового цвета.
Долгое время это считалось само собой разумеющимся, и никаких проблем не возникало. Но вот возник вопрос: а почему, собственно, достаточно именно четырех цветов? Так появилось «дело» о четырех красках.
Известно, что, если где-то закрадывается неясность, ученые такое положение не могут оставить без внимания. Однако усилия многих из них оказывались безрезультатными при решении такой, казалось бы, легкой задачи с «головоломным» оттенком: она перерастала в научную проблему.
…Однажды знаменитый немецкий математик конца прошлого — начала нынешнего столетия Г. Минковский, работающий в Гетингене, придя на лекцию по топологии, заявил: «Эта теорема не была до сих пор доказана лишь потому, что ею занимались математики третьего сорта. Я уверен, что мне удастся ее доказать». Заявил и, не откладывая в долгий ящик, тут же приступил к делу. Время шло, вот и лекция на исходе, однако доказательство не получалось. Минковский, все еще не теряя оптимизма, отложил решение до следующей лекции. Увы! В следующий раз произошло то же самое.
Так продолжалось несколько недель. И вот одним пасмурным утром, сопровождаемым раскатами грома, он вышел к слушателям и объявил: «Небеса разгневаны моим высокомерием. Мое доказательство о четырех красках также неверно». И стал продолжать лекцию с того места, где остановился несколько недель назад, когда пообещал расправиться с задачей о красках.
Лишь в середине 70-х годов нашего века, то есть долгие десятилетия спустя, американские математики К. Аппель и В. Хакен доказали, что любую карту можно раскрасить правильным образом, используя всего четыре цвета, подтвердив тем самым правомерность действий составителей географических карт. Но ответ был найден с помощью компьютера (вот уж кто работал, определенно опираясь на правила игры).
Эта история примечательна. Ведь саму по себе задачу о красках едва ли назовешь научной, обыкновенная, сугубо практическая задача, каких в жизни немало (лишь единицы вырастают из них до уровня научных). Тем не менее решение удалось только на основе научных методов и, надо полагать, в какой-то мере, пусть и не крупно, продвинуло науку вперед.
Здесь не крупно, а вот в других случаях находим значительное продвижение. Мы имеем в виду создание теории вероятностей. Это еще одна страница взаимоотношений науки и игры.
Увлечение ими началось в регионах античности и, надо сказать, в самых высококультурных очагах — в Греции и Риме, где иным гражданам, особенно знати, очень полюбилось бросание костей и бабок.
Эту страсть переняла Европа, где игры завоевали высокую популярность, и опять же в рядах высшего общества и духовенства. Развлекались столь усердно, что один епископ, не в силах препятствовать греху, решил даже подменить метание костей игрой в «добродетель». Он распорядился вместо цифр на гранях костяшек записать символы добрых дел: «милосердие», «благолепие», «смирение» и т. п. Выигравший должен был наставить в отношении выигранной добродетели того партнера, который ее проиграл.
Наконец появились карты, которые и вовсе разогрели страсти: каков шанс выиграть, какие ставки делать и как их по справедливости поделить? В числе первых ученых, проявивших к азартным играм азарт исследователя, были французский математик Б. Паскаль и итальянский физик и математик Г. Галилей. Это XVII век. Б. Паскаль начал размышлять об идеях теории вероятностей, консультируя неутомимого в карточных делах некоего кавалера де Мере. А однажды друзья попросили подумать над задачей. Два равноценных игрока пожелали прекратить игру раньше срока. В какой пропорции им надлежит разделить банк, если известны счет каждого и ставка игры? Тут пришлось войти в проблему вероятности основательнее.
Что и говорить, сама по себе тема далеко не научная. Но ее решение дает результат, значительно продвигающий науку. Это стало особенно ясным, когда появились работы, посвященные специально проблеме вероятности, то есть проблеме, взятой независимо от карточной игры или игры в кости. Так, в 1812 году вышла первая книга, систематически освещавшая тему. Она была написана авторитетным французским математиком П. Лапласом и называлась «Аналитическая теория вероятности». В ней есть интересное, льющее воду на нашу позицию, признание: «Замечательно, что наука, которая начала с рассмотрения азартных игр, обещает стать наиболее существенным объектом человеческого знания… Ведь большей частью важнейшие жизненные вопросы являются на самом деле лишь задачами по теории вероятностей».
Теперь уж кто отважился бы объявить (по крайней мере в научной среде) решение задач на вероятность исходов в карточной игре бесполезным для ученого занятием? Тем более делать это после работ Л. Больцано, К. Максвелла (конец XIX столетия), применивших идеи вероятности для описания поведения газов. В XX веке теория пошла еще дальше, и математики умеют ныне «охватить» игру уже вместе с игроками, правилами игры и выигрышами, что вывело ее в ряды методологического «знание добывающего» инструмента с широким, повсеместным полем приложений.
Следующий пункт пересечений интересов научной и игровой увлеченности — детское творчество.
История науки и искусства, практика повседневной жизни дают немало примеров того, что дети в самом деле отмечены творческой искрой. И одна из причин, может быть, самая главная, та, что они постоянно в игре. Игра создает атмосферу для проявлений свободы и раскованности мысли, уводит от шаблонов, которые навязывают взрослые, в том числе и в вопросах науки, когда дети, как это порой случается, выходят на эти вопросы. Характерные результаты получил в 1965 году американский психолог Торренс. Им разработаны специальные тесты (носящие его имя) — «Усовершенствование предмета», «Необычное использование предметов» и другие, — на основе которых оцениваются творческие способности молодых людей. В зачет берутся такие показатели, как оригинальность и гибкость мышления, легкость речи и т. п. Работали и со студентами. Оказалось, что чем старше курс, тем показатели творчества ниже. Аналогичные данные получил позднее и другой американский психолог Д. Джонсон. Предъявив студентам задания по тестам Торренса, он подтвердил снижение уровня творческих способностей у старшеклассников в сравнении с их младшими коллегами.
Фактам дают разные объяснения. Как одно из них можно принять мнение, что с возрастом утрачивается интерес к игре с ее побуждениями к фантазии, нестесненному полету мысли, к отказу от стандартных поступков. Не случайно ряд авторитетных деятелей, писатели (Л. Толстой, В. Гёте) и ученые (А. Эйнштейн, Ж. Пиаже) ставят условием творческого вдохновения сохранение в зрелые годы наивного детского подхода к миру. Как замечает советский психолог А. Запорожец, удлинение периода детства есть великое завоевание цивилизации. По его мнению, отрезок жизни до шести лет — самый творческий плодотворный отрезок. И взрослые разве порою не похожи на детей в самые, даже очень ответственные часы, в часы решения исследовательских тем, когда наши действия не то что сопровождаются, а как бы наполняются игрой. «Всегда очень трудно осознать, — пишет, например, лауреат Нобелевской премии С. Вайнберг, — что те числа и уравнения, которыми мы забавляемся за нашими столами, имеют какое-то отношение к реальному миру».
Эти и многие другие здесь не высказанные факты и утверждения дают все права сказать, «взяв» своеобразное интервью у Анатоля Франса: «Дети — непризнанные гении».
Раскрывая тему детского игрового творчества, отметим две линии его проявлений. Во-первых, это научные открытия, полученные в детском возрасте: а во-вторых, случаи, когда ученые, наблюдая игры детей, приходили к исследовательским решениям. И начнем, пожалуй, со второго вида творческих проявлений.
Конечно, эта разновидность творчества менее показательна. Но все же и она подтверждает наш вывод. Приведем два ярких факта. Один связан с изобретением микроскопа, который был создан в 1590 году голландским механиком Захарием Янсеном. В ту пору он работал в качестве мастера очков. Они только появились (авторство, о чем мы уже говорили, отдают И. Кеплеру), и их производство и эксплуатация были делом трудоемким, требующим высокого мастерства.
Как-то З. Янсен застал своих детей увлеченными таким занятием. Они взяли (может, и стащили у отца) две линзы для очков, вставили их с обоих концов трубки и с любопытством начали разглядывать все вокруг. Было забавно наблюдать, как предметы вдруг представали в необыкновенно увеличенных размерах. Однако З. Янсен увидел здесь нечто большее, чем развлекающиеся подростки. А что, если собрать устройство, которое будет увеличивать вещи в несколько раз? Так пришел к нам микроскоп, повивальной бабкой которого оказались играющие дети. И все же почему-то затея с трубкой и линзами не пришла в голову родителю. Может быть, потому, что он разучился играть?
Еще случай. Он касается изобретения в 1816 году французским анатомом и врачом Р. Лаэннеком стетоскопа.
Со времен Гиппократа врачи, прослушивая работу внутренних органов, прикладывали ухо непосредственно к телу больного. Что и говорить, способ не очень удобный, да и малопривлекательный. Р. Лаэннек задумал его усовершенствовать. Но как?
Однажды он обратил внимание на играющих во дворе детей. Один что-то царапал по торцу бревна, а второй на другом конце бревна слушал. Тут же вспыхнула догадка: использовать в качестве посредника между больным и врачом полую деревянную трубку с утолщениями на концах, и прибор готов.
Итак, мы вполне можем, говоря современным языком, заявить соавторами описанных изобретений детей, хотя имена их позабыты. Однако есть факты, позволяющие сделать более сильную заявку.
Перейдем к рассмотрению тех моментов, когда научный результат был получен детьми. Быть может, одно из объяснений случаев немалочисленных открытий в раннем возрасте в том и кроется, что первооткрыватели — дети — использовали приемы игры.
Наверно, 13-летний Б. Паскаль вносил немало от игровых приемов в свои занятия, когда прямо на полу углем чертил различные геометрические фигуры. Геометрии он еще не знал. Отец запретил заниматься ею, вообще глушил у сына интерес к абстрактным наукам (опасаясь нервного перенапряжения), хотя сам был известным в ту пору математиком. Все, что он позволил себе в ответ на домогательства мальчика, это дать определение геометрии как науки о правильных фигурах и их взаимных отношениях. Раскрывая определение, Б. Паскаль самостоятельно доказал многие теоремы геометрии Эвклида и даже добрался до ее исходных положений и понятий.
В 14 лет К. Максвелл, играя булавками и ниткой, установил, как с их помощью можно начертить овал. То есть игра вывела его к решению серьезной исследовательской задачи.
В те годы, то есть в середине XIX века, многих мучила загадка древних этрусков. Дело вот в чем. При раскопках среди погребальных предметов этого древнего народа, предшественника римлян, обнаружили урны овальной формы. Было непонятно, каким образом этруски, не зная соответствующих математических методов, развитых гораздо позднее, могли чертить овал. Подросток К. Максвелл и показал, как это можно. Рассказывают, что когда ему предложили выступить в Эдинбургском королевском научном обществе с сообщением, то он оказался настолько мал ростом, что не мог говорить с кафедры. Доклад за него прочитал кто-то из взрослых.
Конечно, это события сравнительной давности. Может быть, скажет читатель, теперь иное время, в котором труднее проявиться детскому научному творчеству? В развитии науки действует закон уменьшающихся отдач: качественное удвоение знаний достижимо за счет восьмикратного увеличения научной информации, то есть того эмпирического массива, на основе которого этот качественный рост только и возможен. Когда же подростку успеть освоить такие объемы информации?
В начале нашего века Сергей Вавилов, будущий президент нашей Академии наук, еще обучаясь в пятом классе, выполнил первую научную работу, связанную с исследованиями явлений света. Ему посчастливилось установить причину желтой окраски некоторых цветков. А вот другой случай. Всех восхищает грандиозность Останкинской башни. Но мало кто знает, что ее конструкция была подсказана юным техником Сережей Волковым. Играя, он построил башенку из катушек для ниток, а чтобы она не рассыпалась, продел внутрь веревочку и туго ее натянул. Мальчику выдали авторское свидетельство. По его схеме стали сооружать радиомачты, отличавшиеся завидной стойкостью, потом пришла пора и телебашен.
Свидетельство на изобретение получил в середине 70-х годов первокурсник одного тульского ПТУ, шестнадцатилетний Костя Уткин, предложивший оригинальный метод посадки картофеля не прямо в борозду, а… в капроновый чулок, который и укладывается в землю. Затем над идеей потрудились НИИ картофельного хозяйства, и в начале 80-х на поля тульского совхоза вышла экспериментальная машина, которая работает по Уткину.
А самым молодым изобретателем в стране за последние десятилетия стал Виталий Петровский из белорусского города Барановичи. Это он создал знаменитую модель разводного моста, заслужив в свои пятнадцать лет свидетельство Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий. В том же 1978 году юный конструктор был приглашен на кафедру мостов Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта, где, подобно К. Максвеллу, держал речь перед учеными. Только в отличие от Максвелла Виталий Мечеславович Петровский лекцию-доклад прочитал сам и справился с докладом отлично.
Отметим, что признание в качестве изобретателей несовершеннолетних Положением об изобретениях не предусмотрено. Делают это лишь в порядке исключения. Верно, оно бывает и в самом деле редко (примерно раз в пять лет подростку вручается авторское свидетельство). Но бывает же! Поэтому справедливо ставится вопрос, чтобы открывателями-изобретателями наравне со взрослыми признавались также и не достигшие «гражданского» возраста.
Раздел хотелось бы завершить еще одной иллюстрацией детского творчества, правда, не из области науки, но по тематике, близкой ее делам. Это стихи тринадцатилетней Светланы Золоторжинской:
Поднимем, наверное, самый глубинный пласт отношений «игра — наука». Ранее разговор касался проблем, которые приходили к ученому извне и сами по себе не составляли научной темы, потому принимались как отгадывание головоломок, забавных ситуаций, лабиринтов. Лишь в попытках их решения возникали порой задачи, достойные того, чтобы подняться до статуса научных.
Иное дело, когда тема сразу же, от рождения является исследовательской, а не игровой, но, решая ее, ученый пользуется приемами, характерными для игры. То есть, погружаясь в проблему, он вместе с тем как бы вовлекается в игру, принимая ее правила. Здесь игровые навыки применяются уже в качестве набора методологических приемов, помогая справиться с гносеологической (не «головоломной», явившейся из бытовой среды) ситуацией, предъявленной развитием науки.
Типичный пример — работа Д. Менделеева над периодическим законом. Задача, вставшая перед ним (как и перед другими исследователями, ее решавшими, — Шанкуртуа, Ньюлендс), далека от какой бы то ни было игры. Вполне серьезная, глубоко научная тема.
Читая из года в год курс химических элементов, Д. Менделеев все сильнее ощущал неудовлетворенность: элементы никак не сходились в систему, рассыпаясь на изолированные единицы. В лучшем случае удавалось выделить некоторые группы, но и они существовали независимо друг от друга, не желая вступать в межгрупповые контакты. Ученый и задался целью свести разнообразие элементов воедино.
Подступая к задаче, он изготовил «колоду» химических карт. На каждой из них был записан только один химический элемент с сопровождающей его краткой характеристикой — основные химические свойства и значение атомного веса. Получив такой набор, великий химик принялся комбинировать и так и этак, составляя своего рода пасьянс (раскладывание карт, от французского patiense — буквально «терпение»). А он, надо сказать, любил пасьянсы настолько, что, как отмечают близко знавшие его, отправляясь в дорогу (она ведь была в ту пору долгой), брал с собой карты.
Элементы выстраивались в шеренги. При этом то и дело появлялись пропуски. И не удивительно. Природа поступила щедро, создав 92 элемента, но делилась своими тайнами весьма скупо. Даже к тому времени, когда Д. Менделеев занялся таблицей элементов (60-е годы), их было известно всего 62. Не так-то просто обнаружить порядок, если имелось лишь 2/3 общего числа элементов.
И все же русский химик этот порядок уловил. «Игра», которую он вел, состояла в раскладывании элементов по атомным весам. Но не просто по атомным весам. Такое распределение проводили и до него. Кстати, также используя приемы игры, английский химик Д. Ньюлендс, например, комбинировал, беря за основу музыкальные октавы (тут и вовсе игровая ситуация).
Отличие менделеевского подхода состояло в следующем. До него сопоставлялись (по величине атомного веса) только химически сходные элементы внутри отдельных групп. Он же сблизил несходные элементы из разных, порой далеких групп. Поэтому получился не просто один общий ряд согласно возрастанию атомного веса, а именно таблица, иначе говоря, настоящий «химический пасьянс». Благодаря этому удалось разместить не только известные к тому времени 62 элемента, но и еще четыре, существование которых он предсказал на основе открытого им закона.
В итоге ученый «поставил на место» 66 элементов. При этом 48 позиций были определены верно, и лишь в восемнадцати случаях он ошибся. Удивляет не только то, что русский гений сумел «укротить» уже известные элементы. Поразительно, насколько оправдались его предсказания о будущем химического знания, о грядущих открытиях ряда элементов, существование которых его таблица предугадывала.
Игровые методы использовал и А. Эйнштейн. Отмечая, что элементами мысли выступают образы и знаки физических реальностей, имеющие важное значение в механизме творческого акта, он пишет далее следующее. Эти образы и знаки свободно порождаются и комбинируются сознанием, а стремление перейти от них к логически связанным понятиям как раз и служит основой «достаточно неопределенной игры с вышеупомянутыми элементами мышления». И наконец, заключая свою мысль, он подчеркивает: «Психологически эта комбинационная игра является существенной стороной продуктивного мышления».
Приемы игры настолько широко вошли в науку, имеют настолько значимый вес, что разрабатываются специальные игровые методы, теоретически обобщается опыт работы научных коллективов, использующих игровые ситуации для решения творческих задач, и т. д.
В частности, игровой метод практикуется в случаях, когда при отсутствии достаточной исходной информации возникает высокая неопределенность. Здесь и могут помочь приемы проигрывания вариантов будущих теоретических объяснений некой ситуации. Например, при допущении существования внеземных цивилизаций, при моделировании гипотетических событий «Большого скачка», положившего начало нашей Вселенной, для описания процессов в «черных дырах».
На элементы игры опираются организаторы работы научных групп по методу «мозгового штурма» и «синектики». В решении исследовательской задачи допускаются и поощряются высказывания самого разнообразного, в том числе фантастического, подчас нелепого характера. Участников как бы приглашают «поиграть» в истину. Подчеркивается, что необязательно иметь в виду истину, можно порассуждать около, по поводу ее и даже вообще без повода. Каждый волен идти в любом направлении, ограничений нет, единственный запрет — не выступать против других членов групп, их идей. Позволено лишь дополнять мысль, если сумеешь, а нет — лучше поберечь запал (сходный прием практиковал, как мы уже отмечали ранее, и П. Капица).
К тому же, как в хорошо организованной азартной игре, ситуация специально нагнетается: участвующих подгоняют высказываться быстрее, не обдумывая, говорить, что бог на душу положит, вне контроля холодным рассудком, который способен тут же и убить крамолу.
Недавно канадские специалисты разработали метод решения задач с помощью «ассоциативного круга», по идее напоминающего принцип работы «логической машины» схоласта Р. Луллия. Это и подавно игра.
«Круг» представляет собой прибор, имеющий три диска, каждый из которых разбит на секторы в виде лепестков ромашки. Диски разной величины. Они насажены на одну ось, которая вместе с ними помещена в цилиндр с прорезью в крышке так, что одновременно можно видеть только по одному из лепестков каждого диска, то есть три лепестка сразу. На лепестках-секторах записаны так называемые факторы. Это вот что. Решаемая задача разбита на три подзадачи (по числу дисков), а каждая из них, в свою очередь, разделена на еще более мелкие смысловые блоки. Это и есть факторы, обозначаемые понятиями. Каждый фактор нанесен на лепесток-сектор с таким расчетом, что на одном диске (это как бы целый ромашковый цветок) расписана лишь одна подзадача, на других — остальные две подзадачи.
Теперь прибор «заряжен» и готов к игре. Она напоминает рулетку. Запускают в движение ось. Поскольку диски-«цветы» вращаются независимо друг от друга, то, остановив прибор, мы увидим в прорезь на цилиндре совершенно случайную комбинацию факторов (трех факторов-понятий). Теперь уже слово экспериментатору, который, «накрутив» с десяток или более комбинаций, может отобрать поступившие от «круга» «предложения» на предмет выявления наиболее продуктивных вариантов.
Дело в том, что в обычном рассуждении исследователь мыслит логично, не сворачивая с проложенных маршрутов решения познавательной задачи. Между тем ответ на нее лежит обычно в стороне от магистралей и предполагает новые маршруты. Чем глубже проблема, тем радикальнее отклонение от господствующей нормы. Найти решение — значит соединить несоединимые элементы знания в единое целое, соединить их так, как они с позиции прежних представлений объединяться не должны. «Ассоциативный круг» и помогает в исследованиях тем, что с его помощью можно получить комбинации, запрещенные современной наукой, но оправдываемые ее будущим развитием.
Подведем итоги. Использование игровых ситуаций в науке приносит познавательный эффект. Однако методы игры все же робко входят в арсенал исследователей. Должно быть, смущает сам характер игровой деятельности, ее бесполезность в практическом, чисто утилитарном смысле. Видимо, это и отвращает от нее серьезных людей. Но, как замечает современный французский исследователь Э. де Боно, стыдиться здесь не следует. А если чего и надо стыдиться, то неумения играть. К сожалению, продолжает Э. де Боно, дети перестают играть. Потому для людей, утративших эту способность, «мир, в котором творятся чудеса, превращается в обыденный, где каждая вещь имеет объяснение».
Вместе с тем не станем и преувеличивать роль игры. Она связана с соблюдением правил и потому несет опасность ограничить творческий полет мысли, волю «играющего» заданными стандартами. В связи с этим надо всегда помнить о том, что увлекательно не только следовать правилам, но и переделывать их.
Странная медицина
В предшествующих главах были рассмотрены случаи допущения риска, свободы построения гипотез, права чудаков на эксперимент. Теперь обратимся к области деятельности, где менее всего должна допускаться ситуация риска. Это медицина. Вот уже где, казалось бы, следует избегать рискованных идей, тем более методов лечения, где не место эксперименту, поскольку слишком высока цена нововведениям, когда речь идет о здоровье и жизни человека.
Вместе с тем, если все это запрещать, если из медицинской практики решительно изгнать все гипотетическое, не впускать эксперимент и т. п., как медицина будет выходить к новым рубежам в лечении и диагностике? В свое время известный русский и советский писатель, врач по образованию, В. Вересаев, обсуждая эти вопросы, выступил все же в пользу эксперимента, в пользу врача-новатора. И он не один. История медицины полна доказательств, оправдывающих использование необычных (при их появлении) идей, методик врачевания. Даже и в широкой практике, в деятельности районных, городских больниц, участковых врачей, не говоря уже о клиниках, медицинские работники стремятся варьировать лекарства, лечебные процедуры, диету, другие назначения, чтобы найти эффективный путь к выздоровлению. Но разве это, в известном смысле, не эксперимент?
Сформировался и к сегодняшним дням обрел широкое распространение специальный раздел медицинской науки и практики — экспериментальная медицина с разветвленной сетью кафедр, лабораторий, целых институтов. Конечно, значительная доля их деятельности проходит в экспериментах на животных, и лишь потом результаты переносят на человека. Вместе с тем «подопытными» (или, смягчая речь, объектами воздействий) нередко становятся и люди. Это добровольцы, подвергающие себя риску ради прогресса науки, в том числе врачи, ученые, осуществляющие эксперимент на себе (о японском профессоре Р. Наито мы уже написали); это и безнадежные больные, на которых (что скрывать) приходится, с их согласия, конечно, испытывать новые препараты и методики, поскольку все «узаконенные» средства уже бессильны. Вообще, там, где вновь созданные и одобренные властями лекарства или методы лечения применяются впервые, они идут, хотя и с малым риском, с малым разбросом значений, в порядке того же эксперимента.
Исторические хроники, пришедшие еще из XVI века, донесли один интересный факт. Испанские и английские мореходы, отправляясь в дальние плавания, запасались питьевой водой, взятой из… болот. Казалось бы, нелепо вместо чистой, родниковой влаги заливать в бочки болотную воду. И лишь столетия спустя научные исследования показали, что эта старинная практика вполне оправданна. Оказывается, некоторые болота достаточно богаты антибиотиками, они и не дают размножаться микробам и водорослям, которые портят вкус воды. Мореплаватели знали это, вернее, знали места, из которых надо брать запасы для долгих походов.
Хотя описанный факт не касается вопросов лечения, тем не менее тоже выводит на проблему здоровья в ее, так сказать, предупредительно-профилактическом звучании. А сейчас обратимся непосредственно к лечебным делам (к тому же и более близкого нам времени), но таким, которые вызывают в начальной стадии их осуществлений, деликатно говоря, недоумение.
Одно из таких «громких» событий — метод лечения прогрессивного паралича путем… заражения малярией (!). Его разработал в первые десятилетия XX века австрийский врач-психиатр Ю. Вагнер-Яурегг. Предложение на первый взгляд странное, по всем показателям — из серии экспериментов чудака: лечить болезнь с помощью другой болезни. Так оно и было встречено. Но все по порядку, и в этом порядке — своя логика.
Вначале пришла идея бороться с параличом посредством искусственного повышения температуры у больного. Но как вызвать такое состояние? Наиболее эффективный способ Ю. Яурегг видел в том, чтобы заражать пострадавшего какой-либо инфекционной болезнью. Ученый и выбрал малярию. Приступил к экспериментальному лечению. Оно проводилось так. Врачу специально поставляли комаров, переносчиков заразы, он подпускал их к больным лихорадкой, а затем создавали условия, чтобы комары кусали больных параличом. Дальше все шло, как положено: у последних поднималась высокая температура, их лихорадило, но в конечном счете наступало выздоровление от паралича, а потом уже изгоняли и малярию. В 1927 году Ю. Вагнеру-Яуреггу была присуждена за это, воспринятое поначалу как чудаковатое, открытие Нобелевская премия. А сколько спасено людей, пораженных этим страшным, до того неизлечимым недугом, сколько возвращено к нормальной жизни исковерканных болезнью, отчаявшихся!
Безусловно, как и повсюду в науке, медицине не обойти борьбы мнений. На каждого новатора всегда найдутся консерваторы, встанут стеной гонители и запретители. Только здесь это приобретает наиболее острый оттенок. Медицине выделено особое место в распределении наук. Конечно, любые скороспелые нововведения, спешка опасны здоровью. Однако и замедления в использовании нового (лекарства или же метода диагностики, лечения) приносят вред, порой, быть может, еще посильнее.
Все это и означает, что механизмы превращения полезного знания в бесполезное путем запрета на публикацию, очернительством, тем более прибегая к расправе над ученым, проявляются в медицине по-особому заинтересованно и, следовательно, достаточно зримо.
Еще в конце XVIII столетия впервые стали измерять температуру тела. Поняли, как это перспективно для медицины, к тому же ни малейшего вреда больному и здоровому не обещавшее. Казалось бы, какие возражения? Однако нашлись же. Разве, дескать, способен бесчувственный прибор заменить человека, да еще врача! И вообще, как можно лишать доктора прямого касания с больным!
Тянулись дни, уходило дорогое время, а на пути термометров возводились все новые барьеры, точь-в-точь как и поныне, когда под всякими оговорками громоздят завалы многим хорошим начинаниям, о которых нам и предстоит разговор. Лишь полвека спустя после изобретения, уже в середине XIX столетия, термометр пошел наконец к больному, получив все виды на «здоровую» жизнь.
Вообще трудным оказалось время для новаторов. Впрочем, оно всегда для них трудное.
В том же позапрошлом столетии сражался А. Месмер, познакомивший человечество с «животным магнетизмом» или попросту гипнозом.
Сначала он взбудоражил общественность Австрии. Когда его там осмеяли, избрал полем действий Париж. Как ни рядить, по тем стандартам это наиболее оживленный европейский, да и мировой перекресток, где сходились нити политической, научной, вообще какой хотите интриги. И объявился там Месмер в подходящий срок. Франция готовилась к штурму Бастилии.
В этот насыщенный переменами город приходит человек необычных притязаний. Он обещает, применив всего лишь словесное действие, вызывать многие чувства и образы, облегчать страдания и даже излечивать от болезней, особенно же душевных. Словом, Месмер принес то, что мы спокойно называем ныне психотерапией. Однако по тем временам это воспринималось так, как в дни застоя принимали заявления, например, А. Кашпировского (впрочем, только ли тогда?).
Новатор не бросал фраз на ветер. Он действительно помог немалому числу людей, его авторитет быстро поднимался. Но куда важнее шла попытка развернуть учение о гипнозе как теоретической подпорке этих исцеляющих врачеваний.
Однако, как и положено при встрече многообещающих идей, против Месмера тут же отыскали прием. Комиссия Парижской академии наук, отстаивая корпоративную парадигму тогдашней эпохи, с порога отвергла «месмеризм». Она не захотела разобраться в нем, да и, по-видимому, не могла со знанием дела судить (пусть даже осудить) новое течение. Попытка А. Месмера признать в человеческом организме доселе неизвестный миру «животный магнетизм» была отбита бдительными академиками. Хуже того, последовало (все из тех же кругов) предупреждение, что последствия гипнотического внушения ужасны, что повергнутых в гипноз ждут судороги, конвульсии, им грозит получить в будущем уродливое потомство, их ждут другие кары.
А вот это уже явно «приписки». Каких-либо патологий в ту пору (ни много позже) отмечено не было. Тем более не могло быть предъявлено обвинение насчет наследственных уродств.
Так разговаривала национальная (большая) академия. Члены же медицинской академии были еще нетерпимее. Посетив курс лечения, они публично осудили не только Месмера, но и тех, кто пытался его защитить, пригрозив исключением из своих рядов.
Но было уже не так-то просто остановить «месмеризм». Махнув на притеснения, он вел пропаганду, совершенствовал метод и набирал очки, расширяя фронт сторонников и последователей. Уже при жизни А. Месмера его поддержали известный по тем временам естествоиспытатель аббат X. Фариа и столь же известный маркиз де Пюисегюр, отыскавший новые состояния психики — сомнамбулизм (то есть снохождение), эффект постгипнотического внушения и другие. Впрочем, несгибаемые академики все это также объявили шарлатанством. Ныне психотерапия широко используется медициной, равно как и другими ведомствами.
В должности органа, препятствующего вхождению ценных открытий в повседневную практику, в дела и заботы лечебные, Парижская медицинская академия (как и большая) еще заявит о себе. В ближайший раз конфуз состоялся, когда она противилась признанию микробной природы ряда болезней. Эта идея Л. Пастера, составившая эпоху в медицине, фундаментально повернувшая ее, оказалась в огне критики все тех же «бессмертных» (так именуют с давних пор действительно бессменных академиков) и была решительно побита. Академики вышли с обвинением, что, мол, Л. Пастер — сторонний медицине человек: мало что не врач, но даже и не биолог, а химик. В биохимическое же «обеспечение» болезней в те годы не всматривались (достаточно ли убедительно всматриваются в наши годы — тоже вопрос…).
Кстати, ученая корпорация советских медиков до сего дня ревниво сохраняет эту дисциплинарную чистоту. Выдерживается правило, по которому никакой соискатель, будь как угодно талантлив, не сможет завоевать степень даже кандидата медицинских наук (о докторской вершине и помыслить страшно), если у него нет медицинского диплома. Может, по замыслу это и справедливо, поскольку касается здоровья и жизни. Но справедливо ли поголовное отлучение от медицины воспитанных в смежной науке и умеющих обогатить лечебное дело?
Бедный Пастер показался бы бледным, явись он со своими микробами перед собранием мужей современного ученого совета медиков на предмет овладения хотя бы кандидатской грамотой. Да что химик Пастер, когда даже коллег-врачей, ученых мировой известности академики медицины не пропустили в свои ряды действительных академиков: Н. Амосова и совсем недавно — Г. Илизарова и С. Федорова. О них мы вот-вот расскажем, полновеснее, а здесь лишь две подробности.
С. Федоров — почетный член многих офтальмологических обществ. Его линзы и другие изобретения экспортируются в двадцать стран. По словам президента одной американской медицинской фирмы А. Липмана, Советский Союз (точнее, институт С. Федорова) опережает США на 10–15 лет. А популярность? … Однажды, будучи в США, С. Федоров вместе со знакомым американским врачом заглянул в церковь. Увидев его, пастор тут же прервал службу и поблагодарил «русского доктора», вернувшего здоровье нескольким прихожанам. Заметен научный успех и Г. Илизарова, конструкция аппарата для лечения костей которого закуплена в Англии, Италии, Франции, ФРГ и которого столь же широко знают на планете не только в среде ученых, но и простые люди.
Увы! Все это не аргумент для наших академиков. Таким могучим набором запретителей нового едва ли располагала даже Французская академия XVIII–XIX веков. Но вернемся все-таки к этим столетиям. На бесплодное существование был тогда уже осужден и пастеровский метод прививок и вакцинации. Его объявили вненаучным измышлением, несущим вред организму. А тем временем люди умирали от болезней, которые, как убедила последующая жизнь, хорошо поддаются лечению по методике Л. Пастера.
Еще увереннее сопротивлялись официальные медицинские круги Франции (как и других стран) внедрению способа переливания крови и применению антисептических средств. В те столетней давности дни многие умирали от заражения крови во время операций. Сильно страдали женщины при родах. Однако антисептическая обработка никак не могла пробиться в медицину. Власть предубеждений оказывалась сильнее. Погибель несли и запреты на переливание крови. История эта достигла даже стен французского парламента, но решена была не в пользу науки. Депутаты отказали методу. На врачей, применявших переливание, шла настоящая охота. К тому же глумились, что, мол, переливание — дело бесхитростное, всего-то и нужно три барана: два пациента да врач…
Безусловно, в ту пору, когда об организме человека знали крохи (поэтому робели перед неожиданными и смелыми решениями), подобное отношение к новшествам еще как-то можно объяснить. Но вот пришел XX век, вот уже и он на исходе, а сопротивляемость новаторству не гаснет. Как и прежде, находятся самоуверенные противники перемен, которым удается, пусть временно, сдерживать медицинский прогресс, оттесняя полезные знания и умения в ряды бесполезного.
Понятно, врачевание требует — подчеркнем еще раз — высокой осторожности при допуске новых методов лечения. В какой-то мере это оправдывает сопротивление новому. Но ведь часто, очень часто виснут на колесах внедрения вполне безвинных, не связанных с риском для здоровья и жизни приемов (взять тех же экстрасенсов). Сдается, тут дело не в предусмотрительности, а скорее в перестраховке, интригах, зависти. То есть мы переходим из сферы поступков, продиктованных исключительно научными интересами, в область, когда эти интересы уступают место корыстным расчетам и оцениваются уже по соответствующей нравственно-этической сетке как аморальные.
К примеру, изнурительное противоборство испытал известный канадский физиолог Г. Селье, прежде чем его идея стресса (общий неспецифический ответ организма на повреждающее действие) была признана, а затем использована в теории и практике медицины. Между тем такое использование ведь не связано с риском для здоровья, тем более жизни. Не пропускали просто потому, что ново. Около сорока лет доказывал талантливый русский ученый А. Чижевский факт космических воздействий на живые организмы. Какие изощрения не придумывали, чтобы заставить его отступить, отречься, не будоражить мнение. Выступая против, ученые-коллеги извлекали свой урок: не будь беспокойных теорий Чижевского, ни его самого, им жилось бы уютнее.
Но мы подошли совсем к нашим дням. Не станем искать события далеко, ходить за семь морей и за много земель. Возьмем наши дни.
Успехи научно-технического прогресса вносят свои поправки в методы лечения и диагностики заболеваний. И здесь не обойтись без новаторов, смельчаков и чудаков, прокладывающих технике путь к человеческому организму. Возьмем эту тему детальнее.
В 1957 году голландский хирург Б. Бурема приступил к опытам над животными в барокамере. Создав давление в три с половиной атмосферы, он выпустил из свиньи кровь и заменил ее физиологическим раствором. В обычных условиях свинья вскоре (минут через пять) неминуемо погибла бы. Однако, находясь в барокамере, она продолжала жить. Так прошло около часа, дальше врач не стал искушать судьбу и перелил свинье ее собственную стабилизированную кровь. «Пациентка» осталась жить. Описанный опыт и составил содержание нашумевшей статьи Б. Бурема «Жизнь без крови».
Вначале новость гуляла наподобие сенсации. Но постепенно дело подошло к клиническим испытаниям, и в конце 70-х годов на основе экспериментов Б. Бурема разрабатывается метод так называемой «гипербарической оксигенизации» — обогащение организма кислородом (оксигениум) под повышенным давлением. В его основе лежит следующее свойство газов. Находясь в условиях высокого давления, нагнетаемого барокамерой, они растворяются в жидкости лучше, нежели при нормальном давлении (вспомним обыкновенную газированную воду). Сказанное полностью относится и к кислороду, который в условиях барокамеры хорошо усваивается физиологическим раствором, способным в силу этого заменять кровь. Последнее обстоятельство уже отмечено нами при описании опытов «чудака» Л. Кларка, с головой погружавшего морских свинок в силиконовое масло.
Так теоретически и в эксперименте была подготовлена почва для проведения уникальных хирургических операций. В Советском Союзе их методику отработали и осуществили в натуре известные хирурги Б. Петровский и С. Ефуни. Суть такова. При оперативных вмешательствах могут быть резко нарушены каналы снабжения организма кислородом, поскольку путь его доставки к органам достаточно извилист. Сначала вдыхаемый с воздухом кислород усваивается в легких гемоглобином крови, затем по малой дуге кровообращения поступает в сердце, и наконец отсюда он по сосудам большого круга «командируется» во все участки тела.
В ответственные моменты (каковыми являются, в частности, операции), когда организму кислород особенно нужен, его порой не хватает. С помощью же барокамеры перебоев в снабжении удается избежать, поскольку кровь, находясь под давлением около четырех атмосфер, и насыщается воздухом в четыре раза сильнее, чем при нормальных режимах. Вместе с тем надо учесть еще одно обстоятельство. Напомним, что в естественных условиях кислород составляет лишь пятую часть воздуха, остальное отдано азоту. В барокамере же создается среда, образованная, по существу, из одного кислорода, чем и объясняется высокая степень насыщенности им циркулирующей в организме крови.
Расскажем еще об одном методе лечения, явившемся прямым наследником прогресса современной техники. Его разработал ректор знаменитого Высшего технического училища имени Баумана в Москве профессор Г. Николаев. Человек, далекий от медицины, занятый техническими проблемами, к тому же администратор, он уже одним этим вызвал недоумение, когда предложил свои услуги врачам. Тем более что речь шла о неслыханном, о том, чтобы с помощью ультразвуковой установки сваривать… костную ткань.
А история такова. Когда в мировой практике стали варить металл посредством ультразвука, Г. Николаеву и пришла мысль испытать этот метод при переломах кости. Он все взвесил, просчитал, до мельчайших тонкостей продумал. Как будто должно получиться. Начал проводить эксперименты, для той поры (начало 60-х годов), конечно, странные, а еще точнее, чудаковатые. И верно, опыты вначале не пошли: уж очень не подходящий для сварки материал. Но ученый не отступал, он верил в свою звезду. Постепенно дела стали налаживаться, и вот в 1967 году первая проба на людях, завершившаяся удачей: с помощью метода Г. Николаева была восстановлена сломанная человеческая рука. В настоящее время разработка наватора признана, и с медиками у него не только полное согласие, но и добрые союзнические отношения. Более того, обрел самостоятельность новый раздел медицинской науки — ультразвуковая хирургия. Она включает сварку не только костей, но и сосудов, занимается восстановлением многих тканей и их резанием, курирует другие вопросы. Остается лишь сказать, что труд первопроходца был отмечен в 1972 году Государственной премией СССР.
Предъявленные факты — лечение с помощью барокамеры и ультразвука — касаются достаточно высокого ранга технических устройств. Но медицина использует средства, так сказать, и малой механизации, стоящие на уровне слесарного мастерства. Это и вовсе вызывает в медицинском мире протест, поскольку речь идет даже и не о продукции высокой технической мысли (еще куда ни шло), а об обычных, рожденных в простых мастерских устройствах.
Ныне всему миру известен выпестованный курганским профессором Гавриилом Абрамовичем Илизаровым метод восстановительной хирургии костей. Известен-то известен, но столько зим был безвестен.
Первые предложения пришли от Г. Илизарова еще в 1951 году. Заявка была неслыханной. Она обещала дать эффективный, надежный и годами испытанный в клинике способ лечения. Оглашение результатов вызывало немую сцену. Если при обычном, традиционном восстановлении перелома ноги требуется 2,5–3, а порой и 4 месяца, то здесь срок укорачивался до трех недель. То есть выздоровление шло в 3–4 раза быстрее. Еще решительнее падала доля инвалидности — в 7–8 раз.
Г. Илизаров коренным образом перестроил не просто хронологию, но сам распорядок лечения. Сконструированный им аппарат избавляет больного от необходимости быть уложенным в постель. Буквально тут же, едва кончается операция (а уж на второй или третий день неукоснительно), покалеченные могут, имея аппарат Илизарова, двигаться. Да не просто двигаться, а бегать, играть в чехарду, заниматься художественной гимнастикой, взбираться по шведской стенке под потолок (опускаться тоже).
И это со свежими переломами ног. А однажды вышел совсем фантастический расклад. Комбайнер (можно назвать и фамилию — А. Богачев), еще находясь в клинике, но изнемогая от скуки и безделья, отпросился на несколько дней в колхоз: у того проваливался уборочный план. Механизатор крупно помог ему. Занял призовое место по району и, когда напряжение страды ушло, вернулся на «должность» больного для долечивания. Кстати, тем временем, пока он спасал урожай, его койко-местом воспользовался другой больной: и здесь выигрыш. Так, один-два аналогичных выигрыша, и складываются десятки, набегающие экономией.
Но дело не просто в особом аппарате. Г. Илизаров нащупал удивительную способность костной ткани наращивать новые образования, притом внушительно. Это распахнуло возможность без хирургического насилия, но исключительно методами терапии удлинять (а если есть нужда, то и укорачивать) размеры кости. Иначе сказать, выросла перспектива управлять костообразованием, придавая конечностям практически любой рисунок.
В Кургане не упустили такой шанс исправления различных патологий. Поначалу в лечении брали скромно: сумели одному больному вытянуть конечность на 13 сантиметров (в сутки кость прибавляет 1–2 миллиметра). Удача внесла смелость, стали наращивать по 20–24 сантиметра, а потом — страшно выговорить — удлинили ногу на полметра и даже чуть свыше. При этом главный исцелитель Г. Илизаров пообещал, что, если понадобится, могут и еще прибавить.
Как всякий нестандартный человек, Илизаров шел к обобщениям. Такие исследователи не довольствуются самим фактом достигнутого. Им обязательно надо найти фактообразующую основу. Остановка же на внешнем проявлении вносит дискомфорт в мысль. И пока пишешь про их сегодняшний успех, они вырастили уже новые замыслы, составили новые фантазии, которые несут их дальше, все дальше.
Когда доктор Г. Илизаров окончательно установил возможность прибавления кости, пришла догадка: почему бы не испытать наращивание других тканей, вообще органов, частей тела? Отдался поискам, которые скрепил новой победой. Ученый вышел к общебиологической закономерности роста живых структур: не одних лишь мышц, сосудов, костей, но и более крупных образований, отмеченных более сложными зависимостями. Оказалось, например, что вместе с костью сломанной ноги растет и другая нога, более того, идут перемены всего организма. Г. Илизаров так и говорит коллегам: «Не думайте, что только конечности лечим. Мы всего человека преображаем».
Хорошую теорию всегда сопровождают хорошие практические следствия. И в этот раз идея не ушла в лесок. Вскоре по ее мотивам создаются специальные аппараты, с помощью которых врачи реконструируют фаланги пальцев, осваивают протезы суставов, выращивают другие структуры. А в перспективе — овладение тайной управления ростом человека, увеличение или уменьшение его размеров, исправление горба, вообще, переделывание организма.
Но теперь охладим воображение, чуть зависнем над реальностью и даже окунемся в нее. Здесь-то нас и ждет разочарование. На дорогах к применению заманчивых идей и готовых методов встали стеной косность, рутина, перестраховка.
Г. Илизаров с сотрудниками уже имел крупные результаты (недаром ему при защите кандидатской диссертации была сразу присуждена степень доктора наук). Уже набраны клинические подтверждения, ширилась популярность. Но пробиться в медицинскую практику сквозь официальное сито ведомственных параграфов новатор еще долгое время не мог. В его клинику зачастили комиссии, шли освидетельствования и переосвидетельствования. Бюрократия трудилась. Кто-то был за, но больше против. А уж в медицинском ведомстве, если заронилось сомнение, оно разольется морем. И как бы ни был хорош метод, ему неизбежно станет худо и еще хуже.
Нашлись и прямые недоброжелатели. Обвиняли в подтасовке материалов, в том, будто Илизаров дезинформирует общественность, сея окрест завышенные подробности об удачах своего метода. Тяжелый удар нанесло, например, заключение конференции, проходившей в Свердловске в 1957 году, когда лечение по Илизарову объявили «слесарной медициной». В другой раз его обвинили в «лихачестве», требуя запретить, не допускать. Порой колебались даже те, кто сочувствовал. Один коллега, прослушав доклад, сказал Гавриилу Абрамовичу: «Метод хорош. Смущает стремительность излечивания. Это не входит в сознание». И посоветовал: «Завышайте сроки, тогда лучше поверят».
В чем же кроется причина столь обескураживающего обращения с уникальными идеями?
Необычность — вот главный источник всех бед и подозрений. Если бы не так оригинально, не так дерзко… Но тогда бы ведь и никакого эффекта?! «Слесарное» начало действительно имеет место, только не с тем назначением и не по тому разряду, который носят мастера, скажем, ЖКО и сходных служб. Вместо традиционного, веками испытанного гипса Г. Илизаров прошивает обломки кости, каждый по отдельности, металлическими спицами, которые крестообразно (почти по-велосипедному) сходятся внутри двух колец, расположившихся на обоих обломках. Кольца эти соединяются стержнями (их три или четыре), которые идут параллельно кости и крепятся винтами. Всю «ответственность» по удержанию тяжестей и берут на себя кольца со стержнями, освобождая от нагрузок кость и стимулируя ее рост.
В самом деле, сооружается нечто вроде технического устройства, только идет оно по другому ведомству. Конечно, не с руки одевать ногу в сию металлическую структуру. Но ведь когда-то и гипс пробуждал чужеродные ощущения несовместимости с человеческим телом. Однако разве прогресс остановился перед смятением чувств?
Что удивительно, Г. Илизаров, доказывая высокую полезность своего метода, взывал к министерским кабинетам, упрашивал сомневающихся приехать в Курган и посмотреть прямо в клинике, как все обстоит. Ему неизменно отвечали: «Этого не может быть». Железобетонная аргументация: «Я не слышу, что вы говорите, но я определенно с вами не согласен».
Все же со временем кое-кто вслушался. Министерство здравоохранения России открыло в Кургане для Г. Илизарова филиал Ленинградского института травматологии (науки о повреждениях тканей и органов). Вскоре, должно быть, поняли истину: филиал оказался знатнее того учреждения, сыном (пробным сыном) которого он состоял. Во всяком случае, Г. Илизарова и курганскую клинику уже тогда знал весь мир, а знал ли он в тех же размерах Ленинградский институт или, скажем, его руководителей… Впрочем, может быть, и знал, но как заведение, филиалом которого числится институт в Кургане.
Словом, в городе появился центр ортопедии (науки о нарушении опорно-двигательного аппарата, то бишь ног) и травматологии. А если еще проще, так это, как говорят в курганском народе, «больница доктора Илизарова» или «веселая больница». «Веселая», должно быть, по той причине, что в ней легко и споро выздоравливают. И еще по причине, что больные здесь хотя и лежат (в том смысле; который отличает режим лечебного заведения), а по существу-то они не лежат, а, как мы уже написали, ходят-бродят, завязывают шумные затеи, танцуют, вообще веселятся.
Так, десятилетиями угнетаемые мысли большого ученого вышли на оперативный простор, их изучают, испытывают. Наметились последователи. Профессор Кирсанов из Воронежа, опираясь на аппарат Илизарова, разработал свой. У него спицы не пронизывают обломки кости (все же дополнительная травма), а упираются в них. Решение оказалось столь же удачным, и судить о том попавшим в беду: больные с переломом, например, голени выписываются из воронежской клиники буквально через три дня вместо положенных по штату сорока и более суток.
По следу Г. Илизарова идет и детский хирург Комсомольска-на-Амуре А. Тяжелков. Он взял очень трудный вопрос — врожденные пороки появившихся на свет без пальцев рук. Врач подводит под эту тему хорошую техническую основу: вовлекает в дело инженера В. Гостева, входит сам в «слесарное» искусство, осваивая знания техники. Вместе они ладят аппарат, с помощью которого удается не только возродить пальцы, но и растягивать до нужных пределов. Озаренный первыми удачами, хирург идет к новым, усложняя цели: вживление искусственных суставов, реконструкция фаланг пальцев и восстановление их двигательного назначения.
И вот чудо… Мальчик родился без пальцев. Можно понять терзания близких, прочувствовать страдания, которые ожидают малыша, останься он калекой. Используя разработки Г. Илизарова, свой опыт и свои таланты, А. Тяжелков с помощниками достиг невероятного. Сейчас ребенок уже в школе и наравне с другими (верно, не столь споро) пишет, рисует, овладевая знаниями и уменьями. За Г. Илизаровым движется также врач ярославской «Скорой» Б. Леваничев. Еще в 1977 году он смастерил по аналогии с илизаровским свое устройство для лечения переломов позвоночника. Успех на виду: идет ускоренный прирост костной мозоли при полной гарантии от смещения позвонков (к сожалению, часто сопровождающее используемые доселе методы). Но вот беда. Судьба Б. Леваничева сподоблена той, что перенес Г. Илизаров в ее не только удачливых поворотах. Уже пять лет как его аппарат трудится в единственном числе. И хотя слава о нем разошлась далеко за ярославские земли, хотя врачу-изобретателю готовы помочь многие предприятия, принимая на себя выпуск чудо-устройства, Минздрав РСФСР (от которого зависит одобрение) не разрешает, правда, и не запрещает. Минздрав просто молчит…
Достойны упоминания и такие изобретения, как приспособление доцента В. Болгайтиса из Вильнюсского университета и аппарат доктора Р. Пачхадзе, несущие новые варианты илизаровского устройства. Скажем сильнее. Идеи нашего славного соотечественника завоевали международное признание и неудержимо расходятся по планете, покоряя все новые регионы и режимы. Его метод берут на вооружение, испрашивают совета, ждут помощи.
Уже в начале 70-х годов Г. Илизаров получал ежегодно 10 тысяч писем со всех концов земли. Или такая статистика: после того как он поднял на ноги Валерия Брумеля, врачу стало приходить до 750 посланий ежедневно. И то сказать, до этого знаменитый спортсмен перенес десятки операций, сменил не одну больничную койку, а приговор один: «Дай бог, чтоб вы могли ходить». После Илизарова Брумель взял высоту 208 сантиметров и сошел с дистанции не столько по нездоровью, сколько по возрасту.
В курганской клинике всегда полно иностранцев, а за рубежом создана специальная Ассоциация по изучению аппарата и метода Илизарова (сокращенно АСАМИ). В частности, в США илизаровский метод удлинения костей применяется по крайней мере в десяти медицинских центрах и имеет склонность к расширению географии использований. Американских хирургов привлекло то, что нарастание кости достигается благодаря ее собственной «инициативе», и еще то, что лечение можно проводить амбулаторно.
Слава настигает и по другим направлениям. В институте Илизарова обрели надежные ноги не один десяток итальянцев. Среди них знаменитость — Карло Маури, популярный путешественник, посетивший самые высокие пики Земли, прошедший сквозь безводье пустынь и сквозь сплошные заросли джунглей. К. Маури с некоторых пор вынужден был носить специальную обувь: давали знать последствия травмы. Но вот лечение у Илизарова, и обновленный пешеход Карло вновь на ходу. Словом, правительство Италии, высоко оценивая то, что сделано доктором для их соотечественников, и учитывая, что еще будет много сделано, увенчало Г. Илизарова высшей наградой страны — Орденом Республики.
Ему вручены также высший орден Иордании, ордена других держав. Г. Илизарову, первому из советских врачей, присуждена весьма почетная международная награда — премия «Буккери-Ла Ферта».
Рассказ не стал бы полным без обращения к душевным линиям доктора Г. Илизарова. Убеждены: из мелкого человека не может родиться большой ученый. Большой ученый происходит только из человека великой души (которая, конечно, может породить необязательно ученого). Пример Г. Илизарова замечателен тем, что не опровергает этого правила. Тому свидетельство — его отношение к делу. Еще с детства надеялся обучиться смягчать людские боли. Это вело по жизни, диктовало поступки, определяло помыслы. Став врачом, ушел в поиски наиболее щадящего способа лечения переломов, вообще отдал себя больному человеку.
Г. Илизаров рассказывает, что работы ему постоянно на целый день и даже сверх того. У него правило: домой не уходить, пока остается хотя бы один записавшийся в этот день на прием. Откладывать некуда, очередь на десять лет вперед. Приходится принимать допоздна. Бывает, что уходит из кабинета около двенадцати ночи. А надо еще почитать специальную литературу, обдумать, подготовиться к решениям. Поэтому спать приходится всего-то шесть, иной раз четыре часа в сутки. Живет без отпусков, отдыхать некогда, да и не умеет. Впрочем, однажды попытался… Как-то выделили путевку в санаторий. Через неделю сбежал. Скучно.
Подкупает и такая черта натуры ученого. Ранее, когда его призывали бороться против своих, мягко говоря, оппонентов, он размышлял: конечно, бороться надо, но не против, а за. За свой метод, за новые подходы. Теперь ему не надо бороться и за это, и он хотел бы отдать силы в помощь тем, кого (как и в свое время его) не признают.
Хочется на словесный портрет положить последний штрих. Мы упомянули о международной премии «Буккери-Ла Ферта». Г. Илизаров распорядился ею так: значительную часть перечислил на строительство детских больниц в Лебяжеском районе Курганской области, труженики которого избрали его делегатом Верховного Совета РСФСР.
Поэт Расул Гамзатов посвящает замечательному доктору слова:
Как это бывает в хорошей поэзии, большое чувство переходит грань изначально задуманного образа. И вот Г. Илизаров — уже не просто хирург, а врачеватель сердец, скрепляющий «связь времен»,
У нас все права гордиться выдающимся соотечественником, известным не только в пространствах нашей необъятной Родины, но и за рубежом. В этой связи еще более беспрецедентной выглядит акция медицинских академиков, проголосовавших отказом на ход Г. Илизарова войти в их ряды. Не получится ли так, что, не пройдя в советские академики, он будет избран академиком в чужой стране, как это бывало в иных государствах, недооценивающих значение отечественных ученых? И особенно несправедливо, что в академическое звание возводятся порой люди, явно уступающие рангом ученому такого класса, как Г. Илизаров (мы еще скажем о них). Как бы то ни было, но при всем разбросе значений, при той известной неопределенности критериев выбора тем не менее есть такие случаи, когда кандидат бесспорен, и это видно, что называется, невооруженным глазом. Перед нами как раз такой случай. Повторяется та же история, что имела место на выборах в Академию педагогических наук.
Теперь обратимся к другому чудо-доктору, другому властелину наших чаяний и дум, кому с таким же упорством пришлось преодолевать консервативные заслоны на многотрудном пути. Речь пойдет о Святославе Николаевиче Федорове.
С его именем открываются новые главы отечественной и мировой офтальмологии (науки о строении, функционировании и заболевании глаз), в которую он вписал важные страницы. Оглядывая близкую историю глазного дела, убеждаешься, что мы многого лишились бы, отступись С. Федоров от своих идей, и много обрели бы, избавив его от неизбежности столь упрямо защищать свою правду. Как-то он признавался, что благодаря своему напору смог нормально работать уже в 50 лет. Мы бы откорректировали так: не «уже», а «только». Только в 50 лет ему удалось утвердиться…
Говорят, глубина духа измеряется величиной его потерь. Так и совокупная духовность, составленная из индивидуальных умов, скудеет, если нация не готова применить лучшие силы своих сынов, если препятствует им содеять то, что они умеют содеять.
Святославу Николаевичу посвящены многочисленные очерки, распределены яркие эпитеты и краски. Однако то речи его коллег или зарисовки журналистов. Прошу слова как пациент, испытавший в натуре не только целебную власть составленных им рецептур врачеваний, но и глубину обаяния его личности.
Когда-то в ответ на мое пожелание описать его в работе он сказал: «Что же, ложитесь на операцию, понаблюдайте клинику изнутри и в добрый час…» Ныне, когда позади три операции да более чем двухмесячное в общей сложности выздоровление в клинике, наверно, тот час подошел. Думаю, собрано наблюдений «изнутри» достаточно, чтобы заявить свое. Годы же, пройденные после операций, помогли не только откристаллизовать суть («большое видится на расстоянии»), но и провести мое обновленное зрение сквозь ее превосходительство практику. Смею признать, что если до операций я просто вынашивал интерес рассказать о С. Федорове, то теперь к тому присоединилось ощущение долга и благодарности за спасенное здоровье, и я уже не могу не написать об институте на Бескудниковском бульваре.
Операции на глазу отмечены особым значением. Не по той лишь причине, что врач касается одного из самых деликатных творений живой субстанции — органа, который держит в руках без малого полный объем входящей информации, оставляя на долю других каналов то ли 10, то ли даже 5 процентов. Дело еще в том, что глаз весомее всего ведет представительство нашего «я» во внешнем общении. По тонкому замечанию Евгения Замятина, «человеческие головы непрозрачны, и только крошечные окна внутри — глаза».
Но и это не вся правда. Каждый из нас вступает в мир со своими неповторимыми качествами, обогащенный (или, наоборот, обделенный, кто как успеет) человеческими ценностями. Воистину,
Здесь время сказать о той ответственности, которая ложится на плечи глазного хирурга. Но не потому ли С. Федоров и пришел сюда, что, по его установке, если уж выбирать, то трудное. Вначале хотел испытать себя небом, в летном мастерстве, да перешло дорогу несчастье: трамваем отрезало левую ногу. Может быть, страна лишилась талантливого летчика, но С. Федоров нашел себя в другом. У этого пункта вынужденной смены профессий есть нетривиальное продолжение.
…В начале 80-го года (в ту пору хирург стал уже достаточно известен) в еженедельнике «Неделя» прошло небольшое сообщение под интригующим названием: «Не тот ли это Федоров?» Бывший военный летчик К. Локтионов писал, что в знаменитом офтальмологе С. Н. Федорове, недавно выступавшем по телевидению, он узнал своего товарища, с которым служил в одной части и о котором до сих пор живы воспоминания. Надо полагать, сквозь толщу без малого сорока лет память могла пронести мету действительно лишь о незаурядной личности.
Но здесь еще не конец интриги. Некоторое время спустя в «Неделе» же печатается заметка учителя А. Мальцева «Мир тесен» (ее бы озаглавить, сохраняя жанр, «Не тот ли это Локтионов?»). Автор говорит о летчике, с которым однажды его соединила судьба. Во время боев у Днепра над их артиллерийской позицией близ реки пролетел самолет. Пилот, сделав круг, выбросил вымпел. В нем лежала записка: «Артиллеристы, какого черта вы ходите во весь рост? Вас могут заметить фашисты, и тогда несдобровать. Немедленно маскируйтесь. Летчик Локтионов».
Будучи увлечен сам, С. Федоров по тому же понятию подбирает сотрудников, людей цели, умеющих подняться над повседневностью.
Поучительна его исследовательская линия. Автору сего сочинения довелось побеседовать с хирургом, наблюдать, хотя и краешком, как он ведет прием. Характерна широта «прочтения» анатомо-физиологического состояния, в контекст которого он вписывает глазную боль.
Вспоминается его разговор с женщиной, страдающей глаукомой. Глаукома — не местное заболевание, разъяснял хирург. Причина ее в неполноценном снабжении глаза. «Посмотрите, какое у вас бледное лицо. Как у работников ЦК. Вы мало бываете на воздухе…» В другой раз он начал высказывать идеи о том, сколь загадочно устроено живое: составляющие его кирпичики сами по себе химически хлипки, но вместе образуют достаточно устойчивое организменное чудо. И вновь демонстрируется широкий, «вневедомственный» подход к предмету.
Столь же просторно, с позиции панорамного взгляда, С. Федоров ведет и организацию лечебного дела в институте, вообще в родной ему офтальмологии, о чем мы еще намерены сказать. Более того, осуществляемые им подходы вполне годятся послужить моделями для многих других, близких и далеких по роду занятий учреждений, ведомств, хозяйств.
В последние десятилетия офтальмология значительно пошла вверх. И пошла потому, что одной из первых повернулась лицом к микрохирургии, потребовавшей более тонких знаний, приборов и умений. Сошлись условия для радикальных перемен в методах лечения, подросли и люди, способные преодолеть прежние стереотипы о возможностях медицины, границах ее вмешательства в организм.
Но старое не покидает добровольно поле боя. Одно из сражений и вспыхнуло по делу о замене вышедшего из строя хрусталика глаза искусственным. Ныне такое событие стало ординарным. Операцию освоили во многих точках Союза. И только неразворотливость да упования на «кабы чего не вышло» мешают овладеть ею повсеместно. Однако, когда С. Федоров начинал свой марафон к искусственной глазной линзе, гимнов ему не слагали. Наоборот, продвижение к цели имело другое сопровождение.
Как и все значительное, метод шел вразрез принятым медициной способам лечения. Молодой хирург сразу же попал под кинжальный обстрел. Операцию объявили «антифизиологичной», а искусственный хрусталик — инородным телом, способным лишь нанести неисправимый вред. Если в Кургане Г. Илизарову местные власти поверили (хотя, быть может, и не во всем поняли), то С. Федорову в Чебоксарах выпало другое испытание.
Особенно усердствовал местный профессор глазной клиники, который, должно быть, лишь тем и достиг известности, что враждовал с С. Федоровым. По существу, он обвинил коллегу в преступлении. Хорошо, что наступили другие времена. Не то могло бы обернуться столь же трагически, как и для его отца, военного, незаконно репрессированного в годы разгула тирании Сталина.
Когда в глаз маленькой чувашской школьницы Е. Петровой был введен первый хрусталик и к ней вернулось зрение, хирурга начали четвертовать: насмехались, запретили оперировать и уволили с работы. И это, несмотря на то, что операция прошла успешно. Позднее девочка кончила школу, затем университет и ныне успешно учительствует… А сына своего назвала Святославом.
Пришли и другие неприятности, которые, как известно, не ходят в одиночку. И лишь заступничество перед Министерством здравоохранения писателя А. Аграновского, которому С. Федоров поведал о судьбе, смягчило удар, помогло восстановиться по службе. Но свои исследования врач продолжил уже в Архангельске.
Любое значительное дело, если даже ему чинят препоны (а, может, как раз потому, что чинят, значит, будоражат интерес), быстро обрастает популярностью, поднимаясь в цене. И вот С. Федоров уже во главе столичной экспериментальной лаборатории, затем института, а ныне целого комплекса «Микрохирургия глаза». Сейчас за ним всеобщее признание, мировая известность и десятки тысяч исцеленных людей.
Как видим, операция по вживлению искусственного хрусталика отрабатывалась и совершенствовалась в условиях, мало тому способствующих. Приходилось отдавать много сил не только самому делу, но и борьбе за признание. Официально методика С. Федорова была принята лишь через шестнадцать лет, когда стало невмоготу ее скрывать и за спиной лежало более пяти тысяч операций.
Хрусталик — главная, но не единственная забота выдающегося ученого. Принципиально по-новому С. Федоров подошел и к такому заболеванию, как близорукость. Сейчас в институте ее лечат, делая на роговице насечки методом радиальной кератотомии, который так и называют «русским методом». Это позволяет избавиться от очков. Вообще, С. Федоров считает, что со временем очки займут место в музеях рядом с огнивом и прялкой.
Снова нестандартный ход, на который консерваторы тут же подыскали ответ. Зачем оперировать практически здоровый глаз, неглубокий дефект которого легко снимается с помощью очков? Всякий рубец губителен для роговицы, поскольку она утрачивает первозданную ясность.
Как объяснить, что есть целый ряд профессий, куда вход в очках противопоказан: летчик (а теперь вот и космонавт), водолаз, электросварщик. Хирургу очки тоже не с руки, да мало ли кому еще. Лишь редкий вид спорта допускает к занятиям человека в очках. А балет, цирк? Но и независимо от подобного «запрета на профессию» разве уютно, когда приходится пользоваться очками, особенно молодежи. Заявляет и эстетический момент темы, его тоже не надо бы упускать.
Все же новое со временем взяло верх. Но едва С. Федоров прошел сквозь запреты, добившись позволения оперировать близорукость, как уже загорелся новой идеей, навлекая новые недовольства и собирая вокруг себя плакальщиков и кликуш. Такой он человек, что не может удержаться на месте. Иногда доносится, мол, ему все едино, лишь бы опровергать и выставлять свое. Несправедливо это. Просто С. Федоров не вписывается в единообразие, нетерпим не то что к застою, но даже к обыкновенному простою. И если видит, что можно лучше, что есть путь помочь больному, будет искать перемен, отказываясь от прежних решений, хотя бы то были его собственные. Он постоянно в поиске, в полете к высшим целям, один из рода не столь уж часто встречаемых людей, про которых поэт написал:
Итак, близорукость — это очень распространенное недомогание. В мире насчитывается до 800 миллионов страдающих им, чуть ли не каждый пятый житель Земли. Много больных и у нас в Союзе, а если точнее, то около 50 миллионов. Большой процент близорукости среди наших студентов, каждый четвертый из них поражен этой болезнью. С. Федоров мечтает о том, чтобы «извести» близоруких, вообще покончить со всеми глазными недугами в стране. Значит, надо прибавить ускорения. Так родилась (и уже пошла в дело) идея конвейерной операции. Однако, как и при внедрении самой насечки, здесь вновь поначалу осечка. «Что это? Глаз на конвейер? — насторожились медицинские силы. — Новая волна чудачеств? А от чудачеств добра не жди».
И опять пришлось ломать накатанные маршруты мысли, доказывать перспективность, казалось бы, бесперспективной затеи. Ныне уже ясно, что «нелепое» начало оправдано. Выигрыш? Прежде всего во времени: число операций при том же составе хирургов увеличилось. Каждые 3 минуты «ромашка» (так назвали конвейер) приносит исцеленного человека. Но возросло и качество, хотя и не по тому закону, в согласии с которым в него обязательно переходит количество, а благодаря необычному перераспределению сил.
Разгадка в том, что теперь классный специалист, освобождаясь от второсортных процедур (их выполняют менее маститые, хотя и вполне подготовленные врачи), сосредоточивается на самых ответственных разделах операции. Впрочем, подойдет час, и высшим мастерством овладеют хирурги с других участков конвейера, работающие пока на менее горячих делянах. Конвейер не привязывает человека намертво к выполнению лишь одного-единственного звена операции. Предусмотрено, что сотрудники время от времени меняются местами, что и позволяет одним исподволь приобщаться к высокому уровню исполнения, вторым же чуть снизить напряжение, и еще — тем и другим уйти от монотонности. Здесь все продумано и все размечено.
Более того, сейчас на конвейер переводятся и такие операции, как удаление «состарившегося» в трудах хрусталика (нарекаемого за это уже катарактой), замена его искусственным, пересадка роговицы и другие. Вне конвейера остаются пока работы на отслоенной сетчатке, где от начала и до конца врачует (ввиду особой сложности) один хирург с помощниками. Но и здесь также просматривается конвейерное решение. Впрочем, пока это пишется да издается, идея, наверно, пробилась к жизни.
Заметим, что ход операции помогает рассчитать компьютер. На основе закладываемых в его электронное нутро данных он «подбирает» наиболее оптимальные шаги предстоящего ремонта. Это тоже новация, принятая вовсе не единогласно и не с распростертыми объятиями.
С. Федоров изменил и многое другое. И не только в офтальмологии, а гораздо в более широкой области. Вообще, когда в науку (и не в одну науку) входит человек подобного масштаба, он значительно освежает атмосферу вокруг, несет массу новых подходов, необычных решений. Ибо, если человек нестандартен, он нестандартен во всем.
Начать с того, что в институте принципиально по-иному продумана обстановка, в которой вершится сама операция. Здесь всеми мерами стараются создать у больного впечатление обычности, даже обыденности происходящего, чувство пусть не домашнего, но все же близкого тому уюта. Зачем?
Для больного любое оперативное вмешательство — насилие, влекущее стресс. (Да и хирургу не легче.) Порой кровяное давление поднимается на десятки делений. Бывает, что по этой причине операция откладывается: большая кровь, которую гонит давление, заливает ткань и мешает работе. Вот почему важно успокоить пациента, вызвав ощущение уверенности.
В операционной нет той напряженной, пугающей обстановки, которая рассекает ситуацию на две неравновесные половины: персонал и больной и которая подчеркивает исключительность происходящего, оставляя оперируемого наедине со своими невеселыми думами. Наоборот, его рассматривают как соучастника, способного внести активную долю в исход надвигающегося мероприятия.
Первым делом вступает музыка (это в операционной-то?), которая сразу как бы выносит в другие измерения, успокаивает: вы ведь знаете, музыка для вас.
Обычно операции ведут стоя, а тут хирург садится на низкий стул, то есть скорее присаживается, оказываясь как-то ближе пациенту, который тоже соответственно «приземлен». Это не только удобнее врачу, но и снимает неизбежную дистанцию между ним и больным, словно бы приравнивая их.
Итак, все расставлено на исходные рубежи, и хирург, начиная священнодействие, вместе с тем заводит неторопливую беседу с ассистентами, сестрами, приобщая и оперируемого. Это чтобы он не считал себя отрешенным, всего лишь операционным телом, по которому движется скальпель.
О чем беседа? Да обо всем, Зинаида Ивановна Мороз, например, удаляя у меня катаракту и проводя сквозную, на всю глубину роговицы пересадку (выполнив то и другое, по правде говоря, с присущим ей мастерством), тем временем регулировала многоликий разговор, участником которого становился и я.
Но вот Зинаида Ивановна сказала: «А теперь помолчите». Я понял, что настал момент, когда надо затаить дыхание не только больному, но и хирургу и работать буквально между ударами сердца, как работают микроумельцы, чтобы не сбить руку. Позднее, по ходу действий, было предупреждение, что станет больно, хотя, говоря откровенно, особой боли я не ощутил. Наконец врач облегченно вздохнула: «Потерпите еще немного, остались последние швы».
Такая атрибутика, сопровождающая операцию, вызывает доверие к происходящему. Больной принимает все спокойнее, чем ожидалось.
О том, что оперируемый становится активистом событий, а не просто безучастным звеном манипуляций, сообщает и такой факт в поведении С. Федорова. Заканчивая операцию, он, поблагодарив ассистента, сестер за помощь, по обыкновению заключает: «Спасибо больному, что хорошо себя вел».
Конечно, подобная атмосфера вносит умиротворенность. И не только в душу больного, но и врача, сообщая ему столь же дефицитные положительные импульсы. Что и говорить, работа нервная, и привыкнуть к ней (как иногда считают наблюдатели) хирург не может.
Одно отступление. Из описанного порядка выпадают операции на сетчатке. Здесь как будто и в самом деле не до музыки. И какие беседы, если больного укладывают под общий наркоз, который мгновенно парализует мозг, бросая в глубины бессознательного?
Мне довелось дважды пройти сквозь это безмолвие. Вступая под высокие своды операционной (которые кажутся еще более недосягаемыми, когда положат на такой же низкий, едва над полом стол), почувствовал себя затерянным в этой огромной комнате-зале, брошенным во власть непредсказуемого. Вспыхнуло из Блока:
Простыни, как и халаты врачей, правда, не белые, а зеленые или крепко-синие, ядовитые. Наверно, чтобы не бросалась в глаза кровь. Это ладно, но ядовитость?.. Она скручивает, бегут ассоциации с санитарами, ветеринарами, уборщиками мусора. Не в обиду сказанным профессиям, но все должно быть на своем месте. Белое — символ чистоты, и если уж в операционной оно нежелательно, то, может быть, розовое (под цвет крови) или голубое?
И вот в этой угнетающей и нагнетающей страхи обстановке какое пришло бы облегчение, доведись распластанному на операционном ложе поймать ободряющее слово, сочувствующий жест, улыбку хирурга, как-то ответить, может быть, поделиться теми же накатившимися восприятиями. Короче, выйти к «неформальным» общениям, расположенным за гранью отношений, прочерченных линией врач — пациент. Но нет. Сосредоточен и непроницаем обычно живой хирург В. Захаров, ушли в себя сестры, реаниматор — что тебе госприемка! Так же и мой лечащий врач, добрейшая Валентина Ильинична Синедубская (о которой в клинике так и говорят: «любит больных»), и она тоже в плену у этого общего настроения. Понятно, предстоящая ответственность задает свою тональность. Но все-таки хорошо бы как-то снять напряжение, и музыка пусть играет так же здесь, в этом суровом мире отслоившихся сетчаток.
Если подытожить сказанное в главе, то надо признать, что странная медицина не такая уж странная. Многое, казавшееся сначала нелепым, получает потом оправдание и повсеместно входит в лечебную практику. Вся беда в том, что обычно новое встречает в медицине сильное противодействие. Конечно, под напором времени оно падает, но провести свою запретительную работу успевает. Еще хуже, когда новаторы в бессилии опускали руки перед стеной равнодушия и вражды. Хорошо, что и Г. Илизаров, и С. Федоров при характере. А попади душою не столь огнеупорен, и не видать бы нам чудес ни «слесарной» медицины, ни «антифизиологичных» операций.
Наука — лженаука
Мы увидели, что не только вознесшиеся над земной опорой абстракции, не только мечты-фантазии, но даже нелепости, заблуждения и ошибки ускоряют бег познания. Повинуясь давлению факта, принимаем, что бесполезных знаний практически нет. Есть преждевременные завоевания, непроверенные, спорные, но в нашем повествовании не отыскалось пока места для лишнего, ненужного знания.
Однако так ли безапелляционно обстоят дела? Всякая ли деятельность в науке полезна? В более острой постановке — это вопрос о существовании лженауки как альтернативы истине.
Тема всегда задевала живые струны общественных мнений. В наши дни проблема не стала мягче. Наоборот. Абстрактность теорий, достигнув сияющих высот, все настоятельнее ищет ходы для практических приложений. В этих условиях околонаучная суета, отбирая на себя материальный ресурс, время и силы, особенно досаждает науке. Но одновременно с тем неосторожное приклеивание трудам ученого псевдонаучных этикеток сеет опасность вместе с бракованной продукцией выгрести на свалку и плодоносные темы. Лжеученость вредна, но столь же чревато и безоговорочное обвинение в лжеучености.
Вот казус, поразивший выдающегося физика XX столетия, лауреата Нобелевской премии Л. Ландау. В пору еще робких проб исследований эффектов высокотемпературной сверхпроводимости академик с присущим ему острословием произнес: «В глиняных горшках сверхпроводимость искать не надо». Сказал, как припечатал, и, конечно, своим авторитетом внес замешательство, навредив развороту столь необходимой работы.
Что науку во все времена сопровождала лженаука, ясно каждому. Но далеко не ясно, где обрывается ниточка, ведущая к истине, и набирает силу ложь. Кто-то уверен, что паранауку можно отсечь, вооружившись показаниями здравого смысла. Другие убеждены, будто лженаука есть все, что противостоит фундаментальным законам природы. Еще одни уповают на рациональность, вне сферы которой все, по их мнению, попадает в запретную для науки зону… Однако кто возьмется обозначить пределы того, другого и третьего?
Как заявил однажды А. Эйнштейн, возможно, и стоит обратиться к здравому смыслу, когда бы его могли положить на весы и обозначить точную меру, ибо «здравый смысл — это толща предрассудков, успевших отложиться в нашем сознании к восемнадцати годам». С другой стороны, кому и почему доверено разметить квадраты, на которых размещаются здравый смысл, фундаментальность и тому подобные хорошие вещи? Но пусть даже и пометили, полна ли гарантия, что незыблемость и завтра сохранит свой вид? Куда фундаментальнее утверждение об атоме как неделимой градации вещества. А что осталось ныне от неделимости, кроме названия! И разве с приходом квантовых идей по фундаменту не побежали трещины?
Представляется, что в самой науке, оглядываясь лишь на рожденные ею оценки — «рационально», «истинно», «соответствует ситуации вне нас» и другие, — наш вопрос однозначно не решить потому, что указанные определения выносятся заинтересованными людьми. Но, как говорится, кто засвидетельствует, что свидетели не лгут? Тем более что характеристики эти записывают, когда они еще не прошли «госприемку» более высокими инстанциями ее величества практики.
Все это значит, что линии между наукой и лженаукой не проступают четко, и еще значит, что до поры, пока не обнаружены зримые доказательства в пользу противоположной идеи, принятая точка зрения не может быть объявлена ложной, хотя бы она кое-кому и казалась таковой. Точно так же и представления, которые противоречат сегодняшнему пониманию, неверно списывать как лженаучные.
Скажем, для своей эпохи идея теплорода, поиски алхимиков, астрология, очевидно, не являлись псевдонаучными, но они оказались ими, когда оформились кинетическая теория тепла, химия, астрономия. Более того, замечает академик В. Гинзбург, до создания термодинамики было бы несправедливо зачислять в ряды ложных учений даже усилия строить вечный двигатель.
Это оценкой прошлого науки. Полезно следовать столь же осмотрительной тактике, заботясь о ее будущем. Порой ученое сообщество крайне щедро раздает обвинения в лженаучности тем, кто не проявил «верноподданнических» убеждений к господствующей парадигме, кто выказал недовольство общепринятыми законами. Заслушаем на сей счет мнение советского академика медицинской науки О. Борояна. Обычно, пишет он, идея, которая противостоит истине, считается ошибочной со всеми исходящими от нее следствиями. Так ли это?
Характерная ситуация. Несмотря на прогресс медицины, немало безнадежно больных раком, в отношении которых классные специалисты, чей авторитет вне подозрения, категоричны: мы бессильны, больному жить две-три недели. Но ведь живет же такой обреченный годы и десятилетия! Это факт, что рядовым провинциальным врачам удается с помощью только им известных методик таких больных спасти. Увы, высококвалифицированный корпус решительно отметает сии лечения как псевдолечения. И совершенно напрасно. О. Бороян уверен: «Деление работников науки на ученых и лжеученых не имеет под собой почвы».
Положим, с последним не согласимся. Все же размежевание есть, и основания тому имеются. Оттого рядом с наукой, к сожалению, процветает лженаука. О. Бороян прав в одном: подобные разграничения провести трудно, если использовать только те критерии, которые применяются в самой науке.
В связи с этим кажется разумным принять следующее: ключ к размежеванию на линии «научно — лженаучно» находится не в параграфах теории познания и не у обладателей здравого смысла и т. п., а совсем в другой сфере — в сфере нравственно-этического.
Иной раз подверженность науки определениям морали отвергается по тем соображениям, что, мол, законы природы, которые мы открываем, даже тени нравственного смысла не содержат. Какое отношение имеет, скажем, закон всемирного тяготения к этической норме? Так квалифицирует ситуацию, например, академик А. Несмеянов. Близкой позиции придерживается и академик А. Спирин: «В науку нельзя вносить этические нормы. Цель науки, — заявляет он, — поиск истины, а истина аморальной быть не может».
Конечно, А. Спирин прав, когда говорит, что истина — это гносеологическая, а не этическая категория. Но мы не можем согласиться с тем, что наука якобы исключает применение к ней моральных оценок, словно бы познавательная деятельность и этические нормы никоим образом не пересекаются.
Однако, сколь ни отличны по природе наука и этика, сколь ни далеки их цели, точки сопряжения между ними все же есть.
Если перед нами действительно исследователь, человек, который не держит иных мыслей, кроме как постижение природы, он не только верен истине, но и поступает по совести. Ибо истинное знание составляет такое содержание, которое очищено от личных пристрастий, лишено симпатий и антипатий автора — творца, свободно от определений его «я». Добытый результат обязан вступать в обиход не искаженным приблизительностью чьих бы то ни было мнений и пожеланий. «Постараемся же хорошо мыслить: вот основа нравственности». Такова установка великого французского ученого Блеза Паскаля. Но «хорошо мыслить» — это и значит мыслить правильно, эффективно, достигая цели, а цель и есть истина.
Собственно, больших ученых как раз отличали высокие моральные качества. Советский генетик А. Малиновский как-то провел статистический анализ зависимостей уровня теоретического мышления исследователя и его нравственных характеристик. Он установил, что выдающиеся теоретики обладали глубокими этическими свойствами.
Такая корреляция отнюдь не простое совпадение: лишь высоконравственный человек (будь то ученый или не ученый) способен бескомпромиссно, при «любой погоде» побороться за истину. Так уверенно пересекаются истина и справедливость, а моральные ориентиры привлекаются, чтобы оценивать результаты познания.
Но если подлинная наука освещена нравственной чистотой, то лженаука, наоборот, повязана отступлениями от моральных устоев. Выходит, что псевдонаука начинается не там, где вынашивают нелепые идеи, громоздят фантазии, заблуждаются. Лжеученый тот, кто вступает на нечестный путь искажения фактов, подтасовок, кто становится участником или соучастником обмана. Не ошибка ведет исследователя в зыбкие владения лженауки, а нежелание признать ошибку, вслушаться в инакомыслящую речь, поставить добытый результат на испытание.
Характерно одно замечание К. Маркса, Здесь оно зазвучит к месту. Маркс называет аморальным стремление «приспособить науку к такой точке зрения, которая почерпнута не из науки (как бы последняя не ошибалась), а извне, к такой точке зрения, которая продиктована чуждыми науке, внешними для нее интересами, — такого человека я называю низким».
Кстати, заметим, что похожий критерий значим и для искусства. Чем измерить истинное лицо художника, как отличить критику от критиканства, очернительство от «разоблачительства»? Критерий здесь, как считает А. Нуйкин, один — нравственный. Только тот избежит упрека в злонамеренности и сможет приблизиться к художественной высоте, кто питает чистые замыслы.
При внешнем осмотре нравственные показатели в приложениях к науке достаточно однозначны: не столь уж затруднительно, казалось бы, отделить честный поступок от бесчестья. Это так, когда неблаговидные дела идут «открытым текстом». Сложность в том, что обманные шаги старательно драпируют вполне пристойными заявлениями. Пока-то с них уберут этот внешний лоск, эту драпировку.
Совсем рядом, в 70–80-е годы, в мировой науке прошла волна скандальных разоблачений, показавших доподлинное обличье некоторых комбинаторов истины. Американец М. Страус из Бостонского университета, сумевший прикарманить около миллиона долларов в обмен на дутые результаты, которые он извлек из заведомо ложных сведений о лечении рака. Его соотечественник Д. Лонг (Массачусетский лечебный центр), долгие семь лет водивший за нос финансовые власти, делая вид, будто ведет наблюдения клеточных микроструктур, характерных для одной раковой патологии — болезни Хиджина. Тоже не ушел без заметного вспомоществования.
Положим, Страус и Лонг питали интерес к купюре. При других стечениях на подлог идут ради престижа, в погоне за ученой степенью, за славой, хотя бы и краткосрочной. Некто Саммерлин, руководитель лаборатории Мемориального центра раковых исследований в Нью-Йорке, решил прославиться. Обещая преодолеть барьер несовместимости тканей, придумал метод пересадки кожи. Но для побед нужны факты, добывая которые он и принял грех. В опытах с белыми мышами этот руководитель исхитрился подкрашивать необходимые ткани, маскируя их под естественные тона. Действительно, Саммерлин заставил о себе говорить, и особенно громко после разоблачения, когда в нем увидели мастера ловких имитаций и вся его псевдоученость вышла вперед.
Сходным приемом шел к успеху и биохимик из ФРГ Галлис. Ему захотелось стать доктором наук. Но свою диссертацию он вырастил на результатах, которые снял с потолка. Четыре сотрудника института Макса Планка в Мюнхене целый год разбирались с доводами Галлиса, а потом объявили его фальсификатором.
Тоска по известности, неравнодушие к презренному металлу, к уютным местам в коридорах научной иерархии — эти, а вовсе не познавательные страсти владели поименованными деятелями, с полным основанием зачисляемыми в разряд лжеученых.
Бывает и так, что признания и звания добыты в честном бою. Но репутацию надо постоянно питать, поддерживая ее все новыми и новыми достижениями. А сил порой уже нет, они израсходованы, истаяли. Смириться бы…
Известного английского психолога сегодняшнего столетия С. Берта такой поворот к смирению обескураживал. Когда он понял, что слава уходит, предпринял энергичный шаг. С. Берт выставляет шумную идею исключительной обусловленности глубины ума фоном наследственности. Не располагая доказательствами, бывший ученый предъявил сфабрикованные им статистические сведения (якобы сведения). Осмотревшись, специалисты заподозрили неувязки и, наметив экспертизу, установили элементарный подлог. Психологи-коллеги же споро подыскали и название — эффект «зубчатого колеса»: завоеванный авторитет остается достоянием ученого, хотя он уже не дает работ прежнего класса.
Как видим, движение приобрело размах, вызывает тревогу настолько, что международное сообщество ученых намеревается, по свидетельству академика Р. Сагдеева, издавать специальный журнал «Мошенничество в науке».
Но что же мы все о них да о них, уронивших честь представителях «тленного Запада»? А все ли гладко в родных углах?
К сожалению, и здесь то и дело обнаруживаются вспышки мировой патологии, заявляют о себе фальшивки, изготовленные по записанным и домашним образцам лжеучений. Сугубой доморощенностью владеет, пожалуй, ведомственная струя паранаучной активности — опасная болезнь, набирающая в последние годы особенно заметный темп.
Ведомственная лженаука поражает как отраслевые лаборатории, институты, коллективы, так и свободных исследователей, вступающих в договорные зависимости с могущественным заказчиком и с того момента теряющих свою непринужденность.
Как и в любом, из ряда вон выходящем событии, тут есть свои лидеры. Более глубокой печатью изъяна отмечены министерства мелиорации и водного хозяйства, лесной и бумажной промышленности да сравнительно молодое, но успешно набирающее очки ведомство медицинской и микробиологической промышленности. Все трое (правда, видоизменив названия) курируют, как видим, три главные природные стихии — землю, воду и воздух, не упустив и самого человека. Каждое по своему сценарию вступило в нелицеприятные отношения со средой. Но чтобы скрыть или как-то оправдать чинимый урон, ведомства отправились поискать «ученые» аргументы к науке, прежде всего, конечно, к ведомственной, то есть зачастую прирученной, «карманной».
В порах минводхозовской научной элиты, например, родилась усилиями ста пятидесяти НИИ программа несколько приподнятого звучания: «Территориальное перераспределение ресурсов северных рек», а попросту говоря, «поворот». Мнение 150 (по другим сведениям, 160 и более) научно-исследовательских институтов, конечно, завораживает… Да только пришли исследователи принципиальнее. Почуяв неладное и перепроверив результат, они обнаружили подлог: расчеты выполнены в режиме «чего изволите?» А изволят они набрать баллы в пользу родной отрасли, и не просто расчеты, а под вывеской государственного интереса.
Сообщаем заключение известного советского математика, академика Г. Петрова: «Сотрудниками Института водных проблем были подогнаны величины и уравнения, а сами уравнения решены неправильно» (и, разумеется, в пользу «поворота»). Читаем дальше: «Подтасовка научных расчетов в таком проекте явилась… решающим компонентом широкомасштабного экологического и экономического преступления». Как видим, выносятся характеристики не только нравственные, но и в терминах юридической ответственности. Впору этих теоретиков брать на поруки…
Недоумение «великим планом» выразили пять отделений Академии наук Союза, и все пять (а в каждом по нескольку институтов) опротестовали прогнозы, заложенные в «программу века». Так же и они, наряду с обвинением в научной несостоятельности (еще куда ни шло), вписали заключение о недобросовестном выполнении исследований, выявив «подгонку фактов», «деляческий» подход и т. п. действия, составляющие знакомый набор из арсенала лженауки.
В ряд адвокатов переброски встал и академический Институт водных проблем (директор, ныне уже бывший, Г. Воропаев). Президент академии Г. Марчук, определяя «вклад» института, сказал, что ему и всей академии стыдно за коллектив, уронивший престиж академической науки (и без того шаткий).
Не менее удручающа картина, составленная ведомственной наукой по наброскам бывших, но не потерявших лица под новыми вывесками Лесбумпрома и Медбиопрома. Здешние НИИ тоже принесли свою долю позора, показав способность к лженауке. На совести одних — Байкал, Ладожское озеро и еще вволю рек и озер, затопленных стоками отраслевой деятельности. А на балансе других — повышенные дозы продукции белково-витаминной, химико-лекарственной и т. п. опасной ориентации. Вообще ведомственная струя в советской науке мощно набирает ускорение. И чем точнее будут названы очаги псевдоученой занятости, тем выше шанс перекроить их усердие в оздоровительную направленность.
Сильным пополнением лженаучного корпуса являются дельцы-умельцы снимать навар с чужих работ. То речь о мастерах, владеющих методологией плагиата. По прямому назначению, это — присвоение, а если говорить терминами гласности, то кража чужих работ и их публикация под другим, то есть собственным, именем. Словом, в ученой среде тоже прорезались свои «несуны», обирающие честных исследователей.
Вообще-то говоря, работа «чистая» в том смысле, что плагиат не допускает искажения фактов, подтасовки, ничего, что оговаривало бы истину. Почему же такие умения объявляем лженаукой? Все по той же статье: потому, что авторство получено нечестным путем, хотя то, что взято, безупречно. То есть создается, по выражению академика Д. Лихачева, «вторичная наука»: не ложная, не ошибочная, но бесполезная в том смысле, что силы, затраченные на это вторичное добывание знаний, отданы впустую.
Не станем склонять закордонных любителей чужой славы. Нам есть что показать своего, домотканого.
В 1982 году в медицинскую академию вошел членом-корреспондентом профессор Б. О. Комаров, тогдашний директор Московского НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Но уже через три года его срочным порядком (можно сказать, «по скорой») с работы увозят. Свое пребывание у власти сей директор провел с умом: он систематически присваивал труды подчиненных, а с теми, кто «не присваивался»… Вы же сами знаете, что происходит с «теми».
Мы поднимаемся здесь на гребень морально-этических осуждений, дающих все основания определять подобную «инициативу» как проявление лженауки, хотя, повторимся, с чисто гносеологической (теоретико-познавательной), то есть внутринаучной, позиции тут извращений истины нет. Не оттого ли Б. Комаров, допустивший такой аморальный поступок, в ученом звании члена-корреспондента остался, уцелел. Разве не странно? Нравственно осуждаемое проходит безнаказанно, когда оно касается научной квалификации. А еще более странно, когда узнаем, что на выборах медицинской академии как раз в означенные годы не получили звания академиков ученые мировой огласки и высокой нравственной репутации — Н. Амосов. Г. Илизаров, С. Федоров.
Похожие истории с таким же гладким для лжеученых исходом прошли и через другие академии. Например, в Украинской сельскохозяйственной академии сразу «открыто» несколько имен, которые, создавая свои кандидатские и докторские сочинения, не пренебрегли плагиатом. Впереди шли ректор В. Юрчишин, секретарь парткома В. Ключников, равно как и сменившие первого — А. Жадан, а второго — Ю. Гапусенко.
Как и в событиях с Б. Комаровым, хотя плагиат был доказан и признан, лжеученые с Украины, приняв должностные и партийные укоры, все остались при своих ученых регалиях. Коллегия ВАК СССР, показав пример сострадания к махинаторам, сохранила им «в порядке исключения» (?) полученные столь окольным путем ученые степени.
Так же коллективную страсть к плагиату показали сотрудники Института проблем прочности Академии наук Украинской ССР. И здесь помечены крупные фигуры: академики, члены-корреспонденты, как и рангом поскромнее. Сам директор (теперь тоже бывший), академик Г. С. Писаренко, явил пример «прилежного» один к одному переписывания чужих работ. И что же на финише? Все плагиаторы продолжают ходить в прежних званиях и остаются, кроме Г. Писаренко, в прежних руководящих креслах.
Возможно, читатель отметил, почему вся фактическая ткань нанизывается на академии? Признаться, нас и самих угнетает этот вопрос. Подтвердим: материал не подбирался специально. Хотелось бы для большей убедительности и достижения более высокой репрезентативности вывода выйти и в другие ветви науки, скажем, к вузовским коллегам. Не получается. Мы попросту не столкнулись там со столь ярким и массовым, коллективным плагиатом. То есть выборка, если о ней и можно было бы говорить, проведена пропорционально и статистически корректна.
Приходится принять, что плагиат сильнее всего «покосил» академические ряды. И уж если отвечать на коварный вопрос, почему, то имеем сказать следующее.
Решающая масса вузовского коллектива — студенты, в динамичной смене поколений которых и скрыта гарантия против застоя, конформизма, самоубаюкивания, поражающих неустойчивую часть науки, подготавливая ее к нравственной эрозии. Определенно, встречайся Комаров, Юрчишин, Писаренко и похожие на них герои скандальных хроник систематически, ежедневно со студенческой аудиторией, будь у нее на виду подотчетно, едва ли они отважились бы так крупно играть. Студенчество — независимое племя, пришло да уйдет, окончив вуз. Не то что академический сотрудник, приданный и преданный своему руководству.
Вообще ротация кадровых сил в высшей школе налажена, можем сказать, круглосуточно в отличие от академии, которая, не имея собственного студента, встречаясь с ним лишь эпизодически и заимствуя его из того же вуза, ограничена в формировании молодой смены по желаемым образцам. Поэтому академии стареют — университеты не успевают постареть.
Повсюду в мире ведущим очагом науки является университетская наука. В нашей же стране исторически сложилась и поддерживается ситуация в пользу академии. Однако не потому, что она действительно от природы ведет первую скрипку, а лишь по причине финансовых, материальных и иных предпочтений, отдаваемых ей перед вузами. Во всех странах академическое звание — лишь почетный знак выделения заслуг, никак не оплачиваемый. Только в СССР да в Испании это звание приносит владельцу еще и денежный приплод (а государству — расход). Хуже того, мы изобрели совершенно уникальную систему выборов в академики: не просто и не прежде всего по научным заслугам, а в соответствии с занимаемой должностью в структурах академии (директора академических институтов, члены президиума и т. п.). Человеку со стороны сюда трудно пробиться, будь он даже выдающимся ученым.
Автоматическая привилегия должности на получение звания весьма чревата. Она делает ученого звеном иерархической лесенки в административной системе, соответственно «подсказывая», как себя держать, чтобы успешно идти по ее ступеням. Конечно, настоящий ученый и в этих условиях сохранит лицо. Однако часто администратором становится особо и не «обремененный» ученостью. Но, получая вслед за местом высоко ранжированную ученую степень, такой человек, чтобы оправдывать свое почетное назначение, бьется что-то предпринять. И если у него недостает творческих способностей, он — при отсутствии нужных нравственных устоев — и заступает на бесчестную дорожку. Для морально зыбких натур открывается перспектива создавать себе дутый авторитет, а в «исключительных случаях» не гнушаться и плагиатом.
Рядом с традиционными, так сказать, классическими формами плагиата ныне прорастают более завуалированные, респектабельные. Скажем, «плагиат-соавторство». Им грешат заведующие, руководители, различного покроя контролеры и эксперты, без визы которых не проходит ни одно решение. Дело простое: шеф выложил (или благословил) тему, бросил идею. Как же обойти его, даже если в конкретной разработке он не участвовал? А сколько соавторов приносит внедрение!
Так удлиняются списки соискателей, лауреатов, победителей. В 1980 году Ленинскую премию за открытие новой элементарной частицы разделили 96 человек. Одна статья, вышедшая в те же годы из недр Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН), была подписана коллективом в 300 имен. По этому случаю шутили: список авторов оказался длиннее текста статьи.
Конечно, такие фамильные ряды прежде всего говорят о развороте коллективных исследований, когда группы в сотню человек уже не редкость и планируются (в том же ЦЕРНе) «соединения» по 300–400 участников. Вместе с тем не исключено, что в эти шеренги вовлекаются, а точнее, просачиваются не только прямые исполнители, но и «примкнувшие»: те, кто держит административно-командные, контролирующие, «экспертно-несущие» и т. д. посты.
Мошенничеством дышит и такой оригинальный ход, как «обращенный плагиат». Он выполняется таким путем. Мошенник присматривает какого-либо умершего уже ученого (желательно посолиднее), пишет работу, а потом объявляет, будто эта работа выполнена указанным крупным ученым. Спросите, какой резон? Что это дает? А то дает, что фальсификатор-лжеученый собирает славу первооткрывателя ранее якобы неизвестного творения. Конечно, чужой ум всегда спасенье, когда нет своего. Оттого и тревожит имена ушедших, чтобы рельефнее смотреться в лучах их величия.
Дорогу этому виду плагиата показал еще Д. Макферсон, шотландский писатель XVIII столетия. Собственную обработку древнекельтских сказаний он приписал легендарному барду Оссиану, жившему в III веке. А вот уже в наши дни «следопыт» А. Иванчиков в поисках золотой удачи решается тоже ставить по-крупному. Он сочиняет, выдумывает дневник большого ученого и путешественника Н. Миклухо-Маклая (будто бы утерянный), а затем провозглашает, что якобы он, А. Иванчиков, обнаружил пропажу и разносит весть по всем континентам.
Слава первооткрывателя лишила, как видно, сна и работника московского исторического музея А. Афанасьева. Совсем недавно, в 1987 году, он находит, как ему почудилось, новое, ранее неизвестное стихотворение А. Пушкина «Кокетка». Что и говорить, радость выходит из берегов. Тут же, без промедления, организуется скоротечная экспертиза, которая, проведя идентификацию автографов, решает задачу в пользу Пушкина, то есть… Афанасьева. Увы! Более ответственная «диагностика» текста показала, что автор стихотворения — известный литератор И. Панаев и опубликовано оно еще при жизни А. Пушкина, в 1823 году.
Конечно, мы не ставим А. Афанасьева на одну линию с А. Иванчиковым, вершившим обман сознательно. Но все же их упоминание в одной связке заслужено. Кому, как не сотруднику музея, знать, что поверхностное, недостаточно всестороннее изучение подлинности документа — почва для появления ошибок. К тому же бьет в лицо элементарное незнание литературного наследия, но незнание согласно правовой норме не освобождает от ответственности за содеянное.
Были предъявлены некоторые типичные фигуры лженауки. Убеждаемся, что нужны усилия, порой годы и годы, чтобы под личиной исследователя распознать притаившегося лжеученого. Но здесь по крайней мере с определениями ясно: после контрольных проб сразу видно, с кем имеешь дело. Труднее, когда такого стопроцентного «состава преступления» нет.
Сразу откроем карту. Речь пойдет об ученых, которые так уверовали в свою правоту, что готовы сокрушить на пути не только инакомыслящих, но даже робко сомневающихся и любой мерой утвердить дорогие сердцу истины. Авторитет, служебное положение, связи — все брошено на защиту учения, которое при таком натиске побеждает, оборачиваясь лжеучением. Академик Н. Семенов предупреждал: для исследователя «нет ничего опаснее, чем слепая страсть к науке. Это прямой путь к неоправданной самоуверенности, к научному фанатизму, к лженауке».
Именно фанатики легко становятся жертвой обмана, пополняя отряды лжеученых. Возьмем даже и не дальние дни, а наш родной XX век.
В начале столетия английский геолог Ч. Даусон оповестил о находке близ селения Пилдаун отдельных частей человекообразного существа, якобы жившего в третичном периоде на территории нынешней Англии. Кости идут прямым назначением в руки специалистов-антропологов. Профессор С. Вудворд, соединив разрозненные останки, объявил, что это один из самых старейших из до сих пор известных скелетов человека. В честь первооткрывателя С. Вудворд присвоил находке торжественное имя «эоантропус Даусона» («человек зари Даусона») и опубликовал книгу с не менее претенциозным заглавием «Первый англичанин».
Но не зря говорят, чем выше взлет, тем глубже падение. Поначалу открытие приняли хорошо, оно успело даже войти в учебники. Все же кое-кого точило недоумение. Оно особенно стало назойливым, когда был найден австралопитек (высший человекообразный примат). Наконец в 1953 году создается специальная комиссия. Изучив количество содержания в костях фтора и азота, она установила, что «первый англичанин» — никакой не первый, а искусная подделка. Остатки черепа принадлежат человеку наших дней, а обломки челюсти — человекообразной обезьяне, тоже вполне современной (на одном из зубов «человека зари» обнаружили даже следы масляной краски).
Последняя точка на этой истории была поставлена в 1978 году. У ее истоков находился профессор В. Соллас, долгие годы враждовавший с нашим героем профессором С. Вудвордом. К сожалению, профессора, если уж возьмутся прояснять отношения, в приемах тоже не смущаются. Задумав скомпрометировать коллегу, В. Соллас и устроил балаган. Подобрав упомянутые кости, он подбросил их Ч. Даусону, от которого они и попали С. Вудворду. А С. Вудворд легко «согласился» участвовать в этом балагане (верно, уж очень хотелось славы). Все-таки В. Соллас поостерегся тогда обнародовать это, должно быть щадя многие крупные имена, приветствовавшие в свое время находку.
По другой версии, первородность греха отдается писателю Конан Дойлу, отомстившему таким путем Ч. Даусону, который недолюбливал его романы. Взяв из древнеримской гробницы череп, а из коллекции друга челюсть орангутанга, К. Дойл химически обработал их и зарыл в рудник, где обычно вел раскопки Ч. Даусон. Остальное явилось, как говорят шахматные стратеги, делом техники.
Обманщиком оказался и австрийский зоолог XX века профессор П. Каммерер. Вновь активистом псевдооткрытия наблюдаем профессора. Видно, у них, у профессоров, желание славы посильнее, чем в рядовой душе. Или это происходит оттого, что они заметнее на небосводе науки и им не с руки выходить на всеобщее обозрение с мелкозернистой идеей.
С упоением, заслуживающим лучшего использования, П. Каммерер пустился доказывать — вопреки общепринятому, — будто приобретенные признаки наследуются. Работая с жабой-повитухой, профессор заявил, что под влиянием изменений образа жизни на лапках повитухи наросли мозоли, которые якобы передаются потомству. Каммерера не принимали, высмеивали (вот здесь заслуженно), но он упорствовал. Издал даже книгу, где сообщил, что ему удалось «перевоспитать» нормальную жабу в другую с той самой мозолистой оконечностью.
Все же этому вскоре пришел конец. В Вену приехал американец Нобель. Он тщательно осмотрел препарат Каммерера, его жаб и установил, что никакие это не мозоли, а самая обыкновенная тушь. Позднее выявили и виновника. Оказалось, что лаборант, желая угодить шефу, впрыскивал тушь подопытным жабам. После разоблачения Каммерер вскоре умер. Ходит предположение, что кончил жизнь самоубийством.
Как видим, и здесь грехопадение имеет этическую подоплеку. С одной стороны — нечистоплотное окружение, усвоившее, что допустимыми наукой приемами идею не отстоять. С другой стороны — охваченный страстным порывом доказать недоказуемое шеф. И хотя профессор лично на подлог, наверное, не решился бы, его фанатизм имел все основания быть вознагражденным таким вот встречным способом. Сошлись два морально небезупречных желания и произвели на свет обман, осевший заметным эпизодом на страницах лженауки.
Казалось, подобные истории могли бы чему-то обучить искателей легкодоступной славы. Однако события повторяются вновь и вновь. Они не только становятся приметой дня, но и обретают особый колорит. У современной науки свои законы: уходят одиночки-ученые, растет коллективность науки. Коллективы же должны как будто обладать большим иммунитетом против обмана и самообмана, чем работающие на собственном риске индивидуалы, но нет. Ожидаемого сокращения числа жертв обманщиков не наблюдается.
Потрясающий случай массовой мистификации прогремел буквально на днях, когда жертвою пали целые научные соединения Голландии, поддавшись уловке проходимца и показав, так сказать, коллективный фанатизм.
Все началось с того, что в 1966 году к профессору X. Уолтерболку явился некий Ш. Верманинг и выложил целую груду якобы доисторических камней, найденных в одной голландской деревушке. Профессором завладела неизъяснимая дрожь. Все сомнения долой: перед ним орудия труда предшественников неандертальца (ближайшего предка ископаемого человека современного вида). Эти предметы на целых 600 веков старше любых древностей, обнаруженных доселе на голландской земле.
Ш. Верманинг тут же получил денежную премию, однако удовлетворения не было: ученые отклонили его просьбу о представлении к почетной степени доктора наук, чего так желал этот механик при швейных машинах с трехклассным образованием. Впрочем, он вскоре утешился, предприняв новые махинации. Теперь принялся дурачить научные учреждения. Предъявив голландской археологии 428 каменных топоров и ножей, обнаруженных на картофельном поле, несостоявшийся доктор получил от Амстердамского музея антропологии и древней истории 53 тысячи долларов. Тогда у него и вовсе разгорелся аппетит, и он тут же откопал (что топоры) целый лагерь доисторических охотников за мамонтами. И не где-нибудь, а в самом Амстердаме, под носом ученых мужей.
Все же после этих побед лженауки берет наконец слово подлинная наука. Проводится кропотливый микроскопический анализ, и профессора Д. Стаперт и Я. Ваалс, не ослепленные фанатическим желанием прославиться на топорах, устанавливают, что все «древности» — обыкновенный булыжник, обожженный в камине и зарытый для придания доисторической тональности в землю.
Впрочем, зачем ходить в Голландию. Поищем дома.
Одно время широко обсуждалась гипотеза существования на Марсе каналов, якобы обнаруженных советским академиком Г. А. Тиховым. Было сказано немало высоких фраз «о подвигах, о славе» нашей науки и, конечно, о ее превосходстве. Как позднее выяснилось, телескоп, в который «наблюдали» это чудо, нес оптический изъян. Но странное дело: изъян убрали, однако энтузиасты и после того бредили каналами. Так, настрой на желаемый результат, психологический фанатизм стали питательной средой для подобного самообмана, охватившего довольно представительную группу сотрудников, сторонников и поклонников академика Г. Тихова.
К сожалению, такие истории не всегда имеют «тихий» конец. Нередко, обретая власть, фанатики подавляют добросовестных ученых, организуют гонения и отлучают их от кафедр, лабораторий, институтов. Неукротимая деятельность Трофима Лысенко — прискорбное тому свидетельство.
В скромном ряду более или менее приемлемых результатов Т. Лысенко претендовал и на громкие, прямо скажем, умопомрачительные открытия с философским подтекстом. К примеру, скачкообразное превращение одного вида в другой — пшеницы в рожь, ячменя в овес, овса в овсюг. Академик воодушевился настолько, что оповестил даже о появлении кукушки из яйца… пеночки. Это из крошечной пеночки-то — крупногабаритной кукушки? И хотя «первооткрывателю» пытались возражать, показывали на зыбкость документации, Лысенко своего не отдавал. Почему же он оказался отцом столь странных выводов?
За все в ответе фанатизм, научная ослепленность страстью к открытиям, к достижению возлюбленных истин и, конечно, несокрушимая вера в себя, в свое предназначение. Однажды на совещании по спорным вопросам генетики и селекции в 1939 году известный генетик Ю. Керкис спросил Т. Лысенко, почему у него и его аспирантов все получается, а у других в Союзе и за рубежом не получается. «Для того, чтобы получить определенный результат, — заявил на это „народный академик“, — нужно хотеть получить именно этот результат, если вы хотите получить определенный результат, вы его получите».
Конечно, адвокаты Лысенко могут сказать, что сам он факты не подтасовывал. Может быть, и так. Зато усердствовали другие. Как водится, вокруг фанатиков образуется пояс активистов, готовых предъявить любые «доказательства», лишь бы на то появилось желание. Лысенко таким желанием, как видим, страдал изначально. Оно стало его психологической установкой, едва он отведал вкус научных удач. Будь академик поскромнее в своих амбициях, терпим к мнениям других, самокритичен, то есть обладай он доступными нравственными качествами, не появились бы на его биографии сии смутные пятна. Но в той обстановке угодничества, архитектором которой он был, и прорастала лженаука, лысенковщина. Вот его типичное убеждение: «Мне нужны только такие люди, которые получали бы, что мне надо».
Все это происходило в пору становления и первых успехов генетики. Но Лысенко не дрогнул перед такой наукой, с порога объявив ее лженаукой. По поводу законов наследственности у него тоже было особое мнение. Он сказал, будто и без единого эксперимента знает, что таких законов не было, нет и не будет. Все сходится: чрезвычайная влюбленность в свое доморощенное и воинственное неприятие идей других — несмываемые приметы лжеученого-фанатика.
Как явствует, причина, по которой фанатик начинает гнать бракованную науку, в недостающей нравственной крепости. Перевешивает соблазн предъявить желаемое за сущее. Между тем любому вполне доступны нормы и методы уберечь себя от скоротечных выводов, затягивающих в кривые переулки на дорогах научных исканий.
Обычно исследователь тщательно проверяет и перепроверяет результат эксперимента, теоретического вывода, ставит себе тысячу вопросов, обращается за критикой к коллегам, чтобы ощутить сопротивление новому и отточить эксперимент, доказательства. Э. Резерфорд продумал целую систему мер безопасности от ошибок. Подсчет данных опыта, имеющих статистический характер, он поручал студентам, которых не вводил в замысел эксперимента, а кривые по измеренным точкам проводили уже сотрудники, также не посвященные в характер ожидаемых результатов. Наконец составленные графики ложились на стол руководителю, который мог теперь, опираясь на бесстрастные чертежи, строить заключение.
Очевидно, возможны и другие контрольные ходы, было бы желание их делать и пуще того — к ним прислушиваться.
Клеймя Лысенко, надо показать еще одну причину, отчего он поставлял лженауку открытым текстом. Причина — в социально-политической обстановке, которая нагнеталась командными методами управления страной. Вот уж где меньше всего следует командовать, так это в науке, искусстве, вообще в творческих сферах.
Об эпохе сталинистского руководства не приходится говорить. Тогда вождь лично назначал, кому быть академиком, какие науки признавать, а какие отрицать как лженауку. Но и после него приемы обращения с учеными мало переменились. Когда, например, в 1964 году отделение общей биологии Академии наук Союза избрало академиком лысенковца Н. Нуждина, но общее собрание провалило (за него голосовало лишь 20 процентов), тогдашний Генсек Н. Хрущев объявил: «Нам не нужна академия, которая не подчиняется решениям ЦК».
Такая атмосфера благоприятствует рождению фанатиков и их перерастанию в лжеученых. С Лысенко соседствует О. Лепешинская, «доказавшая» факт восстановления живой клетки из размозженной на центрифуге клеточной ткани в бесструктурное месиво. На этих же дрожжах пророс Г. Бощьян, «открывший» возможность превращения неживого кристалла в живые организмы, прорастали и другие герои печального прошлого. Но прошло ли оно сполна?
Придадим теме несколько иной поворот. Лженаука тесно связана с так называемой оккультной наукой. Она допускает существование в космосе или в самом человеке скрытых сил, доступных пониманию только избранных. Поначалу в оккультный строй вошли алхимия, астрология, хиромантия (с ними еще встретимся), позднее сюда приобщили парапсихологию, филиппинское врачевание, эффекты ААЯ (аномальные атмосферные явления), НЛО и прочие события (кои еще ждут своего разговора).
Одни ученые, не тратя долгих слов, выносят поименованные ряды занятий и все, что связано (или кажется, что связано) с оккультными увлечениями, в раздел псевдоучений, призывая наглухо перекрыть им доступ в науку. Другие имеют более осторожные мнения: не следует заведомо, не учинив специального досмотра, объявлять одно ложью, а другое — истиной. Тем более запрещать какие-либо темы потому лишь, что кто-то считает их паранаукой.
Ясное дело, декретировать границы дозволенного бессмысленно. Наука нередко начинается даже и не с нуля, а, так сказать, с отрицательных значений. В свое время Н. Бор заметил: «Очень часто говорят о мистике в современной физике. В действительности речь идет по большей части о еще неясно сформулированных понятиях». Мы пытаемся именно на основе новых результатов «контролировать физику, чтобы не вводить никаких мистических элементов».
Оккультизм как раз и вырастает вблизи явлений, далеко не ясных науке, странных, толкуемых как мистическое и потому антинаучное. Запрет на эксперимент, на наблюдение, на поиск только подогревает ситуацию, плодит слухи и домысел. Очевидно, такие явления надобно исследовать. Пусть не подтвердятся гипотезы, скажем, телепатической связи, путешествующих «космических тарелок», кожного зрения, их изучение поможет не только снять ажиотаж, но и объяснить другие явления, а значит, углубить наши представления о мире. А. Мигдал высказывается решительно за изучение, например, телепатии, член-корреспондент В. Троицкий призывает заняться фиксированными аномальными событиями в атмосфере, о странных явлениях ведут разговор научные и особенно научно-популярные журналы, средства широкой информации.
Словом, лед раскололся. Но сколько убойных снарядов пущено по интересующимся феноменом «Д» (Джуны Давиташвили). Наиболее важные блюстители чистоты науки, вроде медицинского академика Н. Блохина, обвиняют экстрасенсов в знахарстве, а самые бдительные — даже «в пособничестве американскому империализму» (профессор И. Акулиничев). Но вот академик Ю. Гуляев в серии выверенных опытов доказывает, что приборы регистрируют повышение температуры тела в области бесконтактного массажа, проводимого Джуной, на целых три градуса. При этом сильнее нагреваются как раз пункты, соответствующие больным участкам. И достигается это не внушением Джуны, а благодаря излучению ее рук.
Так рассыпается предвзятость. Чего стоят после этого высокоученые неистовства запретителей? Правы те, кто советует руководствоваться в оценке аномальных процессов правилом «презумпции естественности» (своего рода аналог практикуемой в судопроизводстве «презумпции невиновности»). Это принципиальная допустимость того, что наблюдаемое явление имеет естественную природу, а вовсе не плод галлюцинации, иллюзий, самообмана. С другой стороны, разумно и такое правило: не науке доказывать ложность спорной идеи, но автору идеи — ее истинность.
Поэтому было бы опрометчиво чураться таинственного, отгораживая его бетоном запретов. Все загадочное надо изучать. Однако при одном условии: следует придерживаться правил игры, то есть оставаться честным.
Известно, что немало крупных естествоиспытателей принесли в разное время дань оккультным делам. В течение веков астрологию, например, усиленно культивировали как вполне пристойное занятие, и потому к ней приобщалось немало ученых (мы еще назовем их). Из глубины истории идет и увлечение алхимией, долгое время остававшейся попечительницей химического знания.
На рубеже двух последних столетий вспыхнуло внимание к парапсихологии, сохранившееся до сего дня. Ей отдали время такие умы, как французский психиатр П. Жаннэ, английские физики В. Крукс и В. Баррей, лауреат Нобелевской премии физиолог Ш. Рише (в последние годы — президент Парижской академии наук). Идея телепатического общения оказалась в поле внимания ряда наших выдающихся соотечественников, заинтриговав В. Бехтерева и К. Циолковского. А известный химик А. Бутлеров в сотрудничестве с писателем С. Аксаковым даже издавал журнал «Ребус», в котором находили приют телепаты и спириты.
Так, большие ученые оказались в плену больших оккультных страстей. Но разве повернется речь назвать их лжеучеными? Ибо никто из них не шел на обман или фабрикацию фактов, никто не страдал научным фанатизмом, способным вывести на путь лженаучных притязаний.
Возникает вопрос: почему Т. Лысенко, не отмеченный пристрастием к оккультным темам, считается лжеученым, а некоторые ученые, причастные к оккультизму, вокруг которого всегда водят хороводы темные личности, оставлены вне подозрений? Именно так. И демаркация проходит по острию нравственно-этических оценок. Честный исследователь, просто порядочный человек, сохраняющий порядочность и в делах науки, не может, чем бы он ни занимался, оказаться в ряду лжеученых. У него недостает для этого известных качеств, зато имеются с избытком такие, которые предохраняют от соблазна дешевой славы. И это существенно меняет подходы.
Или такая ситуация. Астрологи прошлого много заблуждались, ими руководила ложная цель, на осуществлении которой и сосредоточивались их усилия. Однако у себя в XIV–XVI веках, даже в XVII столетии, они, как правило, не унижались до обмана, искажения фактов и т. п. действий, сопровождающих лженауку. Более того, ими получено немало ценных сведений. Но со временем астрология во многом растеряла лучшие позиции, превратившись в лжеучение, ставшее тормозом развития знаний. И в наши дни занятия астрологией часто сопровождаются мошенничеством.
Как-то Московский планетарий посетил астролог одного из небольших государств. Осмотрел, послушал лекцию и в книге отзывов дал высокую оценку работе сотрудников в борьбе… с суевериями. Это немало удивило служащих. Преодолев стеснение, они сказали про это астрологу. Однако, вовсе не смутившись, гость пояснил. Конечно, сам он ни во что подобное не верит и свою «науку» не принимает всерьез. Но эти занятия создают ему престиж в государстве. Иначе сказать, мы встретились здесь с настоящей лженаукой, и такое не редкость в наши просвещенные дни.
Притязания на славу и популярность, а более всего увлеченность наживой — вот мотивы, склоняющие большинство современных астрологов, а также магов, чародеев и т. п. к околонаучной активности. Внешне все, как в приличном доме: общества, съезды, интервью. Худо ли, хорошо ли, но используются даже современные научно-технические новшества, издаются журналы, монографии.
Надо признать, что в наш широконаучный век волна обращений к магии не слабеет. Оккультные деятели находят пути к больным, одиноким, нуждающимся в опоре, обретаемой хотя бы ценой иллюзорных надежд. К магам обращаются различного рода дельцы, финансовые короли. Не чуждаются гаданий политические деятели.
Увы, в огромной армии чародеев лишь немногие сохраняют честь и достоинство порядочного человека, не прибегающего к сознательному обману. В значительной же массе работают люди, разменявшие совесть на купюру или престиж.
Примечательно следующее. Чудодеи кое в чем потеснили профессионалов фокуса. И размежевание между ними по тому же нравственному критерию. Профессионал не скрывает намерений. Предъявляя фокус как своего рода «честный обман», он не выдает иллюзию за полновесную монету, а только скрывает формулу обмана. Характерный эпизод. На конгрессе магов и волшебников в 1986 году в Италии факир Кумар, демонстрируя свое умение, был на целых 17 часов полностью зарыт в землю. После того, как его откопали, он заявил: «Истина — это истина, и реальность — это реальность. Волшебство — это не истина, это трюк».
Совсем иное понимание профессиональной чести у ловцов оккультных сил, когда трюк выдается за правду.
Как видим, обращение к паранаучным эффектам имеет для ученого и оккультного деятеля расходящиеся цели. Поэтому научный исследователь имеет право обращаться к паранаучной теме, для него не должно быть запретных зон. Проблема в другом: продиктовано ли такое обращение интересом к явлению или оно имеет иной подтекст: некритическое внимание к фактам, попустительство сомнительной деятельности, вообще отход от моральных норм.
Итак, границу между наукой и лженаукой прочерчивает не внутренняя науке гносеологическая (теоретико-познавательная) линия, а нравственно-этическая. Верно, нравственный показатель воспринимается здесь чужим, пришедшим со стороны. Однако, останавливаясь в решении дилеммы на позиции «рационально — иррационально» и еще сильнее «истина — ложь», мы ходим по кругу, разомкнуть который и помогает этот моральный критерий.
Конечно, еще лучше было бы искать решение на полях практического оправдания. Но оно свои достоинства развертывает обычно лишь во времени, а нам надо определиться и отсечь лженауку здесь, сейчас. Словом, как ни поворачивай, однозначных ответов не отыскивается.
Применяя этические оценки, надо помнить, что это лишь первые шаги в отборе исследовательских результатов. Затем вступают в силу уже собственно научные показатели с точки зрения истинности или ложности и еще более строго — с позиций новизны. Ведь может быть так, что знание добыто честным путем, но оно не в ладах с истиной, либо, если и в ладах, ничего нового не несет. Роль «этического сторожа» та, что сначала необходимо избавить науку от сознательных искажений и уже потом подвергнуть результаты исследований анализу с точки зрения собственно познавательных характеристик (научно, истинно), до которых в самом начале движения бывает порой трудно подняться.
Ясно, что нравственные постулаты далеко не всегда в силах оградить науку от лженауки. Но они по крайней мере предостерегают от одного. В науку нельзя идти с нечестными помыслами. Соприкасаясь с таинственным, непонятным, ученый способен сделать неверный шаг, извлечь ошибочные заключения, которые, возможно, покажутся ему безупречными. Мы доверяем науке, ученым. Поэтому они не имеют права ни вступать на дорогу обмана, ни позволить увлечь себя по этой шаткой дороге, неизбежно ведущей в топи лженауки. И единственная гарантия от этих недугов — честный, непредвзятый исследовательский труд.
Лженаука спасает науку
Войдем в XI–XIII и еще в более прежние столетия, к тому отрезку науки, который с высоких холмов ее последующего величия смотрится как лженаучный. Но справедливо ли накладывать на первичную мысль сей живучий штамп? И так ли уж правы те, кто это делает?
Конечно, многое из того неуверенного состояния заслуживает быть оприходованным именно по графе псевдознания. И все-таки отнюдь не целиком. Были, конечно, напрасно затраченные усилия, но были и посевы, которые принесли какие ни на есть плоды. Потому также и здесь необходимо нравственно-этическое просвечивание усердий тех далеких искателей истин. В гуще событий давно истаявших дней мы определенно найдем не только измышления, но и размышления, из которых позднее будут возделаны урожайные сорта.
Начать с того, что исторические формы пробуждающегося знания были для своего времени единственными, куда вливались там и тут бесприютно появлявшиеся факты. Примитивные теории астрологии, алхимии, иридологии, да и иже с ними все же сумели прочертить основные ориентиры будущих научных дисциплин. Они смягчали напряженность дефицита тех видов деятельности, потребность в которых поддерживалась страстью к разгадке обступавших человека тайн. Иных, более зрелых форм удовлетворения этой страсти тогдашнее человечество еще не выплавило. Пусть правила бал магия, пусть первые химики, вооружившись фантастическими рецептами, искали универсальное лекарство, крупно ошибались, это не заслонит полезной работы первоподвижников.
Ложные идеи службы свои несли, исполняя роль катализаторов. Не выдерживая проверки на истинность, они помогали истине. Неверная идея плодила цепную последовательность новых идей, порой столь же неверных, но другой порой и плодотворных, поскольку они окольными путями выводили на нужную дорогу. Новые истины не рождаются так дружно на неподготовленном поле. Прежде надо возделать покров, лишь тогда обнажится почва, на которой можно выращивать семена. Но и они, эти первые семена, чаще приносят ошибочные знания, псевдознания. И уже от них путь… нет, еще не к истине, а только к проблеме как осознанию, что мы чего-то не знаем.
Таковы расстояния от ложного знания к истинному незнанию — незнанию того, каким путем «достать» проблему и чем заполнить обнаженный ею пробел познания. Лишь пройдя эти состояния, обретаем (точнее, способны обрести) истину.
Наше обращение к лженауке — не самоцель. Это желание понять, как с помощью, казалось бы, ни к чему дельному не готовой, даже вредной псевдоучености рождается подлинная ученость и как бесполезное становится сугубо полезным.
Первой из серии лжеучений, подготовившей настоящую науку, примем к рассмотрению астрологию. Ранее о ней уже упоминалось. Теперь подробнее.
Астрология заявила себя (если поверить изначальному смыслу ее имени) как «наука о звездах». Она похвалялась тем, что умеет — благодаря знанию позиций небесных тел — предсказывать будущее народов, лиц и событий. Уверенность держалась на том, будто небесные тела обладают сверхъестественной властью над людьми, определяя черты их характера, поступки, другие размерности тела и души. Планета Сатурн, внушал, например, Птолемей, руководит правым ухом и еще селезенкой. К тому же «восточный Сатурн» (то есть находящийся в фазе, когда он виден на востоке), придавая волосам черный блеск, наделяет характер суровостью, а «западный» делает волосы прямыми и мужчин лысыми.
Главным упражнением астрологов было составление гороскопов — таблиц взаимоположения планет и звезд на определенный период времени. Гороскоп (в буквальной передаче с древнегреческого «наблюдающий время») являл чертеж в виде двух вложенных одна в другую окружностей или квадратов с параллельными сторонами. Площадь между фигурами распределялась на 12 частей или «домов» (по числу знаков зодиака, то есть совокупности мест расположения созвездий на пути движения Солнца). Это шло из седой древности, когда видимое с Земли годичное движение Солнца рассекли на 12 частей по 30 угловых градусов каждая (составлявших вкупе полную окружность). Части назвали по имени созвездий, через которые и проходит большой круг небесной сферы (эклиптика) и которые образуют пояс зодиака. При движении Солнце «гостит» в каждом из домов ровно месяц.
Гороскоп составлялся в момент рождения человека на основе учета положения небесных тел (планет, Солнца и Луны), находившихся в площади между окружностями или квадратами, и должен был предсказать судьбу новорожденного.
Понятно, что эта затея не имела научного содержания. Тем более не имела, поскольку данные о Солнечной системе регулярно уточнялись. Если древние знали только пять планет — Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн (Земля в планетах не числилась, ибо она — центр мироздания), — то позднее к ним «примкнули» Уран, Нептун, Плутон да около двух тысяч малых планет, которые, надо полагать, тоже вершат судьбы людей. Следует учесть и то, что разные народы в разные времена придавали знакам зодиака свои толкования.
Не приходится доказывать, сколь искусственны астрологические конструкции. Однако же, чтобы составлять гороскопы, надо было хорошо обследовать небо и владеть информацией о сложных отношениях небесных тел в любой точке времени. При этом вменялось брать их позиции не просто в определенный день или даже час, а с учетом точности до минуты. А это возможно, только имея исключительно тонкие (в диапазоне градуса и менее) расчеты. Заметим, что современные астрологи, опираясь на ежегодные таблицы, выпускаемые от имени Бюро долготы, доводят точность до угловой минуты, вызывая тем самым доверие к своим гаданиям у людей.
В хороводе веков астрология накопила факты, достаточные лечь опорой на стол не только лженауки. Благодаря этому мнимая наука и спасала настоящую, собирая всех, кто проявлял любопытство к внеземному пространству, и все, что удавалось о нем сказать. По существу, если вынести за скобки веру астрологов в могущество небесных сил оставлять человека лысым или распоряжаться его судьбой по-другому, то в самом желании знать места расположения планет и т. п. в заданный момент времени нет крамолы. Наоборот, такое стремление естественно. Как заметил французский историк естествознания П. Таннери, «основная проблема астрологии, по сути дела, должна быть отнесена к разряду научных», поскольку ставит перед собой цель вычислить расположение небесных светил и планет.
И не только это. Астрологи показали на связь солнечных пятен с магнитными бурями и северными сияниями, отметили периодичность колец у деревьев, определили операции построения правильных многоугольников с помощью циркуля и линейки. Все эти описания имеют ценность не только для той «астрологической» эпохи, но и для нас, как будто астрологи сверяли свои поиски с нашими научными планами. Только надо учесть, конечно, и разницу: они не сумели связать наблюдения в единую объяснительную систему, дать им причину, чему так обучены их теперешние просвещенные потомки.
Возьмем те же солнечные пятна. Их ввели в сферу рассуждений средневековые алхимики. Однако ни они, ни многие поколения наблюдателей позднее никакой практической применимости пятнам не нашли. Но собранные знания не прошли даром. Уже в наши дни была доказана в трудных походах за истиной зависимость между некоторыми патологиями и периодичностью появления солнечных пятен. Это сделали немецкие исследователи Р. Рейтер (Мюнхен) и К. Вернер (Гамбург).
Сочинский врач Н. Шульц установил очень характерную связь: чем больше пятен на Солнце, тем меньше в крови лейкоцитов. Вывод ясен. В такие дни восприимчивость организма к инфекциям обостряется, значит, растет кривая заболеваний. В другом углу державы, в Томске, профессор В. Десятов в течение долгих семнадцати лет, рискуя репутацией ученого, действуя полулегально, выводил корреляции между фактами скоропостижной смерти и изменением активности Солнца, сопровождаемой выступлением на его «лице» этих самых пятен. Невероятно, но статистика непреклонна: первые трое суток после хромосферной вспышки несут повышенную склонность к самоубийству людей с психологически неустойчивой нервной системой, часто пребывающих в депрессии, реактивных. Притом второй день после вспышки дает наибольшее число несчастий, увеличивая их в 4, порой и в 7 раз. Та же картина при описании автомобильных аварий, в оценке детской смертности.
Современными наблюдениями подтвердились куда более «вздорные» лжесвидетельства астрологов. Оказалось, что вес и рост новорожденных соотносятся с количеством солнечных пятен, возникших в период внутриутробного развития младенца. А зависимость такая: больше пятен — меньше рост и вес. Вот и получается, что характер солнечной активности на момент рождения человека определяет его если и не судьбу, то по крайней мере известные телесные параметры (которые в какой-то части накладывают оттенки и на судьбу). Словом, чем не гороскоп? Осталось бросить лишь последний штрих.
Зададимся целью: чем же объяснить такую неравномерность в поведении Солнца: то спокойно греет, то вдруг вспылит, возмущаясь и выплескивая магнитные бури, потоки частиц и тому подобные свидетельства своего недовольства?
В согласии с современной наукой, наподобие того, как притяжение Луны вызывает приливы и отливы водной глади Земли, притяжения планет возмущают спокойствие на поверхности нашего светила. Дело в том, что центр тяжести Солнечной системы расходится с центром тяжести самого Солнца. Кругооборот планет непрерывно смещает этот центр, но Солнце с тем же упорством, достойным восхищения, неуклонно стремится к нему. Ввиду этого оно передвигается как бы скачками, внося резкие всплески и рождая пятна.
Как видим, расположение небесных тел несет ответственность за состояние солнечной активности, а последняя, в свою очередь, «распоряжается» событиями на Земле. Выходит, средневековые астрологи предвидели немало из того, что стало откровением лишь в наше высокоученое время.
Поскольку астрология долгое время преподавалась в средневековых университетах, процветала в королевских домах, к ней были приобщены многие выдающиеся умы. Так, время от времени ею занимался видный голландский физик XVII столетия X. Гюйгенс. Должность придворного астролога (и по совместительству алхимика) при императоре Рудольфе в Праге нес Тихо де Браге, а помощником у него состоял сам И. Кеплер, в ту пору молодой, подающий шанс исследователь. Конечно, оба практиковали прежде прочего настоящую науку, особенно астрономию, не избегая, однако, оккультных тем. Именно под водительством императорского астролога И. Кеплер и составлял гороскопы (в том ряду для себя лично).
Изыскания вывели И. Кеплера к принципу дальнодействия. Размышляя о влиянии звезд, планет и других космических сил на судьбы людские, он пытался найти этой вере разумные основания. Так явился названный принцип дальнодействия, сыгравший видную роль в развитии физики, хотя впоследствии и не подтвердившийся.
Едва ли нужно безоговорочно оценивать астрологические пристрастия И. Кеплера как бесплодную трату сил на лженауку. Ведь при этом было приобретено немало богатств, пополнивших культуру. В то же время он не разделял многих фундаментальных идей астрологии, утверждая, например: «Люди ошибаются, думая, будто от небесных светил зависят земные дела».
Таким образом, ложное по установкам, замыслу, по многому другому учение астрологов тем не менее нуждается в оправданиях. Оно заслужило их, сумев пронести сквозь все повороты и блуждания плодотворные схемы и передать их в руки идущим по следу поколениям более удачливых соискателей истины. Совсем не напрасно астрологию вместе с алхимией, теорией флогистона, другими первозданными течениями (о которых нам еще рассказывать) называют «детством науки».
Именно так. Не провалы в знаниях, не темные пятна на совести человеческой культуры, а зародыши, сулившие хорошие урожаи. Это полосы хотя и ложного знания, но такого, от которого протянулся путь к проблематичному незнанию, подготавливающему шаги к истине.
На этом сделаем паузу в предпринятом обзоре по курсу астрологии, чтобы прийти к другим сюжетам, задуманным историей страждущей мысли.
Так обозначил гений русской и мировой математики Н. Лобачевский заслугу одного из самых ложных учений среди лжеучений прошлой поры — алхимию.
Она родилась еще в первых столетиях нашей эры в Египте, перекинулась на другие страны и была узаконена арабами, придавшими фактическому состоянию дел юридическую окраску. Они присоединили к более раннему термину «химия» (знание о превращениях вещества) артикль «ал» или «аль» и тем ввели алхимию в круг необходимых наук, населявших в те дни Землю.
Но особо новорожденная отличилась в Европе в IX–XVI веках. Здесь она вместе с кабалистикой (вера в могущество ритуалов монтировать и демонтировать космический распорядок) и астрологией составила корпус герменевтических (читай, «тайных») наук.
В основу воззрений алхимики взяли убеждение в одушевленности металлов. Якобы все они «растут» и «созревают» в лоне Земли, чем и обусловлены их взаимопревращения. Свою задачу алхимики усматривали в содействии с помощью философского камня естественному взрослению металлов, которые проходят те же, что и человек, ступени судьбы: совершеннолетие, помолвка, свадьба. Заветная цель — вырастить из недозрелых состояний, каковым представлялось, допустим, железо, зрелые (скажем, золото), вообще из неблагородных металлов получить благородные.
Конечно, то была чистая утопия. Но, оседлав умы пионеров алхимии, она увлекла их жаждой поиска и проложила первые тропинки, ведущие к настоящей науке. Недаром же алхимия держала в плену многие крупные умы.
В ряду первых ее приверженцев находим, к примеру, великого Авиценну. Уже тогда (I–II века нашего летосчисления) он провел на основе учения о «качествах элементов» классификацию веществ и минералов и совершил другие высокоценные поступки. Пристрастием к алхимии отмечен Д. Бруно. Несколько впечатляющих, вполне в духе алхимии, идей заявил великий И. Ньютон. Среди них — тезис об иерархии все более мелких, но тем более прочно связанных составных единиц материи. Тяготение к алхимии показали и такие естествоиспытатели, как французский ученый Р. Бойль, немецкий мыслитель Г. Лейбниц (кстати, состоявший даже секретарем «Алхимического Нюрнбергского общества»), другие.
Если говорить суммарно, то человечество обязано алхимикам получением важных сведений о химических и физических свойствах ряда веществ и соединений, составлением многих таблиц химических характеристик, заслуживающих доверия не только у своих современников. Представляют интерес описания химических реакций, их конечных продуктов, скажем, таких, как многие минеральные и растительные краски, металлические сплавы, эмали, стекла. Попутно были отточены операции лабораторных процедур (те же перегонка и возгонка), усовершенствована лабораторная техника.
Конечно, многое давалось вполне случайно, но ведь и настоящая наука не обходится без случайностей. Так, немецкий алхимик Бранд, пытаясь добыть философский камень, выделил фосфор. В другой раз немецкие же алхимики варили в 1710 году в одной из примитивных лабораторий золото. Золото, конечно, не далось им в руки, зато изобрели фарфор знаменитой саксонской марки.
Еще одним магическим деянием философского камня провозглашалась способность излечивать болезни и возвращать молодость. Много упорства положили алхимики, чтобы создать это чудо. «Тинктура», «панацея», «великий эликсир», «красный камень», «магистерий философов» — вот далеко не полный состав названий, которыми в разное время у разных народов обозначали столь желанный препарат. И на этой линии алхимики осчастливили человечество полезными изобретениями, создав лекарства, целебные мази и снадобья, а также отработав методики врачевания. Как написал поэт,
В свое время алхимики древности и средневековья плодотворно поработали с минералом магнетитом (окисел железа или железняк), приобщив его к лечебным делам. Согласно легенде магнетит обнаружен пастухом по имени Магнес. Стоило переменить одну-две буквы, и человечество обогатилось таинственной силой под названием «магнит». Рассказывают, что однажды конец посоха, которым вооружены пастухи всех времен, неожиданно прилип к скале, а гвозди из башмаков тут же повыскакивали из своих гнезд. В ходу и другие версии, где железняк предъявлял новые качества, удивляя зевак. Как бы то ни было, свойство магнетита выдергивать гвозди было замечено. Да и как не заметить, если он столь проворно извлекал из подметок железо. С того момента магнит притягивает к себе уже внимание людей как лечебное средство. Именно алхимики первыми и преуспели в этом.
Первыми, но не последними. Поиск продолжается и в наши дни. Выявлено целебное действие магнитного поля при лечении паралича, полиомиелита, бронхитов, болезней Боткина и Паркинсона. Хорошие успехи достигнуты на этом пути медицинскими центрами Бухареста.
Ощутимый след алхимики оставили в развитии такой отрасли медицины, как ятрохимия. Она возникла в XV веке и уже тогда увидела в болезнях нарушение химического баланса организма, подыскивая для лечений соответствующие химические снадобья.
В активе алхимии и другие славные завоевания. Но дело не ограничивается отдельными конкретными удачами, хотя бы и значительными. Много важнее то, что алхимики формировали (рядом с другими учениями и лжеучениями) общекультурный фон эпохи и были центрами притяжения естественнонаучной и философской мысли, сплачивая, объединяя пытливых и ищущих. Здесь в алхимических мастерских разворачивались исследования, вспыхивали свежие идеи, отсюда по всей планете растекались новые веяния.
В конечном итоге алхимия и стала матерью химии, равно как и всего опытного знания. Без этого предваряющего настоящую науку шага ей пришлось бы трудно, точнее, пришлось бы самой добывать то, что заботливо и бескорыстно подготовили впрок алхимики. И. Сеченов так оценил их подвиг: «Страшно подумать, что стало бы с человечеством, если бы строгим средневековым опекунам общественной мысли удалось пережечь и перетопить как колдунов, как вредных членов общества всех этих страстных тружеников, которые бессознательно строили химию и медицину».
Но воздать надо не только за это. С высоты сегодняшнего дня утопические затеи алхимиков превращать одни химические элементы в другие не столь уж и утопичны. Сама идея верна, неверно только то, что ее можно осуществить на молекулярном, как пытались это сделать, уровне. Но то, что невозможно химическим путем, стало доступным на уровне атомном. Недаром же Э. Резерфорд свой эксперимент бомбардировки атома азота называл «современной алхимией».
И получить из других металлов золото — тоже не безнадежная затея. Но для этого надо познать строение ядра, изучить физико-химические механизмы и наметить схему его перестройки. В годы всевластия алхимии это действительно утопия. Но мы же современники иных возможностей! В середине 70-х годов в печати прошло сообщение: советскими учеными из Института металлургии Академии наук СССР добыт искусственный «напарник» золота.
А было так. Изучались сплавы палладия и индия. Опыт шел при особых режимах и в строго стерильных условиях. Оказалось, что эти два белых металла, взятые в определенных пропорциях, дают целый набор цветных сплавов: от нежно-сиреневого до золотистого. Последний как раз и проявил многие свойства золота: имеет близкий показатель электрического сопротивления, не растворяется, как и его золотой собрат, в «царской водке» и прочее.
У алхимии при ее современном прочтении отыщутся и иные заслуги. Вместе с тем вновь, как и в астрологии, в флогистонной теории, в идее вечных двигателей и т. д., открываем тот же секрет: едва только представители или покровители алхимии поступались правилами игры и обходили нравственную норму, они превращали это учение в лжеучение.
Ничего близкого к целям науки не имел, например, почин искателей легкой добычи выдавать в качестве золота поделки совсем не золотого значения. В пору Возрождения Европу лихорадила страсть к приумножению драгоценных металлов. Это и подогревало иных алхимиков, но уже отпавших от науки и ступивших на путь жульничества и махинаций. Свое искусство они направляли совсем по другому каналу, показав глубокую увлеченность финансовыми аферами.
Эта деятельность вносила в хозяйственный механизм общества невообразимую сумятицу, дезорганизуя обмен и экономические связи. Наиболее чувствительные сбои наблюдались, когда на дело выходили сами удельные феодалы, а то и королевские особы. Они чеканили фальшивые монеты в необозримых количествах, наводняя ими близлежащие рынки.
Соблазн наживы, кажется, надолго завладел умами иных околонаучных мужей. Это по ним бьет в конце прошлого века Д. Менделеев, описывая в статье «О золоте из серебра» темные предприятия американского дельца — псевдоученого Эмменса. И уже совсем в наши дни раскрыты попытки извлечь золото из веществ, оного отнюдь не содержавших. Не далее чем в 40-х годах XX века некая активная личность В. Сименс получил от берлинского ведомства по изобретениям сразу пять патентов на создание электрического прибора, якобы преобразующего ртуть в золото. Немногим прежде патент-аналог вручен Г. Пересу.
Но вот что открылось. Оказывается, еще в X веке подобную операцию вынашивали алхимики, правда, без электрического сопровождения. Однако если алхимики заблуждались искренне и потому своего лица честных исследователей не уронили, то современным алхимикам такая порядочность недоступна. Стало известно, например, что ртуть В. Сименса не являлась первозданной. Она была обогащена золотом и, естественно, «на выходе» также показала золото.
Созидательную, в высшей мере конструктивную роль, роль спасителей науки, провели теория флогистона и гипотеза вечного двигателя.
Понятие флогистона (теплорода) пришло в обиход в XVII веке, когда немецкий химик И. Бехер заявил, что в составе тел, кроме воздуха и воды, наличествует по крайней мере еще три сущности: плавкость, летучесть и субстанция, расположенная к горению. Так родился теплород. А в начале следующего столетия стараниями немецкого же химика Г. Шталя и других появился и его теоретический рисунок. Фактически весь XVIII век прошел под знаком флогистонной концепции, которая была преодолена лишь благодаря открытию кислорода и установлению его решающей роли в процессах горения.
Однако, несмотря на ошибочность, идея флогистона свое появление оправдала. Она не только помогла собрать под одной крышей многие разбросанные (а порой и заброшенные) по различным углам и отсекам науки сведения, но и приблизительно классифицировать их и сохранить. Кроме всего, еще и кое-что прибавила.
Подобно астрологии и алхимии, она побуждала к научному поиску, более того — питала его.
…Идет уже вторая половина XVIII столетия. Английский физик Г. Кавендиш погружен в исследования «горючего воздуха», выделявшегося при взаимодействии кислот с металлами. Он весь во власти флогистонных установок, опираясь на которые «читает» результаты своих опытов. Однажды, растворив цинк в разбавленной серной кислоте, ученый выделил вещество, которое горело. Естественно, он принял его за теплород. При этом, обнаружив, что при горении выделяется вода, Г. Кавендиш «уточнил»: налицо соединение флогистона с водой. Сколь бы ни было такое объяснение искусственным, бесспорно одно: состоялось рождение водорода, и в роли «повивального акушера» выступила теория теплорода.
Это произошло в 1766 году, а через восемь лет близкая история повторилась с другим, до той поры неизвестным элементом — кислородом. Прокаливая окись ртути, соотечественник Г. Кавендиша Д. Пристли обнаружил, что при нагревании она восстанавливается, «возвращаясь» в исходное состояние чистой, неокисленной ртути. Руководствуясь флогистонными представлениями, Д. Пристли решил, что это «проделки» флогистона, который, поступая из воздуха, «вникает» в земные дела: он то окисляет металл, то, когда его «изгоняют» нагреванием, улетучивается, позволяя ртути принять первозданное обличье. Собственно, перед нами почти законченный набросок поведения кислорода, недостает лишь самого понятия «кислород». Налицо все основания числить помощником при его появлении на свет флогистон.
Теплородная концепция помогла нарисовать явления нагревания и охлаждения, истолковать многие факты превращения жидкостей в пар, эффекты плавления, вывести в жизнь другие процессы. Оттираясь на нее, естествоиспытатели смогли разграничить такие явления, как «температура» и «количество тепла», утвердить новые понятия — «теплоемкость», «коэффициент теплоотдачи», «теплопроводность».
Так, мало-помалу, возделывая необжитые земли, натуралисты подготовили территории для настоящей науки — термодинамики, изучающей законы теплового равновесия и превращения теплоты в другие виды энергии. Она возникла из разрозненных кусков знания, добытого многочисленными подвижниками «флогистонного» века. И пока на карте науки не была прописана теория молекулярного строения вещества, флогистон оставался единственной прилично работающей концепцией для объяснения процессов механической передачи тепловой энергии.
Опираясь на учение теплорода, французский исследователь С. Карно в самом начале XIX столетия, еще до выступлений Р. Майера, Д. Джоуля, Г. Гельмгольца, фактически подошел к идеям сохранения и превращения энергии.
Но все это отдельные эпизоды из жизни науки, хотя и убедительно повествующие о ее могучем наступлении на невежество. Гораздо важнее другое — то именно, что флогистонная идея определяла стиль мышления научного сообщества своей эпохи. Благодаря этому она позволила впервые оглядеть самые разнообразные химические явления с одной общей позиции и тем самым заложить в их понимание научный подход, потеснив алхимию. Говоря словами Ф. Энгельса, химия освободилась от алхимии посредством теории флогистона.
Ситуация, вообще говоря, необычная: одна ложная догадка породила другую, хотя и не менее ложную, но такую, от которой все-таки поближе к истине. Вот уже в самый раз заявить, что это шаг от ложного знания к истинному незнанию, поначалу представляющему столь же ошибочную версию, которая затем уступила наконец место подлинной теории.
С течением времени флогистон все чаще оказывался неспособным обращаться с фактами. И тогда, чтобы спасти лицо, теория была вынуждена усложняться, обрастать дополнительными ухищрениями, изворачиваться, то есть все сильнее уходить по пути лженауки. В конечном итоге пришла пора флогистону оставить поле для более совершенных учений. К исходу XVIII столетия французский химик А. Лавуазье, располагая результатами Г. Кавендиша, Д. Пристли, других корифеев «флогистонной» эры, показал, что так называемый «горючий воздух» в действительности самостоятельный элемент. Окончательно это стало ясно, когда А. Лавуазье разложил воду на составляющие ее водород и кислород, а затем заново «сложил» из них ту же воду. Тогда он и назвал элемент, выделенный Г. Кавендишем, гидрогеном, то есть «рождающим воду» или в русском переводе «водород». Кстати, Лавуазье в начале своего научного пути также разделял флогистонные идеи и лишь позднее преодолел их.
Таким образом, теория флогистона тихо умирала. Но к тому сроку она свои задания исполнила, и неплохо. Настолько неплохо, что исследователи полагают несправедливым такое понятие, как «теплород», обвинять во лжи. В противном случае, считает, например, Б. Пахомов, надо признать ложными массу наших сегодняшних понятий, поскольку они определенно будут в будущем замещены другими.
Сходные заключения рождаются и по делу еще одного направления поисков упорных, но, увы, заблуждавшихся энтузиастов истины — направления, также оттесняемого обычно в разряд лжеучений. Речь об идее вечного двигателя, более всего, пожалуй, заслужившей «отказного» отношения у настоящей науки, которая почти не находит в описаниях вечного двигателя светлых мест.
По замыслу многочисленных (от века и до наших дней) искателей, идущих по следу «абсолютного двигателя», это механизм, который, будучи однажды запущен, совершал бы работу неограниченно долгое время без привлечения энергии со стороны.
Изыскания в этой области открылись еще в начальную пору научной мысли, но особенно неистовыми стали в XVI веке, подогреваясь зародившимся тогда ростом машинного производства.
Гипотеза идеально экономичной машины занимала не только мечтателей-самоучек, во все времена мало что почерпнувших из физики, но и умы серьезных ученых, таких, например, как изобретатель парового котла и двигателя француз Д. Папен, живший на рубеже XVII–XVIII столетий, немецкий физик той же поры X. Вольф и другие.
Понятно, вечный двигатель так и остался работающим лишь в воображении его творцов. Но, хотя замысел был утопичен, попытки материализовать идею, споры вокруг него принесли немало интересных теоретических и конструктивных решений. С необходимостью пришлось уточнить и довелось даже увидеть некоторые не увиденные ранее процессы, выявить новые закономерности.
Вот один факт. В 1857 году нидерландский математик С. Стевин издает книгу «Начала равновесия», где, рассказывая о своей работе над вечным двигателем, делится результатами, которые он приобрел, если можно так сказать, попутно. Один из таких результатов и вошел в научный обиход под именем закона равновесия сил на наклонной плоскости.
А дело происходило так. Ученый ставит эксперимент. Соединив 14 шаров в цепь, он накидывает ее на трехгранную призму в надежде, что шары, скатываясь по наклонной грани, вовлекут в движение всю цепь и создадут таким образом непрерывное вращение. Заманчиво, но шары не «захотели» непрерывно вращаться, застывая в «накинутом» положении. Зато эта обездвиженная система намекала на другое: выводила С. Стевина к идее равновесия, чем он и воспользовался, установив новый закон.
Одни горячо верили в двигатель, другие упорно сопротивлялись, отыскивая все новые истины. Г. Галилей, доказывая, что имеющее тяжесть тело не может подняться выше того уровня, с которого оно упало, открывает закон инерции. Таким образом, видим, что польза шла как от верующих, так и от неверующих. Выигрывала наука. Казалось бы, по всем статьям бесполезные занятия вечным двигателем имели вопреки тому научное значение. Плохо ли, хорошо ли, но и они готовили почву грядущим естествоиспытателям для достижения более высоких истин.
Так, в борьбе мнений вокруг темы, в полемике правоверных с неверными постепенно созрели постулаты закона сохранения и превращения энергии. Без этой предварительной проработки появление закона немыслимо. Неуклонно подогревая интерес, идея вечного двигателя стала своего рода идейным двигателем вечного сгорания, подбрасывающим свежие поленья в топки ищущей мысли. По существу, как определил однажды советский академик В. Гинзбург, идея вечного двигателя была научной.
Мы дорожим также мнением академика Б. Раушенбаха, который стоит на еще более радикальной позиции. Для него вечные споры вокруг вечного двигателя — дело не только прошедшего дня. Само решение национальных академий (или похожих органов) не принимать к рассмотрению заявки на изобретение абсолютного двигателя (поскольку это противоречит закону сохранения энергии) представляется ему ошибочным. Наука должна исследовать, доказывать и показывать, а не пресекать и уж, во всяком случае, не издавать запретительных программ, накидывающих узду на исследовательскую активность, куда бы она ни была расходована. Понятно, принцип сохранения энергии никакими конструкциями вечных двигателей не поколебать, но возможны уточнения, выяснение сфер его применения и пересечения с другими физическими принципами. Открылось, например, что этот закон комбинируется с законом сохранения массы, и такое проявление пошло на пользу обоим.
Таким образом, принятие запретных мер по «свержению» закона сохранения ошибочно (ибо, накладывая арест на работы по вечным двигателям, ущемляет научный интерес), но содержание закона сохранения безошибочно. Таков парадокс, которым мы завершаем рассказ об исследованиях в области создания вечного двигателя, чтобы войти в еще более, быть может, парадоксальные области.
Коснемся совершенно интересных тем иридологии и хиромантии (в современном прочтении — дерматоглифики), так же, а, может быть, еще решительнее объявляемых лжеучениями. Но здесь несколько иная ситуация.
Относительно астрологии, алхимии, идей флогистона и вечного двигателя все ясно, и приговор однозначен: имея оправдания в прошлом, они оборачиваются лженаукой, едва их пытаются вернуть в прежних неограниченных правах. Но не так просто решается вопрос с иридологией и дерматоглификой.
Конечно, и на этой ниве прорастают сомнительные сорта, подвизаются околонаучные силы (впрочем, как и в любой, даже вполне незапятнанной науке). Однако условия для их разгула здесь получше, потому что больше неясности и больше пунктов, нуждающихся в уточнении на основе лабораторной и теоретической работы, поскольку знания усложнились, и наука вышла к тончайшим, деликатным структурам вещества. Собственно, ни у астрономии, ни у других с такою же судьбою научных дисциплин смутных точек практически теперь нет: все либо отошло науке, вобравшей ценные завоевания прежней мысли, либо ушло в отвалы лженауки. А вот в иридологии и дерматоглифике немало расплывчатых пятен, из коих могут вырасти как вполне научные теории, так и околонаучные спекуляции.
Но предъявим наконец «виновников». Иридология зародилась как искусство распознавания болезней по состояниям радужной оболочки глаза. Ирида — слово древнее. Греки нарекли им богиню радуги. Имя богини и взяли для обозначения цветного ободка, окружающего зрачок, назвав его ирисом, а потом еще раз взяли, чтобы выражать искусство диагностики.
Уже египтяне пытались, как повествует извлеченный из саркофага папирус, угадывать болезни по глазам, не измеряя ни пульса, ни частоты дыхания, вообще не предприняв каких-либо обследований. Донеслись сведения, что и в древней Индии, а позднее в средневековой Европе также умели определять болезни по изменению глаз.
Однако все это вплоть до середины XIX столетия находилось на уровне полукустарных упражнений и передавалось изустно от одного умельца к другому в обход научной медицины. И вот наступил буквально взрыв интереса к иридологии.
Венгерский врач И. Пекцели, работавший тогда в хирургическом госпитале, обратил внимание на то, что разным участкам тела и органам соответствуют в радужной оболочке определенные сегменты. Он собрал много фактов, указывающих на такое соответствие, тщательно взвесил их и в 1866 году опубликовал книгу «Открытие в области природы и искусство лечения». В ней и были предложены неслыханные в мировой медицине «топографические» карты распределения по ирису точек, представляющих, по мнению автора, те или иные органы и зоны тела.
Книга вызвала бурю негодования. Последовала масса протестов. Но объявились и поклонники, число которых быстро нарастало и ныне достигло уже десятков тысяч. Зашел вопрос об организационных формах этого движения. Сейчас иридологи сплотились вокруг международной ассоциации, а в 1980 году в Париже провели свой конгресс и в том же году конференцию в Чехословакии. Издается специальный журнал, выходят многие монографии.
И уж совсем неслыханно: «крамолу» обнаружили в нашей стране. Взгляды иридологов разделяют и развивают ряд советских ученых. Это — академик З. Алиева, профессора Ф. Ромашов и Н. Шульгина, доктор медицинских наук Е. Вельховер, другие. Признанными центрами иридологии в Союзе являются медицинский факультет университета Дружбы народов имени П. Лумумбы, Центральный институт усовершенствования врачей, НИИ гастроэнтерологии. В начале 90-х годов планируется первая Всесоюзная конференция иридологов.
Обратимся, однако, к самому содержанию «ереси». По современным представлениям, глаз есть часть мозга, которая в эволюционном движении живой субстанции была вынесена на периферию, образовав сей уникальный орган. Поскольку мозг собирает сигналы от всех «подразделений» тела, поступают они и в глаз, отражаясь на его ирисе. Поэтому радужная оболочка — это своего рода пульт, на «панелях» которого записаны все внутренние состояния (недаром глаз называют человеческим организмом в миниатюре).
Любое заболевание проходит стадию, которая хотя и не заявляет о себе болевыми или дискомфортными ощущениями, но сообщения о которой все же поступают в мозг, а, значит, доводятся и до сведения ириса, запечатлеваясь отметками в его структурах. Это позволяет, располагая «топографическими съемками» (представительства органов) на радужке, распознавать едва обозначившееся недомогание и в самом зародыше гасить пожар. Специалисты считают, что точность диагноза достаточно высока, особенно в случае таких болезней, как стенокардия, инфаркт, острый холецистит, язва желудка. На радужной оболочке появляется след и от травм.
Конечно, многое остается еще тайной. И первая тайна в том, каким образом на крошечной площади ириса располагается столь внушительное представительство всей массы внутренних органов. Не более ясен и механизм перевода в радужку информации о состоянии тела. Беспокоят другие вопросы, например, как проводить диагностирование, какие наладить приборы и т. п.?
Недоговоренности и смутные места плодят недоверие к иридологии, которую — в силу этого — порой также относят к разделу оккультных знаний. Всю разницу находят в том лишь, что, дескать, она лучше других приспособилась к современной медицине, обросла наукообразной терминологией, кое-что позаимствовала из методики обследования, словом, приняла благопристойный вид.
Не станем обходить острых мест. Известен факт. В 70-е годы провели своеобразное состязание. Трем иридологам и трем специалистам по глазным болезням предъявили увеличенные цветные снимки глаз 95 здоровых и 48 больных с точно установленным (но, естественно, неизвестным участвующим в эксперименте врачам) диагнозом — поражение почек. Была высказана просьба — определить, кто есть кто. В итоге те и другие примерно с одинаковым успехом (при вероятности, не превышающей частоту случайных угадываний) отделили больных от здоровых. Получается, что особых преимуществ у иридологов перед офтальмологами нет. Ведь если учесть, что иридологи специально подготовлены для диагностирования заболеваний на основе состояний ириса, они должны были бы показать и лучшие результаты, чем просто глазные врачи, не владеющие этим методом. А получилось, что их шансы равны.
Но как бы то ни было, иридодиагностика набирает скорость и все увереннее входит в медицинскую практику. Пока лишь на уровне распознавания болезней. Однако наиболее решительные ее энтузиасты заглядывают глубже, помышляя и о возможности лечения на основе иридологии. Логика проста. Если «заплатки» на радужке — это следы идущих от больного органа воздействий, почему бы ситуацию не обернуть и, подобранным способом обрабатывая следы-«заплатки», повлиять на первоисточник — соответствующий больной орган? Профессор Ф. Ромашов, например, подобный лечебный шаг не исключает.
Вполне допустимо, что диагностика по ирису в самом деле переживает такую же пору детства, какую алхимия, астрология и другие в том ряду пережили в стародавние времена. Может статься, что когда-нибудь иридология, сбросив наносное, ошибочное (что ее, увы, сопровождает), войдет в науку полноценной ветвью. Но просматривается и альтернатива: установка иридолологии — это заблуждение, от которого нет ходов к точному знанию.
Однако в любом случае в настоящее время несправедливо иридологов безоговорочно и поголовно называть лжеучеными, поскольку не доказано, что принципиальные установки их учения ложны. Здесь та же ситуация, как, скажем, в астрологии и алхимии. Если последователи не замешаны в подлоге, искажении фактов и т. п. делах, их несправедливо обвинять в лжеучености.
Отметим, что направление иридологии одобрено Министерством здравоохранения СССР как вполне равноправное другим лечебным занятиям.
Похожая, только еще более неустойчивая погода сложилась для хиромантов. Хиромантия буквально — гадание на ладони.
С давних времен любознательные обратили внимание на то, что человеческая ладонь индивидуальна и, подобно отпечаткам пальцев, неповторима. Пришла догадка — а нельзя ли по ее чертежам определять состояние здоровья человека, характер и даже, если очень хочется, его судьбу? Понятно, что этим немедленно воспользовались разного рода гадалки, прорицатели, вообще любители «нетрудовых доходов», которые наводняли мир задолго до наших дней. Они оседлали ладонь, опутав ее магией смутных надежд и заложив первые семена недоверия к подобным занятиям.
Долгое время хиромантия была повенчана с астрологией, также прописавшись в королевских уютах. Свидетельства их родства — многие названия «рельефа» ладони. «Линия Солнца» — это предвестие спокойной судьбы, а «линия Марса», будучи знаком жизненной силы, — обещание долголетия; очерченность «холма Меркурия» заявляет о талантах в науке, искусстве и, конечно, по торговой части, покровителем которой и числится Меркурий; «холм Юпитера» выдает притязания на власть… И так далее.
Вместе с тем ладонные узоры будили внимание людей науки. Интерес проявили такие гиганты мысли, как Аристотель, Парацельс, позднее Ньютон. Отмечая уникальность рисунка ладони, они и искали объяснение своеобразию личности ее хозяина.
Все же долгое время крупицы достоверного знания, скрепленные многочисленными житейскими наблюдениями, откладывались разрозненными эпизодами в умах людей, иногда проникая на страницы изданий в виде сенсационных сообщений.
Возможно, так продолжалось бы еще долго, не рискни чешский биолог Я. Пуркинье в 1823 году провести систематическое описание ладони. Надо сказать, что к этому времени он уже имел опыт подобных описаний, осуществив впервые классификационное распределение отпечатков пальцев по типам.
В начале нашего века это увлечение оформилось как факт науки, и в 1926 году на ежегодной сессии анатомов получило официальное название «дерматоглифика» (буквально «кожегравирование»). Ей было назначено изучать строение кожных извилин ладони. У прежней хиромантии она отобрала сведения, вычистила в них все темное сопровождение (вроде гаданий про судьбу) и, не оставив даже названия, пустила в научный обиход.
Исследования поверхности ладони обрели научную основу: кожные маршруты — не просто «визитная карточка» человека, но средоточие ценной наследственной информации, а также сведений о перенесенных болезнях, например, пороков сердца, сахарного диабета, других. Подобно радужке, ладонь «запоминает» различные патологии организма, его отклонения от нормы. И поскольку общая картина строения кожных структур человека выявлена, отступления и сообщают про врожденные и приобретенные заболевания или по крайней мере — о предрасположенности к ним. Открывается редкая возможность раннего диагностирования, а значит, и лечения. Особенно поддаются вычислению психические патологии: болезнь Дауна, «кошачье мяуканье» (есть заболевание под таким странным именем), хорошо «читается» врожденная глаукома у детей.
Но есть ли теоретическая подоплека подобному оптимизму? Что касается наследственных недугов, то находятся довольно веские объяснения. Если показано, что определенным заболеваниям с наследственной предрасположенностью соответствуют определенные конфигурации морщин на ладони, почему бы не допустить наличие связи между генами, ответственными за болезнь, и теми генами, которые структурируют соответствующий ладонный рисунок? Скажем, так. Некоторый набор генов того и другого сорта («запускающих» недуг и определяющих рисунок) вмонтированы в одни и те же звенья ДНК, то есть территориально соседствуют. Ведь установлено же, что ген рыжего цвета волос структурно включен в ген, кодирующий ожирение.
Свидетельством того, что теоретические посылки дерматоглифики научно доверительны, служат факты использования ее выводов антропологами. И не где-нибудь в решении второсортных задачек, а в описании глобальных событий, таких, как расселение рас, пути формирования антропологических типов конкретных народов, при изучении других тем, уходящих корнями в туманное прошлое.
Дерматоглифика «поразила» и передовую советскую науку. Так сказать, «очаги вспышек» выявлены в Минском медицинском институте (где дерматоглифической деятельностью заняты заведующая кафедрой И. Гусева и врач С. Усоев), в Московском университете (тут «ересь» практикует сотрудник НИИ антропологии Т. Гладкова). Есть и другие последователи этого увлечения в разных иных местах.
Как и в иридологии, здесь сходные неясности. Кожный узор собран из множества нитей, завязанных в самые причудливые образования. Разобраться и точно согласовать узлы с конкретными болезнями — задача, требующая доподлинно ювелирных затрат. Проблемы налицо, они ждут решения.
И в завершение темы. Дерматоглифику надлежит четко размежевать со всеми темными приемами угадывания по кожным наброскам недугов человека, тем более перепадов его судьбы. По этой линии и проходит водораздел между наукой и лженаукой, спекулирующей на доверчивости людей. Хиромантов, которые добросовестно искали корреляции между кожным ландшафтом и патологиями, не поворачивается слово объявлять лжеучеными. Но едва они смещали нравственные установки, поддавшись соблазну пойти в обсчет, их тут же надо ловить за руку и оттеснять за черту науки, предъявив им обвинение в лжеучености. Тем настоятельнее следует проводить эту линию в отношении тех же современных хиромантов, которые идут на сознательный обман.
Перед нами прошли теории и учения, порой столь сильно окруженные заблуждениями, что попадали в лжеучения. Вместе с тем эти исследования сопровождались усилиями, в которых билась, искала ответа человеческая мысль. Именно здесь и проходила преемственная цепь, благодаря которой мнимая наука спасала настоящую. И хотя лженаука несла массу ненужного, оно было рано или поздно отторгнуто благодаря тщательному последующему отбору, определявшему лицо науки в ее непреходящих значениях.
Но не только это. Мы имеем основания сказать, что все эти астрологи, алхимики и полухимики, все эти хироманты часто забегали вперед и находили решения, которые пришлись ко двору лишь столетия спустя. Оттого, являясь для своих дней неисправимыми мечтателями, они получили поддержку лишь много времени спустя. И то сказать, хотя опережение большое и не достигает сегодняшней цели, оно бьет не мимо цели вообще, но в сторону от текущих усилий.
Опыт лженауки важен не только ее назначением сохранять для потомков подлинные ценности, ставя их на службу познания. История псевдонауки учит еще одному: неверно, просто вредно нечто пресекать, пятнать как недостойное занятий исследователя и ложное только потому, что провозглашаются идеи, отклоняющиеся от нормы знания сегодня.
Нужны не запреты на деятельность, а ее контроль, определяемый мерой эксперимента и наблюдения, с одной стороны, и мерой нравственного поведения, с другой. В таком крупном деле, как наука, издержки неизбежны. У геологов есть заветное правило: то, что ищешь, всегда меньше того, где ищешь. Так и здесь: нужные знания вырастают на площадях, засеянных на больших пространствах и притом далеко не сортовыми семенами.
Можно сказать, знание прошлого ложится уроками в будущее.
Вопрос не праздный. Как уже было отмечено, в последнее время наблюдается буквальный взлет интереса ко многим спорным, непонятным событиям, пока еще не получившим квалифицированного диагноза.
Вот один периферийный факт, однако проявивший себя отнюдь не локальным значением. В 1988 году в Томском политехническом институте под невинным названием «Периодические быстропротекающие явления в окружающей среде» был проведен научный семинар-конференция. Когда расшифровывали, оказалось, что на его заседаниях взяли слово люди, увлеченные исследованием, мягко говоря, странных событий вокруг нас. Здесь сошлись свыше четырехсот человек (среди них 9 академиков и членов-корреспондентов академии, 25 докторов и масса кандидатов наук) из 53 городов Союза. А в 1990 году прошла вторая конференция, еще более представительная.
О чем же речь? Взоры скрестились на многих наблюдениях, обычно не принимаемых «нормальной» наукой. Читатель может называть самое абсурдное и не ошибется. Да, это «летающие тарелки», полтергейст, эффекты филиппинской медицины, телекинез, лозоходство, словом, все, что выпадает из привычного хода вещей и истолкований.
Сплошь да рядом подобные явления характеризуются как нелепости, а людей, ими занимающихся или даже проявляющих к ним интерес, объявляют лжеучеными. Так, периферийный старинно-университетский город Томск оказался одним из центров изучения странных явлений, которые относят к сфере лженауки.
Безусловно, не обходится и без нее. Однако лишь в той мере, в какой изучение необычного сопрягается с подтасовкой данных, предвзятостью вывода или даже обыкновенным пристрастием, что и оборачивается в конечном звене искажением истины. Все это, понятно, идет по разделу лженауки.
Но вместе с тем в этих занятиях определенно добываются сведения, отнюдь не бросовые. Их бы отсортировать, что называется, «отмыть» от нежелательного сопровождения и внести на справедливый суд научного сообщества. Более чем допустимо, что многое из того содержания, которое сегодня третируется как лжеучение, именно и спасает истинное учение, зарытое в сих незрелых формах.
Самоторможение науки
Обращение к нравственно-этической норме показало, что бесполезной работу ученого делают не заблуждения, не ереси или абсурды, сколь бы ни были они вздорными, а недобросовестность, подменяющая честный поиск обманом и подтасовками.
Откроем следующую страницу в истории превращений бесполезного знания. Речь пойдет о тех событиях, когда действия ученых, чем бы они ни направлялись, возводят барьеры на пути свободного обмена добытой информацией, препятствуя ее движению от творцов к пользователям. Тем самым поступающие так деятели науки превращают актуально или потенциально полезное в бесполезное, если даже сознательно они такой цели перед собой не ставят, а стараются из лучших мотивов, охраняя науку от, как им видится, ошибок, или оберегая традиции, или следуя каким-либо иным, вполне добропорядочным критериям, например, не оглашать широко свои задумки.
Это обстоятельство заметим особо. Мы рассмотрим акции, моральной оценке не подсудные и отличающиеся от тех поступков, которые вырастают в проступки. Тем не менее и они, неподсудные, также способны плодить бесплодие, хотя, отдадим должное, вместе с этим несут известную охранную роль против засорения науки непросеянными и скороспелыми выводами.
Конечно, уже немало сказано и в нашем сочинении, и в других о том, что новые завоевания науки тяжело идут к свету. Сказано и показано. Возвращаясь к этому сюжету, стоит рассказать и о некоторых психологических механизмах, из-за которых возникают указанные трудности, и тем самым возложить вину на собственные силы науки, на ее творцов и вождей.
Факт налицо: открытия обычно не принимают (объявляя курьезом, фикцией) потому лишь, что они резко рассогласуются с сегодняшней научной позицией, переросли ее. Научное сообщество, еще не успев подняться в своем подавляющем большинстве до новых высот, испытывает при виде их душевный дискомфорт. Оттого свежие идеи выпадают из общего хора, рождая недоумение, насмешки, протест.
Попытаемся найти этому психологическое объяснение. Действует своего рода «закон сохранения невежества». Он выражает инерцию мышления и восходит, видимо, к биологическому принципу наименьшей траты энергии или принципу целесообразности: организм стремится расходовать минимум усилий, необходимых и достаточных для получения какого-либо жизненно важного результата.
Подобно этому действует и исследователь. Когда перед ним встает познавательная задача (объяснение новых фактов, отыскание причины явления, закона и т. п.), он вначале ищет решение на основе имеющейся теории, применяя уже известные методы. Если это не удается, ученый, спасая теорию, пытается внести в нее дополнения, присоединить новые элементы, даже видоизменить. Если же и на этот раз ответ не получается, то приходится менять теорию, отправляя ее на слом.
Однако такая замена — крайний шаг, на который исследователь идет с трудом и лишь в исключительном случае, когда иного пути нет. Он всеми силами стремится приспособить старое знание, старую парадигму (норму, образец решения познавательных задач) для истолкования этих новых фактов. Здесь и коренится причина столь сильной привязанности ученых к существующим теориям, здесь источник сопротивления прогрессу. Но, сохраняя старое знание там, где необходим переход к новому, наука и поступает согласно «закону сохранения невежества». Чем напряженнее путь к истине, тем болезненнее расставание с нею. История науки, по существу, в каждой более или менее крутой точке ее поворота предъявляет свидетельства того, как привычные традиционные решения оказывают инерционное действие, мешая принятию ценных завоеваний, которые в течение длинных лет оказываются благодаря этому не у дел.
Может быть, теперь, после того как мы обратили взгляд на психологическую подоплеку фактов неприятия нового, сами эти факты уже не покажутся столь необычными, «возмутительными». Приходится безоговорочно принять, что подобного рода странные события, обрекающие добытую научно-техническую информацию на бесплодие, являются творением рук самой же науки. Не кто-то со стороны, пришлый и чуждый, но она по собственной охоте, руками своих лучших сынов гасит свои же могучие силы. Иначе говоря, имеет место самоторможение науки, замедляющее ее разбег.
Наука — это люди, деятели, ее производящие. И вот ситуация. Продвигая знание все дальше, ученые вместе с тем сами возводят препятствия на его пути. Когда новое не приемлет исследователь, так сказать, среднего стандарта, это еще не вносит заметных влияний на ход науки. Но когда ее рост сдерживают авторитеты, имена, корифеи — вспыхивает замешательство.
Характерен пример Г. Галилея. Ученый мирового класса, он, однако, не смог в ряде случаев (к счастью, малочисленных) побороть инерцию мысли и оказал сопротивление новому. Характерно его отношение к системе Н. Коперника. Вообще, Г. Галилей — острый поборник гелиоцентрического мира. Вместе с тем признание далось ему не вдруг. Поначалу он состоял в резкой оппозиции. «Я был убежден, — напишет он позднее, — что новая система — чистейшая глупость». Молодому уму, коим владела эта целеустремленность, такое тем более непростительно, поскольку именно молодые, сохраняя свежесть восприятия, обычно еще не успевают столь тесно сжиться с господствующей линией, чтобы так категорически отторгать новое.
Тем не менее факт состоялся. Великий итальянец был застигнут врасплох глубокой перспективой, открывшейся польскому мыслителю, и пошел против. Не жаловал он и вывод И. Кеплера о влиянии Луны на приливы и отливы, назвав идею об «особой власти Луны над водой» ребячеством. Такова сила научной традиции, определяющая психологическую неприязнь к переменам.
Есть роковая неумолимость: чем крупнее открытие и значительнее грозящие перемены в науке, тем отчаяннее сопротивление, обрекающее новое на бесплодное существование в ранге невостребованных знаний.
Если обратиться к самым влиятельным событиям XX столетия — теории относительности, квантовой механике, синергетике, — более всего изменившим наше восприятие облика внешней реальности, мы найдем веские подтверждения тому, как исключительно ценные результаты благодаря усилию ряда исключительно выдающихся ученых отодвигаются в раздел бесполезных и остаются там до лучших дней.
Теорию относительности так и не принял в том виде, как ее записал А. Эйнштейн, великий А. Пуанкаре, хотя умер в 1912 году, когда теория уже решительно заявляла о себе. Это тем более непонятно, что А. Пуанкаре — один из немногих, кто подготовил ее рождение и кому лишь неверные философские посылки воспрепятствовали сделать окончательный шаг. Он посчитал, что все варианты описания пространства равноправны и мы отдаем предпочтение избранному только из соображений комфорта и простоты.
В свои дни теорию относительности не воспринял и такой выдающийся ученый, как Э. Резерфорд. Здесь другой мотив: теория показалась ему спекулятивной. Проявилось традиционное для Э. Резерфорда неприятие выводов, полученных чисто умозрительно, вне связи с экспериментом. Но каковы бы ни были основания, это мешало утверждению теории в ранге полезного знания. Так же и В. Томсону, английскому физику текущего века, претила абстрактность положений А. Эйнштейна, его «почтительная отстраненность» от практики дня, хотя он и признавал за теорией ее логическую безупречность и умение разъяснять многое непонятное.
Были отзывы и похуже. Нобелевский лауреат (величина тоже немалого достоинства) Ф. Ленард назвал теорию «математической стряпней».
Столь многочисленные отрицательные приговоры фактически низводили это важное достижение мысли до уровня курьеза на линии безупречного развития науки.
Подобное же отношение авторитетов и к квантовой механике. Оно вполне соответствует той реакции в среде ученых, которая следует в ответ на появление необычных, далеких от господствующего строя идей. Для начала квантовую механику объявили непонятной и… скучной. Более всего будоражил ее поход против классической науки.
И вновь В. Томсон, которому квантование процессов показалось подозрительным, и он не принял новую механику. Очень уж решительно врывалась она в размеренный ход вещей, слишком крутые перемены обещала. Совсем не случайно, что, рассказывая в одной из книг про физиков первой трети XX века, он отнюдь не был словоохотлив, когда касался молодой смены. Даже Н. Бору он отдал всего 10 строчек текста, другим же «квантовикам», рангом пониже да талантом пожиже, и того меньше.
Не признал квантовую механику и австрийский ученый Э. Мах, бывший тогда заметной фигурой и именно в области механики, кстати сказать, автор одноименной, ставшей классической и не утратившей значения поныне книги «Механика». Об отношении к новой теории в ту пору говорит и такой факт. Одного из ее создателей, М. Борна, увенчали Нобелевской премией лишь 28 лет спустя после выхода его первых работ по теории.
Несовместимость постулатов квантовой концепции с физическим стилем мышления была столь ощутимой, что даже во второй половине столетия они оставались для большого числа ученых за семью замками. Не случайно родился афоризм: «Квантовую теорию нельзя понять, к ней надо привыкнуть». Однако, пока привыкали и присматривались, время уносило момент, а бесценные знания «томились от безделья», не находя использования.
Надо учесть и еще одно психологическое обстоятельство. Оставаясь во власти «закона сохранения невежества», ученые старой поры, конечно, привыкают к новому с трудом. Более того, они, видимо, даже и не привыкают, а приспосабливаются, адаптируются, не изменяя, однако, традиционному представлению. Но как же тогда наука? То есть способна ли она при таком засилье консервативных умов к переменам? То, что наука способна к переменам, говорит опыт ее развития. Вопрос в другом: как удается преодолеть это сильнейшее тяготение ученых к прошлому?
А никак. Просто старое поколение вымирает, а новое сразу же, что называется, с молоком матери, воспитывается в новой парадигме, усваивая «крамолу».
Можно еще и еще нанизывать свидетельства и факты. Но хотелось бы выйти на современность, притом в нашу советскую действительность.
На глазах утверждается очень перспективная, зато и очень необычная дисциплина синергетика, изучающая явление самоорганизации систем. Необычность и стала источником ее злоключений.
Одним из пионеров течения в нашей стране выступил Б. Белоусов, заведующий лабораторией академического Института биофизики. Вместе со своим увлечением он разделил и горести трудных дорог нового направления. Сейчас синергетика раскинулась широко, охватив многозначный мир явлений и посягая на одну из ведущих в науке позиций. Практически она не знает границ применимости и касается всех естественных (да и не только их) отраслей знания. Это сейчас, но в 1955 году все шло по другому сценарию.
Б. Белоусов, проводя серию тонких экспериментов, увидел непонятные химические превращения. Бесцветный раствор при добавлении определенного вещества приобретал вдруг красный оттенок, а затем начинал периодически менять цвет: красный, синий, снова красный… и так далее и сколько угодно долго.
То были обещающие наблюдения. Но ученого не приняли. Его статью «Периодически действующая реакция и ее механизм» журнал отклонил, снисходительно разъяснив автору, что подобного быть не может, поскольку химические процессы необратимы. Что же наблюдал исследователь?
Он установил, что неравновесность состояния какого-либо явления может стать причиной возникновения в нем порядка.
Необычность этого вывода обескураживала. Согласно классическим воззрениям любая система, будучи предоставлена сама себе, движется к состояниям с максимумом энтропии, то есть к состояниям наибольшего беспорядка (энтропия — мера хаоса, деорганизации материи). Господствует один закон, одна неукоснительная линия: в первоначальной упорядоченности возникает и растет беспорядок. У Б. Белоусова же выходило все наоборот, движение идет как бы вспять: из беспорядка рождается порядок. Как было терпеть такое?
Белоусова наставляли: «Того, что вы описываете, в химии никогда не бывает». И здесь против выступили не второклассные лица (хотя и они тоже не молчали, но не им формировать погоду), а большие ученые, звезды высшего сияния — Л. Ландау, М. Леонтович! Это не могло не бросить своей тени на перспективу открытия, вовлекая его во временную «нетрудоспособность» и обрекая существовать на периферии научного прогресса.
Лишь 15 лет спустя советский же ученый Г. Иваницкий обосновал странное поведение раствора теоретически, а еще позднее, в 1980 году, пришло и запоздалое признание. Группе исследователей, которую вел Б. Белоусов, присуждается за изучение уникального явления (названного «реакцией Белоусова») Ленинская премия. К сожалению, первооткрыватель был увенчан наградой посмертно: ученый скончался ровно за 10 лет до признания.
Как видим, наука сама же, усилиями своих лучших представителей, содействует тому, что завоеванные ею истины вместо того, чтобы включиться в дело, оседают бесполезными знаниями в ожидании подходящих дней.
Порой неприятие новых идей получает весьма интересное продолжение. Логика событий такова, что ученый, испытав в свое время настороженное к себе отношение или даже реакцию отторжения его взглядов, оказывается позднее сам в ряду воюющих, но уже против других, столь же новых достижений. Казалось бы, их-то собственное прошлое должно было кое-чему научить, по крайней мере внушить чувство терпимости к свежим мыслям! Но, видно, прав Гегель, заявляя: «Уроки истории заключаются в том, что люди не извлекают уроков из истории».
Получается, что ученые, немало сделав для науки, оказываются заложниками действующих в ней механизмов самоторможения. Подчиняясь общему ходу развития событий, они, пройдя необходимый этап борьбы за новое, которое с собой принесли, так и продолжают за него биться, не всегда отдавая отчет, что это их новое стало уже старым и подлежит замене. Идет на память четверостишие В. Катаева, написанное, правда, по другому поводу:
Немецкий физик второй половины прошлого века Р. Клаузиус в особом представлении не нуждается. Он один из основателей кинетической теории газов, ученый, подаривший миру понятие энтропии, как характеристики теплового состояния тела, и одновременно с В. Томсоном предложивший первые определения второго начала термодинамики. Р. Клаузиус оставил след и в других областях науки: разработал понятие «идеальный газ», дал эскиз первых статистических представлений в физике, сделал наброски учения об энергии. Осуществив во многих пунктах начальные работы, он получил те первичные результаты, которые называют «смысловым сдвигом», несущим предвестие больших перемен.
Полагаем, мы написали достаточную характеристику, чтобы ощутить не просто ученого большого масштаба, но зачинателя смелых программ, рождающихся на острие научного прогресса. Именно поэтому идеи Клаузиуса попадали в зону жестокой критики с позиций принятых законов науки. Вокруг понятия энтропии, представлений о статистичности определенных процессов неустанно бушевали страсти. Ученый отбивался, как мог. Наверно, он сполна изведал, насколько тяжело и губительно непонимание, особенно со стороны больших авторитетов.
И тем не менее Р. Клаузиус под влиянием того же груза психологических давлений господствующей научной парадигмы и поддаваясь логике внутреннего развертывания борьбы идей, показал удивительно стойкое противодействие новому, не приняв в свое время одну радикальную теорию, обещавшую глубокий поворот в естествознании.
В середине XIX столетия известный немецкий математик Б. Риман уже после того, как он выступил автором названной в его честь концепции пространства («Риманова геометрия»), развил интересный результат в области электромагнетизма. В его статье, написанной в 1858 году, были уравнения, выводившие на идею электромагнитных волн. Это происходило за три года до открытия К. Максвелла, что стало прелюдией к его теории.
Дальше события пошли так. Б. Риман направил статью в научное общество Геттингена, где он, кстати, жил (и уж вовсе не кстати, при большой нужде). Однако статью отклонили, и решение вынесли на основе рецензии… Чьей? Правильно, рецензии Р. Клаузиуса. Работа была опубликована лишь через 9 лет. Но это не принесло радости ни науке (открытие электромагнитных волн уже состоялось), ни самому Риману, к тому времени скончавшемуся.
Нерадостная встреча сопровождала и великий закон периодичности химических элементов, найденный Д. Менделеевым. Когда русский ученый сообщил об открытии, это вызвало поток «опровержений». Иным построенная классификация казалась искусственной, другие упрекали, что некоторые элементы якобы выпадают из предписанного таблицей порядка; значит, шел вывод, она не всеобъемлюща и, стало быть, несет не закон, а скромную регулярность, подтверждаемую лишь в избранных случаях.
Такой разговор вели, в частности, шведские химики Нильсон (открывший скандий) и Петерсон. По их версии из рядов системы выходил бериллий, которому там не распределили места. Но это не просто подрывало кредиты бериллия, а наводило тучку на всю периодику. Знаменитый немецкий химик Р. Бунзен назвал результат Д. Менделеева обыкновенной игрой в цифры, определив, будто подобные таблицы можно составлять еще и еще. Не менее известный В. Оствальд выступил с заявлением, дескать, периодический закон вовсе и не закон, а достаточно неопределенное правило, чтобы хоть как-то прибрать элементы к рукам. Сомнения шли и со стороны русских исследователей: отрицательным был, в частности, отклик на первые сообщения Д. Менделеева известного русского химика Н. Зимина.
Все же постепенно наступает прозрение. Сначала взяли свои обвинения шведские химики. Проведя, по совету чешского коллеги Б. Браунера, дополнительные измерения, Нильсон и Петерсон убедились, что возвели напраслину. Затем одно вослед другому растаяли и остальные попреки. Великое завоевание науки обрело наконец ту ценность, которой оно достойно.
Все так. Однако не надо забывать следующее. Время пришло и ушло, а на весь этот период признания закон оставался, по существу, бесправным, словно бы он оказался бесполезным приобретением ищущей мысли. Конечно, он трудился, но трудился далеко не в полную меру, с пропусками, вяло помогая теоретическому и практическому овладению миром.
Таким образом, действиями по укорачиванию силы периодического закона элементов, ограничениями сферы его приложений науке был нанесен немалый изъян. Но вот что поразительно. Утвердившись в конце концов с законом, сам Дмитрий Иванович показал и другие устремления.
К тому времени (60-е годы XIX века) появились первые работы знаменитого французского исследователя Л. Пастера и крупного русского химика А. Бутлерова по теории химического строения. Это было свежим словом в науке, обещавшим выход к структурным представлениям химических веществ. Учение быстро нашло многие подтверждения, и его предсказания оправдывались в практических делах. На основе этих идей голландец Г. Вант-Гофф развернул исследования, которые увенчал в 70-е годы концепцией геометричности молекул, открывшей химии перспективу объемного видения ее предмета. В 1901 году ученый стал первым нобелевским лауреатом по химии. Но это потом, а пока…
Теория встретила поначалу отпор ряда знатных авторитетов. Идею Вант-Гоффа объявили «произвольной фантастикой», а влиятельный немецкий химик А. Кольбе (за ним синтез уксусной, салициловой, муравьиной кислот) вынес вообще беспощадный приговор, заявив, что только недостаток образования мог привести автора к подобной галиматье. «Вообще, — не унимался А. Кольбе, — любые рассуждения об „архитектуре молекул“ приведут химическую науку к упадку, ибо знать расположение атомов в пространстве настоящему химику вредно…»
Так вот, не станем прятать глаза. Среди тех, кто активно вошел в это движение против «архитектурных увлечений» в химии, был и Д. Менделеев. Мишенью для его ударов стал А. Бутлеров. Сообщим еще один прискорбный для слуха русского эпизод. Критика стереохимического «поветрия» шла со стороны также известного соотечественника — химика Н. Меншуткина. Правда, он, надо воздать ему должное, позднее (уже после смерти А. Бутлерова) признал правоту новой теории.
Был и другой промах великого Д. Менделеева.
В науке на рубеже последних столетий развернулись диспуты вокруг радиоактивности. Боролись две линии, два истолкования: объяснять ли излучение внутренними свойствами самих атомов или же остановиться на «внешней» гипотезе, привлекающей энергию из космоса. Позже время расставило все по своим позициям. Утвердилась идея собственной ответственности атома за происходящее. Но в те далекие дни это понимание прошло сквозь напряженную критику, которая порой не смущалась при отборе выражений. Как уже читатель, вероятно, догадывается, в рядах критикующих шел и Д. Менделеев. Он считал радиоактивность проявлением способности атомов поглощать идущее из внешнего пространства вещество, равно и выделять его, и полагал, что авторы новой концепции вовлекают науку в «полумистическое состояние».
Эти события живо показывают логику развертывания механизма самоторможения в науке. Они подтверждают, что замедление в темпах ее развития становится особенно ощутимым тогда, когда в нем замешены крупные ученые: вначале, когда они ищут признания как страдательная сторона, позже, получив его, — как сила, обращающая в страдальцев других. Завершая поднятую тему, хотелось бы привести еще одно свидетельство.
Говорилось, сколь неприветливо была встречена теория относительности А. Эйнштейна. А сейчас придется сказать, как ему и самому тоже недоставало порой понимания нового, он выходил на него, будучи во власти стареющих представлений, невольно или вольно придерживая естественное течение познаний.
Известны, например, его сомнения в правоте вождей квантовой концепции. Защищая идеалы классической причинности, великий физик не захотел принимать ее вероятностно-статистическую версию, охотно впускающую в описания случайность. Получило широкую прессу его крылатое высказывание: «Господь бог ни за что не стал бы играть в кости». Ознакомившись с квантовой моделью Н. Бора, Эйнштейн объявил: «Мне все очень понятно. Но если это правильно, то оно означает конец физики как науки».
Надо ли искать слова и обороты, чтобы осудить линию, которая не поспевала за шагами прогресса. Заключение может быть только одно: не стоит отвергать идею по тем лишь мотивам, что она непривычна, по-другому смотрит на мир. Такие скорые выводы о якобы заблуждениях сами оборачиваются заблуждениями, приговаривая продуктивные теории к долгому молчанию. Вместе с тем не забудем, что именно А. Эйнштейн положил крупные камни в основание квантовой теории, объяснив фотоэлектрический эффект и разработав квантовую статистическую электродинамику.
Нагнетая свидетельства сдерживания поступи науки силами самой же науки, подчеркнем следующее. В критике, в борьбе против мнений и течений должно просматриваться (если сражение ведется честно) не просто желание погрома оппонентов, а забота об истине, о судьбах ее искателей. Можно не соглашаться, идти в бой и все-таки уважать чужие взгляды. То есть здесь также заявляют о себе нравственно-этические ценности.
В 30-е годы нашего столетия уже всемирно известному П. Ланжевену была направлена для отзыва диссертация молодого соотечественника Л. де Бройля, развивавшего необычную мысль о «волнах материи». Она и поныне сеет смятение, признать же ее в ту пору — пору господства классического взгляда, было просто нелепо. Ланжевен так и сделал: не признал. Однако поступил благородно: «Идеи диссертанта, конечно, вздорны, — заявил он, — но развиты с таким изяществом и блеском, что я принял диссертацию к защите». Потом станет известно, сколь отнюдь не вздорная теория проросла из этих страниц. Однако окажи П. Ланжевен противодействие распространению «крамолы», и она ушла бы, пусть даже на время, из поля активного внимания, пополнив ряды бесполезного знания.
Восхищает и поступок выдающегося немецкого математика, долгое время работавшего в России, Л. Эйлера. Однажды он получил на отзыв статью начинающего научную карьеру молодого Ж. Лагранжа. Речь шла об одной из проблем вариационного исчисления. Случилось так, что именно на эту тему была написана к тому времени статья самим Л. Эйлером, которую он собирался послать для публикации. Ученый понимал: если сделает это, напечатают его статью, а не Лагранжа. Тогда он задерживает свою работу, чтобы молодой француз смог первым обнародовать результат.
Меньше всего мы хотели эти поступки противопоставить тем, где шла речь о самоторможении науки. Уверены, что и А. Эйнштейн, и Д. Менделеев, как и другие по-настоящему преданные науке, нравственные ученые, в сходной ситуации решали бы проблемы сходными путями.
Перед нами прошло разнообразие случаев, в которых большие ученые показали себя ревнителями прежних установок, людьми, препятствующими продвижению нового, которое они отсылали в глубь бесполезного знания. Но в наиболее курьезной форме самоторможение открывается, пожалуй, в тех событиях, где творцы смелых теорий выступали против собственных же идей. То есть инициатором зачисления открытия в список бесплодной науки становится сам первооткрыватель. К этому разделу сражений мы и повернем сюжет.
Действительно, интересная страница истории идей. Не так идей, как характеров, да и не столько история, сколько драма. Здесь замешаны особенно чистые, особенно честные, умеющие ради высокой цели положить на плаху собственную славу. Только жертвы-то напрасны потому, что поворачиваются отлучением от науки плодоносных замыслов. Но все по порядку.
Ломая сильнейшую инерцию притяжения старого, шел к своему закону тяготения И. Ньютон. Конечно, как можно поверить, что тела, разведенные пустым пространством, влекутся друг к другу без наличия каких-либо наглядно-осязаемых сил? И не верили. Против шли многие знатные авторитеты времени: француз Р. Декарт, голландец X. Гюйгенс и другие. Но что другие, когда покачнулся сам И. Ньютон. И было от чего.
В дни своего рождения закон подтверждался далеко не в той норме, которая приличествует всемирному закону. Как отмечает Е. Вигнер, относительная ошибка составляла тогда 1/25. Отказывалась повиноваться, например, Луна, упорствуя занять то место, которое ей приготовил И. Ньютон. Ученый писал соотечественнику астроному Э. Галлею, что движение Луны не согласуется с его формулой. Обескураживали и другие факты. В те смутные часы И. Ньютон так говорил о тяготеющих силах: «Это мне кажется столь большим абсурдом, что я не представляю себе, чтобы кто-либо, владеющий способностью здраво мыслить в философии, мог к этому прийти». Обратим внимание, насколько обнаженно, нелицеприятно отзывается ученый о собственной идее.
И. Ньютон не захотел тогда публиковать свое открытие. Прошло 16 лет, прежде чем ему стало известно, что радиус Земли измерен неверно. Уточненные же величины убеждали в справедливости его закона. Прошло еще 4 года, появились новые сведения. И лишь тогда, окончательно убедившись, что ошибки нет, И. Ньютон заявил об открытии.
Так параллельно с разработкой научной идеи автор преодолевал сомнения в ее правоте, взвешивал и целых 20 лет держал ее вдали от бурных событий в науке, приговорив себя к молчанию.
В долгих колебаниях провел дни также Ч. Дарвин, утверждаясь в познавательной силе своей эволюционной теории. Особенно смущал вывод о естественном происхождении человека, что лишало царя природы неординарности и выравнивало с животными. Было так непривычно осознать это. И лишь два десятка лет спустя ученый отважился выпустить теорию в свет. Может, ждал бы еще, да буквально по следу шел соотечественник А. Уоллес, исповедуя те же мысли. Назревала угроза потери приоритета, и Ч. Дарвин решился, совсем немногим упредив коллегу. К чести А. Уоллеса надо сказать, что он не оспаривал первенства, оставив его Ч. Дарвину.
Раскрывая тему, мы увлеклись «показаниями» в линиях внутренней борьбы исследователя: пускать или не пускать результат в жизнь. Высшего накала этот конфликт с самим собой достигает, когда ученый вступает в бой с собственными, уже оглашенными в печати работами, объявляя их ошибочными, ненужными и даже вредными.
Открывается более чем курьезная ситуация. Как исследователь, вовлеченный логикой развития науки в решение проблемы, он не может не принять результат. В то же время, осознавая, что разрушает устоявшиеся представления, всеми силами противится утверждению нового, хотя бы оно являлось его собственным творением.
На грани последних веков в Швейцарии успешно работал естествоиспытатель И. Баур. Более сорока лет он посвятил изучению так называемых топливных элементов (которые путешествуют в научной литературе под знаком «ТЭ»). Это источник энергии, которая образуется в результате движения тока между металлическими пластинами, погруженными в кислоту.
Вообще, к топливным элементам подступались еще в 30-е годы ушедшего столетия. Тогда англичанин В. Гроув, опустив две платиновые полоски в сосуд с разбавленной серной кислотой, наблюдал движение тока. Интересно заметить, что В. Гроув по специальности юрист, а полоски опускал, используя освобожденные от юридических забот часы, — факт сам по себе примечательный, также повествующий о «ненормальностях» науки. Ток, пойманный В. Гроувом, был удручающе слаб, и экспериментатор все искал и искал новые ходы, варьируя материалы и сочетания. Позднее над этой задачкой трудились и другие, в их числе наш П. Яблочков, который испытывал свою конструкцию, вводя уголь в окись углерода. Однако все старания решительно поднять силу тока оказывались в ту пору безуспешными.
Тогда взял слово И. Баур. Несмотря на то, что он отдал топливным элементам почти полвека, значительно продвинулся в теории вопроса, наладил немало подходящих схем, несмотря на все это (а, может быть, как раз поэтому?), ученый заявил, что его личный опыт убеждает в практической бесплодности задуманного. Такой приговор собственному делу, конечно, охладил притязания на поиск со стороны других, которые не могли не прислушаться к голосу авторитета.
Все же окончательной точки на судьбе топливных элементов поставлено не было. После некоторого затишья, к воцарению которого, как видим, руку приложил и Баур, поднялась волна нового интереса. Он обозначился появлением в начале уже нынешнего века глубокой потребности в ином типе автономных электрохимических источников тока: аккумуляторов для автомашин, электрокаров, подводных лодок и т. п. Вал заказов нарастал столь упруго, что лишь на усовершенствование свинцовых аккумуляторов было выдано за короткое время свыше 20 тысяч патентов.
Еще один прилив увязан с началом космической эры. В Соединенных Штатах Америки, например, в середине XX века по топливным элементам ежегодно осуществлялись работы, финансирование которых стоило десятки миллионов долларов. Исследования вели около шестидесяти организаций и фирм. Надо полагать, суммы наших затрат столь же впечатляющи, поскольку советская программа освоения космоса не менее масштабна, а в ряде позиций обошла американскую. Но, как повелось, все затратные числа, повествующие о больших расходах, да еще в делах, полагаемых государственным секретом, у нас не афишируются.
Одним словом, тема, объявленная в свои дни И. Бауром малопригодной, не осталась без присмотра. В нее пришли свежие силы, придали ей новые ускорения и вывели в ряд остро полезных исследований.
Также не понял значения одного из своих открытий и Т. Эдисон, зачитав самому себе довольно суровое заключение.
В 1883 году изобретатель «расследовал» причину почернения колб у ламп накаливания. Человек внимательный, даже дотошный, он обнаружил, что между нитью и впаянным в лампу электродом, соединенным с положительным полюсом патрона, шел ток. Это двигались свободные электроны, образуя термионную эмиссию, впоследствии названную «эффектом Эдисона».
Однако сам-то Эдисон того не оценил. Вернее, оценил, только с противоположным знаком. Прибор, который поймал явление эмиссии, он назвал никчемным «лабораторным уродцем», о явлении же опрометчиво сказал: «Это никогда и никому не пригодится».
Пригодилось, однако же, и очень скоро. Не ушло и четверти века, как еще при жизни великого изобретателя создаются на основе его эффекта, но уже руками других, радиолампы. Более того, «бесперспективное» открытие сообщило жизнь целой отрасли производства — электронной промышленности. Так, время показало, что Т. Эдисон здесь явно притормозил самого себя, отодвинув результат как бесполезный.
Столь же опустошительной критике подверг собственный вывод немецкий математик конца XIX — начала XX столетия П. Гордан из Эрлангенского университета. Гордан был весьма высок своим званием «короля инвариантов». Он действительно провел большие работы, совершив одним из первых прорыв к тайнам алгебраических инвариантов (величин, остающихся «равнодушными» к тем или иным их преобразованиям). Однако общетеоретические вопросы этой области еще долгое время беспокоили исследователей («Проблема Гордана»).
Затруднение состояло в следующем. Чтобы доказывать частные случаи некоторого общего положения теории, приходилось каждый раз выполнять громоздкие вычисления. Это определенно вносило дискомфорт в математические умы, вообще ложилось препятствием в развитии области. И, понятно, над проблемой работали. Наконец, лед тронулся. Выход нашел Д. Гильберт, распространивший теорему П. Гордана на алгебраические формы с любым числом переменных. Это позволило написать общие методы решений, избавив от необходимости искать в каждом конкретном случае свой путь, прибегая к сложным выкладкам.
Увы! Результат Д. Гильберта встретили в штыки, объявив их неудобными, даже «чудовищными и сверхъестественными» (Ф. Линдеман). Ждали, что скажет сам П. Гордан. Он долго молчал и наконец произнес: «Это не математика. Это теология». Все же позже Гордан отдал идее Д. Гильберта должное. Но, отступая, сохранил лицо. «Я убедился, — сказал он, — что у теологии есть свои преимущества».
Если продвигаться по порядку, то здесь следовало бы назвать Г. Герца и К. Рентгена, войну которых против использования собственных открытий, объявленных ими же бесполезными, мы уже отмечали. Или как не припомнить Г. Лоренца, пенявшего А. Эйнштейну за якобы необдуманную пересадку Лоренцовых преобразований на почву теории относительности.
Характерные для нашего разговора события сопровождали становление квантовой механики.
В том, что ее (как уже отмечалось) не сразу приняли в ученом сообществе, мало удивительного. Скорее это норма при встрече с новым, да еще столь непривычным. Удивления начинаются с того момента, когда узнаем, что квантовую теорию «не жаловали» сами творцы теории, те, кто, можно сказать, возводил ее на престол. И среди них такие первоклассные умы, как де Бройль, М. Планк, Э. Шредингер.
…В 1913 году А. Эйнштейн проходил по конкурсу действительным членом Прусской академии наук. Его кандидатуру поддержали ряд видных немецких ученых: М. Планк, О. Варбург, В. Нернст. Рекомендуя А. Эйнштейна к избранию, они заявили, что едва ли в современной физике отыщется тема, в которую кандидат не внес бы своего участия. А далее было сказано: «И если кое-что в его спекуляциях могло пройти мимо цели, как, например, гипотеза о световых квантах, это не может быть поставлено ему в вину, ибо, выдвигая новые идеи, особенно в точных науках, невозможно не идти на некоторый риск».
Положим, В. Нернст и О. Варбург работали сравнительно в далеких от квантовых дорог разделах. В. Нернст (о чем уже было сказано) изучал пограничные для физики и химии события, был автором третьего начала термодинамики. О. Варбург — также инициатор пограничных тем, но в области биохимии. Однако же М. Планк сам был основателем идеи кванта, человеком, в первую голову ответственным за все последующее квантовое движение. Тем не менее он ставит А. Эйнштейну в вину авторство якобы достаточно умозрительной гипотезы световых квантов и упрашивает прусских академиков извинить ученому его «квантовые прегрешения».
Кроме того, под обстрелом М. Планка оказались куда более близкие фигуры. Выдвинув идею квантования энергии, Планк сам же и оспаривал ее. Он определенно не хотел признавать подобное истолкование всерьез и надолго и, по его собственному признанию, терпел это лишь потому, что никакой иной возможности объяснить энергетические процессы не было. М. Планк даже писал коллегам просьбы не принимать гипотезу, поскольку она, с его слов, разрушает красивое здание классической физики. Настолько сильным было сопротивление новому слову со стороны самого же автора слова. Но это и тормозило процесс, удерживая физику на прежних, доквантовых позициях.
Э. Шредингер написал основное уравнение квантовой механики. Но его тоже удручала перспектива расставания с классической традицией, которую он рушил, внося новые представления. Э. Шредингер выразился в том смысле, что, знай он все наперед, едва ли посвятил бы свои усилия разработке «иррациональных квантовых скачков». Наконец, тоже известный итальянский физик Э. Ферми, выступив одним из законоположников квантовой электродинамики, тем не менее упорно избегал пользоваться ее методами. Е. Вигнер объясняет этот курьез состоянием психологического дискомфорта, который сопутствовал обращению к нетрадиционному типу мышления, вносимому новой концепцией.
Так, сама же наука усилиями ее вождей оказывает противодействие включению важных результатов в познавательный обиход, оставляя их за чертой полезных применений в науке и практике. Доказательств тому мы привели достаточно. Вместе с этим необходимо выделить следующее.
В описанных фактах сдерживания науки — не только одно негативное. Существование и функционирование знаний неизбежно сопровождается появлением скороспелых, слабо доказанных, а то и вовсе не проверенных заявлений. От них надо избавляться. Поэтому в процессах самоторможения науки одновременно осуществляется и ее самоочищение. В первую голову оно касается положений лженауки, но не только их. Полезно избавиться и от некоторых иных спекулятивных решений, наводняющих научную жизнь.
Понятно, что в подобных сражениях, когда наперед далеко не все ясно, страдают и безвинные. Однако едва ли стоит поступаться строгостью и резко смещать критерии в сторону вседозволенности. И судьей здесь может и должна быть совесть человека науки.
Но сейчас мы хотели бы сказать не об этом (ибо про то уже достаточно сказано). Сейчас напрашивается крамольная мысль — не устроено ли движение к новому таким образом, что за него приходится расплачиваться терпением, неимоверным трудом и даже жертвами? И тогда, как замечает Ч. Айтматов, возможно, что «мир больше всего наказывает своих сынов за самые чистые идеи и побуждения духа» и что «это форма существования и способ торжества таких идей…».
Однако наиболее зримо последний тезис раскрывается, пожалуй, в материалах следующего параграфа, к изложению которого и переходим.
Конечно, битвы за новшества неизбежны, может, оправданны, коль скоро наперед не загадано, действительно ли оно бесценно или заводит в тупики бесплодных занятий, которым нет оправдания. Как заметил французский естествоиспытатель Ж. Ламарк, «лучше, чтобы истина, раз понятая, была обречена на долгую борьбу, не встречая заслуженного внимания, чем чтобы все, порождаемое пылким воображением, легковерно воспринималось».
Здесь тоже свой резон. Жизненная идея должна иметь запас прочности и уметь постоять за себя собственным содержанием. Опираться ведь можно лишь на то, что оказывает сопротивление. Да и то бесспорно, что бороться станут лишь с тем, что в самом деле ново, значительно. Зачем же воевать с пустотой? Поэтому приходится согласиться, что пробным камнем выдвигаемой теории является ее способность выдержать не просто критику, но более сильные бури — осмеяние, преследование и даже войну на уничтожение. «Когда в мире появляется настоящий гений, — разъясняет Д. Свифт, — вы можете с легкостью узнать этого человека по многочисленным врагам, которые объединяются вокруг него».
Истинно. Такие люди влекут к себе. Влекут не только сочувствующих новым идеям, воздыхателей и почитателей, но и тех, кто голосует против. Оттого герои новаторской судьбы, мечтатели, чудаки и получудаки неизбежно оказывались в центре событий. В новом, которое они заявляют, но которое третируют как несбыточное, порой абсурдное, угадывается нечто волнующее. Поэт написал:
Так уж выходит, что судьбоносные идеи часто обречены пройти испытание на выживаемость, доказать свою небесполезность в пылу сражений. Однако в этом тоже должна выдерживаться своя пропорция. Борьба пусть идет, но пусть она состоится по канонам чести и вершится в кругу теоретических столкновений, по правилам игры, написанным наукой.
Обычная схема движения большого открытия проходит три этапа: замалчивание, неудержимая критика, наконец, признание. Безусловно, есть конкретные вариации. Но эта сквозная линия практически выдерживается всегда.
Мы уже наблюдали, насколько неправедны бывают научные силы по отношению к новым именам. Однако противодействия, о коих состоялась речь, развертывались, хотя бы и по видимости, все-таки на полях научных баталий, правда, осуществляясь порой приемами, вовсе не красившими ученых мужей. К сожалению, сопротивляемость прогрессивному не знает границ, не гарантируется никакими моральными соблюдениями.
Когда попытка замолчать открытие проваливается (уж очень крупно оно заявляет о себе), противник вводит более сильные резервы. Начинается не атака и не просто критика, а война на уничтожение. Недаром прошедшие сквозь это признают, что легче сделать открытие, чем добиться его признания, ибо сопротивление возрастает пропорционально новизне решения. Стремление задушить свежую мысль, отправить ее на дно принимает столь острое продолжение, что бросают в бой все: ученого-новатора подвергают глумлениям, изоляции от общества и даже, если упорствует, физическому насилию. Здесь драма науки поднимается к высшей отметке, угрожая похоронить не только новую идею, но и ее творца.
Схватка распаляется еще и тем, что «возмутители покоя» люди как на подбор сильные, бескомпромиссные. Иначе они не прошли бы путь до открытия. Оживление, ими вносимое, заостряет ситуацию, поляризуя силы. Неуспокоенность, высокая требовательность таких людей к науке будоражит окружение, заставляя по-новому думать и поступать. А этого не всем хочется, особенно привыкшим к размеренному ходу жизни.
Качества такого «взъерошенного» искателя правды обычно переносятся противной стороной на его открытие. Отрепетированный прием, он называется argumentum ad hominum (апелляция к человеку). Суть его такова: чтобы дискредитировать идею, достаточно бросить тень на ее отца, в биографии которого всегда можно при желании отыскать непонятные места и разыграть возмущение.
Но вернемся к его величеству факту. В свои дни очень неприветливой, осторожно говоря, была встреча, оказанная теории Ч. Дарвина. Мы уже сказали, какие сомнения испытал сам составитель эволюционного взгляда на живое. Однако что он выдержал в соприкосновении с теми, кто не принял его!..
Целое движение противостояло учению — это «дарвиноборцы». Оно сплотило решительных и отважных бойцов, начиная от обывателей (неученых и ученых) и кончая правительственной иерархией. Высмеивали, строчили фельетоны, дошли до той степени, что отлили медаль, изображавшую Ч. Дарвина с ослиными ушами и т. д. Особым наскокам подверглась мысль о естественном происхождении человека из животных. Это, видите ли, принижало нас, уравнивая со скотами. Скажем, небезызвестный Е. Дюринг, сам претендовавший на великое слово в науке, точнее даже, в ряде наук, а если стать полностью точным, — во всех науках, тоже не отстал, выпустив по теории эволюции убойную пулю. Он объявил, что дарвинизм — это «изрядная доля зверства, направленная против человечества».
Дольше всего глумились на родине ученого. Эволюционная концепция уже давно была принята в целом свете как ведущее достижение времени. В 1869 году, например, Ч. Дарвин стал иностранным членом Петербургской Академии наук. Словом, теория была признана во многих европейских странах, во многих, да не на родине естествоиспытателя, где официальные органы «согласились» с учением лишь после смерти великого соотечественника. Он скончался в 1882 году и похоронен на почетном месте, в Вестминстерском аббатстве, рядом с И. Ньютоном.
И еще одна страна из шеренги передовых и особо цивилизованных не спешила раскрыть дверь дарвинизму. Это США. Даже в XX столетии преподавание теории Ч. Дарвина в школах некоторых штатов стояло под запретом.
Бывали сражения и покруче. Драматична судьба выдающегося немецкого врача той же середины прошлого века Р. Майера, который испытал целый набор из изощреннейшей методологии травли.
Как известно, он выступил с идеей закона сохранения и превращения энергии, встреченного явно враждебно. Верно, выступил не он один, и все ощутили дружное противодействие, но на его долю упали самые тяжкие удары. Началось с обвинений в том, что он даже и не физик, а лекарь, взявшийся не за свои занятия. По ходу дел критика нарастала во всех линиях. Испив до дна чашу оскорблений, будучи не однажды унижен, Р. Майер не снес издевательств и в отчаянии выбросился из окна (правда, остался жив, но после этого сильно хромал). Им бы опомниться, оставить исследователя его делу. Не оставили.
Находясь в постоянной нужде и лишениях, ученый перенес воспаление мозга и был помещен в психиатрическую лечебницу медицинского советника фон Целлера в родном городе Гейльбрунне. «Помещен», однако, не то слово. Его взяли вовсе не для лечения. Целый год держали в смирительном кресле, то и дело допытываясь, продолжает ли он все еще настаивать, будто теплоту можно мерить килограммами? Изуверское кресло, жестокие боли в позвоночнике, язвы в конце концов сломили Р. Майера, и он отрекся от закона.
Положим, участие в этих измывательствах деятелей из кругов физического и химического мира еще как-то объяснимо защитой корпоративных догм людьми, сплотившимися вокруг прежней парадигмы, на которую покушался исследователь. Но как понять коллег-медиков и как им простить истязания, которые они обрушили на непокорного собрата?
Даже когда Р. Майер в 1877 году умер, его не пощадили. Шли ругательные статьи, в которых первооткрывателя великого закона поносили «недоумком», «умалишенным», делали все, чтобы не пропустить его идею в свет.
Но не так-то легко замолчать новое и, что называется, «закрыть открытие». Со временем оно все прочнее овладевало умами, пополняясь свежими подтверждениями. Р. Майера признают: премия имени Понселе (Франция), медаль Королевского общества (Англия), расщедрилась даже Германия, выделив ему за научные достижения медаль. А когда после смерти ученого англичане взялись собирать деньги на памятник, тут и родному Гейльбрунну стало совестно: решили воздвигнуть постамент и здесь.
В попытке подвести счет жизни судьба все-таки оставила Р. Майеру шанс выжить. В иных случаях такое гонение кончалось трагически. Печальна участь выдающегося австрийского физика конца ушедшего — начала уходящего столетия Л. Больцмана. Напомним, он вторгся во многие области знания, оставив там заметные следы: кинетическая теория газов, статистическое истолкование второго начала термодинамики, пронизанного материалистической платформой, вероятностный подход к энтропии и другие, столь же «неподходящие» по тем временам идеи. Смелые мысли Л. Больцмана показались современникам сверх меры современными. Страсти накалялись и перешли линию собственно научной полемики. На ученого буквально вылили поток оскорблений, которые касались любых сторон его действий. Он не выстоял и в 1906 году покончил с собой.
В напряженных столкновениях с «паровыми» магнатами отстаивал свой революционизирующий производство и транспорт двигатель внутреннего сгорания немецкий изобретатель Р. Дизель. Против него тоже не смущались приемами, тем более что богатые конкуренты располагали деньгами, тогда как в руках талантливого инженера была лишь идея. Не находя другого решения, Дизель отчаивается на самоубийство: во время одной поездки в 1913 году он выбросился с судна в неспокойное море.
Но стоит ли за примерами ходить в чужие дали? Разве нет событий поближе? Есть, и с тем же смертельным исходом. В середине 40-х годов кончил жизнь самоубийством талантливый советский генетик Д. Сабинин, не выдержавший травли со стороны Т. Лысенко и его подручных.
И совсем рядом, в декабре 1985 года, не вынес организованного преследования и повесился профессор Ф. Белоярцев, создавший искусственный заменитель крови — «перфторан» («голубая кровь»). Очень нужный препарат, несущий спасение при массовой кровопотере, при лечении почек и сердца, в случаях отека головного мозга и других тяжелых патологий.
Успех перфторана перед другими «заместителями» обеспечен тем, что Ф. Белоярцев взял принципиально иной путь. Все прежние попытки, зарубежные и отечественные, шли от ложной установки: эмульсия-заменитель создавалась на основе частиц, которые были крупнее живого эритроцита. Поэтому они закупоривали капилляры, образуя затор кроветоку. В конце 70-х ученые Запада признали, что идея получения заменителя крови при опоре на принятые меры терпит крах.
Ф. Белоярцев, применив другие принципы, продолжал свои разработки. Вместе с коллегами Института биофизики Академии наук в Пущине (тогдашний директор — Г. Иваницкий) он, отказавшись от американских и японских аналогов, использует для создания эмульсии фторуглеродные частицы, которые размерами меньше эритроцитов и поэтому способны проникать в участки, куда не может пробиться даже живая кровь, и приносить столь необходимое кислородное довольствие. Были получены хорошие результаты, подтвержденные клиникой. Но, изведав несправедливость многих решений, запрет к использованию перфторана, пройдя через унизительные допросы и даже обыски, Ф. Белоярцев обрывает жизнь самоубийством. И лишь к концу 80-х годов всё и все получают свои истинные обозначения.
Ревнители прежних рубежей науки порой настолько яростны в их защите и столь неразборчивы в выборе путей, что не останавливаются даже перед физическим истреблением своих научных оппонентов, несущих обновление мысли. Так, в XVI веке в ту страшную варфоломеевскую ночь был убит выдающийся французский математик П. Рамус. Расправу организовали враждебно к нему настроенные профессора Парижского университета (Сорбонна).
Положим, это давние дни. Но можно взять ближе. Когда Л. Пастер стал развертывать теорию бактериального происхождения инфекционных заболеваний, это настолько задело приверженцев тогдашних традиционных представлений, что новатора вызвали на дуэль, к счастью, окончившуюся для Л. Пастера благополучно. А вот для его соотечественника, выдающегося математика начала прошлого столетия Э. Галуа, дуэль стала роковой. Он погиб, прожив всего-то 21 год. Верно, мотивы убийства здесь скорее политические, внешне обставленные любовной интригой. Однако известную роль сыграли и его бескомпромиссные оценки неблаговидных действий некоторых лиц из научной администрации, да и зависть к молодому уму, выступавшему с неслыханно смелыми взглядами. Так все снесли в одну кучу — любовь, политику, науку, спровоцировав дуэль.
Естественно, гонителям таланта, сколь они ни упорствуют, движение не повернуть и новое не списать за ненадобностью в длинные списки бесполезного знания. Однако сдержать на известный отрезок рост научной мысли им удается. Столь нужное обществу оказывается, хотя и временно, ненужным. К примеру, несколько лет ходила под запретом та же «голубая кровь», а ведь могла бы спасти не одну жизнь, помочь тысячам скорее подняться на ноги. И чем дольше неистовствуют запретители, тем более дорогой платой мы за это отвечаем.
Поэтому не к месту предаваться успокоительным внушениям, мол, рано или поздно все образуется и время расставит по своим позициям. Лучше, чтобы эти позиции занимались раньше, чтобы научное открытие вступало в жизнь и проявлялось полноценной отдачей в свой час. Тогда и пользу принесет более высокую, избавив человечество от дополнительных многотрудных издержек.
Последние мысли
Мы прошли сквозь события прежней и настоящей жизни науки, ее творцов. Однако старались не просто довольствоваться сюжетной зарисовкой, но провести в повествовании некую назидательную линию, сплошь да рядом внедряя в текст методологические напутствия.
История познания убеждает, сколь коварен взгляд, безапелляционно объявляющий то одно, то другое научное достижение бесполезным, которое на поверку временем обнаруживало, однако, совсем иные качества и приговоренное к бесплодной жизни находило вопреки тому богатую практику.
Вывод один. Стоит ли выносить осуждения, укладывая в дальние ящики теории и решения потому лишь, что кому-то, пусть даже большинству, они видятся ненужными, а то и ошибочными? Не дело запрещать увлечение необычным, склонность к фантазиям и абсурдам, к построению ирреальных структур и несбыточных проектов. Для развития знаний подойдет все, и часто урожайны как раз аномалии, особенно когда наука пребывает в полосе застоев и кризисов.
Опыт научных исканий насыщен подобными «рекомендательными» сопровождениями. Важно не отмести с крыльца «патологию», а попытаться проверить ее в деле. И, конечно, вопрос — допускать ли новацию ко всеобщему обозрению, предоставив ей открытое проживание, стоит решать с учетом мнений разных сторон, гласно, терпимо. Отбрасывая «крамолу», наука рискует тем самым отбросить себя на долголетия вспять. Иначе сказать, опасение свести полезное знание до уровня бесполезного должно удерживать ученых, вообще причастных к судьбам науки, к ее организации, управлению, инвестированию от решительных ходов против инакомыслящих, а точнее, по-иному мыслящих.
Но над всем этим ясно единственное: следует запрещать занятия, которые запятнаны подтасовкой, искажением данных, намеренным обманом, плагиатом — всем, что берется на вооружение лженауками и что нужно поверять нравственно-этической меркой. Здесь следует быть решительным и бесповоротным.
Полагаем, что представленные читателю описания и выводы поучительны. Они заостряют взгляд на сложностях обстоятельств, то и дело возникающих в крутых восхождениях к истине. Питаем надежду, что содержание книги убеждает в необходимости остерегаться поспешных оценок результатов нелегкого исследовательского труда. Важно избежать как незаслуженных обвинений в бесполезности предпринятого поиска, так и оправдания тех, кто ставит в науке заведомо аморальные цели, прибегая к столь же аморальным способам их достижения.
СодержаниеОт автора … 3
Наука на весах практического отсчета
Теория и практика. Расстановка позиций … 5
По шкале «незримых наград» … 8
По территориально-ведомственным чертежам … 14
Два лица науки … 18
Интеллектуальная собственность человечества … 22
Прогнозы и курьезы
На баланс грядущих поколений … 29
«Физика слишком трудна для физиков» … 33
Пауки-изобретатели … 40
Отходы и доходы … 46
Истина превыше всего … 51
Сумерки богов
Сквозь зияющие пустоты незнания … 56
«Научить тому, чего не понимаю сам» … 60
Запрещенный товар … 67
«…У мечты — неведомые страны» … 72
Время мечтать и время действовать … 76
Методология риска
Ищу абсурд … 82
«На нелепостях мир стоит» … 88
Череда заблуждении человеческого духа … 92
«Так поднимаются к звездам» … 99
Дело о мелком мошенничестве … 105
Постулат полезности бесполезного знания и эксперимент чудака
Просвет в туманностях … 112
Эксперимент чудака … 120
Между ударами сердца … 127
«Сделано в СССР» … 132
Великая игра
«Моя профессия — игра в микробы» … 140
Желающий свободы несет и бремя ответственности … 143
Топология кенигсбергских мостов … 148
«Непризнанные гении» … 153
«Химический пасьянс» … 158
Странная медицина
Несгибаемые академики … 163
К тайнам «слесарной медицины» … 170
География признаний … 176
Чудо «антифизиологической» операции … 180
«Русский метод» … 185
Наука — лженаука
Разграничительные линии … 191
Не гнушаясь обманом … 195
«Вторичная наука» … 199
Фанатик в ранге лжеученого … 204
Оккультные силы прежде и теперь … 210
Лженаука спасает науку
От ложного знания к истинному незнанию … 217
«Химия — дочь алхимии» … 223
В розысках флогистона и вечного двигателя … 228
Маршрутами ириса … 233
Тайный знак ладони … 237
Самоторможение науки
Закон сохранения невежества … 242
«…Вы сами жертвы века» … 248
Планк против… Планка … 254
За чертой дозволенного … 261
Последние мысли
Сухотин Анатолий КонстантиновичЖизненный путь доктора философских наук, профессора А. Сухотина типичен для многих советских ученых, родившихся в начале 20-х годов. Школа, Великая Отечественная война, где он командир стрелкового взвода. Затем студент Томского государственного университета. Аспирант… Доктор наук… Заведующий кафедрой… Декан философского факультета Томского университета. Путь четкий и ясный!
Много прочитано лекций и проведено семинаров; опубликованы статьи и монографии; принято участие в работе международных конгрессов по логике, методологии и философии науки. Заслуженный деятель науки А. Сухотин находит время для популяризации знаний. В серии «Эврика» вышли его книги «Парадоксы науки» и «Ритмы и алгоритмы», отмеченные премиями на Всесоюзном конкурсе общества «Знание» на лучшую научно-популярную книгу.