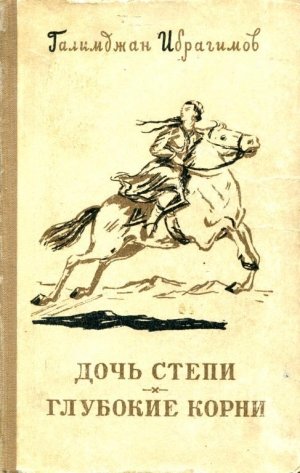
ДОЧЬ СТЕПИ
ОТ АВТОРА
Роман «Дочь степи» был начат летом 1909 года на Миасском заводе, на Урале, и закончен в Казани в 1911 году. В это же время он был принят к изданию оренбургским издательством «Вакыт». Однако в свет тогда не вышел. Согласно извещению Фатыха Каримова, рукопись после сдачи в типографию (или перед сдачей) во время обысков, докатившихся до Оренбурга в связи с известными арестами в Сарапульском уезде, попала в руки жандармерии и… не вернулась.
У меня остался черновик. В 1912—1913 годах я снова обработал его, но рукописи опять не повезло: 17 апреля я был арестован во время киевских событий, и все книги, все рукописи забрала охранка. Спустя пятнадцать месяцев многое было возвращено, но семьдесят страниц романа «Дочь степи» исчезли.
После объяснения задержки книги, о выходе которой давно было объявлено, нужно добавить и следующее. Пролетарская революция выдвинула в числе прочих задач необходимость углубленного изучения Востока и различных ступеней развития общества. Когда наступило время издания этой книги, я, естественно, пересмотрел рукопись. Изменению подверглись некоторые герои, сюжетная интрига. Сущность осталась прежней.
Г. И.
Сентябрь 1923 г., Казань
I
Было у казахов два среднего достатка многолюдных рода — Кара-Айгыр и Сарман. С тысячными табунами коней, породистыми верблюдами и несчетными отарами овец привольно кочевали они с одного джайляу[1] на другое, ставя юрты на обширных степях Сары-Арка.
На судьбу они не могли жаловаться. Но с некоторого времени племена, хвастающие родословной, восходящей якобы к Чингису, стали притеснять их, ограничивая права на пастбища. Рождалось беспокойство, надвигалась опасность междоусобицы.
Однажды старейшины родов на большом, многолюдном сборище по случаю поминок Тнычбай-ата завели разговор о тяжелых временах, стали жаловаться на происки врагов. Во время беседы один из старейшин, играя плеткой, молвил:
— Ходят слухи, что почтеннейшие семьи двух наших родов стали сватьями. Правда ли это, не знаю. Если правда, если при общей земле наши роды будут еще связаны кровным родством, какой враг отважится поднять на нас руку?
Эти слова, под видом слуха выразившие заветное желание старика, были осторожным предложением породниться. Иносказательная речь пришлась собравшимся по вкусу.
— Найманы и Дюрткара[2] причиняют обоим нашим родам беспокойство, умыкают девушек, совершают набеги на джайляу, угоняют скот. Сватовство Сарманов и Кара-Айгыр спалит сердца врагов, лишит их рассудка. Поздравляю со сватовством, — поддержал и уважаемый аксакал[3] Биремджан-эке.
Дальше говорить было не о чем. Новость облетела все джайляу, и радость, по поговорке казахов, не помещалась за пазухой. В тот же день состоялся сговор. К концу недели разослали во все стороны гонцов, созвали гостей. Кумыса было в ту пору вдоволь, овцы были жирны, кони полны сил. Собрались и стар и млад, и храбрые джигиты и пригожие девушки. Пели песни, играли на домбре, состязались в скачке — словом, как говорится, тридцать дней пировали, сорок дней угощались. Так отпраздновали кровное сближение двух родов.
Много торговались о калыме[4]. После долгих споров поладили на сотне голов скота, четырех сотнях золотых, двух сундуках дорогой одежды.
С этого дня полуторагодовалая дочь Сарсембая Карлыгач[5] стала невестой полуторамесячного мальчика из рода Кара-Айгыр — Калтая.
Шли месяцы, годы. Казахи перекочевывали на новые и новые джайляу…
Сватьи находились в постоянном общении, совместно устраивали угощения и празднества. Только помолвленные дети не смели показываться будущим свекру и свекрови, тестю и теще, должны были прятаться при встречах с ними.
В степи, среди веселого кочевья, окруженные многоголосым скотом, участвуя в играх в бабки, в конских состязаниях, соревнуясь на свадьбах с джигитами и девушками в песнях, выросли Калтай и Карлыгач. Но не тянуло их друг к другу. Карлыгач при встречах с женихом смотрела на него пренебрежительно. Калтай же терялся, робел перед этой красивой, высокой, находчивой девушкой.
Карлыгач выросла первой на всю степь красавицей. За голос прозвали ее соловьем. Акыны[6] в своих песнях сравнивали ее стан с гибким камышом, ресницы со стрелами, лицо с ясным месяцем, воспевали ее тонкую талию, глубокие глаза. И в народе называли ее не иначе как Карлыгач-Слу[7].
Когда девушка вступила в восемнадцатую весну своей жизни, решили, что пора уже отпраздновать пышную свадьбу. Калым был весь уплачен. По обычаю казахов, с этого дня жених получал право, при содействии молодух, но тайком от родителей и старших, проводить у невесты ночи. Вечерами, когда затихал джайляу, Калтая стало тянуть к юрте Карлыгач-Слу.
II
Была ясная, лунная летняя ночь.
Жених надел дорогие наряды, оседлал любимого иноходца Байчубара, заткнул за пояс камчу[8] и прискакал в Алтын-Куль, на джайляу Сарсембая.
У южного берега большого озера на зеленой траве раскинулись двенадцать юрт. Три средние принадлежали баю. Жених знал, что девушка находится в левой. Но, по обычаю, идти туда прямо было нельзя. Молодуха, которая исполняла поручения нареченных, жила на самом краю селения в бедной юрте. Жених соскочил с коня и вошел в юрту. После взаимных приветствий джигит без обиняков заявил:
— Карагым[9], чувства мои ты знаешь, извести мою Слу: я пришел потому, что истомился по ней.
И отдал приготовленный подарок. Таков был обычай, известный каждому. Айбала ни чуточки не смутилась и только, лукаво поблескивая глазами, ответила:
— Как джигиту не соскучиться по любимой! — И торопливо вышла.
Привязанный конь, испугавшись женщины, метнулся в сторону. Овцы в кутане[10] тревожно повскакали с земли. Молодуха, торопливо шагая, направилась к белой юрте.
В правой, маленькой, юрте света нет. В средней, большой, очевидно в ожидании ужина, беседуют мужчины — оттуда слышится смех. Перед юртой мелькает голова тукал[11] в белом покрывале, светится пламя костра, разложенного под котлом. В юрте девушки теплится свет, но голосов не слышно.
Молодуха, оглядевшись, вошла.
Внутренность юрты была освещена маленькой лампочкой. В глубине, среди взгромоздившихся друг на друга сундуков, сложенных ковров и одеял, возилась Карлыгач-Слу, что-то разыскивая На голове у нее была каракулевая шапочка, узкую талию охватывал бешмет, отороченный по вороту и на груди позументом. Она повернулась на шум шагов, и на смуглом лице ее, блеснув в черных глазах, заиграла легкая усмешка.
Айбала вплотную подошла к девушке и таинственно сообщила:
— Иркем-джан[12], я пришла с вестью.
Девушка поняла, в чем дело, улыбка исчезла, брови нахмурились.
— Карагым-джингам![13] Если бы ты была мне другом, ты не пришла бы ко мне с такою вестью.
Молодуха удивленно уставилась на Слу.
— Колончагым[14], что это значит?
Девушка, не поднимая глаз, тихим грудным голосом ответила:
— То и значит. Принять его не могу. Сердце лежит к другому. Не мучь меня.
Айбала, едва не лишившись чувств, схватила девушку за руку:
— Ты в уме? Два рода шестнадцать лет были сватьями. Калым принят. Куда не потянет игривое молодое сердце! Иль и ты хочешь посеять раздор среди народа?
Глаза Карлыгач-Слу наполнились скорбью. Но она твердо стояла на своем:
— Это я много раз слышала. Что же делать? Сама знаешь, несколько раз приходил он. Решив — такова судьба, таковы заветы рода, — приняла я его в свои объятия… Но что же я нашла? Ростом мал, рябой, гнусавый, раскосый. От тела разит… Как с таким человеком жить? Бывают люди — не лицом, так речами, умом привлекают, удалью, мужеством прельстят. А Калтай только и знает — своими цепкими, обезьяньими руками к груди тянется. Слова не вымолвит… Вот я и послушаю, что ты мне посоветуешь.
Попробовала молодуха снова напомнить о давней помолвке, о калыме, о праве джигита прийти к суженой, но девушка прервала ее, пожелав и джигиту и его чувствам скорой гибели.
Снаружи послышались шаги. Обе створки тонкой крашеной двери распахнулись, и вошла высокая, с царственной осанкой, начинающая уже седеть байбича[15]. Карлыгач начала раздеваться, молодуха смущенно вышла.
Она остановилась в замешательстве, не зная, куда идти. Сверкающее озеро показалось ей заколдованным морем. Зоркие глаза разглядели коня, привязанного позади крайней юрты.
У нее не хватило решимости вернуться с пустыми руками, с отказом.
Но что делать, с кем посоветоваться? Пока молодуха стояла в раздумье, открылась дверь средней юрты и оттуда в накинутом на плечи кепе[16] вышел мужчина. При свете луны лицо его было отчетливо видно. Этот казах с блестящими черными волосами был мужем Айбалы.
Она поспешила к нему.
— Остановись, милый!
Казах игриво обнял ее за талию.
— Создатель дал мне отличную жену. Ты за мной пришла? Вот поем мяса и вернусь.
Айбала оттолкнула его.
— Оставь, шутить не время! У меня голова кругом идет!
Она рассказала ему о случившемся.
— Карлыгач-Слу не хочет принять жениха. Джигит обещал мне отрез на платье и ярку. Что мне теперь делать? Посоветуй.
— Да пусть возьмет сухотка и его самого и его обещания! — казах махнул рукой. — Не люблю я вашего Калтая: идет — уставится в землю, как свинья. Жалко мне Карлыгач-Слу, — закончил он и двинулся дальше.
Айбала испуганно схватила его за руку.
— Да будет проклята твоя мать! Что ты говоришь? А шестнадцать лет сватовства? А разве не взял Сарсембай калыма и не готовятся они через два месяца отправить дочь в дом мужа?
Тукал, хлопотавшая у котла, понесла в юрту полное блюдо мяса. Увидя это, казах не пожелал терять времени.
— Оставь меня: видишь, внесли мясо, — сказал он и, забыв, зачем выходил, вернулся в юрту.
Айбала никак не могла найти выход из положения. Она медленно направилась к своей юрте, около которой привязанный Байчубар рыл копытами землю.
Гость ждал, полулежа на подушке в передней половине юрты, играя плеткой и насвистывая от нетерпения.
Айбала собралась с духом, заставила себя улыбнуться и рассказала выдуманную историю:
— Сношеньку свою можешь бранить как хочешь, но, колончагым, вина не только моя. Карлыгач-Слу сегодня вечером принять тебя не может. Она велела передать: «Пусть милый не обижается, сильно занемогла я».
Джигит сорвался с места. В глазах помутилось. Лицо стало злым. Возмущенный таким оскорблением, он не мог вымолвить ни слова. В памяти всплыли слухи, услужливо передаваемые ему старыми сплетницами. Злые языки утверждали, что между его суженой и Арсланбаем из рода Тана-Буга завязалась любовь.
Арсланбая два года тому назад сослали за «наветы на белого царя». После его ссылки Калтай было успокоился. Теперь же, хотя Калтай и не знал еще, что Арсланбай вернулся два дня тому назад, слова молодухи вызвали в памяти этот страшный образ. В болезнь девушки Калтай, конечно, не поверил.
Но в чужом доме он был бессилен. Он лишь туже затянул кушак, надел свою островерхую шапку, взял в руки плетку и шагнул к выходу. Айбале протянул двугривенный.
По небу бродили тучи. Луна то скрывалась, то показывалась, будто улыбаясь, как пригожая девушка. Байчубар встретил хозяина тихим ржаньем, натянув поводья, повернулся к нему. Но обозленный Калтай не приласкал, как всегда, любимца. Он, грубо дернув поводья, отвязал коня, перекинул повод и, подтянув подпругу, продел ногу в стремя. Молодуха, вышедшая проводить гостя, растерялась и стояла молча.
Джигит вскочил на коня и глухим, сдавленным голосом сказал:
— Будьте здоровы. Передайте слова мои: «Наш род Кара-Айгыр сумеет посчитаться с дурной Слу, родившейся от хорошего отца».
Конь от нетерпения перебирал ногами.
Айбала ласково увещевала Калтая:
— Дорогой мой джигит, что ты говоришь? Болезнь Слу не бесконечна.
Байчубар не выдержал, — рванувшись, он вынес джигита с берега Алтын-Куля в широкую степь.
Луна зашла за тучи. Силуэт гостя быстро исчез в темноте. Некоторое время слышался стук копыт, но скоро и он замолк.
Айбала испугалась не на шутку. У нее не хватило сил хранить одной эту тайну, сердце рвалось к байбиче. Но что сказать ей? Ведь, по обычаю, родители девушки не должны знать о посещениях ее джигитом, а если и заметят их, то должны сделать вид, будто ничего не знают. Если и рассказать о случившемся Алтын-Чач-бикя, она скажет только: «Ты выросла среди казахов, стала матерью двух детей, как не постыдилась ты прийти ко мне с такими речами?!»
Но другого выхода не было. Слова джигита, сказанные перед отъездом, были угрозой. Женщина решилась: «Иного выхода нет. Обругает — стерплю. А может, и не обругает, может, и поблагодарит за предупреждение». Не дожидаясь возвращения мужа, направилась она к белой юрте, решив открыть байбиче тайну.
III
Иль-агасы[17] Байтюра лежал на смертном одре. Но старое сердце, столько лет жившее родовыми распрями, и острый ум еще работали. Много думал он о будущем Найманов и Дюрткара, ожидающем их после его смерти. Было ясно — враг поднимает голову. После долгого раздумья Байтюра пришел к мысли пригласить аксакала Биремджана и добиться от него прощения.
— В этой бренной жизни много сделал я хорошего, но и плохого сделал немало. Пусть земное останется на земле. Пошлю к Азым-эке, передам просьбу. Если приедет, велю зарезать нежеребую кобылу, подать кумыса в изобилии, подарю несколько дорогих коней, испрошу у него прощения… Думаю, склонится он на мои слова — вместе росли, вместе учились, вместе участвовали в конских состязаниях. Если отойду, не добившись примирения с другом своей молодости, душа моя не найдет покоя, да и в делах детей Найманов родится много затруднений, — сказал он.
Слова старика слышала тукал. Она пахтала кумыс в саба[18] у двери. Женщина с удивлением взглянула на мужа.
«Апрмай![19] Что случилось? Или бредит мой бай?» — подумала она, но заговорить не хватило смелости.
Байбича, седая, черноглазая, в белом шелковом покрывале, сидела около больного. Она не могла помириться с речью Байтюры и спокойно, хотя в голосе звучало возмущение, перебила больного:
— Ты прожил жизнь с умом, мужественно. Неужели надумал в последний час совершить глупость?
Больной не успел ответить. Дверь распахнулась, вошел Якуп, среднего роста, тучный, с короткой, толстой шеей и реденькой, с проседью бороденкой казах. Он спросил о здоровье брата. Рокия-бике ему с гневом сообщила:
— Потомок ханов, султанов, ага родовитых Найманов, твой брат, сорок лет правивший народом, сегодня надумал помириться с дряхлым стариком Биремджаном, послать за ним послов. У меня от этого голова кругом пошла… Надеюсь, обидное слово, сказанное мне этим зловредным стариком двадцать лет тому назад на свадьбе Янгырбая, не выскользнуло из вашей памяти. Как приму я этого человека, как буду угощать его? Скажи ты слово — может, тебя послушается.
Якуп искал что-то между седлами, перекинутыми на киреге[20]. Вытащив кожаный подбрюшник и плеть с посеребренной рукояткой, он, ни на кого не глядя, ответил:
— Брат вчера говорил мне. Возражений моих не принял. Хвастун Биремджан известен всему народу.
Но старый лев, не привыкший встречать в своей жизни неповиновение, не обратил внимания на их слова. Откинув атласное одеяло, он сердито приподнял голову:
— Дорогая Рокия, оставь ты бабьи рассуждения. За долгую жизнь вдоволь испытаешь и хорошего и плохого. Ты двадцать лет тому назад услышала от него одно плохое слово, а я с ним сорок лет был в ссоре. Но нужно уметь широко смотреть на вещи. Собачий сын Сарсембай хочет вызвать против нас всеобщее возмущение. Среди народа распространилось много разных слухов. То, что я задумал, нужно не мне. Мыслил я, если пришел срок и создатель вернет к себе мою душу, отойти, упрочив положение Найманов и Дюрткара…
Длинная речь утомила старика. Обессиленный, он снова лег и уже с трудом отдал последнее распоряжение:
— Я не привык дважды повторять свои приказания. Позовите Азымбая и муллу-татарина. Оседлайте для них Кашка и Дельдель. Они поедут в джайляу Коргак-Куль.
Вопрос был решен. Ни у кого не хватило смелости возразить больному. Тукал завязала саба, повесила мутовку на киреге и вышла. Байбича была взволнована, но не хотела беспокоить больного новыми разговорами. Она подошла к нему, поправила подушку, одеяло.
— Выпей. Наверно, горло пересохло, — сказала она, подавая кумыс в зеленоватой бухарской пиале.
Больной обессилел, руки у него дрожали, толстое, жирное туловище обмякло.
— Ох, милая, видно, смерть подходит! В горло ничего не идет… — Сделав несколько глотков, он отстранил пиалу. — Возьми, больше не могу.
Между тем Якуп оделся по-дорожному. Надел выстеганный продольной стежкой кепе, остроконечную бархатную шапку, подбитую рыжей лисой, с бобровой выпушкой, талию затянул серебряным поясом с накладным золотом, взял в руки плеть. Он счел нужным объяснить причину отъезда:
— У Янгырбая праздник по случаю рождения ребенка. Наверно, соберутся старейшины… Я думал побеседовать с биями, аксакалами.
Это было время ослабления мощи некогда непобедимой партии, положение пошатнулось, враги собирали силы. Бай понимал создавшуюся обстановку.
— Передай мой салям. Жалею, что не могу быть на собрании аксакалов и слышать их беседу.
— Нас известили, что сегодня придут сватать Мариам. Каков сын человека, желающего стать нашим сватом, каково его богатство? Вреда не будет, если ты посоветуешься с байбичей Янгырбая, Гульбарчин, прощупаешь их намерения, — полушутя сказала байбича, провожая Якупа.
Речь шла о сватовстве двухмесячной дочери тукал за новорожденного сына Юлдузбая. Якуп отлично вникал в интригу, таящуюся в этом сватовстве.
— Зря родилась ты женщиной, — сказал он уходя, восхищенный сметливостью Рокии.
Видно, тукал успела исполнить приказание бая — в юрту явился Азымбай.
IV
Это был подвижной старик, сухопарый и жилистый, с глубоко запавшими хитрыми глазками. Подбородок заострен, скулы сильно выдаются, жидкая, в несколько волосков, седая бороденка трепыхается. На ногах старые ичеги[21] с каушами[22], на плечах плохонький камзол, на бритой голове расползшаяся блином, засаленная тюбетейка.
Войдя в дверь, он окинул взглядом богатое убранство юрты, раскрашенные сундуки, выстроенные вдоль киреге, груды атласных одеял и бархатных ковров.
— Салям алейкум… Как здоровье, бай? — играя своим высоким голосом, поздоровался он и, пройдя в глубь юрты, сел на ковер, провел руками по лицу, произнося слова молитвы. Тем же льстивым тоном он продолжал: — Ты, бай, побеждал мир, неужели же ты поддался хвори, принесенной на копыте жеребца? Без тебя род осиротел.
Потом повернулся к Рокии:
— В добром ли здравии, мудрая бикя? Уповаем, что, если будешь здорова, ты поправишь нашего старого мирзу.
Байбича не любила этого старика и не верила ему. Но старик исполнял множество поручений рода, всегда служил ее мужу послом, поэтому она даже намеком не выдавала своих чувств.
Налив большую чашку кумыса, утирая слезы, она проникновенным голосом ответила:
— Не во власти сына человеческого изменить предначертание судьбы. Но я питаю надежду, что с помощью пожеланий хороших людей и молитв святых наш Байтюра вернется к общественной деятельности.
Больной повернулся к гостю и, с трудом ворочая языком, рассказал ему о причине приглашения.
— Таков мир, Азым-эке. Будь ханом, будь начальником, будь баем — для всех один предел… Сам знаешь, много ссор было у меня с Биремджан-аксакалом. Сила была на моей стороне, народ на моей стороне. Немало обид причинил я старику, немало огорчений… Кажется мне, не сегодня-завтра отойду я от этой жизни. И хочется мне, пока есть разум, пока владею языком, испросить у ровесника моего прощения, помирить его с Найманами. Мы вместе с тобой испытали в жизни и хорошее и дурное. Исполни же последнее поручение — сядь на моего коня, заткни за пояс мою камчу, поезжай в джайляу Коргак-Куль, передай от меня поклон Бирем-эке, просьбу поведай, скажи — ждем его в гости к Найманам и Дюрткара.
Азымбай выпил кумысу, вернул чашку и, несколько удивленный, в раздумье погладил редкую бороденку.
— Если приказываешь, ослушаться не могу. Но только я отлично знаю Биремджан-аксакала. Этот человек как только услышит имя Найманов, так приходит в бешенство: «Не упоминайте при мне имени собак, продавших казахский народ белому царю, давших возможность русским начальникам истоптать Сары-Арка!» — говорит он. Не напрасной ли будет поездка в то джайляу?
Ядом пали эти слова на сердце больного. На лице его и в глазах отразились печаль и возмущение, толстые, нависшие веки замигали. Однако все же он сдержал себя, не разгорячился, не заторопился, а с глубокой скорбью, спокойно перебил Азымбая:
— Или на старости лет разум покинул меня? Или испортились люди казахского племени? С тех пор как заболел, вижу одно ослушание. Я не говорю о молодежи, о глупых женщинах, но вот позвал тебя — и ты твердишь то же.
Байбича глазами подала старику знак. Тот растерялся:
— От подчинения тебе я не уклонялся… Не перечил я…
Но Байтюра снова перебил его:
— Думал я послать вас вдвоем с мульдеке[23], но теперь раздумал. Боюсь, как бы по недомыслию татарскому лишним словом не испортил он дела. Пусть себе детей обучает… Один поезжай!
Старик, попрощавшись, вышел. Байбича пожелала ему счастливого пути.
V
Ко многим уверткам прибегал на своем веку Азым-эке в партийных и родовых распрях, но сегодняшнее поручение казалось ему особенно важным и трудным: что бы ни говорили, но дело, порученное ему, было первым шагом к примирению враждовавших родов. Если будет удача, если заклятый враг Байтюры Биремджан-аксакал примет приглашение, приедет отведать кумыса и мяса, будет проложена тропа к прекращению распри. Старик чувствовал себя послом из Якты-Куля к Кзыл-Кортам. Поэтому он счел нужным соответствующим образам одеться. Выйдя от больного, он направился к себе облачиться в самые лучшие свои одежды.
В этом джайляу было всего пятнадцать юрт. Девять из них принадлежали бедным казахам, средние шесть — Байтюре. Юрта Азым-эке стояла на самом краю.
Старик был растревожен. Шестьдесят лет прожил он на земле и не переставал просить бога:
— Дай богатства, пошли счастье!
Молил избавить от подчинения Байтюре, надеялся стать во главе народа. Но счастье не приходило. Когда богатство вот-вот должно было свалиться к нему в руки, скот его погиб от джута[24]. Азым-эке, озлобленный на все и вся, стал поносить мир, бога, бая, сыпал руганью.
И теперь, отправляясь по поручению больного, он ясно представил себе открывающиеся перед ним возможности. Но это лишь еще более распалило его злобу и горечь. Взгляду, брошенному с порога юрты в степь, представился кипящий джайляу. Будто миллионное войско, черной тучей покрывали всю окружность стада Байтюры.
Вон уходят от озера в степь верблюды. Крупные туловища, два горба, как седло, головы маленькие, изогнутые шеи склонены книзу. Верблюды движутся цепью, словно выстроившиеся в ряд караваны. Они шагают медленно, важно, терпеливо, раскачиваясь из стороны в сторону. Около них увиваются высокие, тонконогие верблюжата.
Поодаль, верхом на конях едут два пастуха. В руке у каждого кнут, сбоку волочится длинный корок[25].
Ближе, между озером и юртами, топчутся на привязи несколько сот жеребят. Женщины в белых головных уборах и черных бешметах ловят короком и доят пасущихся невдалеке кобылиц. Еще дальше пастух медленно гонит по степи огромную отару овец.
Эти необозримые стада, бурлящие как река, клубящиеся как туча, огорчили старика.
— Ай кодаем ау[26], что убыло бы от тебя, если бы ты дал мне сотую долю этого богатства? Не внял ты моим мольбам, господи! — вздохнул он.
Не доходя до своей бедной, одинокой юрты, старик услыхал женский голос:
— Азым-эке! С рыжей кобылой мы никак не справимся. Поди сюда!
Звала младшая жена бая — тукал. Делать было нечего, старик вернулся и пошел к привязанным жеребятам.
Азым-эке всю свою жизнь имел дело со скотом. Во всей округе он был лучшим оценщиком коней. Считали, что он умеет лечить скот. Если у какого-нибудь бая заболевал любимый конь, приглашали Азым-эке. Когда известные татарские баи Ахмет и Гани или Якушевы скупали на базарах и ярмарках скот, они за большие деньги приглашали Азым-эке производить отбор. Женщины уверяли, что Азым-эке понимает язык животных. Если упрямая, злая молодая кобыла не давала вымени или не подпускала к себе жеребенка, шли за Азым-эке. Вот и теперь тукал рассказала со смехом:
— Работница сказала, что рыжая кобыла не дается доить. Тогда я пошла сама, решив, что если кобыла слушается Азым-эке, почему бы ей не послушаться меня. Но дело не вышло. Помоги, пожалуйста…
Старик не ответил. Он еще не успел рассеять свои горькие думы. Взяв из рук работника корок, он сделал несколько шагов и неожиданно накинул петлю на шею кобыле. Лошадь испуганно шарахнулась, петля затянулась. Азымбай, ласково уговаривая кобылу, приблизился к ней и положил руку на холку. Норовистое животное, захрапев, готово было кинуться прочь, но старик, не обращая на это внимания, продолжал тихонько, ласковым голосом увещевать, гладил по спине, по ребрам и наконец коснулся пальцами вымени, твердого, как камень, от накопившегося за два дня молока. Кобыла завизжала и стала брыкаться.
— Оказывается, есть на свете скотина, не послушная Азым-эке! — усмехнулась тукал.
Старик не торопясь успокоил кобылу, погладил ее по хребту. Но едва он дотронулся до вымени, кобыла снова начала брыкаться.
Женщина стала издеваться над стариком:
— Ай, дед! Эта кобыла лишит тебя твоей пятидесятилетней славы.
Азымбай с удивительным терпением приступил к кобыле в третий раз — и победил. Почувствовав облегчение после первого же нажима на сосцы, кобыла расставила ноги, молоко свободно потекло.
— Теперь любая баба, даже калека, сможет подоить ее, — сказал старик, насмешливо глядя на тукал.
— Сам ты, Азым-эке, хорош, но язык твой иногда брызжет ядом, — ответила тукал.
Старик прошел к своей юрте мимо жеребят и телят, оценивая их породистость.
Вскоре он вышел оттуда, одетый по-дорожному. На нем были хорошие казанские ичеги и кауши, новый малахай, белая рубаха с откинутым на бешмет воротом, новое, украшенное пестрым рисунком кепе, выстеганное снаружи и изнутри, стянутое кушаком. Теперь Азымбай был настоящим аксакалом, которого не зазорно выбрать и бием.
— Оделся роскошно, сел на отличного коня… Счастливый тебе путь, Азым-эке! — с усмешкой сказал работник, поджидавший его с оседланной байской лошадью.
Но сердце старика было неспокойно. Сев на лошадь, он с укором сказал:
— Создатель дал таких коней Байтюре, а нас лишил их. Много думал я о мудрости этой, но понять ума моего не хватило.
Коня не седлали с начала болезни бая. От нетерпения он не мог устоять на месте и, как только Азым-эке очутился в седле, рысью понес посла Найманов по направлению к джайляу Кзыл-Корт.
VI
Через полтора часа пути старик повстречал скакавших верхами джигитов и спросил у них, куда перекочевал аул Ахмета.
— Во-он там! — был ответ.
Но казахское «вон там» порой может означать десятки верст.
Когда потный конь Азым-эке ступил на землю Коргак-Куль, солнце перевалило уже за полдень, в воздухе чувствовалась прохлада, и скот после дневного зноя смог приняться за еду.
Джайляу старику не понравилось. Почва плохая, желтоватая, трава редкая, тощая, озеро и впрямь высыхает, берега его покрыты какой-то мелкой бурой растительностью. У стад, бродящих по степи, вид заморенный. Хотя наступила уже середина лета, скот не разжирел. Некоторые жеребята еще не скинули джабаги[27]. Изредка мелькают чесоточные лошади.
— Неравна жизнь, о господи! — вздохнул старый Азымбай.
Расспросив попавшегося ему мальчугана, он подъехал к юрте, стоящей слева от юрт бая Ахмета. На громкое приветствие показалась молодая женщина в белом покрывале, бедно, но чисто одетая.
— Мужчин нет дома. Отец слеп и не может выйти навстречу гостю. Добро пожаловать! — сказала она кротким, тихим голосом.
Гость слез с лошади, привязал ее и, держа плеть в руке, вошел следом за женщиной в юрту.
Юрта большая, высокая, но со множеством заплат. Земляной пол ничем не покрыт, только в глубине постлано немного кошмы. Вдоль киреге стояло несколько выцветших сундуков, на них лежали одеяла, ковры, тут же валялся хомут, ссохшаяся пустая саба, мутовка, давно не прикасавшаяся к кумысу, грязный самовар, несколько блюд — вот все убранство юрты.
На почетном месте, на длинношерстой желтоватой овечьей шкуре, прислонясь к сундуку, подогнув ноги, сидел старик. Этот высохший старик с ястребиным носом и длинной белой бородой, в старых ичегах с каушами, в длинной белой рубахе с отогнутым воротом, в большом кепе из верблюжьей шерсти и волоса, был знаменитый аксакал Биремджан.
При входе Азымбая он не шелохнулся, головы не поднял, неподвижный взгляд его остался устремленным в одну точку, но во всей фигуре отразилось напряженное внимание.
Не ответив на приветствие гостя, не переводя невидящего взора, старик сказал:
— Счастливый путь, ровесник! Голосом, походкой ты похож на Азымбая-эке из рода Найманов. Как видно, ваш род еще не совсем забыл пути, ведущие в джайляу Коргак-Куль…
Указав гостю место подле себя, он начал расспрашивать о здоровье скота, людей. Ответив на вопросы, гость высказал свое удивление:
— Дженаза[28] уважаемого иль-агасы Сары-Арка Чингиса была в год барана[29], а теперь уж второй раз наступил год лошади. Значит, если не ошибаюсь, прошло четырнадцать лет. В то время вы кочевали по прекрасным степям Яшель-Сырта. С той дженазы не суждено было мне увидеться с вами. Биремджан-ага… Прошло столько лет, и, несмотря на это, вы узнали меня по голосу. Это непостижимо разуму человеческому. Нет предела талантам, которым наделяет творец создание свое!
Аксакал тяжело вздохнул и с затаенной скорбью ответил:
— Что делать мне с тонкостью слуха, светик мой! Много лет жалуюсь создателю, да, видно, не пришло еще время, не внемлет он моим мольбам. Я просил: «Не терзай сердца моего тяжелой долей Сары-Арка, возьми мою душу. Ослепи меня, чтоб избавился я от вида страданий и мучений моего народа. Сделай меня глухим, чтоб не слышал я тяжких стенаний и плача моего племени». Не внял он мольбе. Перешагнул я восьмой десяток, подхожу к девятому, прося: «Оборви дни мои». Не помогает просьба. Только одно желание исполнил творец — ослепил меня. Но зато слух обострился пуще прежнего: я не только узнаю по голосу человека, которого встретил пятнадцать лет тому назад, но, сидя в этой ветхой юрте, слышу, как во всем народе — в Большой, Малой, Средней Орде — почтенные казахи, подобно малому верблюжонку, потерявшему мать, плачут от тяжести судьбы! Велика моя обида на творца за то, что не взял он мою душу.
Женщина внесла кипящий самовар. Достав из низкого шкафчика, стоявшего слева от входа, грязную скатерть; чайник с отбитой ручкой, потрескавшиеся чашки и тарелку баурсак[30], поставила все это перед гостем и стала разливать чай.
Когда-то Биремджан-аксакал, известный в Сары-Арка умом и ораторским искусством, был человеком среднего достатка. На второй год прихода Байтюры к власти, когда Биремджан-эке начал с ним борьбу, темной ночью у него угнали табун лошадей. Потом ограбили принадлежащий ему большой караван, ходивший между Атбасаром, Кокчетавом и Петропавловском. Эти два несчастья сломили старика. В результате интриг Найманов лучшие джайляу Яшель-Сырта перешли в руки казенного коннозаводства или были отданы колонистам. Солоноватая растительность джайляу Коргак-Куль не понравилась скоту. Аксакал медленно разорялся. Когда же постигла старика слепота, а единственный сын занемог, докатился старик до полной бедности.
По старинному обычаю казахов, истинное уважение гостю может быть оказано лишь угощением кумысом и мясом, а такие новшества, как самовар, чай, баурсак, считались чем-то недостойным настоящего гостеприимства. Поэтому, когда женщина приготовила чай, старый казах счел нужным извиниться перед гостем:
— Путник из далекого племени не обессудит нас — мы лишились нашего богатства, в доме нашем нет кумыса. Я огорчен, что не имею возможности угостить гостя мясом и кумысом.
Много видевший на своем веку Азымбай, состязавшийся в красноречии с известными ораторами, растерялся перед аксакалом. Каждое слово старика вонзалось в его сердце как стрела, и чудилось ему, что дело, для которого он приехал сюда, рушится заранее. Все же он решил завести разговор об этом. После долгой беседы, выждав удобный момент, высказал он просьбу Байтюры:
— В жизни человеческой случается и хорошее и плохое. Наш друг детства Байтюра сильно занемог и ждет смерти. Он послал меня к вам, говоря, что если умрет, не восстановив с вами дружбы, его душа не найдет покоя.
Далее старик пространно рассказал о тридцатилетней вражде Найманов и Сарманов, о трагедиях, порожденных борьбой при выборах волостных управителей, биев. Под конец остановился на желании всех Найманов видеть высокочтимого аксакала Средней Орды Биремджан-эке своим гостем.
— Если есть в словах моих ошибка, уважаемый ага чистым сердцем простит меня, укажет, где поскользнулся посланец, поможет стать на правильный путь. Таково наше желание, — закончил он.
Казах с умением говорить сочетает умение слушать. Бирем-эке лишь изредка прерывал речь гостя, продолжавшуюся столько времени, сколько требуется для того, чтобы сварилось мясо, с глубоким вниманием вникал в его слова, а потом неторопливо начал:
— У нас нет злобы к роду Найманов, но посещение дома Байтюры и Якупа, стоящих во главе этой партии, угощение кумысом и мясом в их доме считаем мы равносильным еде из одного блюда со свиньей.
Речь текла. Перед глазами гостя проносились картины того, как Байтюра и его сторонники заодно с русскими чиновниками довели Сары-Арка до позора, до рабства, нажили себе состояние, лишая народ угодий, доводя его до полного разорения, как сыны Кипчаков, сосланные по их наветам, томятся в тюрьмах Омска, Семипалатинска, Орска, Тургая, Петропавловска, тоскуя по родной степи, по кумысу, по матерям.
— Послу нет смерти, я тебя не корю, но Байтюре передай: человек должен головой расплачиваться за сделанное руками. Он посеял в народе камни, пролил кровь; если они застрянут у него в горле, пусть знает: выросло то, что посеяно его собственными руками. Если пробьет час и расстанется он с жизнью, в память юношеской дружбы приеду на дженазу, но на девер[31] тяхлиль[32] не пойду, подарка не приму, мяса, кумыса не отведаю… Славным рода Найманов передай мой салям.
Заключительные слова старика гость понял как разрешение уйти. Приличия ради пожаловался на жизнь и, взяв в руки плетку, добавил:
— Велика была надежда, но не видать конца распре. Сердце мое полно тревоги.
VII
Аксакал остался сидеть на своем месте, с неподвижным взглядом, устремленным в одну точку. Азымбай, распростившись, пожелав долгой жизни и здоровья, вышел.
Сивого иноходца его окружила целая толпа. Совершенно голые или прикрытые лохмотьями ребятишки разглядывали посеребренное убранство коня. Подростки, молоденькие девушки перекидывались шутками. Молодухи с младенцами, сосущими обнаженные груди, образовав отдельную группу, о чем-то беседовали. Среди них, опираясь на длинную палку, стояла старуха в рубище, из-под которого кое-где виднелось сморщенное, старое тело. Из-под ветхого, грязного покрывала во все стороны торчали космы седых волос.
Азымбай, выйдя из юрты, поздоровался с собравшимися и стал отвязывать коня. Старуха быстро приблизилась к нему и со словами: «Ты пес! Ты грызешь кость, брошенную Байтюрой, и грабишь народ!» — кинулась на Азымбая. Не переставая кричать, она стала замахиваться палкой то на лошадь, то на старика.
Дети, как галчата, напуганные соколом, с визгом рассыпались в разные стороны. Женщины, пораженные происшествием, старались унять старуху, отобрали у нее палку.
— Стыд! Оскорбили гостя! — кричали они, но суматоха от этого только увеличивалась.
Биремджан-эке, услышав шум, понял, в чем дело. С неожиданным проворством схватил он палку и вышел к толпе. При виде его женщины еще энергичнее взялись за старуху. Но она не поддавалась и продолжала вырываться.
Аксакал быстро прекратил свалку. Он, идя на голос, добрался до старухи и схватил ее за локоть.
— Сумасшедшая старуха! Что ты делаешь? Азым-эке мой гость. Где, в каком казахском роду, оскорбляют гостя?
Народ утих. Пристыженные беспримерным поступком, все просили у гостя прощение. Но старуха еще долгое время не могла успокоиться. Крики и ругань сменились плачем.
— Пес Байтюра взял моего единственного сына, дал лживую клятву, что тот участвовал в убийстве русского начальника, и сослал его на каторгу… Оставил детей сиротами… Увел за подать последнюю лошадь… Да будет проклят его отец! Да опоганится могила его предков! Я слабая старуха, дети мал-мала меньше. Все мы сидим голодные… День и ночь слезы… Широкая степь для нас стала тесна…
Старуха разрыдалась, причитала, стала рвать на себе волосы. Ей вторили двое малышей. Сердца присутствующих наполнились жалостью, глаза увлажнились слезами.
Плач старухи начал уже вновь переходить в ругань. Тогда аксакал Биремджан многократно извинился перед гостем, а старухе сказал:
— Перестань, не плачь. Я отправлю тебя к Сарсембаю. Будешь смотреть за скотом, валять войлок. Голодать не придется.
Когда он успокоил старуху, женщины помогли ему увести ее.
Гость потерял голову от неожиданного, невиданного в степи оскорбления. За шестьдесят лет своей жизни не испытывал он такого позора. Не говоря никому ни слова, он тяжело взобрался на седло и погнал лошадь в сторону кочевья Найманов.
VIII
В этом направлении он ехал не долго. Внезапно он потянул левый повод. Конь знал дорогу и не хотел слушаться, он тянулся в сторону кочевья Найманов. Но Азымбай придавил стремя и снова, уже сердито, потянул левый повод. Тогда конь, поняв, что предстоит иной путь, подчинился приказанию.
Навстречу ему, гарцуя на молодом жеребце, ехал казах с длинным короком в руке.
— Счастливый путь! — поздоровался он, придерживая коня.
— Да будет так.
— Салям-алейкум! Салям-алейкум!!
— Направляюсь я в джайляу Арсланбая, сына Магджана из рода Танабуга, но куда они перекочевали, не знаю.
Встречный казах махнул рукой в направлении на восток:
— Во-он там!
И стал перечислять:
— Проедешь кочевье Кипкен-Озень, от Чобар-Айгыра повернешь влево, пересечешь Бай-Джигит, увидишь перед собой холм — там, в джайляу Яман-Чуль и найдешь Арсланбая…
Старик любил хвастаться, что в Сары-Арка нет места, где не ступала бы нога его коня. И действительно, называемые казахом местности одна за другой вставали перед глазами Азымбая.
— Живи в довольстве, прощай! — поблагодарил старик, ослабил повод, шевельнул стременами и поскакал прочь.
Азымбай-эке, предоставив лошади полную свободу, скакал всю дорогу и только в одном кочевье напился кумыса. В Чобар-Айгыре он увидел позади большой белой юрты оседланных лошадей и костры, над которыми вился жидкий дымок. По этим признакам старик догадался, что тут сидят гости, что сварено мясо, и с приветствием вошел в юрту. Хотя он ни с кем не был знаком, его встретили с уважением, усадили рядом с хозяином, угостили лучшими кусками мяса и жирной колбасой. Здесь он выпил еще две чашки кумыса, зарядился насбаем[33], который ему одолжил один из гостей, и, пожелав хозяевам счастья и довольства, поехал дальше. Конь под ним вспотел, от жажды стал облизывать губы, и все же, когда поднялся он на указанный встреченным казахом холм, солнце уже начало клониться к закату. С вершины холма увидел старик джайляу, и это джайляу ему не понравилось: озера нет; оно когда-то было, да высохло, на его месте растет бурая трава, не нужная ни скоту, ни людям. Кругом растительность жидкая, и хотя перекочевали сюда недавно, трава успела пожелтеть.
«В старину люди были куда как сметливы, умели называть вещи такими именами, которые больше всего подходили к их качествам. Это джайляу и впрямь Яман-Чуль»[34], — подумал Азымбай.
Окинув взглядом десяток юрт, стоящих в южном углу котловины, он сразу заметил среди них большую белую юрту.
«Эта юрта Арсланбая», — решил старик.
IX
В пространстве между красной котловиной и юртами, среди привязанных жеребят, женщины, вооруженные ведрами и короками, доят кобылиц.
Старик повернул лошадь вправо и подъехал к юртам с задней стороны. Между двумя юртами молодухи и девушки с распущенными по плечам шелковистыми черными волосами, в маленьких красных каляпушах[35] с песней валяли войлок. Их работой руководила старуха. Тут же крутились парни, перекидывались с женщинами шутками, намеками высказывали желание пойти вечером к одной из них и спрашивали, примет ли гостя избранница.
При виде двухлемешного плуга и косилки, стоящих несколько поодаль, старик столь же удивился, как если бы он увидел в мечети длинноволосого русского попа с крестом на шее. Старик, миновав их, не колеблясь подъехал к белой юрте. Там около оседланной лошади стояло несколько джигитов. Один из них, помоложе, был одет по-дорожному.
Завидя приближающегося Азым-эке, он двинулся к нему навстречу.
— Добро пожаловать! Прошло десять лет, как Яман-Чуль не видел вас.
Это и был Арсланбай. Они протянули друг другу руки. Расспрашивая о здоровье людей, скота, вошли в юрту. Много лет тому назад Азымбай был сватом этого семейства. Во времена расцвета своего благополучия был он близок с отцом Арсланбая — хаджием[36] Магджаном. Двухлетнюю дочь Азымбая, Чулпан, просватали за четырехлетнего Арсланбая, и даже была получена часть калыма. Девочка умерла от оспы. В разгар партийной распри Азым-эке принял сторону Байтюры, Магджан присоединился к Сарсембаю. Так порвалась связь.
Кроме давней близости, старик был интересен джигиту и другим: Арслан лишь на днях вернулся из ссылки, и старик был вестником всей Сары-Арка, человеком, который находится в самом центре переплетения партийных и родовых интриг. Холодность последних десяти лет была совершенно забыта, Арсланбай искренне обрадовался гостю.
Сегодня утром он получил весточку от любимой Карлыгач-Слу. Девушка уведомляла о своем отказе принять Калтая и добавляла:
«Слышали, что со дня твоего приезда минуло два дня. Стыдно не навестить любимую, не принести приветствия роду почтенного Сарсембая, заменившего тебе отца».
Арслан приготовился ехать туда, но, встретив гостя, решил отложить поездку. Байтюра лежал на смертном одре. В родовых, партийных делах назревали новые распри. Приближались выборы. Старейший из рода Найманов приехал в такой момент неспроста. Поэтому Арсланбай радостно приветствовал Азым-эке, усадил его на почетное место в большой, богато убранной юрте, а женщине, находившейся там, с улыбкой сказал:
— Смотрите, чтобы наш старинный сват не обессудил нас, — заколите жирную ярку, кумыса подайте вдоволь.
Но гостю было не до шуток, и это озадачило хозяина. Было очевидно, что на сердце у Азымбая какая-то горечь.
Арсланбай несколько раз порывался расспросить гостя, но не решался торопить почтенного старика. К счастью, гость недолго заставил себя ждать. Как только кумыс разгорячил кровь, Азымбай открыл тайну:
— С покойным отцом твоим были мы большие друзья. Если бы дочь моя Чулпан осталась в живых, был бы ты моим зятем. И все же в джайляу это я приехал не гостем.
Далее он рассказал о своей поездке в Коргак-Куль, о причине посещения Биремджан-аксакала и под конец остановился на выходке старой Минди.
— Мне перевалило за шестой десяток. В молодости раз поймали меня хохлы на конокрадстве. Избили до полусмерти. С тех пор никто не поднимал на меня руки. Сегодня негодная старуха отколотила меня перед народом. Обругать ее не хватило духу. Единственный раз в жизни не смог я разомкнуть уста. «Ты, — сказала она, — облезлая, паршивая собака, за кость, кинутую Байтюрой, сторожишь его нечестно нажитые стада… Ты, шелудивый пес, бережешь его богатства, награбленные у народа. Да будет проклят твой отец!»
Арсланбай был поражен и искренне пожалел старика, но горе Азымбая было еще глубже.
— Эта безумная старуха научила меня уму-разуму. Что мог я возразить ей? Ведь я и впрямь собака, но только мне никакой кости не перепадало. Бием меня не выбирали, аульным старшиной не назначали, должность волостного управителя мне только снилась… А если изредка я пил кумыс бая, ел мясо — так разве казахский народ не наделяет этим угощением даже безродного татарина, бродящего по степи? Сильно расстроился я. И вот, не возвращаясь из Коргак-Куля к Найманам, приехал я в Яман-Чуль…
Эту ночь старик провел у Арсланбая. Долго беседовали хозяин и гость. Рассказал Арсланбай о пережитом, о виденном, услышал о распрях, возникавших в Сары-Арка за последние два года.
На следующий день, поев мяса и опьянев от кумыса, Азымбай-эке сказал свое последнее слово:
— Сын мой, поезжай в джайляу Алтын-Куль. Сарманам передай мой салям. Старейшим этого рода донеси мои слова. Каменные горы, как бы ни были крепки, со временем рассыпаются. Широкие озера, многоводные, как море, высыхают. Так же и род Байтюры. Если Танабуга, Кара-Айгыр, Кзыл-Корт, Сарманы замыслят организовать новый союз, лучшие представители народа будут готовы прийти к ним на помощь… Пусть Сарсембай прислушается к моим словам.
Арсланбай ясно понял намек старика. Обрадованный, он ответил:
— Вы, Азым-эке, нашли дорогу в наше джайляу. Род Танабуга всегда желает видеть вас своим гостем.
Они вышли в степь. Лошади стояли оседланные. Уже продев ногу в стремя, старик высказал свою сокровенную жалобу:
— Создатель наделил меня и умом и языком, но бедному нет в этом мире уважения. Положение мое у Байтюры, оскорбление, которое нанесла мне старуха, на много лет сократили мою жизнь. Хоть остаток проведу по-человечески!
Провожающие не поняли слов гостя и с недоумением переглянулись. Азым-эке и Арсланбай сели на коней. Один поехал в Якты-Куль, другой — к своей любимой Карлыгач-Слу.
X
Степь проснулась вместе с алыми лучами восходящего солнца. Джайляу Сарсембая, расположенное около Алтын-Куля, медленно начало оживать.
Первыми зашевелились овцы. С наступлением зари они начинали тихонько блеять. На их голоса, протирая глаза, поднял голову хромой чабан Кучербай.
Природа проснулась. Над озером поднимался легкий белый туман. Лучи восходящего солнца блестели в росе, покрывавшей сочную землю степи.
Но эта картина не тронула усталого сердца старика. На своем веку он видел много белых степных зорь, золотых всходов. И если бы взамен их ему дали лишний час сна, то его разбитые кости могли бы немного отдохнуть. Но это было невозможно. Только вчера бай заметил ему: «Поздно уходишь, рано возвращаешься…»
Кучербай, позевывая, тяжело поднялся, расправил свои онемевшие члены и направился к средней юрте.
Все еще спали. Проснулась одна тукал, исполнявшая все работы по дому. Встав с постели, она оправила растрепавшиеся волосы и сонным голосом сказала чабану:
— Откинь-ка войлок…
Старик вышел наружу и, потянув аркан, свитый из шерсти и конского волоса, откинул верхнюю кошму юрты. Сразу стало светло, и юрта наполнилась свежим воздухом.
Тем временем тукал приготовила для старика все необходимое. Старик плеснул себе на руки несколько капель воды, вытерся грязным полотенцем, съел поданную ему на деревянном блюде густую кузя[37]. После этого он взял маленький кожаный турсук с айраном и вышел из юрты.
Вол, на котором он ездил верхом, был поблизости. Старик отвязал его, положил на спину деревянное седло, старый войлок и, сев на вола, погнал в степь тысячное стадо овец и коз.
После ухода стада тукал подошла к соседней юрте и сердито крикнула:
— Ты жива? Вставай скорей…
Не получив ответа, она вошла внутрь юрты и принялась толкать ногой кого-то лежавшего, прикрывшегося мешком, на войлоке около двери. Это была работница. Она вставала с восходом солнца, доила коров и кобылиц, ставила самовары, ездила на воле за водой к озеру, собирала в степи сухой кизяк, мыла посуду и только после всех, далеко за полночь, ложилась на свою убогую постель.
Под пинками тукал она шевельнулась, раскрыла глаза и, протянув: «И-а-у…», заснула вновь.
Тукал, рассердившись, сдернула с нее мешок. Тут уж работница совсем проснулась и встала на ноги.
— Вода вся вышла, съезди к озеру, — сказала тукал и, взяв кумган, пошла в степь.
От их голосов проснулся работник, спавший на телеге около юрты. Зевнул, потянулся так, что захрустели кости, натянул на ноги старые, сбитые сапоги с широкими голенищами, надел рваный бешмет, подвязался веревкой и, крупно шагая, подошел к телеге, на которой лежал бочонок с водой.
Работница впрягла вола.
— Рука у меня опухла. Вчера кобыла лягнула. Помоги запрячь, — сказала она.
Работник живо запряг вола.
— Ну, поезжай, — и он стегнул вола кнутом.
В степи поднялся шум — пригнали кобылиц. Верхом на жеребце проехал с ночного пастух.
Джайляу наполнилось шумом и гамом. Работник подошел к пастуху и, по обычаю, спросил:
— Скот здоров, Султан-ага?
Пастух, не глядя, сонным голосом ответил:
— Гнедая кобыла захромала, — видно, занозила ногу. Нужно будет показать ее старику Атабаю.
Вдвоем они стали привязывать жеребят. Дойных кобылиц было штук пятьдесят. Из них тридцать пять принадлежали Сарсембаю, а остальные — бедным казахам джайляу.
Подошли женщины и, перекидываясь шутками, стали ждать, когда работники и пастух привяжут их жеребят.
Тукал, работница и еще несколько женщин подоили кобылиц. Пастух ушел к Алтын-Кулю. Темный след его тянулся в сочной, блестящей зеленой траве…
Кончив дела, женщины вернулись к юртам. Тукал поставила самовар и стала раздувать огонь под двумя большими казанами: один — с молоком, другой — с водой.
Работница вынесла большие мешки с овечьей шерстью и стала сваливать их на камышовые циновки.
Из белой юрты вышла разодетая, красивая, но несколько сонная байбича. Посмотрев на работников, она сказала:
— Джолконбай, открой тютюнлык[38] и приподними с правой стороны кошму белой юрты.
Подойдя к котлу, она сердитым голосом, но сдержанно заметила работнице.
— Разве я вчера не говорила тебе: оставь черную и красную шерсть, валяй только белую!
Женщина растерялась и заискивающе проговорила:
— Ай, боже мой! Память у меня отшибло, забыла ваше приказание…
Она стала торопливо уносить мешки обратно и вынесла белую шерсть.
Кончив свои мелкие домашние работы, пришла Айбала. По распоряжению тукал, она разложила на солнце непросохший курт, развела огонь под третьим котлом и принялась варить творог.
Тукал понесла в большую юрту тяжелый самовар и начала приготавливать чай.
Из белой юрты вышел хозяин — широкоплечий, здоровый, хотя и начинающий уже седеть, Сарсембай.
Работница бросила дела и быстро подала ему медный кумган.
Бай, нежась на солнце, медленно начал умываться.
— Здешним лошадям надо дать отдых. Отведи их в табун. Оттуда приведи саврасого иноходца и сивого жеребца. Сегодня поедем с тобой в город, — приказал бай Джолконбаю, направляясь в юрту.
У двери он оглянулся и, обращаясь к Айбале, хлопотавшей у котла, сказал:
— Сноха! Видно, Карлыгач-Слу еще не встала. Пойди разбуди ее.
XI
Карлыгач-Слу давно проснулась, но после вчерашних неприятностей стеснялась показаться матери и лежала, погруженная в мрачные думы. Работник открыл тютюнлык. В юрту хлынул поток свежего воздуха. Кошма с правой стороны была откинута. Лучи солнца проникли сквозь решетку киреге и заиграли на коврах, постланных на полу юрты. Было видно, как блестела роса на зеленой траве. Но избалованная красавица все еще лежала в кровати, ворочаясь с боку на бок под мягким одеялом. О чем бы она ни старалась думать, в памяти вставали вчерашние слова матери: «Если ослушаешься, не прощу тебе молока, которым вспоила тебя».
Позавчера вечером приезжал Калтай. По обычаю, тайком от родителей известил ее через Айбалу о своем приезде. Карлыгач-Слу решительно заявила:
— Принять его не могу.
Жених был оскорблен, не поверил уверениям Айбалы о мнимой болезни невесты и ускакал среди ночи обратно, кивнув на прощание:
— Наш род Кара-Айгыр сумеет посчитаться с дурной девушкой, дочерью хорошего отца!
Айбала в тот же день передала девушке о случившемся. Но она ли рассказала об этом байбиче или материнское сердце само догадалось о больших неприятностях, угрожающих обоим родам, — этого девушка не знала. Вчера Алтын-Чач-бикя позвала дочь, приласкала ее и намекнула на предстоящую вскоре свадьбу. Она говорила, как тяжело матери расставаться с дочерью, которую берегла как зеницу ока, отпускать ее в чужой дом.
Вначале Карлыгач-Слу не прерывала мать, а под конец кинулась ей на шею.
— Мама, родная, не пойду я за него! — вымолвила она сквозь рыдания.
Мать, встревоженная выше меры, старалась успокоить дочь, долго говорила о том, что жених сын прекрасных родителей, уважаемого рода, что такова судьба, что Карлыгач помолвлена с полуторагодового возраста и что калым весь получен.
Доводы матери не убедили Карлыгач. Сдерживая рыдания, она встала и, прислонившись к двери, сказала свое последнее слово:
— Поступай как хочешь. Я Калтая не люблю. Если будут меня неволить, тело мое найдете на дне Алтын-Куля.
Обиженная байбича черство ответила:
— Если ты ослушаешься мать, если бросишь выбранного нами жениха и поднимешь ссору с его семьей, я не прощу тебе молока, которым вспоила тебя.
На этом разговор оборвался…
Вот об этих неприятностях думала девушка, лежа в одиночестве в юрте, в то время когда степь купалась в солнечных лучах, а в джайляу кипела работа. Услышав слова отца: «Сноха! Видно, Карлыгач-Слу еще не встала. Пойди разбуди ее!», она вздрогнула. Отец всегда ласкал ее, называл нежными именами. Может, он не будет принуждать? Может, пожалеет? Но быть уверенной в этом Карлыгач не могла. Последние дни Сарсембай был чем-то расстроен; казалось, в душе таил на дочь обиду, держался с ней холодно.
«Ума не приложу, как быть!» — металась девушка.
Послышались шаги. Вошла Айбала с засученными рукавами. Она напевала:
Девушка весело расхохоталась и подхватила:
Бедная, некрасивая Айбала была женщиной веселой, жизнерадостной.
— Из тютюнлыка смотрит на тебя светлое солнце. Жаворонки взвились на небо, просят: «Встань, Карлыгач-Слу!» А ты все лежишь? Подымайся скорей! — стала она тормошить девушку.
Они были давнишними подругами.
— Я не одета, не трогай меня, дорогая, — сказала Слу, с наслаждением кутаясь в мягкое одеяло.
Мрачные мысли рассеялись. Но Айбала заметила тень под глазами девушки.
— Любимая, что случилось? Ты похожа на поблекший цветок! — участливо спросила она девушку.
Веселья как не бывало.
— Не спалось мне. Мрачные думы не давали покоя, — отозвалась Слу.
Айбала встревожилась и, перебирая шелковистые черные волосы девушки, рассыпанные по подушке, промолвила:
— Ирке-таем, если простила глупую подругу за вчерашнюю историю с Калтаем, поделись своими думами, открой сердце!
— Разве есть у меня тайна от тебя? Я такая несчастная дочь этой широкой степи, что рассказать — слов не хватит, спеть — песни не хватит, — сказала та и задумалась.
Но Айбала не умела долго предаваться горю. Жизнерадостность взяла верх, и она снова принялась тормошить девушку:
— Брось! Пустое, Колончагым! Растешь в довольстве, счастье, яркой, как звезда, красотой славишься в народе. Чего тебе не хватает?
Осторожненько, еле ощутимым намеком, выразила предположение, нет ли у девушки любимого. Лицо девушки просветлело, глаза засияли.
— Догадлива ты, джингам, — улыбнулась она, полная пробудившейся радости.
Айбала давно догадывалась о романе девушки, но не придавала ему серьезного значения. «Молодое сердце встрепенется и успокоится», — думала она. Вчерашняя история с Калтаем указала ей на глубокую рану, а сегодняшние слова Карлыгач подтверждали догадку.
— Светик мой, понимаю сердце твое, но как бы род Кара-Айгыр не причинил беды…
Это давно беспокоило и девушку, но она не могла совладать с сердцем и не скрыла того от подруги.
— От судьбы не уйдешь, но я поклялась не выходить ни за кого другого, кроме Арслана. И матери сказала: «Если будете неволить, тело мое ищите на дне Алтын-Куля».
Сочувствие девушке взяло верх над страхом:
— Слов нет, Арслан лучший из мужчин. Только обижена я, что ты до сих пор от меня таилась. А если ты и сейчас не расскажешь все как есть, вконец меня разобидишь.
Девушка встала с постели и начала медленно, лениво одеваться.
— Я и так вижу, что ты обиделась. Так уж и быть, слушай, — сказала она и поведала ей тайну, которую хранила целых четыре года.
XII
На большой свадьбе сидели друг против друга удалые джигиты и пригожие девушки. Играли на домбре, шутили, смеялись, пели песни.
Было тогда Карлыгач всего четырнадцать лет, но она была девушкой рослой и на положении равной принимала участие в развлечениях старших по возрасту девушек. Напротив нее сидел джигит из рода Кзыл-Корт, в роскошной одежде, в шапке, расшитой позументами, подпоясанный чеканным поясом. Но сердце девушки молчало, и на похвалы его она отвечала едкими, тут же сочиненными стихами. В это время открылась дверь и вошел какой-то джигит. Навстречу ему поднялся акын и принялся восхвалять его. Девушка посмотрела на пришедшего: ростом высок, строен, черные усики как выведенные, лицо умное, в руке плеть, туго затянут кушаком.
Загорелось молодое сердце. Джигит был незнакомый, спросить о нем постеснялась, заговорить — язык не повернулся. Под конец все же не стерпела, спросила. Ответили: «единственный сын старейшего из рода Танабуга, Магджан-хаджия. Но, прибавили, надежд не возлагай: у него есть невеста, дочь Азымбая из рода Найманов. Красива, как месяц, стройна, как камыш». В широкой степи немало красивых джигитов, пригожих девушек, но разве успокоится этим молодое сердце? Танком ото всех стала искать его.
Прошли месяцы. Аул Сарсембая перекочевал из Джилкы-Баткана на джайляу Алтын-Куль. В пути произошла вторая встреча. Старики, женщины сидели на телегах, некоторые примостились на верблюдах. Но разве может Карлыгач-Слу сидеть со старухами! Она скакала верхом вместе с девушками и джигитами. Вдруг навстречу им показались две девушки и трое джигитов верхом на прекрасных конях.
— Счастливый путь!
— Счастливый путь!
— Аул Сарсембай-эке перекочевывает в Алтын-Куль.
— Едем из Танабуга в гости в Яшель-Сырт.
После этих обычных слов кто-то заметил:
— Встреча красивых девушек и храбрых джигитов не может окончиться без игр. Принимайте вызов!
Карлыгач выехала вперед.
— Мы готовы, вы о себе позаботьтесь!
Натянулись поводья, заиграли плетки, заколыхались стремена. В открытой степи, под ярким солнцем, началась игра: требовалось выбить противника из седла. Слу задумала подшутить над черноусым джигитом, стащить его с лошади, сделать посмешищем для окружающих. Она стегнула своего горячего коня, выехала наперерез джигиту и, быстрая, как нападающий сокол, натянула повод, а когда джигит хотел повернуть коня, вцепилась ему в руку и рванула в сторону. Конь под джигитом зашатался. Джигит, мгновенно повернувшись, изо всей силы стегнул коня девушки. Карлыгач не успела отвести удара. Джигит догнал ее и скорее, чем может слово сорваться с губ, схватил красавицу за талию и потянул к себе. Лошадь остановилась. Ноги девушки запутались в стременах, сама она повисла, готовая вот-вот вывалиться из седла.
Все засмеялись, а джигит крикнул:
— Чем наградите победителя?
Карлыгач со смехом ответила:
— Геройства много! Бери что хочешь!
Парень наклонился, притянул девушку к себе, поцеловал ее в полные, алые губы и снова посадил в седло.
Они уехали на юг, а Карлыгач с караваном двинулись на север.
Победитель был Арсланбай.
Айбала с восторгом слушала. Прервать рассказ не было сил, и, хотя знала, как байбича будет ругать ее за то, что она оставила котлы с творогом, уйти не могла. Посветлела, преобразилась и Карлыгач. Шутливым тоном она досказала:
— Через два дня пришла в наш аул какая-то женщина. «Если примешь, имею поручение, — сказала она. — Хватит ли сил отказать посланной человека, которого ищешь?» — «Если он лучший джигит в роде, не посмею ослушаться», — ответила я. В эту осень справляли помолвку малютки Минелу с двухлетним Куйбагаром. Наши рода состоят в дальнем родстве. Начались пиры. Джигиту открылась возможность стать нашим гостем. С тех пор ношу его в сердце своем. Я испила мед уст его, баюкала его в своих жарких объятиях… Спустя два года злой Байтюра обвинил Арслана в оскорблении белого царя, подослал лжесвидетелей и добился его высылки. Он уехал в далекие земли…
— Где же скитался, бедняга?
— Этого я не знаю. Получила я раз письмо. Что делать с ним — не знала… Целый месяц не находила надежного человека, чтобы дать прочесть, и носила белую бумажку с черными точечками у себя на груди. Раз как-то приехал к нам смиренный татарский мулла. Дала ему рубль, сказала: «Помолись. Отчего-то болит мое сердце…» Он, бедняжка, поверил, написал бети[39], велел носить. Наконец решилась, показала ему бумагу, дала прочесть. Он удивленно посмотрел мне в глаза. «Ах, бедненькая, мое бети от этой болезни тебе не поможет», — сказал он и смеясь ушел.
Айбала растерялась от слышанного. Она крепко обняла девушку.
— Прости меня, дорогая. Больше о Калтае и не заикнусь… Рабой твоей буду. Но только скажи: что будет с родом нашим?
— Джигит мой вернулся. Весточку имею, что приедет он. Жду его каждую минуту. Что захочет, то и будет, я на все готова, — не задумываясь ответила девушка.
Айбала со страхом взглянула на нее, но больше докучать вопросами не стала.
— Любимая, прости меня, я твоя раба, — сказала она и торопливо побежала к забытому котлу.
Карлыгач-Слу первый раз поделилась своей тайной. Она почувствовала какое-то облегчение. В сердце родилось твердое решение. Девушка поднялась, обулась в красивые казанские, красного цвета сапожки, надела голубое платье, расчесала длинные волосы и, не заплетая их, не связывая, распустила по спине, на волосы надела черный каляпуш, кокетливо сдвинув его набок, и вышла в степь, полную солнечного света и криков скота.
XIII
Женщины с песнями валяли войлок, расположившись между центральной большой юртой и юртой для работников. Они встретили Карлыгач шутками:
— Солнце с нетерпением ждало, когда проснется красавица, но не дождалось, ушло своим путем.
— Голубушка, мы устали, помоги хоть немного, — подхватила Айбала. Она уже покончила с творогом и принялась за войлок.
Девушка поздоровалась со старухами и со смехом ответила:
— Я в большой обиде на отца с матерью: не обучили они меня этому ремеслу.
— Здесь учиться нечему. Захочешь — с первого взгляда поймешь, — продолжала Айбала.
— Пусть не обессудят меня уважаемые женщины за правду — не лежит к тому мое сердце.
— И не учись, дитятко! Пора девичества — золотая пора. Что ни скажешь, то хорошо, что ни сделаешь — то же… Но когда явишься в дом свекра, другое дело. Бабья жизнь — собачья жизнь… Играй, смейся, пока живешь под крылышком матери, дитятко, — сказала седая старуха с перебитым носом, в грязном платье, руководившая работой.
— Истинную правду говорит старуха. Пора девичества — золотая пора, а как станешь снохой, жизнь нахмурится, — подхватили женщины, расстилая скатанный войлок.
Потом стали поливать его горячей водой из котлов и добавлять, где нужно, шерсть.
Из большой юрты послышался голос байбичи Алтын-Чач. Девушка направилась было к матери, но в это время к юрте сзади подъехала двухколесная арба, в которую был запряжен тощий вол. Правила волом старуха. Женщины побросали работу и обступили арбу.
— Добро пожаловать, матушка! — приветствовала Айбала старуху, помогая ей выбраться из лубочного короба тележки.
Это была дальняя родственница батрака Джолконбая, та самая старуха из аула Ахмета, которая избила Азымбая. Поздоровавшись с собравшимися, старуха со слезами поведала:
— Пес Байтюра обвинил единственного моего сына в убийстве русского начальника, выставил ложных свидетелей, отправил его на каторгу, последнюю кобылу продал за подать. Куда деваться мне, полоумной старухе? Биремджан-эке сказал мне: «Поезжай к брату своему в джайляу Алтын-Куль. Сарсембай тебя и накормит и оденет. Будешь смотреть за скотом, валять войлок, вить веревки…» Могу ли ослушаться почтенного аксакала?.. Запрягла вола и тронулась в путь. Как быть? Иль не найдется могилы для дряхлой старухи?
И тут же путаясь рассказала о том, как она избила посла Байтюры Азым-эке.
— Ты — близкая родственница Джолконбая, росла в этом ауле. Перестань плакать. Пока жив Сарсембай, с голоду не умрешь, — стали в один голос утешать ее женщины.
Карлыгач-Слу схватила палку старухи и побежала с ней в большую юрту, к отцу.
XIV
Вот уже два дня девушка чувствовала, что отец холоден с ней. Вестью о том, как оскорбили человека, посланного кровным его врагом, она надеялась вновь снискать его расположение.
Она подошла к отцу, сидевшему в юрте за чаем, и со смущенной улыбкой сказала:
— Отец, дочь пришла к тебе с новостью. Что подаришь?
Сарсембай притянул Карлыгач к себе, погладил ее по голове.
— Колончагым, ты же моя единственная! Пусть собака сожрет то, что я пожалею для тебя. Скажи, что у тебя за новость, а я дам тебе что попросишь.
Лицо девушки озарилось детской радостью.
— Ах, отец, целый год прошу пегого жеребца, сына сивой кобылы…
Старик пришел в отличное настроение.
— Ладно, — сказал Сарсембай, — если новость твоя приятная, сегодня же поедем в табун, получишь пегого жеребца.
Карлыгач выбежала из юрты, а через минуту вернулась, ведя под руку грязную старуху с растрепанными волосами.
— Вот старуха, а вот ее палка, которой она избила посланца Байтюры старого Азымбая, — сказала девушка.
Сев за самовар, она стала разливать чай.
— Добро пожаловать, матушка! Садись на почетное место, — приветствовал вошедшую Сарсембай, не вставая однако.
Старуха села на кошму и после обычных расспросов о здоровье скота и людей передала поклон от аксакала Биремджана.
— Если не прогонишь, приехала укрыться под твое крылышко, — добавила она.
— В доме казаха таких слов не говорят. Степь широка, джайляу велико, в нашем роду для одной старухи место найдется. К тому же ты ведь выросла в этом ауле, — сказал бай.
Старуха медленно, но довольно путано, вдруг обратись к Байтюре, словно видя его перед собой, начала рассказ о величайшем событии своей жизни:
— На сивом бегуне Байтюры, уздечка серебряная, плеть в руке. Не выдержало мое сердце, взяла я палку, стала ждать его выхода… Зачем приезжал, не знаю, но, Байтюра, да будет проклят твой отец, это твой посланец?.. Аксакал не сказал, спросить у почтенных людей не посмела… «Ты Байтюра… Да будет проклят твой отец, да опоганится могила твоих предков! — сказала я и огрела Азымбая палкой по голове. — Ты облезлый пес, за кость, кинутую Байтюрой, сторожишь его грехом накопленное богатство, ты шелудивая собака…» Не дали избить… В слезах провела я ночь, а наутро приехала к тебе. У аксакала спросить не посмела, но кажется мне, что старый пес Азым приезжал с намерением помирить наш народ с Найманами… Так сказала его сноха…
Снаружи послышался конский топот. Старуха и Карлыгач-Слу вышли.
Вошли четверо казахов с плетками в руках, одетые, несмотря на жаркий день, в кепе, большие сапоги и малахаи. Поздоровались. Бай встретил их приветствием.
Гости, каждый сообразно своему положению и достатку, расселись, поджав ноги.
— Сегодня годовщина со дня смерти Кашкарбай-худжия. Едем на поминки. Решили узнать о здоровье, отведать кумыса, приветствовать достойных, — сказал один из них, толстый казах по имени Этбай.
Бай ответил:
— Добро пожаловать.
Вошла тукал, несколько раз помешала мутовкой в большом саба, налила объемистую чашу кумыса и поставила ее перед Сарсембаем.
Много говорили о положении народа, о том, что для кочевья не остается хороших джайляу, о том, что большие озера и прекрасные пастбища перешли в руки русского начальства, а у казахов не осталось земли не только для выгона скота, но даже для могил. Бай, не переставая помешивать кумыс, то и дело наполнял чаши.
Далее разговор перешел на болезнь Байтюры, на партийные распри, которые возникнут после его смерти. В юрту вошла байбича Алтын-Чач в белом покрывале. Гости, не вставая с мест, поздоровались:
— Здорова, байбича?
— Слава богу, — ответила она и, открыв один из сундуков, стоящих в глубине юрты, стала что-то доставать оттуда.
Разговор перекинулся на последние новости.
Дочь бая Янгырбая, одного из руководителей партии Байтюры, из рода Найманов, была помолвлена в семилетнем возрасте, но впоследствии полюбила другого. И вот прошлой ночью четверо верховых похитили ее. Сегодня между двумя родами готова вспыхнуть вражда.
Алтын-Чач, занятая своим делом, как только разговор коснулся этого происшествия, закрыла сундук и повернулась к собеседникам. Она задала гостям несколько вопросов. Это сватовство было делом старшей жены Байтюры — Рокии. Две байбичи — Алтын-Чач и Рокия — в молодости соперничали в красоте и богатстве. Теперь, услышав эту новость, Алтын-Чач забыла обычную сдержанность и, повернувшись к гостям, с плохо скрытой радостью сказала:
— На свадьбе Тургайбай-хаджия байбича Рокия перед большим обществом с сатанинской гордостью сказала мне: «Понадобится — дадим скот, понадобится — дадим девушку, понадобится — добьемся ссылки, но поставим на своем». Поглядим, что предпримет мудрая жена Байтюры, если род жениха, кликнув боевой клич, прольет кровь, угонит скот!
Гости прекрасно знали о ссоре двух бикя. Они давно видели, что война двух красивых, умных байбича, ведомая с пламенной страстью и чисто женским коварством, опаснее и острее борьбы Байтюры и Сарсембая за главенство над народом.
Гости сочли нужным сказать слово в угоду хозяину:
— В старину говорили — нет колодца, который бы не высох, нет камня, который бы не раскололся. Положение Рокии, очевидно, пошатнулось, — сказал толстый казах, повернувшись к бикя.
Гости, допив чашки, собрались покинуть юрту, но Алтын-Чач остановила их:
— Путь у вас долгий, день жаркий. Отведайте молодого кумыса.
Снова подали кумыс из маленькой саба. Гости выпили, провели ладонями по лицу и уехали.
Аул в ближайшие дни должен перекочевать. Сарсембай решил предварительно посмотреть новое кочевье Кзыл-Ком и с этим намерением вышел из юрты.
Байбича убрала посуду и снова, открыв сундук, стала рыться в каких-то бумагах.
Через полтора месяца предстояла свадьба Карлыгач-Слу, не за горами были и выборы. Все это требовало больших расходов. По слухам, цены на скот поднялись. Бай намеревался в скором времени погнать в город на продажу голов пятьдесят коней, овец и волов. Байбича искала кое-какие затерянные документы.
XV
Послышался детский плач. Не успела байбича прислушаться, в юрту со слезами вбежала стриженая девочка, одетая как мальчик.
— Пастух Кучербай принес мне утиные яйца, а сопляк сын Карима украл их, не отдает! — капризно пожаловалась она.
Байбича бросила работу.
— Приведите злодея! Ни днем, ни вечером покоя нет: то яйца, то бабки ворует… До горючих слез доводит мою Гельчечек, собачий сын!
Открылась дверь. Вошла худая, изможденная женщина в рваном платье. Она тащила за ухо мальчугана лет восьми-девяти. Мальчишка был совсем голый, с большим животом, кривоногий; на плоском, как доска, лице, меж черных от грязи щек, чуть выдавался нос. Мальчик орал, как коза, которую ведут на убой. Перешагнув порог, женщина, прямо глядя в лицо байбиче, наклонилась всем корпусом вперед, согнула правое колено так, что оно чуть не коснулось земли, потом поднялась, сделала несколько шагов, снова наклонилась и таким же образом согнула левое колено.
Существовал обычай, по которому женщина, являясь в главную юрту бая к его старшей жене, должна была проделать в знак уважения этот церемониал.
Покончив с поклонами, женщина испуганным голосом стала доказывать свою непричастность к поступку сына:
— Слов моих не слушаем срамит меня перед вами…
Мальчуган не переставал реветь. Полный страха за свое сокровище, он крепко зажал между ног рваный каляпуш.
— Я у нее яиц не отбирал… Сам собрал у озера в камышах, — твердил он.
Но своевольная дочь бая Гельчечек и не думала отступаться от своей жертвы. Она схватила плеть со свинцовым шариком на конце и замахнулась на мальчика.
— Не отдашь — отхлещу по лицу!
Голый грязный мальчишка завизжал пуще прежнего, бросил каляпуш и выбежал вон.
Гельчечек, обрадованная, взяла яйца, а драный каляпуш выкинула за дверь.
Следом за сыном ушла и женщина.
Байбича заперла сундук и позвала Айбалу. Вчера ей сообщили о тяжелой болезни старухи соседки. Больная хотела видеть байбичу. Бикя велела Айбале налить в маленький турсук кумыса, взяла небольшой круг колбасы и кусок копченой холки и пошла на край аула навестить больную. Айбала, проводив бикя, вновь присоединилась к женщинам, валявшим войлок.
Солнце было уже высоко. День становился все жарче и жарче. Воздух в безлесной, ровной, без больших водоемов степи жег немилосердно. От этого сухого, безветренного зноя в разных концах степи серебряными волнами колыхалось марево. Нетерпеливые животные стали возвращаться к джайляу. Яловые кобылицы, годовалые бычки, задрав хвосты, неслись к озеру. Овцы, измученные жарой и мухами, тыкались носами в землю, чихали и спешили в кутан. Следом за ними хромал усталый чабан. Работник, Айбала, тукал, старухи снова закружились вокруг скота. Солнце приближалось к зениту. Зной становился нестерпимым.
XVI
Карлыгач, истомленная жарой, усталая и разгоряченная играми, вошла в белую юрту, закрыла тютюнлык, подняла кошмы с теневой стороны. В юрте стало немного прохладнее. Карлыгач хотела приняться за рукоделие, но в это время в юрту вошла сияющая Айбала и кинулась целовать девушку.
— Дорогая, не пожалей подарка, любимый приехал!
— Большого подарка у меня нет, новое белое платье будет твоим, — уже на ходу кинула Карлыгач.
Айбала сказала правду: позади большой юрты, мотая головой, стоял потный от бега иноходец. Около него стояли тукал, полоумная старуха и несколько женщин. Им, играя плеткой, что-то со смехом рассказывал стройный джигит с блестящими черными волосами, крутым, высоким лбом, черными, как нарисованными, усами, подпоясанный поверх пестрой одежды золоченым поясом, в шапке, расшитой позументом. У девушки екнуло сердце: Айбала забеспокоилась, как бы Карлыгач-Слу не выдала себя перед сплетницами-старухами. Но девушка быстро взяла себя в руки, замедлила шаг, радостно улыбнулась и голосом, полным любви, молвила:
— Да будет светел путь моему любимому, за черный навет о белом царе сосланному из степи. Род казахский с нетерпением ждал тебя и лил о тебе слезы.
Гость, не выпуская ее рук, не отрывая от нее взора, ответил:
— Не знаю, вспоминал ли казахский род своего сосланного сына, но Арсланбай немало тосковал на чужбине, думая о золотых днях этих джайляу.
Смуглое личико Карлыгач-Слу вспыхнуло радостью. Не задумываясь, она открыто улыбнулась любимому:
— Пусть мой гость не беспокоится, все в добром здоровье. Над лебедями Алтын-Куля долго кружились ястребы, но бог помиловал.
Этот намек понял не только джигит, поняли и все остальные.
Осторожная Айбала со смехом перевела разговор на другую тему:
— Видно, чужбина пошла джигиту на пользу — при отъезде наш Арсланбай был еще мальчиком, а за два года стал настоящим молодцом.
Тукал, как самая старшая представительница рода в данный момент, тоже сказала несколько приветственных слов. Даже полоумная старуха, с глупой улыбкой смотревшая на происходившее, вдруг обрела дар слова:
— Ай, бог мой! Если цела голова, если не доедена пища, предопределенная судьбой, возвращается сын человеческий в родимую сторонушку… А мой Шакир, видно, умер… О Байтюра, да будет проклят твой отец! — запричитала она.
Айбала поспешила увести старуху. Тукал пошла в большую юрту за кумысом. Карлыгач-Слу и Арсланбай, следуя правилам благовоспитанности, сдержанно разговаривая, направились к белой юрте.
Но когда они вошли в юрту и дверь закрылась за ними, в одну секунду были забыты и требования благовоспитанности, и правила приличия, и родовые традиции. Сдержанность девушки исчезла. Карлыгач кинулась в объятия джигита. Весь мир был забыт.
…Снаружи послышался какой-то шум. Девушка опомнилась и, поправляя растрепавшиеся волосы, шагнула к двери. Но там никого не было. Джигит снова привлек девушку к себе.
— Накроют нас, погибнем! — Карлыгач с трудом оторвала свое обессилевшее тело, поправила платье, торопливо расчесала спутанные пряди волос.
XVII
Дверь открылась. Вошла тукал с большой деревянной чашей, полной кумыса. Следом за ней вбежала младшая дочь бая Гельчечек. Арслан погладил ее по голове, потрепал по щеке, расспросил, откуда достала она бабки, которые были у нее в руке, и дал две конфетки. Девочка начала рассказывать утреннюю историю. Тукал догадалась о действительном положении вещей, но не хотела своим вмешательством испортить молодую жизнь, так, как была испорчена ее собственная. Горящие щеки девушки, сияющие глаза, измятое платье красноречиво свидетельствовали о происшедшем, но тукал и виду не подала, что заметила что-нибудь.
— Видите, дорогой Арслан, о вас соскучились даже малые дети, — с ясной улыбкой сказала она и, предложив гостю сесть, стала разливать кумыс.
Не успел джигит ответить, как сдержанной походкой, с холодным взглядом вошла байбича. При виде гостя взгляд ее смягчился, на губах заиграла улыбка. Мать джигита, покойная Гульсум-бикя, была близкой подругой Алтын-Чач. Если бы партийные и родовые интересы не требовали сближения с родом Кара-Айгыр, она ничего не имела бы против того, чтобы Арслан был ее зятем, однако интересы дела были для нее выше всего. Все же она, чтя память подруги, с теплым чувством относилась к ее сыну.
— Добро пожаловать, сын мой, — переступая порог, приветствовала она гостя.
Арслан встал, поздоровался с ней за руку.
— Ходила навестить больную старуху, да задержалась, не смогла встретить сынка дорогой Гульсум, — объяснила бикя свое опоздание.
Гость, прихлебывая кумыс, рассказывал о тоске по родным местам, охватившей его на чужбине.
— С матерью твоей Гульсум были мы закадычными подругами. К тебе относилась я как к сыну. Не удалось мне увидеть тебя перед высылкой, и оттого долго ныло сердце… Да будет суждено, чтобы приезд твой ничто не омрачило! А то растим детей, не надышимся, но приходит день — и расстаемся! — говорила бикя, утирая концом покрывала выступившие слезы.
Послышался конский топот. Прозвучал густой голос Сарсембая.
Гельчечек с криком: «Отец приехал. Отец приехал!» — кинулась вон из юрты.
Поднялись и остальные и вышли навстречу баю. Сарсембай возвратился после осмотра джайляу, куда уехал с утра. Он вернулся усталым, замученным, но при виде Арсланбая сразу повеселел. Опущенные веки поднялись, толстое лицо осветилось радостью.
— Я тебе вместо отца остался. Ты два дня тому назад возвратился, а к нам не удосужился приехать, — шутя бранил он гостя, поздоровавшись с ним.
Все вместе пошли уже не в белую юрту, а в большую. Тукал ушла хлопотать по хозяйству. В юрте с закрытым тютюнлыком, свернутыми боковыми кошмами было чуть прохладнее. Бай, не прерывая разговора с гостем, снял с головы островерхую шапку, скинул с плеч кепе, обтер красные, жирные плечи и шею полотенцем и сел по правую сторону гостя, на почетное место.
Карлыгач, отправившись в соседнюю юрту за чашами, встретила тукал.
— Матушка, приехал почетный гость. Вели зарезать ярку получше, свари колбас и холку пожирнее.
— Ай, дитятко, пало тебе на сердце горючее пламя!
Девушка расставила посуду, долила кумыса и, помешивая, стала разливать его по чашам.
Сарсембай, покончив с традиционными вопросами, обращенными к гостю, молвил:
— Ну, милый, теперь послушаем о виденном тобой в чужих краях.
Кумыса было вдоволь. Чаши то и дело наполнялись. Карлыгач, захватив рукоделие, села поодаль. Собеседники раскраснелись, на лицах выступил пот, легкое опьянение чуть кружило головы. И без того красноречивые, казахи теперь с особенным наслаждением, медленно, не торопясь, вели приятную беседу.
Джигит рассказывал то о мрачных, то о веселых событиях. Его рассказ пестрел названиями городов: Атбасар, Петропавловск, Кокчетав, Кустанай, Семипалатинск, Омск… Он перечислял народы Сары-Арка, Среднюю, Малую, Большую Орду; упомянул Тургай, Мангышлак, Пишпекскую степь, Балхашское озеро, Аральское море, Заравшанскую долину, Ташкент и, наконец, Орск. Потом подробнее остановился на своем возвращении:
— Много помог в этом деле друг моего отца, адвокат Тынычбаев. Человек этот был у губернатора, ездил в Петербург, беседовал с разными сановниками. По его совету уважаемые люди нашего народа подали прошение, в котором писали, что «он не такой человек, чтобы ругать белого царя, он обыкновенный джигит, казах, думающий только о гульбе с товарищами, о девушках и увеселениях». В ответ на эту бумагу пришло распоряжение: «Джигит Арсланбай, сын Магджана из рода Танабуга, невиновен. Ему разрешается вернуться на родину».
— Будет ли день, когда Сары-Арка избавится от Найманов? Ведь это они способствовали твоей высылке! — воскликнул сильно опьяневший Сарсембай, смачно сплюнув.
Разговор коснулся старухи.
— Кривая палка, научившая Азымбая уму-разуму, обошлась мне не дешево, — кивнул бай в сторону дочери. — За эту новость Карлыгач взяла с меня пегого жеребца от лучшей Сивой кобылы.
— Целый год просила я отца подарить мне этого иноходца. Посол Байтюры, сам того не ведая, помог исполнению моего желания, — весело вмешалась в разговор девушка.
— Мой аргамак одних кровей с этим жеребцом. Что, если устроить с Карлыгач состязание? — предложил гость.
— Отец обещался сегодня поехать в табун. Если приведем жеребца, потягаемся.
Старик благодушно усмехнулся.
— Ирке-таем! Твой отец с раннего утра не слезал с лошади. Неужели не пожалеешь, опять повезешь в табун?
Байбича была недовольна и сердито молчала, но девушка настояла на своем и уговорила отца не откладывать поездки.
Гость, Карлыгач и Сарсембай решили ехать, как только чуть спадет жара. Разговор снова завертелся вокруг истории с послом Байтюры.
XVIII
Конец этой истории рассказал Арсланбай:
— Вчера я собрался ехать к вам. Конь мой был оседлан, но в это время нагрянул старый наш сват Азым-эке на скакуне Байтюры. Вид у него усталый, расстроенный. Заколол я жирную ярку, кумыса подали вдоволь. Он провел у меня ночь. Сегодня утром мы вместе тронулись в путь. Он повернул коня к становищу Найманов, я поехал к вам. Много говорил старик, — видно, на старости набрался ума-разума.
Сарсембай хорошо знал старика. Было время, когда они были связаны общими торговыми интересами. Но, кроме этого, знал его Сарсембай как ловкого дипломата. И Арсланбай ясно понял, что неспроста Азым-эке после посещения Биремджан-аксакала и полученного оскорбления повернул коня в противоположную от становища Найманов сторону.
— Хотел бы я знать, что случилось со стариком! — молвил хозяин, подливая кумыса.
— Азымбай-эке сказал мне следующее, — ответил гость, осушая чашу: — «Сын мой, — сказал он, — поезжай в джайляу Алтын-Куль, передай Сарманам мой салям. Старейшим этого рода донеси мои слова: «Каменные горы, как бы ни были крепки, со временем рассыпаются. Широкие озера, многоводные, как моря, высыхают… Так же и род Байтюры. Если ваши замыслят организовать новый союз, лучшие представители народа будут готовы прийти к ним на помощь».
Хозяин жадно ловил каждое слово гостя. Когда Арслан кончил, Сарсембай невольно поднялся с места. Все это было для него полной неожиданностью. В одну секунду перед глазами пронеслись картины предстоящей борьбы. С одной стороны, Байтюра, Якуп, Янгырбай, с другой — Сарсембай, Арслан, Калтай и еще множество союзников. У врагов много скота, много денег, их тайком поддерживает русское начальство. Но и род Сарманов, если понадобится, даст немалую толику денег, а к тому же использует общее возмущение против Байтюры.
Задумавшись, Сарсембай забыл и гостя и все, что их окружало.
— Джолконбая позовите, — приказал он.
Вошел батрак, высокий, широколицый, рябой, в рваной одежде. Он остановился у двери и голодными глазами уставился на кумыс.
— Поездку в город отложим до завтра. Сейчас запряги в тарантас буланого иноходца, которого привели сегодня из степи, и сивого жеребца. В тарантас положи кошму, одеяло, подушку, захвати с собой старого Карима и поезжай в джайляу Коргак-Куль. Там найди Биремджан-аксакала и скажи ему: «Сарсембай зовет тебя в гости, просит отведать у него мяса и кумыса. У нас, мол, гостит, Арсланбай, сын Магджан-хаджия из рода Танабуга». Понял?
Джолконбай оторвал взгляд от кумыса — на угощение рассчитывать не приходилось.
— Понял, — ответил он и повернулся к выходу.
Но бай остановил его:
— Постой! Ты останься, запряги лошадей, Карим поедет один. Не мешкайте!
Батрак ушел. Присутствующие были удивлены. Гость спросить, в чем дело, не решился, но байбича не пожелала остаться в неведении:
— Не пойму причины, из-за которой ты решил беспокоить девяностолетнего старца.
— Палка у нас перед глазами, но о чем говорил избитый Азымбай с аксакалом, нам неизвестно. Поэтому и позвал я старика, — пояснил бай.
Кумыс приятно разгорячил кровь. Больше пить было уже немыслимо. Разговор сам собой оборвался.
— Пройдемся? — предложил гость.
Все поднялись.
XIX
Было за полдень, жара спала. Скот весь вышел в степь и разбрелся по зеленой траве. Вокруг жилищ бродили только оягнившиеся сегодня четыре овцы с ягнятами, еще слабыми на ноги. Жеребята на привязи порывались ускакать в степь, натягивали арканы и с нетерпением ожидали вечера. Тукал варила перед средней юртой мясо в большом котле.
Сарсембай вызвал из соседней, бедной юрты джигита.
— Сын мой, оседлай нам коней. Карлыгач-Слу принуждает своего усталого отца ехать в дальний табун, — улыбнувшись дочери и гостю, сказал он и, взяв медный кумган, ушел в степь.
До возвращения бая джигит и девушка остались на несколько минут наедине.
Карлыгач быстренько обрисовала создавшуюся обстановку:
— Точно не говорят, но заметны приготовления к свадьбе. Похоже, собираются через два месяца проводить меня в дом Калтая. Три дня тому назад он приезжал сюда, но я его не приняла. Уезжая, он кинул угрозу: «Наш род сумеет расправиться с непокорной красавицей, дочерью почтенного отца. Как бы Сарманам не пришлось отвечать роду Кара-Айгыр за строптивую Карлыгач!..» Кажется, и мать узнала о происшедшем. Она позвала меня к себе, уговаривала. А я расплакалась и сказала: «Будете неволить — придется искать тело мое на дне Алтын-Куля». Она рассердилась не на шутку: «Если ослушаешься, если вызовешь между двумя родами ссору, не прощу тебе молока, которым вспоила тебя». Как быть?
Джигит этого не ожидал. Он надеялся, заплатив калым, добиться согласия родителей и мирно уладить дело с родом Кара-Айгыр. Однако возникшие трудности не смутили его.
— Любимая, не беспокойся! Посланы лошади за Биремджан-аксакалом. Он приедет, я посоветуюсь с ним. Может быть, он возьмется уговорить Сарсембая и байбичу. А если нет, что-нибудь придумаем.
Лицо девушки застыло, в глазах отразилась тяжелая дума.
— А если отец с матерью не пожелают ссоры с родом Кара-Айгыр?
Джигит решительно ответил:
— Я не привык останавливаться на полпути. В твою храбрость я верю. Или не стало в степи джигитов, как птицы летающих на конях? Если темной ночью мы ускачем на лучших аргамаках из Алтын-Куля в Яман-Чуль, кто догонит нас, какой джигит осмелится отбить у Арсланбая, сына славного Магджана, его Карлыгач-Слу?
— А если прольется кровь?
Привели оседланных лошадей. Вернулся и бай.
— Не беспокойся, милая, выход найдем.
Все трое сели на коней и тронулись в путь.
XX
Они проехали добрых пятнадцать верст по направлению, указанному провожающим их джигитом.
Кони, привыкшие носиться по степи с быстротой ветра, примчались к несметному табуну потные, но зато донесли седоков в какие-нибудь сорок минут.
В середине табуна виднелось трое верховых — пастухи. Завидя хозяина, один из них отделился от группы и помчался навстречу. Это был старый Юнес, по прозвищу «отец конских пастухов». Всю жизнь провел он на коне, редко расставался с короком. В молодости занимался конокрадством и приобрел таким путем значительное количество скота. Но в одну из метельных, суровых зим скот, оставленный в степи без сена, без загона, погиб от джута. После этого Юнес не смог оправиться и стал конским пастухом у крупных баев. Не было равных ему в искусстве отыскать украденную лошадь. Организуя большие дела, конокрады еще и теперь советуются с ним, зовут в компанию. Юнес иногда принимает предложение, а если и нет, никогда не предает их. Если у какого-нибудь бая сведут лучших коней, посылают за Юнесом. Если он был уведомлен о краже заранее, отвечает: «Не знаю, не ведаю»; если же кража оказалась совершенной неизвестными ему людьми, он в большинстве случаев нападает на след воров и находит уведенных коней. Табун под его началом считался обеспеченным от краж.
Юнес подъехал и приветствовал бая:
— Здравствуйте, ут-агасы[40]!
Хозяин ответил ему как равному и спросил о состоянии табуна.
— Одного жеребенка задрал волк, остальные целы, — доложил старик.
Узнав Арсланбая, он уставился на него острым, блестящим взглядом.
— Гора с горой не сходится, но человек с человеком всегда встретятся. Ведь ты, дорогой джигит, Арслан, сын Магджан-хаджия. Лет десять тому назад я вырвал у похитителей прекрасного коня твоего батюшки. Ты в то время был еще ребенком, — сказал он гостю.
Потом обратился к Карлыгач, которая с трудом сдерживала коня:
— Пусть посещение ваше принесет счастье. В этом году вы забыли наш табун.
Натягивая поводья, Слу ответила:
— Отец подарил мне пегого жеребца от сивой кобылы. Хотим посмотреть на него.
Тем временем подъехал еще один из пастухов. Бай приказал пригнать жеребца.
XXI
Пастух помоложе пересек пастбище и стал гнать в эту сторону небольшой табунок — голов тридцать. В табунке были две нежеребые кобылы и штук десять жеребят. У всех лоснилась шерсть, кони были жирные, со злыми глазами. Игриво приближались они к всадникам, но вдруг как ветер умчались в противоположную сторону. Их бег нарушил спокойствие всего табуна. Животные, перестав жевать, подняли головы, настороженно запрядали ушами. Молодняк, только и ожидавший повода, чтобы начать игры, ринулся во все стороны.
«Отец конских пастухов» расстроился. Он не любил беспорядка. Он умел с одного раза ловить на корок намеченного коня. И теперь не выдержал, гикнул, натянул поводья, как птица вынесся навстречу табунку и быстрее, чем закрывается рот после сказанного слова, накинул аркан с конца корока на шею жеребцу. Но пойманное животное было или слишком хитрым, или слишком сильным. Жеребец, как только почувствовал на шее аркан, отпрянул назад, освободил голову, подпрыгнул и, вскидывая ногами, умчался прочь.
Карлыгач с замиранием сердца следила за жеребцом и пастухом. Бай и Арслан наблюдали молча.
«Отец конских пастухов» был не в силах перенести позор поражения. Остановившись, он выследил путь жеребца, приказал подручным заехать с обеих сторон и сам медленно, держась середины, поехал туда же.
Карлыгач, ожидавшая дальнейших событий, не успела даже хорошенько разглядеть — корок Юнеса куда-то полетел, последовала молниеносная схватка, пастух исчез со спины коня, встревоженные животные кинулись в разные стороны, на опустевшей площадке остались две лошади, одна из них оседланная.
Жеребец, рванувшись изо всех сил, чуть не стащил пастуха с седла, а сам, почти задыхаясь от охватившей шею петли, рвался, брыкался, не давался в руки. Подъехал один из молодых пастухов, схватил корок, тогда Юнес смог укрепиться в седле. Жеребец был побежден. Других коней поблизости не было, и гости подъехали к месту поединка.
Пойманный конь и был тот самый жеребец, которого Карлыгач-Слу выпросила у отца. Хотя ему шел пятый год, он еще не знал узды, к нему не прикасалась рука человека. Страх и злоба жеребца были сильнее, чем у молодого пленника, со скованными руками и ногами ожидающего своей участи. Петля, накинутая на шею, лишила его сил. И все же, когда Юнес приблизился к нему и впервые провел рукой по гриве, жеребец не выдержал, напряг все силы и, не помня себя, охваченный одним желанием уничтожить врага и вырваться на волю, взвился на дыбы. Но руки человека не знали пощады, узы были крепки. На помощь пастухам подоспели Арсланбай и Сарсембай. Поглаживая жеребца, похлопывая по холке и шее, надели на него уздечку с длинным ременным поводом. Жеребец почувствовал себя пленником навек. Он никак не мог успокоиться, дрожал всем телом, в глазах его сверкали злоба и страх. Карлыгач-Слу, не отрывая взора, охваченная радостью, приблизилась к жеребцу, положила руку ему на шею и стала гладить волнистую гриву.
— Ну, теперь ты довольна? — со смехом спросил Сарсембай.
XXII
Конь и впрямь был редкостный.
Грива черная, хвост ниспадает волнами, крепкие мускулы на бедрах чуть выдаются, грудь широкая, на лбу лысина, достигающая извивами конца губ и придающая коню особую оригинальность. Ряд ровных, длинных, белых зубов, большие, горящие глаза, а особенно округлые маленькие блестящие копыта указывали, что конь не уступит первенства многим лучшим скакунам степи. Белая полоска, тянущаяся по хребту от гривы до хвоста на фоне иссиня-черной лоснящейся шерсти, и белые ноги выделяли жеребца из тысячного табуна.
Жеребец немного успокоился. Джигит осмотрел его и, повернувшись к девушке, сказал:
— Коня взяли отличного, но все же мне хочется потягаться с вами.
— Я согласна.
Жеребца не спеша взнуздали, оседлали, крепко затянули подбрюшник. Конь вздыбился, но уже чувствовалось, что он смирился.
— Умеешь объезжать диких жеребцов? Попробуй! — приказал Сарсембай одному из пастухов.
Седло сняли, пастух откинул повод к гриве, погладил коня по хребту и вдруг вскочил к нему на спину. Это было для жеребца полной неожиданностью. То ли желая сбросить седока, то ли не в силах сдержать щекотку, жеребец с быстротой молнии отпрянул, но, не стерпев боли от удил, вздыбился, будто готовый взметнуться к небесам. Но джигит, казалось, прирос к коню и только все крепче и крепче натягивал удила. Сжав ноги, он изо всей мочи стегнул коня по крупу. Конь вместе с седоком умчался в степь.
Гости со смехом, довольные и конем и седоком, смотрели вслед. Дикий жеребец и пастух в одну минуту скрылись с глаз.
После долгой бешеной скачки, преодолев тысячу трудностей, пастуху удалось подвести присмиревшего жеребца к группе людей.
— Довольно! Оседлай снова! — приказал старый Юнес.
Девушка захотела непременно вернуться на этом жеребце, но «отец конских пастухов» решительно воспротивился:
— Не подобает казахскому народу лишиться красавицы.
Не дал он жеребца и Арслану. На своем веку он объездил немало лошадей и знал, что с этим жеребцом предстоит еще много хлопот. Догадываясь, что в честь гостя будет сварено мясо, Юнес решил попасть на угощение и потому объявил, что на жеребце поедет сам. Конечно, никто ни единым словом не возразил ему.
Старый Юнес с помощью двух пастухов взобрался на седло. Девушка, джигит и Сарсембай последовали его примеру.
Необъезженному жеребцу было трудно скакать вместе с остальными. Старый пастух то ехал рядом, то, не в силах удержать коня, уносился далеко в степь.
— Я хочу ехать вместе с пастухом, — сказала девушка.
Бай разрешил ей это, девушка стегнула коня и помчалась догонять Юнеса.
Гость счел неудобным оставить Сарсембая одного и только посмотрел вслед девушке, стрелой летевшей на маленьком красивом скакуне.
XXIII
Они вернулись к вечеру, когда озера в бескрайней зеленой степи загорались от багряных лучей заходящего солнца желтым пламенем.
Тщедушный, хромой Кучербай пригнал овец; Джолконбай и работница отвязывали жеребят; Айбала, тукал, соседка и мать мальчугана, обвиненного в краже утиных яиц, доили коров, подпускали к ним телят; полоумная старуха перетаскивала в черную юрту свалянные за день кошмы.
Степь встречала вечер. Кобылицы, коровы кормили детенышей, с которыми были разлучены целый день. Жеребята с серебристым ржанием ласкались к матерям и, довольные, носились по степи. Весь джайляу готовился к ночному отдыху.
Давно сварилась жирная баранина, и распространял вкусный запах крепкий бульон. Все с нетерпением ожидали, когда мясо выложат на блюдо, и только беспечная детвора с горящими глазами толпилась вокруг потного, покрытого пеной жеребца — разбирали его стати и спорили о том, сможет ли он обогнать иноходца Арсланбая.
Девушка и джигит тотчас по возвращении расстались. Побыть наедине не представилось случая. Арсланбай только успел сказать:
— Карлыгач, много слов имею тебе сказать, позволь прийти вечером.
— У какой девушки хватит решимости отослать долгожданного? — улыбнулась девушка и ушла в белую юрту.
Тукал принесла к котлу большое блюдо. Несколько соседей, накинув на плечи кепе, медленной поступью прошли в большую юрту, бросив на ходу взгляд на сваренное мясо, мысленно прикидывая, сколько его. Батраки, женщины, ребята с голодным взглядом один за другим двинулись в том же направлении. Это заставило старого Юнеса прервать разговор с хромым Кучербаем:
— Пойдем — подают мясо.
К их приходу большая юрта была уже полна народу. Каждый разместился согласно своему положению и достатку. Одни стояли у самых дверей, другие сидели на корточках, некоторые разместились на кошме. Юнес прошел на свое место.
На самом почетном месте, на бархатном ковре, подогнув ноги, восседал Сарсембай. По одну сторону от него гость — Арсланбай в расшитой позументами шапке, за ним «отец конских пастухов», рядом с ним бедняк аула, старик Ирджанбаба, по другую сторону бая — джигит по имени Куйбагар, ведущий торговые дела бая, ниже его, замыкая табн[41], сидели казахи этого аула, те, что победнее. Остальные в табн не включались и стояли в сторонке.
Джолконбай с маленьким медным тазом и кумганом обошел табн. Сначала он подошел к баю.
— Я уже вымыл, — отозвался тот.
Все остальные сполоснули руки. Подали гостям полотенце не первой свежести.
Кто-то сказал: «Несут мясо». Дверь открылась. Вошли тукал и работница с блюдами. Народ, толпящийся у входа, голодными взорами уставился на жирное мясо, от которого подымался пар. Блюдо с грудой баранины и колбасами поставили на середину табна. Поверх мяса лежала вареная овечья голова и немного джаймы[42]. Бай, по обычаю, провел руками по лицу, возблагодарив создателя за ниспосланное им, и подвинул блюдо к Юнесу.
Все работники, от мала до велика, на меджлисах[43] толпились у дверей, и только один старый Юнес всегда сидел в табне. Лошадь занимает в жизни казахов первое место, и потому старшие конские пастухи пользуются, в отличие от остальных работников, некоторой привилегией. Благодаря этой традиции старый Юнес, в отличие от Джолконбая, хромого Кучербая и всех остальных, разделял трапезу бая.
Когда бай придвинул к Юнесу блюдо, тот вынул из кармана кожаный футляр, достал оттуда небольшой нож с деревянной рукояткой, провел лезвием по краю железного блюда и, возблагодарив бога, приступил к дележу. Сначала он дал голову хозяину — Сарсембаю. Бай откусил в нескольких местах и передал ее почетному гостю — Арсланбаю.
— В белую юрту я мяса не подавала, выдели отсюда, — сказала тукал, сидевшая справа.
Принесли маленькое эмалированное блюдо. «Отец конских пастухов» положил на него несколько кусков колбасы, четыре ребра, одну почку и немного джаймы. Айбала унесла блюдо. Это была доля байбичи и Карлыгач-Слу, остальное предназначалось для присутствующих.
Теперь старый Юнес начал резать мясо. Длинноволосый джигит, сидевший по другую сторону бая, тоже достал из кармана перочинный нож и стал помогать старику. Остальные приступили к еде. Но Юнес с джигитом не забывали себя. Их рты не переставали двигаться, лучшие, жирные куски исчезали с поразительной быстротой.
Несколько минут руки, зубы двигались безостановочно в полной тишине. Когда груда мяса исчезла и на блюде остались считанные куски, первым опомнился «отец конских пастухов». «Насытился!» — молвил он и начал обтирать жирные руки о голенища сапог. Остальные поняли намек: проглотив напоследок большие, жирные куски, перестали жевать.
Бай придвинул блюдо к себе и предложил гостю отведать еще мяса. Гость отказался. Тогда хозяин стал оделять тех, кто толпился у дверей. Очередь угощения и величина куска зависели от положения каждого.
Сарсембай медленно, с выбором взял в руку пять кусков мяса и сказал:
— Мой чабан, поди сюда.
Подошел, прихрамывая, старый Кучербай и протянул правую руку, но бай сказал:
— Открой рот.
Кучербай с набитым ртом отошел. Больше ему мяса не полагалось. Бай снова взял несколько кусков.
— Батрак мой, поди сюда.
Поднялся долговязый Джолконбай и, проглотив свою долю, отошел к двери.
Далее последовало угощение нескольких соседских джигитов. У входа, не отрывая горящих глазенок от блюда, сидел давешний враг Гельчечек, голый, черномазый мальчуган. Он, всем своим существом переживая этот момент, следил за тем, как жирные куски мяса исчезали во рту у взрослых. Его охватывал страх при мысли, что он не получит ни кусочка, что взрослые съедят все. Но бай вспомнил и его.
— Эбеш, поди сюда, — позвал он.
Бай держал в руке столько мяса, что было сомнительно, поместится ли оно все во рту ребенка. Мальчуган пулей метнулся к Сарсембаю и раскрыл рот. Бай, под дружный хохот присутствующих, до отказа набил рот мальчугана мясом. Мальчуган не мог пошевелить языком, с углов губ потек жир, глаза выпучились, он чуть не задохся и все же не сдался, молча вернулся на свое место и с большим трудом, не обращая внимания на смех взрослых, проглотил угощение. На блюде остались кусок джаймы и несколько кусков мяса. Бай протянул блюдо тукал:
— Отдайте старой Минди.
Полоумная старуха целый день работала и теперь дремала от усталости. Слова бая ее мгновенно разбудили.
Потом в чашах вместимостью до двух-трех стаканов подали крепчайший бульон. Этот бульон был очень вкусный и питательный. Бай сделал три глотка и передал чашу Арсланбаю. Гость только пригубил. Сидящие за табном все были сыты и не могли уже решиться ни на один глоток. Зато толпящиеся у дверей старались не оставить в чаше ни одной капли.
Выпив бульон, все совершили молитву.
Подростки, детвора, работники, соседские джигиты ушли. Оставшиеся выпили по чашке кумыса и примостились кто на подушках, кто на ковре, кошме, кто растянулся на земле вокруг очага. Рыгая, поминая при этом имя божье, сплевывая, опять рыгая, — кто, взяв щепотку насбаю, кто, затянувшись папиросой, — начали бесконечную беседу, пересыпанную шутками и меткими словечками.
После повествования Арсланбая о ссылке, после рассказов Сарсембая о межродовых распрях самыми интересными оказались рассказы старого Юнеса. Он увлекательно рассказывал, как угонял на своем веку целые стада, принадлежавшие враждебным племенам, а главным образом колонистам, «осевшим на землях казахов», как находил и отнимал у конокрадов похищенных коней. Богатая мимика его сурового лица и блеск маленьких раскосых глаз придавали его то веселым, то страшным рассказам особую живость.
XXIV
Снаружи послышались голоса, прозвенел серебристый смех Карлыгач-Слу. Никто из собеседников не придал этому значения, но гость понял, что девушка зовет его. Однако он не мог расстроить беседу, встать раньше старших и потому остался на месте, дожидаясь удобного момента.
Вдруг раздался торопливый конский топот, он оборвался у самой юрты. Кто-то, не слезая с лошади, крикнул:
— Умер… Дженаза…
Собеседники привстали, прислушались, по голос уже умолк, конский топот возобновился и замер вдали.
Беседа расстроилась. Все напряженно ожидали.
— Что случилось? Подите узнайте, — ни к кому в частности не обращаясь, приказал бай.
Самым молодым из присутствующих был длинноволосый джигит. Он поднялся, но выйти не успел — дверь распахнулась, торопливыми шагами вошла Карлыгач-Слу в бархатном бешмете с узкой талией, обшитом на груди позументом, в продолговатой каракулевой шапочке, также отделанной позументом, и сообщила:
— Мы с Айбала-джинги стояли около привязанного жеребца. Со стороны Озон-Куля примчался верховой. Он сказал: «Сегодня на заходе солнца преставился старейший рода Найманов Байтюра-мирза. Опечаленный брат его Якуп и вдовая байбича Рокия, послали меня известить род Сарманов. Завтра в полдень дженаза». И ускакал дальше, чтобы оповестить других.
Новость прозвучала как гром. На некоторое время все застыли в молчании, без движения, будто черная смерть, похитившая их врага Байтюру, влетела в юрту.
Первым опомнился длинноволосый джигит:
— Да будет проклят твой отец! Довольно иссушил ты народа! Место тебе в аду! — выругался он.
Но умный и тактичный Сарсембай остановил его:
— Содеянное руками он поднимет на плечи. Человека после смерти не ругают.
Новость быстро облетела весь аул. Из белой юрты пришла байбича. Из-под личины печали у нее проглядывала злобная радость.
— Говорят, от вдовы Рокии прискакал верховой звать на дженазу Байтюры. Верно ли?
Девушка по-детски старательно повторила рассказ.
Разговор снова оборвался. Сарсембай задумался о планах борьбы с оставшимися врагами. Алтын-Чач взвешивала всю опасность ссоры с родом Кара-Айгыр в настоящий момент. Арсланбай же думал о том, что судьба Карлыгач запуталась еще больше.
Остальные не решались начать разговор прежде старших. «Отец конских пастухов» под конец все же не утерпел:
— Если суждено человеку содеянное руками поднять на плечи, то хватит ли плеч всей Сары-Арка, чтобы поднять содеянное Байтюрой?
— Земля будет тяжела покойному: много слез людских поглотило его сердце, — заметил молчавший до сих пор Арсланбай.
Бай и байбича сочли неудобным высказаться о покойнике неуважительно. Хозяин перевел разговор на другую тему — заговорил о предстоящем в скором времени переезде на новое джайляу. Аул стоял у Алтын-Куля около месяца, за это время травы здесь оскудели, и скот требовал новых пастбищ. Перекочевка должна была произойти до начала сенокоса и жатвы. Сообщение Сарсембая все, а особенно Карлыгач, встретили с нескрываемой радостью. Такие переезды, хотя они бывают сопряжены с большими хлопотами, являются для казахов истинным праздником, такой же необходимостью, как шутки и смех.
— Если на дженазе задержимся, начинайте укладываться, не дожидаясь нас, — сказал поднимаясь бай.
Следом за ним поднялись остальные.
Ночь темная, небо задернуто тучами, дует ветер. С озера доносятся какие-то странные, жуткие звуки. Полная луна только на секунду выглянула из-за туч и скрылась окончательно. Непроглядная темь окутала степь.
Пегого жеребца решили продержать без корма с вечера до утра. Старый Юнес сел на рысака, на котором ездила в табун Карлыгач.
— Сюда не вернемся, отправимся в Кзыл-Ком! — крикнул он на ходу.
Все вошли в бедную юрту. Джайляу затихло.
XXV
Ночь была пасмурная, ветреная, и батраки легли в черной юрте. Только старый Кучербай, зная, что овцы пугаются всякого шороха, подкатил поближе к своей отаре пустую телегу и улегся под ней.
Полоумная старуха домыла посуду и пошла в большую юрту, где спала тукал.
Огонь потушен. В темноте слышны лишь сонное бормотание и вздохи Гельчечек и спящей рядом с ней женщины.
Старуха выпила немного айрану[44] и, расстелив кошму, стала готовиться ко сну. Но тут со стороны, где спала тукал, послышался приглушенный плач.
— Кто это? Тукал, светик, ты еще не спишь? — спросила недоуменно старуха.
— Сон не идет на глаза, — ответил охрипший от слез голос.
Снова всхлипывание, стоны. На этот раз сильнее, жалостнее.
Старуха оробела.
— Дорогая, что с тобой? Или занемогла? — Она подошла к кровати.
Женщина лежала ничком, уткнув лицо в подушку, и горько плакала.
— Тело здорово, душа больна, — отозвалась она. — Что мне делать, матушка? Много времени прошло, как бай отдает мои ночи бикя. С ранней зари до глубокой ночи хожу за скотом, стряпаю, устаю как собака. Одежда на мне грязная. Вымыться, одеться как следует некогда… Чем привлечь его сердце, господи?!
По обычаю муж обязан распределять свои ночи между женами поровну. Сарсембай же нарушил этот обычай и большее количество ночей отдавал Алтын-Чач. За последние десять дней на долю тукал перепало всего две ночи. Женщина надеялась, что хоть сегодня, когда в белой юрте ночуют гости, муж придет к ней. Но вот съели мясо, кончилась беседа, а муж опять ушел к своей дорогой бикя.
Старуха подсела к тукал. Всю ночь проговорили они в темной, тихой юрте. Опытная старуха учила женщину заклинаниям, указывала травы, способные приворожить мужа, велела посоветоваться с знахаркой, живущей в Яман-Чуле. Но женщина все это уже испробовала.
— Знахарку видела два раза. Оба раза сказала она одно и то же: «На твоем белом пути лежит черная змея. От нее и несчастье. Эта черная змея живет вместе с тобой, ест из одного блюда, пьет из одной чаши». Больше ничего не сказала знахарка.
Старуха испугалась, обняла тукал.
— Что хотела она сказать этим?
Тукал вытерла мокрые от слез глаза.
— Разве не понятно, матушка? Черная змея не Алтын-Чач ли, которая ест и пьет из одной со мной чаши? Другой змеи я не вижу…
Горе молодой женщины было для старухи непонятно. Ей казалось, что на свете есть только одно горе — ссылка единственного сына, продажа с торгов единственной лошади. Всех, кто не испытал этого, она считала счастливыми. Признание тукал вконец смутило ее. Кроме удивленных восклицаний, ничего не сходило с ее губ.
Долгое время молча носила тукал в своем сердце обиду, но этой тихой, темной ночью не сдержалась, раскрыла душу перед старухой:
— С младенчества была я помолвлена с братом Сарсембая Асылджигитом. Было мне пятнадцать лет, когда я впервые приняла его в свои объятия. Умом, характером был он таков, что свободно мог стать иль-агасы. Произошла схватка с русскими казаками за землю, за джайляу. Его убили…
Женщина, давясь слезами, продолжала:
— Обычай казахов знаешь? Если умирает один из братьев, то оставшийся в живых, любит ли, не любит, женится на его вдове. Расчет простой — калым зря не пропадает. Недаром, видно, существует поговорка: «От мужа уйдет, но от рода не уйдет…» Что могла возразить я? Хоть и боялась жестокого нрава Алтын-Чач, но должна была остаться в семье, стать тукал. Велика моя обида на создателя… Дал было мне суженого если не лицом, так умом приметного, да взял, а меня оставил в горести… Видишь жизнь мою: работа рабская, обращение пренебрежительное. Что иное видела я?
XXVI
Заморосил дождь. От порывов усилившегося ветра юрта вздрагивала.
Прорвавшийся поток горестных излияний не иссякал. Женщина продолжала:
— Истинную правду сказала знахарка, Алтын-Чач черной змеей легла на мой белый путь… Шел второй год со дня смерти любимого. Была я замужем за Сарсембаем, носила под сердцем Гельчечек. Приехал в аул мульдеке — высокий, здоровый татарин. И дети и старики полюбили его… Девушки, молодки не давали ему покоя… Однажды сидели мы в юрте, вели беседу… И мульдеке тут. Взрослая дочь Арсынбая и скажи: «Мульдеке, у нас, казахов, стыдно молодому джигиту спать одному. Сегодня вечером приду к тебе». Бедный татарин покраснел, не нашелся что ответить. Какая-то молодуха подхватила шутку: «Что будешь делать, если мульдеке спит за запертой дверью?» Девушка расхохоталась. «Подниму киреге и войду!» Джигит был тихий, смирный, ничего не ответил, покраснел, как малое дитя, и вышел. С тех пор, то ли от жалости, то ли от чего другого, потянуло меня к нему.
Заметалась во сне Гельчечек, старуху одолевала дрема. Тукал же продолжала:
— В то время была байбича на меня сердита, три ночи подряд не отпускала ко мне бая. Утром сказала я мужу: «Как ответит в судный день тот, кто долю одного отдает другому?» Промолчал он. Ждала. Вечером снова не пришел. Переполнилось сердце, слез натекли озера. Наплакалась я и легла вот на эту самую кровать. Мульдеке спал в этой же юрте на полу. Сон ли, явь ли, сначала не поняла — теплая, мягкая рука медленно-медленно ласкала мне грудь, тело. Взыграла кровь. Одурманивал приятный запах духов. Гляжу, а это мульдеке. «Положи, говорит, меня рядом с собой». Что было делать? Могла ли я отказать уважаемому человеку? Разве не мог он обидеться? Крепко поцеловала, приняла в объятия. Блаженную ночь провели мы. Расстались лишь на заре… Видно, остался на мне запах духов мульдеке. В тот же день в присутствии женщин и сплетниц-старух осрамила меня байбича. «Видно, тело тукал прикасалось к телу мульдеке, — сказала она, — оба пахнут одним ароматом». Рассердилась я: «Язык отсохнет, бикя! Ведь он наставник детей и хоть и татарин, но разве не уважаемый человек? Да еще пришедший к нам из далеких краев… Почему злословишь о нем?» В шутку она обратила мое замечание: «Ой, голубушка, не сердись, ты же знаешь, что казашки любят пошутить!» Но слова ее разошлись по всему аулу. Молодухи, девушки подсмеивались надо мной: «Оставь и нашу долю так вкусно пахнущего джигита!» Джигит ни на кого не обращал внимания и те ночи, когда муж мой бывал с Алтын-Чач, проводил в моих объятиях.
— И Сарсембай ни о чем не догадывался? — перебила старуха.
— Думала я, что не догадывался. Но ошибалась. Однажды гостили у нас несколько казахов. Гуляли, пили кумыс, вели беседы. Овцы были жирные, кумыса было вдоволь. Пили до полного опьянения. Я разливала. Зашел разговор о женщинах. О чем только не говорили! Как чья жена целует и как обнимает. Сарсембай был навеселе: «В старину говорили, — сказал он, — что умный коня хвалит, глупый — жену. И все же не утаю: моя тукал, как видно, из огня пламени сотворена — так горячит тело, так закипает кровь от ее объятий и поцелуев». Гости усмехнулись себе в бороды и переглянулись, будто говоря: «Знаем мы, чье тело горячит она!» Бай мой ни слова не сказал, только вдруг остыл, а в глазах у него появился сердитый блеск. Видя, что хозяин не в духе, гости уехали. Тотчас после их отъезда позвал Сарсембай батрака: «Запряги в тарантас пару коней и отвези татарина в город». Я опешила. Ожидала расплаты. Вошел испуганный, побледневший мульдеке. Хотел что-то сказать — язык не повиновался. Бай тихим, сдержанным голосом сказал ему: «Вот деньги, вот твои вещи. Бери все и уезжай туда, откуда приехал. Честь не позволяет мне на глазах казахского народа делить жену с каким-то татарином. Хотел я избить тебя, как собаку, и, привязав к шее грузило, бросить в озеро, но удержался, памятуя об уроках, данных тобою детям». Бедный татарин сел в телегу и уехал, избавившись от дальнейших преследований, а я осталась гореть в огне. Все это подстроила злая байбича. Кто же, как не Алтын-Чач, черная змея на моем белом пути, матушка?
Старуха ничего не соображала, глаза ее слипались.
— Опрмай ау кодаем![45] — вздохнула она, потянулась, вспомнила сосланного сына и проданную кобылу.
Тукал же почувствовала некоторое облегчение.
— В степи заря забелела. Завтра много дел. Нужно готовиться в путь — ведь аул будет перекочевывать.
Она повалилась на кровать. Снаружи послышались шаги, кто-то осторожно прошел в степь.
Это был Арсланбай.
Гость, как только старики уснули, пробрался к Карлыгач-Слу и провел ночь в ее объятиях. На заре он, прежде чем вернуться на свое место, пошел, по просьбе девушки, взглянуть на привязанного жеребца. Проголодавшийся, озябший, мучимый жаждой, конь встретил человека с испуганной настороженностью. Джигит ослабил подбрюшник, похлопал коня по шее, успокоил. Жирный пес тявкнул раза два, но, узнав гостя, завилял хвостом. Арсланбай вошел в белую юрту, собака легла на свое место.
Джайляу погрузилось в полную тишину. Густые, черные тучи мчались, подгоняемые ветром, над озерами, над юртами, конскими табунами, зимовками, похожими на развалины, и сонными джайляу. Вся степь лежала в глубоком сне. Только в двух больших юртах Найманов на берегу Якты-Куля горел огонь. Смерть Байтюры и предстоящая дженаза лишили здесь людей спокойствия. В глубоком горе и в хлопотах проходила бессонная ночь. Якуп, Рокия, Янгырбай и Азым-эке беспрестанно о чем-то совещались, что-то делали, к чему-то готовились.
XXVII
С самой зари джайляу Якты-Куль кипел, как базар, как карнавал, как судный день по верованию арабов.
День пасмурный, по небу не переставая ползут тучи, по озеру Якты-Куль перекатываются сердитые волны, в степи свищет злобный ветер, перегоняя мокрый туман из стороны в сторону.
Несмотря на это, к полудню все пространство вокруг аула Байтюры было полно народу. Из одной юрты в другую то и дело сновали старухи с морщинистыми лицами и горестными глазами, в тонких, расшитых на груди позументами бешметах, в белых покрывалах на седых волосах; суетились пригожие девушки, любительницы всякой суматохи. Широкоплечие, тучные, скуластые, с редкой бороденкой, с кривыми от верховой езды ногами, казахи, глубоко надвинув от дождя и ветра малахаи, стянув поясом свои кепе, посматривали на снующих взад и вперед людей и о чем-то тихонько переговаривались. Среди этой массы народа виднелись татарские муллы в чалмах и джилянах[46], татарские купцы в каракулевых шапках, казакинах, ичегах и каушах, молодые казахи в студенческих и семинарских мундирах, несколько офицеров, узкие черные глаза и скуластые лица которых ясно указывали на их национальность, седобородый казах-адвокат в европейской одежде, толстые бии с медалями на груди, нищие арабы-хаджии в узких чалмах, стеганых красных джуббах[47] и множество других никому не известных людей.
Несколько в стороне стояли тарантасы, телеги, по большей части запряженные парой, оседланные лошади; около них толпились казахи победнее. На площади перед юртами к пряслам было привязано голов пятьдесят разного скота: несколько кобылиц с жеребятами, два жирных жеребца, четыре верблюда, пять чесоточных стригунков, штук шесть грязных коров и множество овец. И чем больше прибывало телег и верховых лошадей, чем больше народу толпилось между юртами, тем теснее становились ряды привязанного к пряслам скота — верблюжат, яловых кобылиц, жеребят, телок, овец — приношения родственников для фидии[48]. Животные никак не могли успокоиться, кусались, брыкались, визжали.
В одной из юрт поднялся плач. Множество резких женских голосов, перебивая друг друга, покрыли и конское ржание, и рев верблюдов, и скрип телег, и гомон народа:
— Ай, тюрем[49], ау! На кого ты нас оставил, ау?
От этого резкого, жалобного возгласа вздрогнула вся площадь, в сердца закрались жуть и щемящая тревога, по телу пробежали мурашки. Женщины остановились не скоро, они восхваляли покойного Байтюру и вдруг прерывали воспоминания жалобным, вызывающим слезы причитанием:
— Ай, жан-тюрем, ау! На кого ты нас покинул, ау?
В одну из минут относительной тишины, когда замолкли причитания женщин, подъехал верховой с домброй у пояса и, сойдя с коня, прошел в юрту, где лежал покойник. Этот человек в казахской одежде, с худым лицом, походкой сумасшедшего, глазами маньяка был известный во всей округе акын Толсомджан.
— Акын приехал, акын приехал! — раздалось со всех концов.
Старый Азым, со вчерашнего дня то скакавший на лошади, то бегавший без передышки, взял акына за руку.
— На глазах слезы, на лице горе. Или иссякли у тебя слова? Почему молчишь? — спросил он.
Акын посмотрел на Азыма сумасшедшими глазами и ответил песенкой на известный среди казахов грустный мотив:
Вокруг акына, давя друг друга, толпился народ. На каждое обращенное к нему слово он отвечал без малейшей запинки.
Среди народа, толпившегося вокруг акына, находился и жених Карлыгач-Слу Калтай. Был он глуповат, но отстать от людей не хотел и спросил Толсомджана:
— Из глаз твоих течет вода, лицо твое почернело. Или ты встал из сырой могилы?
Акын не задумываясь речитативом ответил:
— Мы слышали, что существуют мертвые сердца, которые не знают горя, не станут печалиться, даже если обрушится мир. Но пусть сегодня никто не удивляется слезам казаха, горестному челу его. Не только человек, но даже земля и небо сегодня объяты тяжелой думой. Разве черные тучи, закрывшие ясное солнце, разве дождь, падающий на нас, не есть траурное покрывало неба по поводу смерти Байтюры и горестные его слезы?
Калтай примолк.
— О почтенный, создатель не скупясь наделил тебя красноречием! — хвалили певца со всех сторон.
Акын, не останавливаясь, все время изменяя мотив, пел:
— Для передачи сегодняшнего горя не надо быть красноречивым. И если чист ты душой, если не иссякла в сердце твоем любовь к народу, то даже и немой запоешь ты сегодня песню скорби. О Байтюра, ты был единственный! Кровь твоя идет от Чингиса. Деды, отцы твои были ханами, султанами. В молодости ты был храбрым джигитом, зрелым мужчиной проливал кровь за народ, под старость и днем и ночью болел его заботами. Создатель наделил тебя тысячами коней, верблюдов, бесчисленным множеством овец. От богатства твоего кормился весь род. Ты покинул нас, но осталось имя твое, оно будет жить вечно. Но на кого ты покинул нас, ау?..
Так воспевал он высокое происхождение бая, его несметное богатство, его могущество.
Друзья покойного подхватили похвалы акына, стали перечислять забытые достоинства Байтюры.
Один из татарских мулл заявил, что некий почтенный ишан сказал: «Если бы не Байтюра, вера, ислам пошатнулись бы в степи».
Татарский купец из ближайшего города, разбогатевший на дешевой скупке у казахов шерсти и джабаги и втридорога продававший им разные товары, подхватил замечание муллы:
— Почтенный Байтюра был известен не только уездному начальству или губернатору, но даже самому царю. Разве Байтюра не был одним из двух иль-агасы, ездивших на коронование ныне царствующего Николая Второго?
— Байтюра был единственный. Он был родовитым иль-агасы, предки его идут от самого Чингиса. Пусть господь сам укажет путь тому, кто займет его место, — сказал Янгырбай, один из руководителей партии Байтюры.
Так хвалили покойника друзья, превозносили его до небес, а враги, хотя и собрались на дженазу, агитировали среди преданных людей против возможности занятия места Байтюры его братом Якупом и говорили при этом:
— Издох злодей, стоявший во главе казахского общества. Теперь народ сам распорядится собой. Теперь уж казахи не пойдут снова в рабство к Найманам.
XXVIII
Народ шумел, вокруг акына толпились слушатели. Но вот один из них, показывая на приближающийся тарантас, заметил:
— Лошади похожи на сарсембаевских. Не Биремджан-аксакал едет?
Услышав это, Азымбай обрадовался.
— Говорил старик: «Пока жив Байтюра, кумыса, мяса у него не отведаю, но если настанет час и смерть возьмет его, на дженазу приеду», — сказал он и, указав стоящему рядом Сарсембаю на приближающийся тарантас, спросил: — Не твои ли кони?
Сарсембай еще накануне послал лошадей за аксакалом, но аул успел перекочевать в другое место, и кучер, проколесив в поисках новой стоянки, опоздал. Биремджан — аксакал, не желая опоздать на дженазу, не заезжая в Алтын-Куль, приехал в Якты-Куль. Сарсембай и Арсланбай пошли навстречу старику. Остальные, как волна, хлынули за ними. Тому была особая причина: старый Биремджан после дженазы отца Арсланбая Магджан-хаджия, состоявшейся три года тому назад, не появлялся ни на одних похоронах. Все знали вражду аксакала к Байтюре и потому хоть и не высказывали этого вслух, но сомневались в его приезде. Поэтому появление Биремджан-аксакала было большим событием. Первым подошел к старику Азымбай.
— Почтенный отец, если б ты не приехал, сердце наше было бы разбито.
Старик с помощью двух мужчин сошел с тарантаса.
— Не дури, ведь я сказал тебе: мяса, кумыса не отведаю, но на дженазу приеду. Иль забыл? — оборвал он Азым-эке.
Окружающие многозначительно переглянулись. Арсланбай хотел посоветоваться с аксакалом о том, как взять Карлыгач-Слу от Калтая и самому жениться на ней, но быстро понял, что на дженазе об этом говорить не придется. Аксакал ни на секунду не останется один, вокруг него все время будет кипеть народ. Решив отложить разговор до возвращения в Алтын-Куль, он поздоровался со стариком. Бирем-эке узнал его по голосу:
— В роду казахском есть обычай: если молодежь вернется откуда-нибудь, то едет с приветствием к аксакалу. Слышали мы, что ты в Яман-Чуле, но ты не удосужился приехать к старому другу отца. О дети!
Джигит, извинившись перед аксакалом, рассказал, почему не мог быть у него. Старика окружили.
— Мы еще вчера ждали вас. Джайляу Алтын-Куль соскучилось по вас, — обратился Сарсембай к аксакалу.
Старик в двух словах объяснил причину опоздания:
— Мы перекочевали на другое джайляу, посланный приехал поздно.
Остальные поодиночке подходили к старику, здоровались.
Раздвинув собравшихся, приблизился старый адвокат в европейской одежде. Биремджан узнал и его.
— Об услуге твоей слышал. За освобождение Арсланбая, я думаю, крепко благодарна тебе душа его отца. Достойные из народа не забудут твоего поступка.
— Ваши слова — лучшая награда. Больше мне ничего не надо, — ответил адвокат.
Подошел Янгырбай.
— Вашим прошлогодним джайляу завладели хохлы. Слышали мы, что нынче пастбищ у вас мало. Если хотите, мы через уездного начальника вернем вам ваши земли.
Аксакала усадили на ковер, разостланный перед белой юртой. Вокруг него собрались старейшие.
По почину Янгырбая разговор перешел на колонистов, русское начальство, белого царя. Биремджан некоторое время слушал молча, потом, оборвав разговор, бросил Янгырбаю упрек:
— Ты сам, покойный Байтюра и Эбельхаир, хан Малой Орды, чьи предки родственны вашим, желая получить ханскую власть над всеми тремя Ордами, продали белому царю Сары-Арка. Ваши деды за ханство, ваши отцы за султанство, вы сами за бийство присвоили лучшие джайляу, заботясь о своем богатстве, отдали Сары-Арка в рабство белому царю. А теперь хотите вернуть мне кусочек той степи, которую истоптали пришлые полчища? Я уже стар, создатель скоро призовет меня, мне больше двух шагов земли не надо.
Речь старика была подобна удару молнии. Враги покойного Байтюры и всего рода Найманов ликовали: «Ах, достойный старик! Каждое слово — тысяча золотых!» Друзья возмущались: «Не стоило привозить этого сумасшедшего старика!» Адвокат и несколько студентов и семинаристов, удивленные происходящим, опасливо оглядывались по сторонам. Поднялся старый казах и голосом, в котором звучали обида и упрек, сказал гостю:
— Аксакал, велико к тебе наше уважение, но в сердце нашем таится сомнение. Ты всю жизнь свою ругаешь Эбельхаира и татарина-генерала Тевкилева, обвиняешь род Найманов в том, что они ради личного богатства и славы отдали Сары-Арка в рабство. Но когда хохлы нагрянули на Яшель-Сырт и мы, кликнув боевой клич, звали казахов на сражение, не ты ли, почтенный отец Биремджан-эке, выступил против?
Старик ответил в ту же секунду:
— Да, я! Я воспротивился угону скота хохлов, разорению их жилищ. Хочешь знать причину — послушай слепого старца. Если сам не знаешь, спроси у других: разве Биремджан не тот человек, который всю свою жизнь, все помыслы свои направил на защиту казахов?
— Истинную правду молвит почтенный отец! — раздалось с разных концов.
Аксакал продолжал:
— Если сейчас правду молвил я, скажу вам еще одну правду: сначала назначили ханов, потом вместо них выбирали султанов, — так задумал русский царь проникнуть в самое сердце Сары-Арка. Все земли казахов он объявил общим владением русских. Сторонников своих, широко пользуясь подкупами, лживыми клятвами, он проводил на должность биев, волостных старейшин. Незнакомые, не виданные до того люди — хохлы и русские начальники — забирали наши становища, озера, реки, а нас загоняли в пустыню… В те времена был я во многих местах Сары-Арка, и всюду по седой бороде моей текли слезы… И дал я тогда создателю моему клятву: где только возможно убивать хохлов, колонистов, проливать их кровь, угонять скот. Так поклялся я. Много душ прошло через руки мои, много скота русских угнал я в степь.
Однажды встретил я пять хохлов. У них украли лошадей, и они пришли с руганью в дом казаха. Были со мной храбрые джигиты, и сказал я им: «В ответе буду я. Бейте, пролейте кровь врага!» Вспыхнула схватка, и не успели сомкнуться губы после сказанного слова, как хохлы уже лежали вытянувшись на земле. Один из них успел убежать и скрыться в доме. Джигиты мои сцапали его и, орущего, как верблюжонок, потерявший мать, приволокли ко мне. Был тот хохол стар, в лаптях, драной одежонке. Бросился он мне в ноги и, как умел, залопотал по-казахски: «Дома пятеро малышей… старуха больная… Пожалей…» — «Э, да будет проклят твой отец! Казахов грабишь, джайляу отнимаешь, а как дошло дело до самого, так «пожалей»?!» Старый хохол заплакал, как дитя. «Ут-агасы, выслушай меня». — «Говори», — разрешил я. «Что нам делать? — начал он. — На родине нашей солнце яркое, земля плодородная, растут там яблоки, ягоды всякие. Но не было у нас земли, чтобы прокормиться, взбунтовались мы, и за то пригнали нас сюда… А здесь вы тесните нас, будто мы хотим отобрать ваши джайляу. Куда же нам деваться?!» Подступили к глазам моим слезы, и приказал я джигиту: «Отпусти старика. Растревожил он меня». Один из джигитов не послушался и стал избивать старика. Старик кинулся мне в ноги, плакал горькими слезами, видом своим разбередил мою душу. «Остановись!» — приказал я джигиту. Со злобой глянул тот на меня. Изо всей мочи стегнул хохла по лицу плетью и ускакал прочь. С того дня нарушил я клятву. Опостылело мне грабить хохлов, проливать их кровь… Вот тогда-то выступил я против войны и боевого клича… Если есть у тебя разум, рассуди: если кто-нибудь побьет тебя, что виновато — плеть или рука?
Гулом голосов покрылась речь аксакала. Из толпы выступил казах и стал возражать старику. Одни говорили, что у аксакала от старости помутился разум, другие кляли первых за то, что осмелились они оскорбить старейшину.
XXIX
Заглушая шум, поднявшийся вокруг Биремджан-эке, прозвучал голос старого Азымбая, возвещавшего, стоя на арбе:
— Муллы, кто желает, пожалуйте на девер!
Началось движение. Каждый казах хотел, чтобы его мулла получил фидию, и потому каждый кинулся искать своего муллу, спеша отослать его на девер.
В большую белую юрту, где лежало тело Байтюры, со всех сторон заспешили джигиты-казахи, обучающиеся в медресе[50] татарские шакирды[51], живущие в степи на положении мулл, мелкие ишаны[52], суфии[53], паломники.
Сарсембай, указывая мулле Янгырбая, татарскому шакирду Абдулле Эль-Керими, на бегущих людей в джилянах, джуббах, чапанах и даже тужурках, насмешливо сказал:
— Мульдеке, у казахов существует поговорка: «Где травы много, скот жиреет; где покойников много, мулла жиреет». Приходилось тебе это слышать?
Это была насмешка над бегущими. Абдулла Эль-Керими долгие годы провел среди казахов, знал их любовь к подчас колким шуткам и поэтому не смутился, не обиделся, а так же насмешливо ответил:
— Есть известный среди татар и казахов красноречивый акын Акмыла. Некий, такой же толстый, как ты, казах сказал ему поговорку, которую ты только что привел мне. Акын ответил ему следующее: «Где травы много, скот жиреет; где покойников много, мулла жиреет. Но если темноту казахской степи не просветит мулла, головы таких невежд, как ты, вошь съест». Приходилось тебе это слышать?
Сарсембай со смехом возразил:
— Правду говоришь, мульдеке. Во время моего детства пригласил мой отец муллу, кормил его мясом, поил кумысом. Молодухи, не смея перечить почтенному человеку, принимали его в свои объятия. Мы, молодежь, были уверены, что учимся. Прошло много лет. Он уехал. Но от пребывания его у нас не осталось иных следов, кроме следов от его палки на наших спинах… И раз так учат нас татарские мульдеке, откуда знать нам слова Акмылы?
Из юрты показался Азымбай. Он обратился к Абдулле Эль-Керими:
— Мулла Янгырбая, или ты не желаешь пойти на девер?
— Серсеке[54], намеревался я посостязаться с тобой в красноречии, но на дженазе считаю это неудобным, — на ходу ответил мульдеке.
Бай, довольный, крикнул ему вслед:
— Ай, дорогой мульдеке! Среди татар редко встретишь ловкого краснобая! Если приедешь, кумыс, баран готовы. Выпьем как следует, побеседуем!
— Хорошо, приеду, — пообещал Абдулла, входя в юрту.
XXX
Большая юрта полна народу. Вдоль киреге сидят казахи в кепе и малахаях и заплаканные женщины в белых покрывалах. Перед ними выстроились: мужчины в джуббах, чалмах, маленьких черных шапках, джилянах, тужурках и чапанах. В центре, головой к кибле[55], ногами к двери, лежит огромное, как гора, тело Байтюры, завернутое поверх савана в одеяло и кошмы. Лицо его закрыто полотенцем.
Слева от покойника с четками в руках стоит брат его Якуп. Он в молодости учился в медресе и был знаком с порядком дефена[56] и дженазы. Тут же, слева от дверей до почетного места, сидит духовенство.
Когда все разместились, вошел старый Азымбай.
— Можно начинать, больше никого не осталось.
Якуп, не выпуская из рук четок, взглянул на ишана, сидящего на почетном месте, и приглушенным, печальным голосом спросил:
— Покойнику было семьдесят девять лет. За сколько лет полагается фидия?
— Двенадцать лет относятся к детству. Полагается за оставшиеся шестьдесят семь лет, — быстро высчитал самый прыткий из собравшихся Абдулла Эль-Керими.
Сосчитали тех, кто должен был получить фидию. Их оказалось тридцать четыре человека. Из них двоих — одного слепца и одного мальчика — как непригодных вывели из ряда. Осталось тридцать два. Каждый из них принимал на себя грехи двух лет; грехи оставшихся трех лет прибавили трем муллам. Сосчитав, что двадцати девяти муллам полагается по два, остальным по три девера, приступили к делу.
Около Якупа лежал маленький сверток с таким количеством золота и серебра, какое, по шариату, могло окупить грехи, совершенные в течение года.
Якуп перевесил четки на локоть, уселся как раз на уровне груди покойного и со словами: «Принимаешь ли сие в откуп за все, что должен был совершить новопреставленный Байтюра, сын Хантемира, но что не выполнил он своевременно, и не снимаешь ли с него все то, что обязательно и необходимо?» — протянул сверток ишану, сидящему напротив него, по другую сторону покойника.
Ишан обеими руками взял сверток и тут же вернул его баю, сказав при этом:
— Принял и снова возвратил тебе в дар.
Ишану полагались грехи за три года, поэтому церемония со свертком была повторена трижды.
Следующая очередь была Абдуллы. Ишан отошел в сторону. Абдулла занял его место.
— Принимаешь ли сие в откуп за все, что должен был совершить новопреставленный Байтюра, сын Хантемира, но что он не выполнил своевременно, и снимаешь ли с него все то, что обязательно и необходимо? — сказал Якуп, протягивая сверток.
Абдулла Эль-Керими правильным арабским напевом произнес:
— Принял и снова возвратил тебе в дар.
На него возлагались грехи двух лет, и поэтому он только два раза принял и вернул сверток. Девер был повторен всеми остальными, разложившими на себя грехи покойного бая, накопленные за шестьдесят семь лет.
— Муллы, взамен этого мы дадим вам скот. Удовлетворитесь ли вы тем, что мы дадим вам? — спросил Якуп по окончании девера, пряча сверток в карман.
Все участники девера в один голос ответили:
— Согласны, согласны!
В юрту вошли новые люди. Совершили тяхлиль. Потом множество людей вынесли тело Байтюры.
Среди женщин поднялся плач. Рокия-байбича с воплем: «Ай, Байтюра, ау! На кого меня покидаешь?» — откинулась на киреге.
Вокруг нее скопились женщины. Рокия не утихала.
— Ай, Байтюра, ау! На кого меня покидаешь? — причитала она.
К ее плачу присоединились другие, стали восхвалять достоинства, величие усопшего.
Женщины в слезах остались в юрте, мужчины пошли на дженазу.
XXXI
Саженях в тридцати от юрты покойника положили на траву. Джигит, встав на стременах, закричал, поворачиваясь во все стороны:
— На дженазу! На дже-на-зу!
Народ, как морская волна, хлынул на призыв. Сняв обувь, люди выравнивались в длинные ряды. Ряды становились все теснее и теснее. Огромная, ровная площадь, как черной тучей, покрылась народом. И если посмотреть сверху, островерхие шапки и малахаи напоминали густой лес.
— Все, — сказал кто-то сзади.
Для придания дженазе особой торжественности был привезен за сто верст известный татарский ишан. Сгорбленный, низенький старикашка, в зеленом чапане, белой чалме, с длинным зеленым же посохом, стоял перед затихшими рядами.
— Приготовьтесь в мыслях ваших! — пискливым голосом повелел он.
Из середины рядов поднялся Абдулла Эль-Керими и звучно, разборчиво начал:
— Илахи[57], приготовился я к намазу дженазы для славы божией, для прославления пророка нашего, для моления за усопшего, обратился челом к кибле, следую за имамом[58], аллах велик! Вот так совершите приготовление, — пояснил он.
Имам воздел руки. Началось моление.
Но дженаза не обошлась без происшествия.
Когда имам воздел руки и, провозгласив «аллах велик», призвал к текбиру[59], в одном из центральных рядов несколько казахов распростерлось в земном поклоне, как это полагается при обыкновенном намазе. Их примеру последовали остальные, и так два-три ряда склонились в ненужном поклоне. Среди них был и жених Карлыгач Калтай. Татарин, шакирд, сидевший поблизости, прыснул от смеха и был принужден выйти из ряда.
Намаз дженазы кончился.
— Джемагат[60], каким человеком он был? — крикнул Якуп.
— Хорошим человеком, — последовал ответ.
— Обидел ли он кого словом или делом? Если есть такие — да простят!
— Нет, нет, не обидел!
Покойника положили на телегу. В сопровождении нескольких человек его повезли на кладбище. Большинство народу осталось. И снова, как морская волна, народ хлынул к тому месту, где на привязи стояли предназначенные для раздачи животные. Четыре верблюда, повернув длинные шеи, недоуменно посмотрели на людей и снова принялись за жвачку. Но дикий жеребец, только сегодня взятый из табуна, при виде надвигавшейся людской волны заметался в страхе. Коровы, чесоточные жеребята, худые телята стояли спокойно.
Весь этот скот предназначался для раздачи.
Фидию, крупные садака[61] и подарки решено было раздать не на кладбище, а здесь, на месте.
При раздаче подарков и фидии главная роль выпала на долю Якупа и Янгырбая. Это дело воистину было трудным. При решении, кому сколько и что дать, учитывались, во-первых, состояние наделяемого, во-вторых, его родовитость и партийная принадлежность и, в-третьих, общественное положение.
Муллы получали приношение не сообразно с их ученостью или количеством принятых на себя грехов: мерилом здесь служило, в каком роду, у какого бая живет он.
Как только родственники покойного подошли к скоту, среди духовенства поднялся шепот, кому что достанется.
Мулы были поделены на три группы, в зависимости от того, каково было состояние их хозяев. В первую группу вошло шесть человек, в том числе Абдулла Эль-Керими, во вторую — девять, остальные — в третью.
Первым отвязали дикого жеребца. У ожидающих разгорелись глаза.
— Кому достанется?
Жеребца отдали ишану. Он в отогнутую левую полу взял уздечку, отвел коня к своей арбе и передал кучеру. Не меньшее вожделение вызвал большой одногорбый верблюд. Но на этот раз ничья надежда не оправдалась. Оказалось, что из Троицка должен был прибыть ученый казах Юлдузбай, несколько лет проживший в Мекке, Медине и Бухаре. Он намеревался прочесть дженазу, но по болезни не мог прибыть на погребение. Верблюд предназначался ему.
Потом отсчитали одного верблюда, двух шелудивых жеребят, одну кобылицу, корову и четыре овцы и все скопом дали первой группе мулл. Дележ они должны были произвести сами. Так же захватив уздечки в полы своих одежд, муллы отвели дареных животных в сторону и совершили молитву.
Далее наделяли фидией и в одиночку и по группам. Муллу вызывали не по его имени, а по имени его бая.
— Мулла Ис-Ахмета, поди сюда!
Церемонным шагом подошел казанский шакирд Зяки Фяхми, в джуббе, в штиблетах и каракулевой шапке, надетой на длинные волосы. Он робел, конфузился. Ни на кого не глядя, принял шелудивого жеребенка, преклонив колена, совершил молитву и вместе с даром скрылся с площади.
— Мулла Буребая, поди сюда!
Бородатый татарин Сейфулла, в белой шапке, желтом джиляне, в больших каушах, без малейшего стеснения, смело, будто говоря: «Я беру то, что мне полагается», остановился около пестрого вола, прикинул в уме: «Рублей двадцать стоит скотина», — и, помолившись, привязал его к ближайшей телеге. Желая определить откормленность вола, откровенно пощупал ему хребет и ребра.
Так роздали весь скот.
Несколько в стороне стояли два странствующих араба. Им дали по золотой десятке, сказав, что возиться с продажей скота им было бы хлопотно.
Покончив с духовенством, начали раздавать подарки почтенным казахам. Среди подарков имелось множество чапанов стоимостью от двух до тридцати рублей, несколько дорогих ковров, пять отрезов сукна по четыре аршина в каждом. Все это роздали в строгом соответствии с родовым и партийным положением и возрастом.
Из близких покойному подарок получил каждый. Кроме них, подарки получили бии, аульные управители и аксакалы. Старому Азымбаю дали хорошую шубу и кепе покойника. Старик, накинув лисий тулуп на плечи, взял зеленый чапан в руки и ходил, довольный, улыбаясь, как ребенок, получивший игрушку.
«Несколько дней тому назад, после посещения Биремджан-аксакала, заехал я к Арсланбаю и наговорил немало в пользу Сарсембая. Не совершил ли я этим ошибки? Как же я, одевшись в одежды Байтюры, сев на его коня, пойду против Найманов?» — уколола его мысль.
Однако не все были довольны подарками так, как был доволен Азымбай. Например, брату Калтая, Сарыбаю, казалось, что он получил подарок худший, чем Янгырбай, хотя по положению они были равны.
Детям и калекам роздали медяки.
Наконец со всеми делами было покончено.
Арбы, оседланные кони тронулись. Народ помчался на кладбище. В ауле остались одни женщины.
XXXII
Казахи, забывшие на мгновение свои распри, как только сели на коней и выехали в степь, опомнились. Будто по уговору, каждый род, каждая группа обособились. До кладбища было верст десять. Всю дорогу шло подвижное, летучее собрание, где люди, сидя на конях, совещались, составляли тайные планы.
Сарсембай и Арсланбай ехали верхом. Бай увлек с собой и Сарыбая, и они втроем разыскали среди мчащихся без пути-дороги людей Биремджан-аксакала. Сам старик ехал в тарантасе. Рядом с ним сидел акын Толсомджан. После обмена приветствиями акын пожаловался:
— Почтенный отец, Бирем-эке, ты все бранишь меня…
Старик прервал его:
— Я знаю, что говорю. Борода твоя начинает седеть. Не пора ли образумиться? Весь век свой хвалишь родовитых, ругаешь бедных. Не лучше ли взять пример с великих акынов Сары-Арка — Абая и Тургайбая!
В присутствии акына о партийных делах поговорить не удалось — акын был сторонником Найманов. Оставив старика, трое всадников ускакали вперед.
Поодаль в стороне пять-шесть верховых казахов на ходу о чем-то совещались. В центре мчался Якуп. Тут же были Янгырбай и Азым.
— Арсланбай, видал Азым-эке? — кивнул в их сторону Сарсембай.
Джигит махнул рукой.
— Податлив старик — шуба и чапан примирили его.
— Этому глупцу я дал бы не только шубу и чапан, а оседланного коня и верблюда с верблюжонком, — промолвил молчавший до того Сарыбай.
— Похоже, что людей, которым оседланные кони и верблюды с верблюжатами придутся по вкусу, окажется немало, — многозначительно ответил Сарсембай.
Среди этой скачущей толпы были представители многих родов, и все же в разговорах, в группировках намечалось два основных течения. Танабуга, Кзыл-Корт, Кара-Айгыр группировались вместе, их тянуло к Сарманам. Роды Дюрткара и Алтына крутились около Найманов.
На глаз первая группа была многочисленнее.
Сарсембай что-то прикинул в уме и сказал спутникам:
— Они хвалятся родовитостью, но мы победим численностью. Видишь, сколько нас?!
Впереди, на берегу большого озера, показались низкие белые мазанки. Прежде это было джайляу Бирем-эке, но десять лет назад здесь осели колонисты и теперь становище разрослось в большое село. Заливчато затявкали собаки, из мазанок выглянули простоволосые женщины, с любопытством уставились на надвигающийся людской поток. Но казахи промчались дальше.
До кладбища оставалось полторы версты. Еще издали стали видны разнокалиберные, новые и ветхие, покрытые письменами надгробные камни, которые своим жалким видом напоминали развалины и будто жаловались, что их забросили среди чужих.
В одном углу кладбища стояла группа людей, были видны арбы и оседланные лошади — там могила Байтюры.
Кладбище запестрело малахаями, шапками. Каждый в сопровождении муллы переходил от одной могилы к другой, читал коран.
— Кончено! — крикнул кто-то.
Разбредшийся во все стороны народ быстро собрался. По четырем углам свежего, высокого могильного холма сели четверо мулл, по бокам, в изголовье и у подножия примостилось еще несколько человек из духовенства.
Как только народ собрался, богатый казах Ис-Ахмет пробасил:
— Мульдеке мой, читай тябаряк!
Зяки Фахми откашлялся и открыл было рот для произнесения первых слов молитвы, но Сайфулла, мулла Буребая, не пожелал уступить первенства и сильным, красивым голосом начал:
— «Эузе-билля…»[62]
Тябаряк был прочтен быстро, красивым, музыкальным напевом Шаймирзы.
— Ай, дорогой мульдеке! Отлично прочитал! — похвалили казахи.
Муллы, сидевшие по углам и по бокам могилы, в свою очередь прочли коротенькие цитаты из корана. Один из мулл, по приказу бая, начал ясын[63], но сбился и скомкал конец. Этим мулла опозорился не только перед своим хозяином, но перед всем народом и стал надолго мишенью для насмешек.
Роздали по десять копеек садака. Помолились. На этом кончились и дженаза, и дефен, и раздача садака. Народ снова сел на коней. Снова заиграли плети. Снова, сплотившись по группам, родам и партиям, понеслись по степи. Снова промчались мимо белых мазанок, лающих собак и вернулись в джайляу Якты-Куль поесть мяса, напиться кумыса, помянуть покойника.
XXXIII
Тучи рассеялись, небо прояснилось. Не просохшая после дождя широкая, ровная зеленая степь сверкала издали морем изумрудов. Детвора, уныло сидевшая в юртах, оживленно рассыпалась по степи. Джигиты, девушки под любым ничтожным предлогом скакали из одного джайляу в другое. Радостно ржали жеребята, продрогшие от дождя и холодного ветра. Якты-Куль сиял серебряным диском. Настроение вернувшихся с кладбища поднялось, чувство подавленности, навеянное похоронными церемониями и пасмурным днем, рассеялось.
Аул состоял из пятнадцати юрт, пять из них принадлежали Байтюре и Якупу. Каждый, соответственно положению, занял место в этих юртах. Для тех, кто там не поместился, приготовили табны под открытым небом.
По обычаю, сначала прочли коран, духовенству снова роздали садака. После этого Байтюра, дженаза, кладбище были забыты. Печальное застолье превратилось в веселый пир, в состязание в остроумии и находчивости. Кумыса у бая было вволю. К тому же близкие и родственники покойного привезли кумыс в турсуках и саба. Еды тоже было без счета. От выпитого кумыса в головах шумело, глаза разгорелись, языки развязались.
В большой юрте, жилище бая, сидели самые почетные люди — родоначальники, аксакалы, бии, баи. На самом почетном месте — Биремджан-аксакал, по одну сторону его — Якуп, Янгырбай, по другую — Сарсембай, его сват Сарыбай, далее Арсланбай, Калтай и еще множество мужчин. Азым-эке надел чапан усопшего и в этом несколько смешном виде прислуживал сидящим; оживленный, раскрасневшийся, он так и сыпал шутками.
Бирем-эке говорил о прошлом. Ругал Эбельхаир-хана, гневался на татарского генерала Тевкилева за его недобросовестное посредничество. Тонко намекнул на то, что и здесь не обошлось без собственных Эбельхаиров и Тевкилевых, что Найманы, будучи ханами и султанами, способствовали закабалению народа в рабство белому царю. Особое внимание уделил он героям-казахам, восставшим против них, долго рассказывал о далеком Кетибаре… Его слова — отрава для сторонников Якупа и Янгырбая, праздник для Сарсембая. Янгырбай и Арсланбай даже обменялись парой колкостей, едва прикрытых улыбками. Но благодаря действию выпитого кумыса дело кончилось шуткой, и все остались довольны. Азымбай лез из кожи, чтобы поднять настроение. Когда, наконец, вернулся акын, оставшийся оплакать бая на его могиле, все почувствовали облегчение. Азым-эке подхватил его под руку, пирующие подвинулись, давая акыну место в центре табна. На киреге висели зеленый чапан и шапка, расшитая позументом.
— Азым-эке, надень их на акына. Такова была воля брата, — не двигаясь с места, распорядился Якуп.
Азымбай подбежал, с шутками-прибаутками взял указанные вещи и надел их на акына.
— Благодарствую, — проведя руками по лицу, промолвил акын и потянулся к домбре, привешенной у пояса. — Байтюра наш был единственный… Потеря его ранила сердце… Замолкла и домбра моя, как только светлой зарей узнал я о черной смерти. Если разрешат старшие, она сейчас не прочь прозвенеть грустной песней, — сказал он и, не дожидаясь ответа, под аккомпанемент своего вечного спутника запел одну из народных песен:
— Так пели в старину, но теперь лучшие мужи есть и в Сары-Арка, — сказал акын и стал поодиночке восхвалять присутствующих и знаменитых людей своего народа. — Есть среди нас старец. Лета большие, ум высокий, и хоть не видят очи его, но чистое сердце пылает от тяжелых бед казахского народа, — первым отметил он Биремджан-аксакала.
Род его идет от самого Чингиса, течет в нем кровь ханов, султанов. Этот сын хорошего отца теперь стал иль-агасы, — остановился он далее на Якупе.
Потом молча, призадумавшись, стал перебирать струны и, глядя на Арсланбая, начал:
— Величие отца твоего покрыло всю степь. Сам ты хоть и молод, но сияет на лбу твоем свет мудрости, сердце твое полно молодецкой удали.
Звуки домбры и песни привлекли народ из других юрт. Людей набилось до отказа, подняли боковые кошмы, и юрту со всех сторон облепили женщины в покрывалах, мужчины в малахаях.
Акын, будто ничего не замечая, продолжал:
— Терпения у тебя много, богатство большое, и хоть не родовит ты, но мужествен. Будь же орлом среди ястребов, — обратился он к Сарсембаю.
Увидишь врага — кидаешься как сокол, услышишь боевой клич — вскакиваешь на коня, — пропел он про Янгырбая.
Под конец, изменив мотив, полушутливо обратился к Азымбаю:
— Не жалуйся на бедность, на малое счастье: уготовлен тебе трон в раю.
Это всем очень понравилось.
— Ай, почтенный Толсомджан, создатель наделил тебя красноречием с избытком! — засмеялись слушатели.
— Акын, светик мой! И днем и ночью просил я господа: «Дай богатства, дай счастья» — не внял он мольбе моей, а что дал, то погубил джутом, — обиженно отозвался Азым.
— Бай умер, тебе остались шуба и чапан. Неужто ты все еще недоволен? — насмешливо спросил Сарыбай.
Вопрос его всем показался грубым. На злом лице Янгырбая заиграла насмешка, когда он ответил:
— На такое красноречие способны только вороные жеребцы, родившиеся от плохой кобылы.
Это был намек на низкое происхождение рода Кара-Айгыр[64].
Кумыс ударил в голову. Сзади поднялся казах из рода Кара-Айгыр и язвительно заметил:
— Что бы остальные ни сказали, не буду я в обиде, но уж если Янгырбай начнет хвастаться своим Дюрткара, украденным у туркменов, сможет ли казахское общество удержаться от смеха?
Это было прямой резкостью. Такое предание действительно существовало, и для Янгырбая оно было черным пятном, упоминание о котором заставило его вспыхнуть.
Он потерял самообладание, вскочил на ноги и выхватил из-за пояса плеть. Колкости, ругань, крики слились в общий гам. Сначала буйствовали два рода — Кара-Айгыр и Дюрткара. Вскоре к ним присоединились Сарманы и Кзыл-Корты.
— Или вы забыли о роде жирных Найманов, стоящем выше всех остальных родов? — сгоряча крикнул Азымбай.
Это было большой ошибкой. Тут уж поднялись люди из рода Танабуга, до того сидевшие молча. Найманы были их извечными врагами.
— Хоть и называются Найманы жирными, но путь их не гладок, — прервал кто-то Азыма.
— Я не отрицаю плохого, но кто закроет глаза на все хорошее, что сделано Найманами? — вмешался Якуп.
Это подлило масла в огонь. Старинная вражда за земли, воды, джайляу, за главенство, прикрытая покрывалом принадлежности к тому или иному роду, затушеванная по случаю похорон, сразу обнажилась. Кровь разгорелась, глаза засверкали, рука сжала плеть. Услышав, что «Найманы ничего, кроме хорошего, народу не сделали», Арсланбай вскипел и замахнулся плеткой:
— Да будет проклят твой отец!.. Кто же прогнал казахов с джайляу? Кто высылает нас из степи? Не вы ли, Найманы?
На него с налитыми кровью глазами полез Янгырбай. Вот-вот готов был раздаться боевой клич и начаться рукопашный бой, но аксакал Биремджан предотвратил эту возможность. Он поднялся с места, надел кауши.
— Для ссоры найдем иное место, дети, — сказал он, покидая юрту.
Все поняли, что аксакал предлагает разъехаться.
Джайляу загудело. Двинулись арбы, подтягивались седла, казахи ругаясь вскочили на коней, и все, кроме Найманов и Дюрткара, — будто кинулись в бой — рассыпались по степи.
Якуп понял обстановку. Это было начало открытой войны за главенство. Он хотел использовать дженазу иначе, но вышло не по его желанию. Казахи, мчащиеся на конях во все концы степи, казалось, говорили: «Теперь во главе дела вам не быть, мы отнимаем от вас бийство, иссяк источник благоденствия Найманов, рухнула гора, теперь будем искать новое джайляу».
И он не ошибся. О примирении нечего было и думать; иного пути, кроме пути борьбы, сопряженного с большими затратами, не осталось. Так же поняли это и те, кто с шумом и руганью покинули Якты-Куль. Они скакали, охваченные злобой, стиснув зубы, размахивая плетьми. Огонь борьбы, до сего скрытый где-то под спудом, вырвался наружу, и обе стороны очертя голову, с разгоряченной кровью бросились в этот огонь.
XXXIV
Всадники сначала скакали по степи, разделившись по родам, потом, соединившись в несколько групп, стали совещаться. Сарсембаю предстояло ранним утром перекочевать на новое джайляу — Кзыл-Ком, поэтому совещание было отложено на несколько дней.
Спустя некоторое время большие группы распались, и каждый поехал в свою сторону.
Сарсембай, Арсланбай, Биремджан-аксакал, длинноволосый джигит и старый Керим вернулись в Алтын-Куль перед заходом солнца. Жеребята были спущены с привязи, овцы, коровы заполнили джайляу, но ни одной юрты, кроме белой юрты бая, не было — все они были уже разобраны и уложены на арбы. Девушки, замужние женщины, подростки с шумом и смехом хлопотали около возов, увязывали, укладывали кошмы и мешки с шерстью. На прежнем месте варился полный котел мяса и кипел самовар.
Работник принял коней. Из белой юрты вышли Карлыгач и байбича. Возвращение Арсланбая, знающего о предстоящей перекочевке, удивило Алтын-Чач, но она ничем не выдала беспокойства.
— Джайляу Сарсембая давно ждало почтенного отца, — приветствовала она Биремджан-аксакала.
Потом повернулась к Арсланбаю:
— Плотно ли заложили надгробный камень? У казахов есть пословица: «Плохой человек оживает».
Арсланбай многозначительно улыбнулся и рассказал байбиче о похоронах:
— Ляхет[65] замазали желтой глиной, против Найманов подняли целую бурю.
Карлыгач-Слу, любившая всякого рода шум, суматоху, пожалела, что не видела случившегося, и попросила джигита рассказать обо всем подробно. Улучив свободную минутку, джигит сказал:
— С аксакалом у меня была небольшая беседа. Кажется, на его согласие надеяться не приходится. Сегодня при случае побеседую еще раз.
На смуглом лице девушки отразилось беспокойство, глаза затуманились.
— Ой-бай кодаем ау! — вздохнула она и, наклонившись к уху джигита, шепнула: — Видно, никто, кроме темной ноченьки и оседланного коня, нам не поможет.
У джигита потемнело в глазах. Идет борьба с Найманами, а тут должны испортиться отношения между главными руководителями этой борьбы — Сарсембаем и Сарыбаем. Какой линии должен придерживаться он?
Но колебание его было только мгновенным, и тоскливый взгляд девушки, согретый любовью, уничтожил его без остатка.
— Будь мужественна. Наши головы не склонятся перед саблями Кара-Айгыров, — решительно сказал он.
Тукал внесла в юрту большое блюдо, полное мяса. Все жители джайляу побежали туда же.
Наступила ночь, когда наконец мясо было съедено, кумыс выпит. Степь затихла, погруженная в приятную теплоту. Животные все спали, только собаки в ожидании костей ластились к каждому выходящему из юрты. Байбича, аксакал, Сарсембай, Гельчечек легли в юрте.
— Мама, я хочу вместе с Айбалой спать под открытым небом, — попросила Карлыгач-Слу.
Байбича посмотрела на нее подозрительно, но все же разрешила.
Эта ночь принесла джигиту и девушке счастливые часы.
XXXV
Рассвет еле-еле намечался, но все джайляу было уже на ногах. Женщины торопливо убирали посуду. Как только старшие встали, юрту живо разобрали и ее кошмы, киреге и чанграк сложили на отдельную фуру. Длинноволосый джигит и старый Керим уложились с вечера и сегодня, едва продрав глаза, пришли на помощь баю. Вместе с Джолконбаем запрягли лошадей, перевязали возы длинными волосяными арканами. Устроили места для сидения женщинам.
Бай вместе с гостями и семьей выпил чай и поспешил к месту укладки. Он кое-что поправил, приказал переложить часть клади с фуры с тонкой осью на двуколку и под конец распорядился:
— Приведите верблюдов!
Бо́льшая часть кошм, ковров и одеял из белой юрты, связанная в тюки, лежала еще на земле. Джолконбай подвел четырех больших двугорбых верблюдов. Старый Керим потянул за тонкую веревку, продетую сквозь носовую перегородку животного.
— Чук! Чук!
Верблюд медленно сначала согнул передние ноги, потом лег. Под наблюдением бая на него нагрузили пудов двадцать клади.
— Хачт, хачт! — крикнул старик, и корабль пустыни так же неторопливо поднялся на ноги.
Алтын-Чач имела неизменную привычку при переезде с одного джайляу на другое совершать это путешествие на верблюде. Над ней смеялись, пробовали доказывать, что путь долог, день жаркий и такая поездка окажется слишком утомительной, но она упорно отказывалась сесть в арбу и предпочитала мерно колыхаться на спине верблюда.
Нагрузив трех верблюдов, бай с улыбкой обратился к жене:
— Моя малютка Алтын-Чач и сегодня желает качаться на спине верблюда?
— Как же пойдет без меня мой Ак-Дельбер! — огорченная улыбками окружающих, отозвалась байбича.
Ей никто не возразил. К горбу четвертого верблюда привязали устланное коврами деревянное ложе, на котором можно было полулежа ехать. Сбоку повесили маленький турсук кумыса.
Лошади для молодежи были уже оседланы. Все приготовились тронуться в путь, но тут закапризничала Гельчечек:
— Мне лошади не оставили! Хочу ехать верхом!
С трудом уговорили ее сесть на верблюда к байбиче, а когда устанет, перебраться в тарантас к матери. Для аксакала подали тележку, на которой обычно ездил сам бай.
Над горизонтом медленно взошло солнце, озарив степь алым сиянием.
Все было готово. Сарсембай взобрался на любимого иноходца.
— Керим-эке, трогай!
— Отдаемся в твои руки, создатель, — пробормотал старик, трогая коня.
Впереди поехали большие фуры, двуколки, за ними следовали навьюченные верблюды, тарантасы и белый верблюд байбичи. Огромный караван, вытянувшись по узкой дороге длинной цепью, направился к северу.
Вместе с ними тронулись стада овец, коров, табуны кобылиц и жеребят. Все пастухи ехали верхом.
Карлыгач после долгих пререканий с отцом добилась разрешения ехать на своем новом жеребце и теперь вместе с Арсланбаем, длинноволосым джигитом, Айбалой и еще несколькими девушками шутя помогала пастухам. Животные выбрались на дорогу и пошли степенным шагом. Группа молодежи появлялась то с одной, то с другой стороны каравана, перекидывалась шутками со всеми и везде вносила оживление и веселье. Скоро, однако, им надоело следовать за караваном.
Этот переезд был для Айбалы большим праздником. Она дни и ночи проводила в работе. Только в эти редкие часы переездов она могла отдаться отдыху и радости.
Она первая заметила далеко справа юрты, похожие на большие копны сена. Натянув поводья, она подскакала к Карлыгач.
— Видишь юрты? Что, если заедем туда, напьемся кумыса?
— Хоть ты и женщина, но голова у тебя работает отлично. Едем! — со смехом подхватил Арсланбай.
— Мы едем вот в то джайляу, — предупредила девушка отца и поскакала в указанном направлении.
Остальные последовали за ней.
XXXVI
Подъезжая к джайляу, длинноволосый джигит сказал Карлыгач:
— А ты знаешь, это джайляу Дирвисала. Сюда выдана твоя подруга Чулпан.
— Что ты говоришь? Разве они не на берегу Дингез-Куля? — удивилась девушка.
— Побережье Дингез-Куля перешло в руки казны. Дирвисал-эке кочует по этому вот отвратительному джайляу, — объяснил Арслан.
Стегнув коней, примчались к аулу. Их встретила стая собак. За ними показался сам хозяин. Это был старик казах необычной толщины.
— Счастливого вам пути, детки!
Арсланбай приветствовал его и сказал:
— Сарсембай переезжает из Алтын-Куля в Кзыл-Ком. Молодежь повернула коней в вашу сторону.
Старик сделал еле заметное движение:
— Добро пожаловать, дети! Джайляу мое хоть и плохо, но кумыс найдется и ярки жирны.
Пока хозяин и гости, переговариваясь, шли к юрте, около привязанных жеребят показалась молодая женщина с приятным, но усталым, измученным лицом, оттененным белым покрывалом; на ней было грязное платье, в руке она несла полное ведро молока. Она издали улыбалась гостям, но на нее никто не обратил внимания.
— Милая Слу, ты не узнаешь свою подругу? — остановила она Карлыгач.
Девушка оглянулась и застыла от изумления: перед ней стояла ее близкая подруга Чулпан, участница всех забав, свидетельница первой встречи с Арсланбаем — на свадьбе и второй — в пути.
Красивая, веселая, остроумная девушка поблекла, осунулась, лицо пожелтело, глаза потеряли блеск, плечи беспомощно опустились. Вся она превратилась в уставшую, апатичную женщину.
Две подруги, не зная что сказать друг другу, поздоровались, обнялись.
— Чулпан, дорогая моя! Что с тобой? Или хвораешь? — не могла успокоиться Карлыгач-Слу.
Молодуха вытерла слезы концом покрывала.
— Наверно, слышала поговорку: «Жизнь снохи — собачья жизнь»? Встаешь с зарей, ложишься поздней ночью, усталая как собака. Некогда спокойно чашу кумыса выпить. Мудрено ли не узнать меня?
Подруги, обнявшись, отошли в сторонку. Молодуха жаловалась:
— Служу как рабыня, слышу одни попреки. Свекровь — злая змея. Милая подруга моя, помни: девичья пора — золотая пора, умей ценить ее. Станешь снохой — таких дней и во сне не увидишь. Вся тяжелая, грязная работа ляжет на тебя.
Долго беседовали подруги. Не утерпела и Карлыгач, поведала свою печаль:
— И у меня горе. Мать грозит: «Не пойдешь за Калтая, ослушаешься, не прощу тебе молока, которым вспоила тебя». Отец затевает ссору с Найманами. Знаешь ведь, в младенчестве просватали меня за сына бия Кара-Айгыров. В калым получили сто голов скота, пятьсот рублей денег, два сундука дорогих вещей. Хотят через полтора месяца сыграть свадьбу и проводить меня в дом мужа. Но не лежит душа моя к суженому. Наверно, видела ты этого противного Калтая? Ходит он, как свинья, опустив рыло. Маленького роста, гнусавый. Дух нехороший от него идет. Ни ума, ни храбрости, слова толком сказать не умеет… Страшно подумать — обнять такого! Приезжал недавно — не приняла, отказала. Уезжал — грозился.
Чулпан, пережившая подобное же испытание, с горячим участием отнеслась к судьбе подруги.
— Ай, колончагым, и ты оказалась в моем положении!
— Отец, видно, боится, думает: «Если отдам дочь за другого, с Кара-Айгыром возникнет ссора, отношения между двумя родами испортятся, они покинут меня в моей борьбе с Найманами, и я буду побежден», — продолжала девушка.
Но Чулпан снова перебила:
— Ну и пусть будет побежден. Выбрала ты джигита отличного, не губи себя с Калтаем. Выйдешь — вернуться не сможешь, дорогая.
Из юрты вышла женщина, позвала Карлыгач:
— Наверно, устала, красавица? Зайди, выпей кумыса.
Слу вошла в юрту.
— Досыта наговориться не успели. Мясо скоро сварится. Не угостив как следует, не отпущу, — сказала вслед ей Чулпан.
Арсланбай рассказал старому Дирвисалу о своем изгнании и возвращении, а под конец коснулся вчерашних похорон:
— Видно, высохло озеро Найманов. Большинство народа хочет на предстоящих выборах волостным управителем выбрать Сарсембая. Якуп не сможет занять место Байтюры, и должность волостного управителя перейдет сторонникам Сарманов.
Дирвисал стоял в стороне от партийных распрей, и новости эти его не заинтересовали. Он стал жаловаться на плохое джайляу.
Айбала беседовала с тукал, длинноволосый джигит — с джигитами аула, несчастная молодуха не расставалась с Карлыгач.
XXXVII
Из аула гостей не выпустили до тех пор, пока не угостили мясом, как того требовал обычай. Когда гости, пожелав хозяевам благоденствия, сели на коней, было уже за полдень и жара начала спадать.
Надо было поспеть на новое джайляу раньше каравана.
Засвистели плети, кони помчались стрелой.
Но когда копыта пегого жеребца ступили на землю джайляу Кзыл-Ком, караван уже стоял на южном берегу небольшого красивого озера, окаймленного красными песками.
Карлыгач подалась всем телом вперед, натянула поводья, взмахнула плетью и, обогнув караван, остановилась подле матери.
— Мама, мы ели мясо и пили кумыс в джайляу Дирвисала. Я видела Чулпан… — начала она рассказывать.
Тем временем подоспели и остальные. Пожелав счастья на новом джайляу, все принялись за работу.
В сборке юрт главная роль принадлежала младшей жене бая — тукал. Работница, старуха и Айбала помогали ей. Карлыгач-Слу крутилась тут же. Мускулистый Джолконбай должен был поднимать тяжести и вообще исполнять всю работу, требующую физической силы. Покончив с полагающимися в таких случаях заклинаниями, тукал приказала Джолконбаю:
— Чанграк положи сюда.
Работник принес нечто похожее на обруч со сквозными отверстиями и положил на указанное место. Это место — центр будущей юрты. Женщина, определив на глаз расстояние, стала расставлять киреге, состоящую из нескольких канатов[66]. Каждый канат представлял собой целую решетку в два аршина шириной и четыре длиной из плоских, в три пальца толщиной, крашеных планок. Тукал первый канат поставила сама, старуха принесла другой, служанка поддерживала, а тукал привычными пальцами быстро соединила их тонкой крепкой веревкой. За первыми двумя последовали остальные, счетом до десяти. Они были соединены не по прямой линии, а по кругу, так, что между первым и последним канатом остался промежуток в аршина полтора. Этот промежуток предназначался для двери. Сюда сначала положили на землю порог, потом крепко привязали к обоим канатам два косяка — таянычы. Обе половинки раскрашенной тонкой двери широко распахнулись. На этом закончилась «кладка стен» жилища. Для прочности верхняя окружность киреге была обмотана поясом, концы которого привязали к косякам двери.
Спорая работа развеселила старуху.
— Руки твои, светик мой, легки на работу, — похвалила она тукал.
Теперь следовало поднять «крышу».
Все вошли внутрь. Батрак взял длинный, вилообразно расщепленный шест и поднял на две сажени чанграк, лежащий посередине юрты. Женщины ухватились за четыре кёльдрауша, свисающие с четырех сторон чанграка, и быстро укрепили их у верхнего конца киреге. Между ними расположили уки[67], что должно было усилить прочность и придать куполу кибитки округлость. В центре осталось отверстие шириной в аршин. Отсюда будет проникать в юрту свежий воздух, свет и будет выходить дым.
Джолконбай принес с арбы четыре кошмы с веревками на концах. Женщины по указанию тукал накрыли ими киреге с наружной стороны и прикрепили в верхней части к укам и киреге. Потом принесли две большие кошмы с тонкими волосяными арканами на концах и, подняв их вилами, покрыли купол. Арканы прикрепили к нижним кошмам. Оставалась еще одна кошма с тремя длинными веревками. Джолконбай прикрыл ею отверстие в куполе. Женщины подтянули веревки. Юрта, похожая на большой стог сена, была готова. Для проверки плотности прилегания кошм, правильности установки киреге вошли в юрту. Внутренность юрты была совершенно темная. Айбала вышла наружу и потянула один из арканов — верхняя кошма откинулась в сторону, открыв тютюнлык. Юрта наполнилась светом. Все нашли ее отличной. Киреге прилажена плотно, чанграк на месте, дверь не покосилась, кошмы натянуты без морщин и просветов. Дождю и ветру доступ в юрту прегражден.
Старуха снова похвалила работу.
Теперь следовало убрать внутренность юрты. Позвали длинноволосого джигита. Пришла байбича. Двое мужчин принесли вещи, снятые с возов, принялись убирать юрту. Полом служила зеленая трава. В центре ее соскоблили — приготовили место для очага. Все остальное пространство покрыли сначала камышовыми циновками, а поверх них старыми черными кошмами. Потом стали по одному вносить большие, ярко раскрашенные, в большинстве обитые жестью сундуки. В глубине юрты оставили пустое пространство аршина в два. Это место хозяина или почетного гостя. По обе стороны этого места поставили сундуки в два яруса. На сундуки положили белые кошмы, атласные и шелковые одеяла. Справа от двери, выходящей на север, ближе к почетному месту, вплотную к сундукам, поставили постель байбичи, ниже поместили столик со шкафчиком. В нем хранятся чай, сахар, ценная посуда. Влево от двери, также вплотную к сундукам, поставили вторую постель. Пол устлали еще одним слоем белой кошмы и сверху ковром. Почетное место застелили пушистой шкурой рыжей овцы.
Эта юрта считается белой и служит постоянным местопребыванием байбичи. Покончив с убранством белой юрты, женщины пошли ставить вторую.
Она должна была быть расположена в четырех-пяти саженях от первой. Все в ней такое же, как в белой юрте, только размером она больше. Кошмы чуть поизносились, и убранство победнее. Кроме сундуков, одеял и постелей, справа от двери поставили большую саба, повесили несколько турсуков. Здесь же расставили всевозможную посуду с катыком[68], айраном, творогом, кёже[69] и объемистые котлы. Развесили колбасы.
Эта юрта, называющаяся большой, — постоянное местопребывание тукал. Здесь же происходят пиры. Бай должен ночевать по очереди то в белой юрте, то в большой.
Теперь оставалось устроить маленькую черную юрту.
Это не составляло большого труда. Вещей в ней было мало, главным образом упряжь и узлы с кошмами, овечьей, верблюжьей шерстью и конским волосом. В черной юрте помещались батраки. Поставили свои старенькие юрты и бедняки аула, внесли туда несколько сундуков, одеял, кошмы и упряжь.
С момента приезда прошло неполных два часа, а на зеленой траве, которую в этом году не топтал ни человек, ни скот, вырос аул.
Юрты стояли на расстоянии четырех-пяти саженей друг от друга. Они расположились не по прямой линии, а полукругом. Середина этой дуги называется кутаном и служит общим двором, общей площадью. Здесь держат на привязи жеребят, здесь ночуют овцы. Здесь же размещены двухлемешные плуги, жнейка и косилка бая.
Арбы поставлены позади юрт. Гость, верхом ли, на телеге ли, подъезжает к юрте сзади. Проехать через кутан считается предосудительным.
XXXVIII
Пока ставили юрты, Сарсембай хлопотал около подошедшего стада. Он расспросил пастухов о состоянии скота, приказал больных животных показать старику Кериму.
Тем временем Арсланбай и аксакал, сидя в стороне на разостланной кошме, опираясь на мягкие подушки, вели беседу. Джигит долго рассказывал старику о своей заботе, своем желании, но старик ни о чем не хотел даже и слышать.
— Ты умный, рассудительный, как же ты мог вбить себе в голову такое неподходящее дело, дитя мое? — начал он.
Он долго журил джигита, постепенно все более распаляясь.
Веселая Карлыгач-Слу пришла звать Арсланбая и аксакала в прибранную юрту, но, увидев их лица, смутилась. У старика брови были насуплены, худое, морщинистое лицо потемнело от злости. Арсланбай сидел возмущенный, стиснув зубы.
— Бирем-эке, жилище готово, мама зовет вас в белую юрту… — растерянно пролепетала девушка и побежала к Сарсембаю.
Но не успела добежать — увидела двух мужчин и старуху, направляющихся в их сторону.
Это, следуя обычаю, соседний аул приветствовал новоприбывших и посылал им мясо и кумыс. Эти люди, посланцы аула, расположенного в противоположном конце озера, несли большое блюдо, полное мяса. Они поздравили с прибытием, пожелали счастья и здоровья.
Подошел Сарсембай. Все вместе вошли в большую юрту и принялись за угощение.
Близился вечер. В новом джайляу началась обычная жизнь.
Бирем-эке оставили ночевать, говоря, что из-за перекочевки не сумели как следует его угостить. Джигиту давно следовало распрощаться. Он поблагодарил хозяев, пожелал здоровья и, сев на коня, поехал в Яман-Чуль.
Напоследок аксакал повторил:
— Пора образумиться, Арсланбай, брось ребячиться!
Карлыгач-Слу с большим риском улучила свободную минутку, чтобы переговорить с Арсланбаем. Джигит глаз не поднял, зло сказал:
— Боятся поссориться с Кара-Айгырами. Аксакал против нас, бранил меня, требовал, чтобы я не «ребячился». Будь мужественна. У нас, кроме темной ночи да крылатых коней, нет ни друзей, ни помощников. Дня через два получишь от меня весть. Будь готова!
Девушка решила бесповоротно: за Калтая она не пойдет, будет ждать приезда любимого.
XXXIX
Якуп и Янгырбай прекрасно поняли, почему люди, собравшиеся на похороны, поссорились из-за пустяков и разъехались в гневе. В тот же день они собрали своих сторонников, руководителей родов и партий, и, посоветовавшись с ними, приступили к работе. Тщательно обсудили, кого задарить, кому обещать бийство, как подстрекать противников.
Азымбай отказался от своих греховных помыслов и, не слезая с лошади, скакал день и ночь от одного джайляу к другому, беседовал с нужными людьми. Бывали дни — делал сотни верст, загонял отличных скакунов. Количество золота, скота, чапанов, шуб, предназначенных для раздачи с целью получить на выборах лишний шар, не было ограничено. Трата двадцати — тридцати тысяч рублей, нескольких сот голов скота, конечно, никого не могла испугать.
Байбича Рокия руководила борьбой.
Ей припоминалось, как некогда сказала она жене Сарсембая Алтын-Чач: «Понадобится — дадим скот, понадобится — дадим девушку, понадобится — добьемся высылки, но поставим на своем».
Между тем существовала серьезная опасность. Гельканыш, дочь Янгырбая, любила не суженого, за которого была просватана с семилетнего возраста, а другого. Джигит этот приехал ночью в аул девушки и выкрал ее от родителей. Теперь между, родом Янгырбая и родом жениха готова была каждую минуту вспыхнуть вражда, а это грозило тем, что род обиженного жениха или примкнет к партии Сарсембая, или выделится в обособленную партию, или же — в лучшем случае — останется в стороне. Во всех случаях это было бы большим уроном для Найманов.
Злосчастное сватовство это было делом рук Рокии, и теперь она со всей энергией вступила в борьбу. Через посредство Азыма созвала она сорок джигитов, наварила жирного мяса, подала кумыс в изобилии, каждому пообещала подарок. Некоторые джигиты после угощения вернулись в свои юрты, но большинство сели верхом на коней бая и поскакали в аул джигита, похитившего девушку. С бранью и издевательствами по адресу похитителей они явились за девушкой и доставили ее в родительский дом. Род похитителей был достатка среднего, за спиной Рокии стояло русское начальство, начать борьбу с ней не хватило решимости.
Случай этот произвел на всех большое впечатление и упрочил связь рода жениха с Найманами, показав, что с Найманами шутки плохи.
Для Сарсембая и его сторонников такой исход дела был крайне неприятен, но, несмотря на это, они продолжали разжигать вражду. Они не были так родовиты и так богаты, как Якуп и Янгырбай, не могли позволить себе таких крупных трат, у них не было поддержки со стороны русского начальства — и все же аксакал Биремджан твердо верил в победу. Народ считал Найманов исполнителями воли белого царя и, хотя внешне покорялся им, по существу относился к ним враждебно, обвиняя род Байтюры в уменьшении количества пастбищ, в притеснениях, негодовал на них за участь безвинно томящихся в тюрьмах казахов. Зная такое отношение большинства, старик верил, что народ не будет голосовать за соратников Байтюры.
Заночевав у Сарсембая, аксакал долго рассказывал хозяину темную историю Найманов, рассказывал о своей борьбе с ними. Старик был живой летописью. Его деды жили в Малой Орде под властью хана Эбельхаира. Хан Эбельхаир, не довольствуясь своим положением и желая стать ханом всех трех Орд, использовал войну с калмыками для сближения с белым царем. Тогда предок Бирема Торсонбай сказал ему:
— Ты хочешь, спасаясь от сокола, отдаться в когти ястребу. И хоть имя твое Эбельхаир[70], дела твои не благие.
Род Торсонбая был силен, и хан не решился наказать его за дерзость. Но от своей тактики не отказался. Когда приехал Тевкилев и стал гнуть в сторону Петербурга, Торсонбай опять не выдержал и ударил генерала-татарина плетью по лицу и бежал в степь. С тех пор, бросив Малую Орду, он окончательно перебрался в Среднюю Орду. Нанялся к известному водителю караванов Мустафе и разъезжал между Петропавловском, Кокчетавом, Семипалатинском, Ташкентом и Троицком. Под старость примкнул к какому-то роду и стал заниматься скотоводством. Потомки Торсона и богатства не нажили и покоя не обрели.
Детство Биремджана было насыщено героическими рассказами о подвигах его предков. В юности он сам прославился необыкновенной удалью. В зрелые годы не только его род Кзыл-Корт, но и многие другие видели в нем иль-агасы — общественного деятеля. В Сары-Арка уничтожили ханов. Взамен их на общественную арену вышли султаны. Постепенно исчезли и они. Степь осталась в руках аулнаев, биев. Эти последние не были аксакалами, достигшими высокого положения благодаря большой общественной деятельности, как было прежде. При выборах главную роль играли не популярность, а богатство и предвыборная щедрость.
Прежняя система выборов, в основе которой лежал принцип родства, была заменена выборами по территориальному признаку, а это привело к тому, что избирались люди, угодные русскому начальству.
Несколько раз хотели выбрать Биремджан-аксакала бием или волостным начальником, но он каждый раз брезгливо отказывался.
Указывая на медали, нацепленные на груди выборных, он говорил:
— Пусть повесят их на шею собаке, своей шеи я ими поганить не буду.
Тем временем потомки прежних ханов и султанов поняли веяние времени и стали придерживаться совсем иного пути.
Один из Найманов благодаря щедрым тратам и неустанным стараниям стал волостным правителем, родственников своих поставил биями и аульными правителями. Таким образом, все дела рода перешли в их руки. Они снискали расположение наместников белого царя.
Биремджан-аксакал очутился лицом к лицу с новым врагом.
До последнего времени он ограничивался проклятьями, но после смерти Байтюры, невзирая на старость и слепоту, ринулся в гущу борьбы.
Он старался не для себя, а хотел во что бы то ни стало провести на место Байтюры Сарсембая, так как был уверен, что тот окажется полезным для общества. В случае удачи он мечтал поодиночке снять аулнаев, взяточников-биев и заменить их честными людьми.
Старик знал, что если Арсланбай отнимет у Калтая невесту, то с Кара-Айгырами начнется вражда, поэтому он так бранил джигита. Это было большой поддержкой для Сарсембая.
После отъезда Арсланбая Биремджан и Сарсембай беседовали до глубокой ночи. Наутро, как ни хотел старик ехать, его опять не отпустили.
— Сегодня приедет сват. Нужно посоветоваться с вами, а не то положение у нас будет незавидное, — сказал хозяин.
В компанию к ним пригласили из Танабуга бая Ирджана, из Кзыл-Корта — Ахмета. Оба они были баями обиженных Найманами родов, у них были отняты лучшие джайляу, в то же время они приходились Сарманам не то сватами, не то билькода[71]. В случае избрания Сарсембая волостным управителем они должны были стать биями и аулнаями.
Закололи жирных ярок, подали много кумыса. Байбича, зная ценность гостей, подала особо изысканное угощение — коурдак[72] и копченую почку.
Наполнив желудки жирным мясом, напившись до опьянения кумысом, старейшины провели целый день за совещанием.
XL
Отчетливо выяснилось следующее.
Сарманы, Танабуга, Кзыл-Корт, Кара-Айгыр безусловно на их стороне.
Найманы, Дюрткара стоят во главе противников. После возвращения дочери Янгырбая его сваты Кипчаки тоже будут их защищать.
Кроме перечисленных, имелись на этой территории отдельные мелкие аулы, части разных родов.
В выборах участвуют не все, а только аулнаи, бии, аксакалы, баи, и все же эти осколки разных родов, несмотря на бедность, составят около тридцати голосов.
Главная задача заключалась в том, чтобы сохранить единство четырех крупных родов и перетянуть на свою сторону колеблющихся.
Чем перетянуть?
— Найманы потеряли уважение народа, — снова повторил аксакал.
Но опытный Сарсембай понимал, что этого для победы мало. Он помнил похвальбу Рокии: «Понадобится — дадим скот, понадобится — дадим девушку, понадобится — добьемся высылки, но поставим на своем!»
Всего этого Биремджану сказать прямо было нельзя. Он уклончиво ответил старику:
— Душа наша чиста, намерения наши благие, создатель должен помочь нам. Но разве и мы сами не должны приложить усилие?
Старик уехал после полудня.
Снова ели мясо, пили кумыс. Долго тянулась беседа. Сват Сарсембая прикинул, кому и какие подарки нужно будет сделать перед выборами, кто сколько сможет на это ассигновать средств. Потребуется не менее ста голов скота, десяти тысяч рублей. Если половину этого возьмет на себя Сарсембай, другую половину возьмут остальные.
Сарсембай не был сильно удивлен. По опыту Байтюры и всех остальных он прекрасно знал, что предвыборные траты полностью окупались впоследствии.
Выработав план действий, гости сели на коней и под разными предлогами поехали в джайляу колеблющихся родов. Проводив их, Сарсембай вошел в белую юрту к байбиче.
— Говорят, скот в городе в цене. Предстоит свадьба Карлыгач. Она потребует расходов. Старейшины хотят выбрать меня волостным правителем. Это тоже не обойдется без расходов. Что скажешь, если продадим голов двадцать лошадей, волов?
Алтын-Чач разбиралась в этих делах не хуже мужа. Без лишних слов она согласилась:
— Послезавтра в городе базарный день. Если думаешь ехать, пошли Джолконбая за «отцом конских пастухов».
Сарсембай, не трогаясь с места, крикнул батрака и приказал ему ехать в табун, а сам верхом отправился в джайляу Таш-Тюбе. Нужно было кое с кем переговорить о свадебных и предвыборных хлопотах, кое-что передать.
Карлыгач-Слу, понимая, что этими таинственными разговорами решается и ее судьба, хотела открыто поговорить с отцом, но не могла улучить подходящую минуту. Беседовать же с матерью не имело смысла, да и сама она, кажется, избегала этого.
Карлыгач-Слу чувствовала себя так, как, вероятно, чувствуют себя жители городов, расположенных у подножия вулканов, при первых подземных толчках. Где-то что-то творится, что-то готовится, надвигается какая-то черная опасность. Что будет? Сможет ли она спастись? Или принесут ее в жертву? В тревоге провела девушка ночь.
XLI
Сон или явь? Непонятно.
Кого-то ожесточенно бьют. Избиваемый кричит благим матом. Его бьют, он снова кричит.
Девушка испуганно раскрыла глаза.
Ясный, светлый день. Кошма юрты откинута. Тютюнлык открыт. Лучи солнца играют на бархатном ковре. Но вопли не прекращаются.
Карлыгач-Слу поспешно встала, торопливо расчесала волосы, чуть-чуть насурьмила ресницы, надела новое алое платье, обулась в узкие сапожки и вышла из юрты.
Позади большой юрты, около стальных плугов, косилок, жнеек, толпилось множество ребят, женщин в белых покрывалах и мужчин в малахаях.
В центре Сарсембай, рядом Керим, «отец конских пастухов», байбича и еще кто-то. Муж Айбалы и длинноволосый джигит хлещут кого-то плеткой, приговаривая:
— Что рассказал? Зачем ездил к Янгырбаю? Сознавайся, да будет проклят твой отец!
Девушка бросилась туда и увидела:
Со скрученными назад руками, в разорванном бешмете, с окровавленным, измазанным в глине лицом лежит Джолконбай. Длинноволосый джигит не переставая наносит удары, батрак силится высвободить руки, прикрыть измученное тело, но это ему не удается, и он продолжает вопить.
— Отец, что случилось? — Девушка схватила отца за руку.
Избитый посмотрел на девушку залитыми кровью глазами, словно умолял о помощи.
Изловчившись, он выгнулся, спиной оттолкнул джигита и вскочил на ноги.
— Убить хотите? — И кинулся бежать.
Но не успел. Сарсембай пинком свалил его:
— Проклятый! Ешь мою пищу, пьешь мой кумыс, а им доносишь! Да будет проклят твой отец! — крикнул он и стал топтать его ногами, стегать плетью по лицу и голове. Обычно сдержанный, Сарсембай в минуту гнева не помнил себя.
Батрака избили жестоко, но он так ни в чем и не сознался, а только продолжал вопить.
В конце джайляу, у озера, показался человек. Избиваемый, как будто нашел избавителя, крикнул:
— Приведите этого знахаря, он меня видел! Расспросите его!
Карлыгач подбежала к знахарю и привела его.
Это был юродивый, в рваной одежде, босой, с домброй в одной руке и со свертком с принадлежностями знахарства в другой.
Бай повернулся к нему:
— Откуда идешь?
— Из джайляу Якты-Куль.
— В какое время видел ты там этого человека?
Юродивый жалобно посмотрел на Джолконбая.
— Получив от бая садака, погадав старухам, вышел я из джайляу Якуп-Мирзы и направился в вашу сторону. Тут встретил я вашего батрака. «Куда едешь?» — спросил я. «Ехал я в джайляу Байтюры, но испугалось сердце мое. Правилен ли путь мой — не знаю. Погадай мне», — ответил он.
На лицах слушателей отразилось изумление. Бай отбросил плеть. Джолконбай сел.
Юродивый продолжал:
— Могу ли я отказать человеку в просьбе? Разложил я доску, обратился мысленно к святым угодникам и открыл книгу. Но бог наказал меня — книга ничего ясного не сказала. Джигит обозлился и поскакал в Якты-Куль. Я пошел к вам… Вскоре послышался сзади конский топот. Гляжу — Джолконбай, не доезжая джайляу Байтюры, повернул обратно. Он сильно гнал коня. Поравнявшись, он с руганью больно стегнул меня по спине. Если не верите, взгляните.
Молодежи это показалось забавным. Со смехом задрали юродивому рубаху. И правда, на спине чернел двойной след от плети.
— Скажи, когда Джолконбай повернул обратно: достигнув Якты-Куль или раньше? — спросил молчавший до того Юнес.
— Что ты лопочешь? До джайляу было далеко. Он повернул не доезжая, — не задумываясь ответил знахарь.
«Отец конских пастухов» подошел к Сарсембаю.
— Ошибка моя. Следует отпустить.
Он развязал батраку руки.
— Ай, милый Джолконбай! Ты один из несчастных, не находящих себе места в широких степях Сары-Арка. Но не отчаивайся, за эту ошибку бай вознаградит тебя. Извести приглянувшуюся тебе вдовушку: Серсеке дарит тебе четыре головы скота, которых она потребовала от тебя.
Старик быстро переглянулся с байбичей. Сметливая женщина, довольная ловкостью старика, весело улыбнулась.
Батрак поднялся на ноги, обтер лицо и, глядя в землю, отозвался:
— Бай сумеет завтра отнять то, что подарит сегодня. Нет больше в сердце моем веры… Я уйду из этих краев. Если суждено, найду и женщину.
Айбала принесла кумыс, но джигит не стал пить. С трудом дотащил он свое большое избитое тело до черной юрты и стал собирать свои пожитки.
Сарсембай, чтобы избежать возможных недоразумений, послал к батраку «отца конских пастухов».
XLII
Батрак встретил Юнеса неистовой руганью, хотел избить его, но, чувствуя слабость свою, сдержался. У Юнеса вид был виноватый.
— Вина моя, — начал он. — Передавали, что на дженазе Байтюры пес Азым-эке кружился вокруг тебя. Бай приказал мне: «Последи за ним. Похоже, враги наши спелись с моим батраком». Вскипело сердце мое. А когда прискакал ты из джайляу Якты-Куль к нам в табун на потном, усталом коне, закралось мне в душу сомнение и подумал я: «Прав бай, он передает Найманам тайны Сарманов». Вернувшись, сказал об этом баю. Сам знаешь, стоит Сарсембаю услыхать имена Якупа или Байтюры, как лишается он разума, глаза ему застилает кровь. Он сгоряча приказал связать тебя… Но главная вина на мне.
Джигит некоторое время стоял молча, потом вдруг поднял голову и сказал:
— Да будет проклят твой отец! Что вы хлопочете? Разве вчера целый день не совещались здесь старейшины Кзыл-Корта, Танабуга, Кара-Айгыра? Я слышал большинство их речей и хотел все это пересказать мирзе Якупу!
Сверкнули острые глаза пастуха. Он выхватил из-за пояса плеть и замахнулся на батрака.
— Так, значит, не напрасны были мои подозрения!
Но батрак не испугался. Теперь у него руки были развязаны.
— Ты, Юнес-ага, — сказал он, — умей сохранять свое достоинство или уходи, покуда цел.
Старик сдержался и с усмешкой обратился к батраку:
— Между нами: чем купил тебя мирза Якуп?
Джолконбай рассмеялся.
— Хотел купить, да не смог. Если бы вместо Джолконбая был Юнес или Азымбай, Найманам не пришлось бы много тратиться… А мне претит такое дело.
И рассказал все как было.
Джолконбай лет восемнадцати от роду покинул степь, ушел на заработки. Работал пастухом у украинцев, у русских богатых казаков дворником, в городе, на заводе, возчиком. Как-то, возвращаясь в джайляу, встретил в ауле Биремджан-аксакала молодую вдову. Приглянулась она ему. Вдова согласилась за него выйти, но поставила условие: «Дай четыре головы скота и тридцать рублей денег, тогда выйду за тебя замуж». Джигит перестал ездить на сторону, нанялся к Сарсембаю за пятьдесят рублей в год. Спустя год открыл хозяину тайну и попросил:
— Или прибавь жалованья, или обещай женить меня на этой вдове.
— Работай, там видно будет. В долгу не останусь, — ответил бай.
Джигит работал три года — ждал. Бай обещания не выполнил. Вдова решительно заявила:
— Столько времени ждала, а ты не мог обзавестись четырьмя головами скота! Пропади пропадом все твое джигитство! Сердце мое склоняется к другому.
Но откуда джигиту получить требуемое? Сарсембай забыл о своем обещании. И вот этой весной, на ярмарке, подозвал джигита Янгырбай и сказал:
— Срамишься ты перед народом. Храбр ты, как сокол, неужто же упустишь вдову? Сарсембай не сумел оценить тебя. Ты продолжай у него работать, но изредка, когда понадобится, послужи и нам — сообщи, если узнаешь что-нибудь важное. За то желудок твой насытится мясом, сердце — женщиной.
Джолконбай отругал бая на чем свет стоит.
— Не сбивай на такое дело…
Но Янгырбай не рассердился, он только добавил:
— Запомни слова мои. Не будь дураком.
Вчера собрались старейшины четырех родов. Совещались. Многое из их речей слышал Джолконбай. Охватила джигита злоба, вспомнились слова Янгырбая. И когда сел на коня, чтобы ехать в табун, потянул повод, поворачивая в сторону Якты-Куля. Но внезапно родилось сомнение:
«И Сарсембай и Янгырбай не один ли пес? Какая польза, если победят Сарманы? Какой вред, если победят Найманы?.. С какой стати везу я тайны Кзыл-Кома в Якты-Куль?»
Встретился тут знахарь. Но и он ничего определенного не сказал. Джигит от боли сердечной огрел его плетью и повернул коня…
Старый Юнес, поняв, как было дело, сильно огорчился.
Он подошел к джигиту, положил руку ему на плечо и сказал:
— Ну, светик мой, ошибка моя! Не ходи в суд, не рассказывай сплетницам-старухам. Бай сдержит обещание, пошлет свах к твоей вдове, даст четыре головы скота. Наслаждайся с любимой.
— Много плетей испробовала моя спина здесь. Если вдова вышла за другого, что делать мне тогда с вашим обещанием? Если суждено, найдется какая-нибудь и на мою долю, а не суждено — разве мало в этой широкой степи джигитов, чье сердце голодает по женщине, а желудок по еде? Баю скажи — пусть заплатит, что полагается. Я ухожу… У русского ли казака, у украинца ли, на заводе ли в городе — не все ли мне равно? Мне везде привычно…
Юнес вышел из юрты.
Карлыгач принесла батраку маленький турсук кумыса, немного мяса и баурсаков. Джигит наелся, напился досыта и повалился на кошму. Он проспал почти сутки.
XLIII
Много думал Арсланбай, вернувшись под вечер в Яман-Чуль. Как быть? Он не одинокий джигит, он бай, старший аула, состоящего из десяти семейств. И хоть имелись в этом джайляу мужчины старше его, белобородые, но они были бедны, и всеми делами верховодил Арслан. Сильно бранился Бирем-эке. Больше советоваться не с кем. Не стрясется ли беда над всем родом Танабуга? Два дня ломал голову джигит. На третий день к вечеру велел привести из стада жирную овцу. Приказал, кроме мяса, сварить колбасы и подать вдоволь кумыса и позвал трех надежных джигитов.
— Вы, храбрые молодцы, скажите: если джигит и девушка много лет любят друг друга, но если родители девушки все же хотят отдать ее другому, за которого была она просватана в младенчестве, если просьбы, уговоры не действуют, как бы вы поступили?
Был среди гостей сметливый, ловкий весельчак Тургайбай. Сдвинул он малахай на затылок, поправил плеть, заткнутую за пояс и со смехом спросил Арслана:
— Намеков твоих не понимаю, говори прямо: сегодня пригласил ты нас, чтобы мы украли из джайляу Кзыл-Ком дочь Сарсембая Карлыгач-Слу? Не так ли?
Хозяин в тон ответил.
— Если так, если для этого позвал вас, что скажете?
— Что можем ответить мы? Или, думаешь, боимся съездить в Кзыл-Ком? — весело отозвались гости.
Джигиты единодушно выразили полное свое согласие. К наступлению темноты пять лучших коней Арсланбая стояли уже оседланными.
После мяса выпили кумыса, выкурили папиросы, немного побалагурили, а потом четверо верховых джигитов с одной свободной оседланной лошадью поскакали по широкой степи в сторону джайляу Сарсембая.
XLIV
Девушка была предупреждена заранее. Айбала должна была приглядываться к северному берегу озера и, если заметит в камышах коней, пойти разузнать и сообщить Карлыгач-Слу.
Но сегодня вечером было особенно много хлопот.
Об избиении Джолконбая и о причине этого избиения каким-то образом стало известно в джайляу Якты-Куль. Янгырбай воспользовался случаем поднять шум на всю степь: «Людей избивают, под суд отдать их надо!» Слух об этом еще более распалил батрака. Наконец в это дело вмешалась байбича и сказала джигиту:
— Свадьбу и все хлопоты беру на себя. С баем ездить на базар некому. Наступила пора сенокоса, жатвы. Трудно найти человека, умеющего управлять машинами. Обиду ты проглоти, оставайся. А желание твое мы исполним.
Вдовушка хоть и грозилась парню выйти за другого, но угрозы не исполнила. На следующий день предстояла поездка на базар, поэтому решили со сватовством не медлить. Умыли полоумную старуху, одели в чистое платье, голову покрыли покрывалом и как родственницу Джолконбая послали свахой. Но поручить все дело одной ей не решились: побоялись, как бы она сдуру чего не напутала. В провожатые ей дали Айбалу. Запрягли телегу, посадили голопузого мальчишку кучером, обрядив предварительно в рубаху, и втроем поехали к вдове.
Вдову уговаривать не пришлось.
— По сердцу пришелся мне этот силач. Три года ждала его, — согласилась она.
Оставалось только доставить ей обещанный скот и сыграть свадьбу. Наконец, уже под вечер, Айбала освободилась от этих хлопот, но ее снова позвала байбича:
— Завтра Сарсембай поедет на базар. Нужно приготовиться. Помоги мне, голубушка.
Молодуха возразить не смела и стала помогать Алтын-Чач. И лишь поздним вечером, когда тукал выложила на блюдо мясо из котла и мужчины, помыв руки, сели за табн, Айбала смогла вырваться к себе. Не успела она оглядеться в своей юрте, как тонкий слух ее различил конский топот, доносившийся с озера. Она приложила ухо к земле. Ни звука.
Айбала поняла, в чем дело, побежала к камышам. Там под прикрытием, насторожив уши, стояли оседланные кони. Около них мелькали малахаи. Поигрывая плеткой, подошел Арсланбай.
— Слышали, как бранятся байбича Алтын-Чач и Бирем-эке? Но иного выбора у нас нет. Мы ждем.
Торопливо пересекла Айбала кутан, вошла в белую юрту и видит — сидят мать с дочерью и, мирно беседуя, едят из общего блюда жирное мясо. Молодуха слова сказать не смогла, но взглядом одним объяснила девушке все. Байбича, по обычаю, предложила молодухе разделить трапезу. Карлыгач-Слу, боясь, как бы Айбала видом или голосом не выдала тайны, обратилась к ней:
— Милая, подай, пожалуйста, полотенце.
Женщина немного успокоилась, подала полотенце, села, проглотила несколько кусков мяса. Девушка вытерла руки и, нарушая обычай, не дожидаясь старших, встала, оделась, взяла кумган, окинула взглядом юрту и вышла.
Так покидала она семью, в которой выросла, так избавлялась от ненавистного Калтая и дорогих родителей, готовящихся после пышной свадьбы проводить ее в дом нелюбимого.
XLV
В большой и белой юртах продолжали есть мясо. Карлыгач-Слу поставила кумган на землю и осторожно, боязливо направилась к камышам. Было темно, луна не светила. Тело девушки горело как в огне, в висках стучало. Но раздумывать было некогда.
Озеро встретило приветливым блеском. Впереди, как тонкие деревца, вырисовывались камыши. Оттуда послышался конский храп. Испугавшись чего-то, взвилась утиная стая. До слуха долетел чей-то голос. Мелькнули малахаи. Девушка все шла. Один из малахаев двинулся навстречу, и через секунду Карлыгач-Слу была в крепких объятиях, почувствовала поцелуи на лице, на глазах, услышала торопливый шепот:
— Милая, скорей!
Сильные руки обхватили за талию и усадили в седло. В одно мгновение джигиты были на конях. Пять жеребцов, будто чуя погоню, мчались во весь дух. Спустя некоторое время Арсланбай, придержав коня, повернулся к девушке:
— Милая, мы вне опасности. В джайляу Кзыл-Ком не найдется моим коням соперников.
Тучи рассеялись. Серебристое сияние луны разливалось по степи, успокаивало.
Конь одного из джигитов, очевидно, попал ногой в нору суслика, споткнулся и рухнул, седок перелетел через его голову и шлепнулся на землю. Но не успели остальные разобрать, в чем дело, как конь поднялся на ноги, джигит вскочил в седло и помчался дальше. Случай этот всех позабавил. Звонко рассмеялась Карлыгач-Слу. Молчание было нарушено. Посыпались шутки, смех.
На востоке еле намечалась заря, когда они, приехав в джайляу Яман-Чуль, остановились позади большой белой юрты. Коней привязали не расседлывая. Джигиты остались около юрты, решив не расходиться, пока не проснется народ.
— Карлыгач-Слу, да будет приезд твой счастливым! — пожелали они.
Девушка и джигит, теперь муж и жена, вошли в юрту.
Джайляу Яман-Чуль проснулся с новостью:
— Арсланбай прошлой ночью похитил дочь Сарсембая Карлыгач-Слу.
Первой узнала об этом работница. Она испуганно рассказала пастуху, потом батраку. В несколько минут новость облетела все джайляу. А когда Карлыгач-Слу, как обыкновенная молодуха, накрывшись покрывалом, с ведром в руке, вышли с сестрой Арсланбая доить кобылиц, все кругом было полно ликования. Старухи, пожилые женщины подходили и гладили ее по плечу.
— Приди со счастьем, с легкой ноги! — приветствовали они ее.
Джигиты, женатые мужчины хвалили:
— Арсланбай сумел раздобыть отличную девушку!
Когда овец и коров угнали в степь, а жеребят поставили на привязь, со всех концов джайляу собрались старики. И хоть на языке у них были приветствия и поздравления, в глазах и лицах просвечивала боязнь. За свою долгую жизнь они не впервые видели умыкание невесты и отлично знали последствия такого поступка. Их беспокоила возможность повторения того, что произошло с родом джигита, похитившего дочь Янгырбая. Но об этом вслух не говорили. Новобрачная пришлась им по сердцу, и они разошлись, решив защищать молодых. Закололи кобылу, пили кумыс. Прибытие Карлыгач-Слу отпраздновали играми, конскими состязаниями, весельем.
Но настоящая свадьба была еще впереди. Молодые стали ждать вестей от Сарманов и Кара-Айгыр. Карлыгач-Слу чувствовала себя человеком, сбросившим цепи. Она поклялась ни при каких обстоятельствах не возвращаться к Калтаю и зажила в новом джайляу молодухой.
XLVI
Добрые молодцы, разъезжавшие из джайляу в джайляу в поисках веселья и удовольствия, распивавшие везде кумыс и поглядывавшие на девушек, и люди серьезные, без устали скакавшие по степи перед выборами, в тот же день разнесли во все концы весть о похищении девушки.
Враги торжествовали. Янгырбай и Якуп тотчас послали к Кара-Айгырам надежных людей для подстрекательства и стали всячески разжигать вражду между Сарманами и Танабуга. Они твердо верили в успех.
Друзья сильно опечалились. Сарсембай и байбича почернели от злобы.
— Принимала его как сына хороших родителей, усаживала на почетное место, а он опозорил дом мой! — ворчала Алтын-Чач.
— Я покажу им! Такие шутки с Кара-Айгырами не пройдут даром! — горячился Калтай.
Он начал группировать вокруг себя джигитов, угощать их мясом и кумысом, распалять кровь, будить родовую честь, подбивать их напасть на джайляу Яман-Чуль.
Больше всех был возмущен Биремджан-аксакал.
Он сидел в большой юрте бая аула Ахмета с гостями, прихлебывая кумыс и рассказывая о прошлом. Когда ему сообщили последнюю новость, он, потеряв самообладание, вскочил на ноги, схватил палку.
— Я говорил этому глупцу, сыну умного отца: «Брось ребячиться, пора тебе образумиться!» Не послушался, проклятый!
Старик ругался такими словами, каких уже много лет не произносили его уста.
Аксакал боялся, что между двумя родами вспыхнет вражда. Он знал — враги воспользуются этим и Найманы снова победят.
— Вели запрягать лошадей. Я сейчас еду к Кара-Айгырам, — сказал он Ахмету.
Такая прыть восьмидесятилетнего слепого старика всех удивила.
Не прошло и часа — лошадь, запряженная в тарантас, остановилась позади юрты Сарыбая, главы рода Кара-Айгыр.
Джайляу похоже было на растревоженный муравейник — все суетились, бегали, волновались.
Разговоры вертелись вокруг того, как отомстить роду Танабуга за похищение девушки, за которую в течение шестнадцати лет выплачивали калым, и роду Сарманов, допустившему похищение.
Сарыбай встретил гостя с удрученным видом, растерянно, испуганно приветствовал его и, усадив на почетное место, спросил:
— Почтенный отец, что посоветуешь? Честь Кара-Айгыр посрамлена.
Аксакал всю дорогу приводил в порядок свои думы, как зерна четок низал слова, которые должен был сказать по приезде.
— Дети мои, не спешите, — начал он. — Я затем и приехал. Род Кара-Айгыр извечно враждовал с Найманами. У вас врагов много, остерегитесь увеличивать их число.
Юрта была полна народу. Пришли и старые, и молодые, и мужчины, и женщины.
— Девушка принадлежит не джигиту, а всему роду. В старину говорили: «От мужа уйдет, от народа не уйдет». Наш род Кара-Айгыр готов с боем вернуть девушку, — сказал поднимаясь какой-то старик.
Остальные шумно одобрили его речь. Оскорбленный жених сиплым голосом понес несуразное:
— Пусть лишусь богатства, пусть распадется род мой, но я не остановлюсь, пока не верну Карлыгач-Слу!
Слова его должного впечатления не произвели. Калтая не любили даже свои за пороки, чуждые казахам. Его отец Ильджан был помешан на желании стать начальником, то же прочил он сыну, которого с этой целью отдал в семинарию. Через год за какой-то проступок Калтая оттуда исключили.
— И русским не стал, и казахом быть перестал, — охарактеризовала как-то Калтая одна старуха.
Таков был взгляд и остальных. Возмущение присутствующих было вызвано не сочувствием к нему, а желанием защитить родовую честь.
Аксакал выслушал всех и, поняв, что внутри рода существует два мнения, решительно, ясно сказал:
— Тот джигит сам получит за содеянное, но пусть старейшины рода запомнят: если из-за длинноволосой женщины поднимем ссору, прольем кровь, друзья наши будут плакать, враги же, жирные Найманы, возвеселятся от радости, нам спасибо скажут. Не спешите, обдумайте поступки свои.
Если бы на месте Калтая был общий любимец, аксакал, может быть, не смог бы многого добиться. Если бы извечные враги Найманы не стояли перед глазами, оскалив зубы, будто говоря: «Перессорьтесь, мы всех вас поодиночке слопаем», — как бы джигита не любили, слова аксакала не возымели бы действия: род Кара-Айгыр, поднявшись, постарался бы вернуть свою сноху. Но общая нелюбовь к Калтаю, радостное оживление врагов были слишком явны. Слова Бирем-эке заставили старейшин призадуматься. После долгих споров и ругани, невзирая на протесты Калтая, Биремджан-аксакал успокоил старейшин, приостановил ссору.
— Старейшины Сарманов и Танабуга должны явиться к Кара-Айгырам с поклоном: вернуть калым со всем приплодом, в противном случае наш род будет защищать свою честь верхом на конях, в жаркой схватке.
На том порешили. Аксакал поехал в Кзыл-Ком. Захватил с собой четырех старейшин рода Кара-Айгыр. Это были посланцы, уполномоченные потушить вражду, вспыхнувшую между двумя родами. Все вместе поехали в аул Сарсембая. Там все были охвачены страхом, горем и скорбью.
XLVII
Увидев аксакала в сопровождении старейшин Кара-Айгыра, Сарсембай понял, к чему клонится дело. Байбича тоже догадалась, что все обойдется без ссоры и кровопролития. В большой юрте снова собрались старейшины. Много обидных слов, колкостей наговорили друг другу. Были минуты, когда казалось — вот сейчас вспыхнет ссора, все сядут на коней и помчатся каждый в свою сторону, чтобы начать войну. Но тактичность Сарсембая наконец победила. После многих споров и здесь согласились с условиями, выработанными в джайляу Кара-Айгыр, в юрте Сарыбая. Только благодаря упорству Сарманов к ним добавили: Сарсембай возвращает весь калым, полученный за свою дочь Карлыгач-Слу, но половину денег и скота Арсланбай должен возместить ему.
Это получилось несколько неожиданно. Некоторые старики насмешливо заметили:
— Напрасно мучаетесь, коней наших привязываете к ветру! Не бывало еще у казахов случая, чтобы с похитителя требовали калым. Если Танабуга не согласится, что будете делать?
Снова заспорили, снова посыпались обидные замечания, выкрики.
Бирем-эке крепко выругал собравшихся, прекратил шум:
— Если жеребенок не лягнул их по голове, они согласятся. Если хорошие слова не достигнут их слуха, они отведают плетей четырех племен.
Это были жестокие слова. Они значили: «Если Танабуга не подчинятся решению двух родов, против них поднимутся копья четырех племен».
Кумыс был крепок, мясо нежное, вкусное. Довольные мирным оборотом дела, гости беседовали долго и наконец, пожелав хозяину богатства, тронулись в обратный путь, неся весть о состоявшемся примирении. Биремджан-аксакал вернулся к себе.
Но его хлопоты на этом не кончились. Он пригласил бая Ахмета и старейшин аула, рассказал им, в чем дело, и велел позвать Арсланбая.
Сегодня джайляу было полно страха. Все ждали, что вот нагрянут либо друзья жениха, либо защитники родителей и постараются отбить девушку. Мужчины никуда не отлучались, коротали время за кумысом в юрте Арслана. Лошади стояли оседланные. При виде верхового из Коргак-Куля все немножко успокоились. Приглашение джигита и нескольких стариков еще более успокоило. Надежда на мирное окончание дела выросла Оседлали тех самых коней, на которых вчера совершили похищение девушки, и Арсланбай в сопровождении двух старейшин поехал к Бирем-эке.
Аксакал встретил гостей яростной бранью:
— Богатство у вас небольшое, род маленький… С возможностями своими не считаетесь, как глупый лев, пытаетесь допрыгнуть до луны. Если поссорились с Кара-Айгыр и Сарманами, с кем думаете вы жить в степи?
Долго ругался старик. Джигит отступать не собирался, хотя в лице и словах его чувствовалось признание какой-то своей вины.
— Зачем позвали нас, уважаемый отец? — спросил он.
Старик снова вспыхнул:
— Тебя — чтобы отодрать плеткой, стариков — чтобы посоветоваться.
— Обычаи, традиции казахские Бирем-эке знает лучше нас. Если джигит похитит равную себе девушку, то ее не возвращают, — сказал один из стариков рода Танабуга.
Слова эти подлили масла в огонь, аксакал снова было принялся отчитывать джигита, но гости почтительно молчали. Они были рады кончить дело миром.
Аксакал разъяснил положение, указал пути для примирения.
Гости удивились:
— Первый раз слышим, чтобы за похищенную девушку требовали калым!
— Не заплатите калыма — отведаете плетей, — возразил аксакал.
Снова готова была вспыхнуть ссора. Вмешался Арсланбай:
— Мы не можем ослушаться совета старейшин дружественных родов. Я согласен отдать отцу девушки половину того, что вернет он роду Кара-Айгыр.
На этом помирились. Старейшины Танабуга благодарили аксакала за избавление их от крупной ссоры. Перед отъездом Арсланбай пригласил всех из рода Бирем-эке к себе на свадьбу.
— Эту великую радость желаем мы ознаменовать праздником, весельем. Милости просим пожаловать послезавтра.
В тот же день двое стариков из рода Танабуга, оседлав лучших коней, надев новые кепе, новые малахаи, захватив ценные подарки баю, байбиче, тукал и старейшинам рода, поехали сватами в джайляу Кзыл-Ком.
На этом заглох скандал, разыгравшийся из-за похищения Карлыгач-Слу.
Только Калтай не желал подчиниться общему решению и твердил:
— Я отобью девушку и привезу ее к себе, а не то покину этот род, не сумевший встать на защиту своей родовой чести.
Он не переставал скандалить и к чему-то готовиться. Этими выходками он еще больше умалил свое достоинство в глазах всего рода, и близкие стали бранить его за неподчинение решению старейшин. Но Калтай нашел защитников среди Дюрткара и Найманов. Янгырбай действовал исподтишка, не переставал подстрекать: где, мол, честь рода, не сумевшего защитить своего! Немало верст сделал Азымбай ради этого дела. Но в конце концов благодаря ловкости Кара-Айгыров сам попал в ловушку, расставленную партией Сарсембая.
XLVIII
Партийные распри, отодвинутые похищением девушки на второй план, на следующий же день после примирения выступили со всей силой.
С приближением дня выборов Янгырбай и Якуп стали без оглядки сорить деньгами направо и налево. Дареному скоту потеряли счет. Случалось, что для привлечения на свою сторону старейшины одного аула или бия жертвовали пятью головами крупного скота. Сплошь и рядом заключали сговоры даже на неродившихся еще детей. Было обещано столько должностей аульных управителей, биев, что если бы потребовалось все эти сговоры выполнить, то на одну должность пришлось бы назначать по пять человек.
Из противников особенно яростными оказались Кара-Айгыры. Они старались не столько из дружбы к Сарманам, сколько из вражды к Дюрткара и Найманам. Они напрягали все усилия, чтобы только сломить Якупа, поставить на место Байтюры волостным управителем Сарсембая. Выборы происходили раз в три года. Кара-Айгыры надеялись в следующий раз сами занять заманчивую должность, а пока наиболее подходящим был для них Сарсембай.
Сарыбай обрадовался примирению и был готов весь возвращенный калым потратить на выборы. Но одного калыма не хватало. Хотя было намечено истратить десять тысяч рублей, расход превысил тридцать тысяч. Этим не ограничились. Когда потребовалось привлечь всеми уважаемого Дирвисала, Сарсембай, страстный охотник, подарил ему любимого беркута и двух соколов. Кое-кому из колеблющихся преподнес дорогие ружья, а одному обещал по приезде на зимовку отдать лучшего иноходца.
Свадьба Арсланбая и Карлыгач-Слу была особенно удобным поводом для раздачи подарков-взяток.
Свадьбу справили пышную. Постарались созвать всех окрестных казахов. Заколотым животным, выпитому кумысу потеряли счет. Устроили конские состязания, борьбу. Победителей одаривали. Если не было возможности выказать нужному человеку предпочтение этим путем, наделяли чапанами, конями под видом подарков от новобрачных.
Азымбая взяли хитростью.
— Хоть он и в партии противников, но человек пожилой, душа у него чистая. Будем ждать его в гости.
Старик видел, что ему льстят, но приглашение принял. Его встретили с особым почетом, наделили дорогим подарком. После трапезы Сарсембай отвел его в сторону.
— Борода твоя поседела, всю жизнь свою был ты для Байтюры и Якупа псом — неужто так и в могилу сойти хочешь?
Старик кинул на бая хитрый взгляд.
— А если и не хочу, как быть? Не биться же головой о камень!
Оба поняли друг друга. Сарсембай тут же, не моргнув глазом, дал старику сотню золотыми и добавил:
— Коней, верблюдов, коров выберешь сам.
Поклялся дать место бия. Разговор на этом кончился.
Азым-эке затеял с кем-то ссору и, якобы обидевшись, покинул свадьбу. Домой вернулся больным.
— Лошадь, испугавшись чего-то, понесла, я упал и повредил поясницу.
А через некоторое время уехал за сто верст в город, к татарскому ишану.
— Смерть моя приближается. Поеду испрошу у святых прощение, — объяснил он свой отъезд.
Партия Сарсембая была от этого в выигрыше: узнала секрет противника, получила точные сведения о том, кому какие подарки даны, какие должности обещаны, и удалила с арены борьбы ловкого интригана.
Дело одной свадьбой не ограничилось. Обе стороны, пользуясь любым ничтожным предлогом, созывали гостей, устраивали скачки. Угощениям, подношениям потеряли всякий счет. Кое-кто широко использовал предвыборную горячку: угощался у обеих сторон, открыто торговался и принимал подарки. Угощали всех, лишь бы ослабить противника, даже если надежда на «помощников» была слабой.
— Я темный казах, всю жизнь свою пас скот, но разве я настолько глуп, чтобы при жизни благородного Якупа, потомка ханов, султанов, самого Чингиса, положить шар за какого-то Сарсембая, сына Этбая? — нередко говорил тот, кто накануне превозносил Сарманов.
— Много лет выбирали Найманов за их родовитость, но они лишь приумножили свое богатство, отдали джайляу казахов колонистам и казне, грабили народ, добились того, что превратили его в рабов белого царя. Сарсембай — свой человек, простой, чистосердечный, — заявляли на одном пиру иные, хотя на другом они кричали противоположное.
Таких людей было много, и требовалось подарками, обещаниями затыкать им рты, без устали разъезжать из одного джайляу в другой, укреплять настроение сторонников там, где намечалось ослабление.
До самых выборов степь непрерывно кипела борьбой, ссорами, склоками. Ни один пир, ни одно сборище без этого не обходились.
XLIX
Солнце не показывалось. С самого утра темные тучи окутали степь. Поднялся ветер, порывами шел сильный дождь. Было сыро, холодно.
Сегодня выборы.
Несмотря на отвратительную погоду, вокруг белого кирпичного домика, одиноко стоящего на голой, безлесной, безводной местности, настоящее светопреставление. Низкий, выбеленный домик в три оконца до отказа набит старейшинами, управителями аулов, баями, биями, аксакалами, а вокруг него толпятся сторонники обоих кандидатов, пришедшие увидеть конец кипучей борьбы. Оседланным коням нет счету. Вокруг тарантасов, двухколесных тележек, около верблюдов в нетерпеливом ожидании суетятся казахи в кепе и малахаях и женщины в белых покрывалах. Несколько в стороне на своем неизменном Ак-Дельбере сидит Алтын-Чач. Откинувшись на спинку дорогого экипажа, с кем-то беседует мудрая бикя Рокия. Длинноусый украинец-стражник, в черной шинели с зеленым кантом и светлыми пуговицами, в фуражке с зеленым же околышем, сдвинутой набекрень, с большим трудом поддерживает порядок.
У всех на языке одно: кто победит, чья сторона получит перевес? Иногда вспыхивает ссора. Найманы, Дюрткара кажутся несколько растерянными. Зато Кзыл-Корты, Кара-Айгыры, Сарманы, Танабуга разговаривают нарочито громко, ходят подбоченившись. То там, то тут мелькает фигура «отца конских пастухов» Юнеса. Он без устали разговаривает, хвалит Сарсембая, хает Якупа, подзадоривает врагов.
— Жирные Найманы, посмотрите на невиданное зрелище: сегодня обыкновенный казахский конь Байчубар обгонит знаменитого чистокровного иноходца!
Его шутка быстро облетает собравшихся и передается из уст в уста. Противники возмущаются. Страсти разгораются.
В этот момент распахиваются двери кирпичного домика, оттуда выбегает молодой казах с непокрытой головой, вскакивает на ближайшего коня, встает на седло и, приложив руки ко рту, громко, на всю площадь, кричит:
— Великая радость всему казахскому народу! Исполнилось его желание! Сарсембай получил на четырнадцать шаров больше. Якуп побежден!
Поднимается невообразимая суматоха. Конные, пешие, давя друг друга, кидаются к управлению. Стражник мечется из стороны в сторону, но людская волна сбивает его с ног. Арбы, верблюды, тарантасы трогаются, зацепляются друг за друга, кучера перебраниваются, размахивают плетками.
Проходит несколько минут. На крыльцо выходит начальник, при шпаге, в блестящих погонах. Лицо злое, губы дрожат. Якуп и Янгырбай наперебой ему что-то объясняют. У обоих возмущенный вид. Следом за ними в дверях показывается толстая фигура Сарсембая. Вся она дышит радостью и весельем. «Отец конских пастухов» и длинноволосый джигит начинают шуметь, к ним со смехом, выкриками присоединяется большинство собравшихся. Среди шума и суматохи тарантасы, верблюды, оседланные кони, рассыпавшись по степи, направляются в соседние джайляу.
L
Подошла середина зимы. Широкая степь лежала под толстым снежным покровом. В джайляу, где летом паслись жирные кони, теперь обосновались бураны и ледяные ветры, бродили голодные волки, собираясь по вечерам на охоту.
Казахи давно разобрали юрты и, распрощавшись с привольной степью, вернулись в полуразрушенные, наполовину ушедшие под землю зимовки.
Как узник в грязной, сырой тюрьме мечтает выйти на свет, на волю, так и они, забившись в тесные землянки, мечтали о весне, когда зазеленеют берега озер и можно будет раскинуть в степи белые юрты. Скот, не обеспеченный кормом, бо́льшую часть времени проводил в открытом поле, добывая еду из-под снега. И только в особо сильные бураны забивался в тесный загон.
Неожиданно дни потеплели, вечером пошел дождь. С утра опять подморозило. Вся степь покрылась блестящей, гладкой коркой льда, трава замерзла, примятая мокрым снегом. Наступил джут. Скот не мог докопаться до корма и погибал. А потом повалил снег, начались бураны.
— Этот год — год лошади. Оттого-то такая страшная зима! — говорили старики. Они уже не надеялись, что овцы и молодняк доживут до весны.
Была темная, метельная зимняя ночь.
По занесенной снегом степной дороге шел высокий казах в старенькой одежонке. Дойдя до зимовки Сарсембая, он остановился около чьих-то ворот, постучал. Ответа не последовало. Постучал в окно. Опять ни звука.
«Если люди и заснули, то собаки должны залаять», — подумал спутник и перемахнул через низкий глинобитный вал. На дворе не видно было человеческих следов, протоптанной тропинки он не нашел. Кроме глубокого снега, не было ничего. Еле виднелись занесенная снегом покатая крыша загона да сорванная калитка.
Путник остановился в недоумении. Он знал о высылке бая еще летом, слышал о его отъезде. Но ведь байбичу Алтын-Чач и тукал не выслали, скот не конфисковали. Куда же они делись?
Путник снова перелез через вал и, оглядываясь по сторонам, пошел по зимовке. Единственный деревянный дом с большими окнами и покатой крышей принадлежал Сарсембаю. Все остальные — глинобитные хижины или обыкновенные землянки с маленькими оконцами, затянутыми пузырем, с плоской крышей.
Большинство казахов кочуют летом аулами в восемь-десять семейств, а на зимовках собираются вместе. И здесь можно было насчитать до тридцати хибарок.
Путник окинул взглядом селение и направился к хижине, в оконце которой мелькал слабый свет. Большой пес встретил его громким лаем. Под крытым навесом стояли лошади, слышно было, как пережевывают жвачку коровы. Это обрадовало путника. Прежде всего было необходимо, чтобы лошади стояли в стойлах. Он подошел к низенькой двери, засыпанной снегом, и постучал. Изнутри раздался голос. Было ли то разрешение войти или нет, путник не разобрал и, распахнув неподатливую дверь, шагнув в темные сени, оттуда, согнувшись, задев что-то ногами, вошел в комнату, еле освещенную тлеющим в очаге кизяком.
Комната разделена на две половины. Земляной пол передней половины застлан грязной соломой и измельченным сеном. Тут же возятся несколько телят и штук десять ягнят. На границе второй половины стоит большая, низкая печь. Пройдя ее, попадаешь в «чистую» половину. Она почти целиком занята деревянным сяке[73]. Сяке застлана кошмой, вдоль стен, обмазанных желтой глиной и потрескавшихся от ветхости, стоят сундуки, лежат одеяла и подушки. По левую руку в стену вбиты деревянные колышки, на них висят хомуты, седла, уздечки.
Войдя в переднюю половину, путник громко произнес салям. На сяке сидел древний старик в пестром кепе и в ичегах. Ответив на салям, он голосом, в котором слышалась радость, сказал:
— Проходи, сын мой!
Путник подошел к старику, поздоровался. Около печки, стараясь раздуть огонь, чтобы хоть немного согреть на ночь холодное помещение, стояла женщина. Путник поздоровался и с ней, Она, не поднимая головы, отозвалась тихим голосом.
Хижина эта принадлежала аксакалу, и старик, сидевший на сяке, был Биремджан-эке.
Можно ли без всякого угощения уложить озябшего путника? Несмотря на поздний час, женщина принесла из колодца воды, поставила самовар, достала с полки каймак[74], баурсаки, расставила чашки.
Буран усилился. Ветер выл в трубе, стучался в окно. Гость и хозяин, прислушиваясь к его шуму, медленно попивая чаек, углубились в бесконечную беседу.
Первый вопрос гостя был о Сарсембае.
Старик глубоко вздохнул.
— Раз в жизни ступил я в грязь, именуемую партийным раздором, и хоть вышел победителем, но все же конец оказался плохим.
И одно за другим он перечислил последние события.
Путник был поражен.
И действительно, события были несколько неожиданные.
Кара-Айгыры, Сарманы, Танабуга, Кзыл-Корт, объединившись, одержали на выборах победу. Но дело этим не кончилось. Выборы должны были быть утверждены русским начальством. Тут получилась заминка, так как до сведения начальства дошло, что Сарсембай якшается с лицами, враждебными русскому царю. Как раз в это время бывший жених Карлыгач-Слу Калтай поссорился с братом и со всем родом и заявил:
— Я не могу жить в роду Кара-Айгыр, не сумевшем защитить своего сына!
Он судом добился раздела имущества и покинул аул.
Этим обстоятельством воспользовался Янгырбай, подыскал джигиту невесту из своего рода, сыграл свадьбу и торжественно принял его в свой аул.
— Отличные джигиты, которых не сумели оценить Кара-Айгыры, найдут почет у Дюрткара.
Этот самый джигит, ведя против Сарсембая и Арсланбая упорную борьбу, нашел с помощью Янгырбая подходящего адвоката и подал на них жалобу. В ней было написано:
«Сарсембай в бытность нам сватом на одном большом меджлисе сказал: «Меня не прельщает должность волостного бия, начальника, но белый царь грабит казахскую степь, отдает джайляу хохлам, а нас изгоняет в голодные пески и таким способом хочет уничтожить нас. Я хочу быть выбранным, чтобы бороться с этим».
Сорок казахов присягнули:
— Мы слышали эти слова Сарсембая.
Еще больше казахов под присягой же заявили, что эта клятва ложная. Давшие присягу на меджлисе с Сарсембаем не были. Такие-то из них были на базаре, такие-то болели, такие-то пировали на свадьбе…
За второй присягой последовала третья, за третьей четвертая. Разыгралась такая шумная история, что по сравнению с ней все предыдущие раздоры казались пустячными.
В конце концов победила партия Якупа — Янгырбая, действовавшая через Калтая. Начальник не утвердил Сарсембая волостным бием. За смуту против белого царя были высланы четверо наиболее видных казахов, среди них Сарсембай и Арсланбай. Единственным кандидатом на освободившуюся должность оказался Якуп. Он занял место покойного брата, забрал власть в свои руки и начал выживать врагов. Карлыгач-Слу не пожелала расстаться с мужем. Дальнозоркая байбича Алтын-Чач понимала, что после высылки мужа Найманы не дадут ей житья. С «отцом конских пастухов» она стала ездить по базарам, распродала весь скот и вместе с тукал, Гельчечек и Карлыгач-Слу последовала за мужем и зятем.
— В старину говорили: «Чем быть султаном на чужбине, будь подметкой на родине». Но что мы можем поделать? Широкой степи Сары-Арка мы стали падчерицами, — сказала она, покидая степь.
Они перебрались на постоянное жительство в город.
Через несколько дней после высылки Сарсембая нашли в озере труп нового друга Янгырбая — Калтая. Под подозрение попали Джолконбай и джигит из рода Танабуга. Четверо казахов над кораном присягнули:
— Джолконбай подговаривал нас на это дело, но мы не пошли.
Джигита из рода Танабуга в тот же день, заковав в кандалы, отправили в город, в тюрьму. Джолконбай же, завидев старшину с шестью стражниками, вскочил на чью-то лошадь и умчался в степь. Он намеревался пробраться в незнакомые места и наняться либо на завод, либо к колонистам.
Запуталась судьба и остальных.
Хитрость старого Азымбая раскрылась. В отместку за предательство Якуп угнал его стада. Говорят, теперь он лишился разума, ходит из дома в дом с домброй и поет одну песню:
— Просил богатства, просил счастья… Один раз дал ты, но отнял богатство джут, другой раз дал — отнял Якуп. Что будешь делать со мной, творец мой?
Теперь с Найманами усиленно борется Сарыбай из рода Кара-Айгыр. Все враги Якупа и Янгырбая группируются вокруг него.
— Опостылел мне мир. Если послышатся снаружи шаги, ожидаю с надеждой: думаю — идет смерть моя… Но входит какой-нибудь горемычный вроде тебя, — тяжело вздохнул старик.
Недавняя смерть единственного сына вконец надломила старика.
— На небесах совершаются ошибки, оставляют таких, как я, забирают души молодых, полных сил…
Ветер постепенно стих. В маленькое оконце виднелся кусочек неба — там сверкали звезды. Близился рассвет.
Путник заторопился. Ему следовало удалиться раньше, чем проснется зимовка. Он сказал об этом старику.
— Я стал несчастным скитальцем, которому нет места в широкой степи. Но не теряю я надежды, что мир изменится и для меня выглянет солнце. Буду жив, отплачу добром, — дай, Бирем-эке, если можешь, коня, чтобы мог я скрыться подальше. Никому другому показываться не хочу.
Старик живо понял, в чем дело. Вместо ответа он обратился к женщине, дремавшей в углу:
— Колончагым, подай мне седло из желтой кожи, короткую плеть и кожаную уздечку.
Он поднялся с места, ощупью нашел меховое кепе, малахай, оделся, натянул на ноги высокие, подбитые войлоком сапоги.
— Ступай, сын мой! Путнику надлежит быть в пути! — сказал он и, опираясь на плечо гостя, вышел во двор.
Буран затих. В далеком небе мерцали звезды, будто улыбаясь безбрежному снежному покрову, окутавшему степь. Было очень морозно, под ногами хрустел снег.
Старик передал уздечку гостю и указал на ближнюю конюшню:
— Здесь четыре коня. Возьми черногривого.
Гость вошел в конюшню. Было слышно, как шарахнулись испуганные лошади. Через минуту гость вывел оттуда коня.
Это был стройный буланый жеребец с длинной черной гривой, с белой отметиной на лбу.
Он был обеспокоен вторжением среди ночи незнакомого человека, но при виде хозяина успокоился, видимо решив, что либо поедут в табун, либо предстоит охота на волков. Незнакомец действовал торопливо, но уверенно.
Забрезжила заря, разливаясь алым светом по небу.
Путник быстро покончил с приготовлениями, искренне поблагодарил хозяина, попрощался с ним и вскочил на коня.
— Счастливый путь! — пожелал Бирем-эке.
Буланый жеребец умчал ночного гостя навстречу разгорающейся багрянцем далекой заре.
Путник был батрак старейшины Сарманов Сарсембая Джолконбай.
ГЛУБОКИЕ КОРНИ
I
Фахри убили.
Была темная майская ночь. Дождь, начавшийся с вечера, не прекращался, дул сильный ветер, ослепительно сверкала молния, грохотал гром.
Айша не смыкала глаз. Ожидая возвращения мужа, она то и дело подогревала самовар. Но когда время перевалило за полночь, она не выдержала и пошла к соседу, комсомольцу Шаяхмету. Вместе, под проливным дождем, направились они к председателю сельсовета Тимеркаеву.
На стук в ворота громким лаем отозвалась собака, за ней другая, третья.
— Что надо? — раздался голос хозяина.
— Как быть, Шенгерей-абзы[75]? Я очень беспокоюсь. Не случилось ли чего?
— Немало народу точат зубы на Фахри, — добавил Шаяхмет.
Сон мигом покинул Шенгерея. Он живо накинул чекмень и вместе с Айшой и комсомольцем пошел в помещение сельсовета.
С этой ночи и начались розыски. Невзирая на погоду, на темные ночи, рабочую пору, избороздили все окрестности, но ни на какой след не напали. На четвертые сутки притащился в деревню верный друг Фахри Акбай. Вид его был ужасен — шерсть свалялась в клочья, язык высунут, на глазах слезы, от усталости еле перебирает ногами. Непрестанно скуля и повизгивая, собака повела за собой крестьян.
День был сумрачный, небо окутывали тяжелые, темные тучи. Крестьяне, пораженные видом собаки, последовали за ней.
На гористом берегу Волги, склоны которого покрыты лесом, между деревней Байрак и совхозом «Хзмет», есть глубокий, длинный овраг Яманкул. Сюда и привел Акбай, обшаривший после исчезновения хозяина все горы и овраги, следовавших за ним людей.
Моросил мелкий дождь. Трава мокрая, дорога грязная, скользкая. Но никто не обращал на это внимания. Первым спустился в овраг Шаяхмет, за ним остальные.
Акбай не ошибся. На дне оврага, в высокой траве, лежал труп Фахри. Лицо окровавленное, череп пробит, из раны вытекает светло-желтый мозг, на шее и на левом плече запеклись сгустки крови. Невдалеке валялся толстый железный шкворень, острый конец которого был вымазан в крови.
Быстро разнеслась печальная весть. Мужчины, женщины, дети, старики и молодые, побросав дела, игры, разговоры, все двинулись к оврагу Яманкул.
Фахри любили. Любили как своего, как близкого, как человека, коренником тащившего тяжелый воз. Горькое, гнетущее чувство охватило всех при виде изуродованного тела Фахри. Лица мрачнели.
Вместе с другими пришел к оврагу Джиганша-бабай[76]. Глазами, полными слез, смотрел он на труп, не в силах вымолвить слова. Молча помогая Шенгерею положить останки Фахри на рогожу, неожиданно увидел он окровавленный шкворень.
Старик вздрогнул. Шкворень показался знакомым. Он протянул к нему руку, но тут же отвел ее. Стало страшно, но взгляд снова упал на шкворень.
Толстый конец его был обмотан веревкой, на тонком — маленькое отверстие с продетым гвоздем. Джиганша недоуменно ткнул палкой в шкворень и дрожащим от волнения голосом сказал:
— Джемагат, шкворень-то ведь мой!
Взоры всех присутствующих обратились на старика. Айша вздрогнула. Всем почудилось, будто от слов Джиганши заколыхалась темная завеса, плотно нависшая над ними с момента исчезновения Фахри.
Джиганша поднял с земли шкворень и внимательно осмотрел его.
— Мой… мой… И веревка есть, и гвоздь…
Айша и Шенгерей одновременно сделали движение, собираясь что-то сказать, но их опередил курсант Шаяхмет.
— Что ты говоришь, бабай?.. Знаешь ли ты, что говоришь?! — воскликнул он и осекся, — А если шкворень твой, почему же он окровавлен? — прибавил он через секунду.
Народ напряженно молчал.
Слова курсанта показались Джиганше обидными. В этих словах ему почудился вопрос: «Не ты ли убил Фахри?» Обычная сдержанность покинула его, старческие глаза запылали гневом.
— Разве я бандит? — крикнул он, замахиваясь на курсанта палкой, но не ударил и упавшим голосом сказал: — Думать надо, что говоришь.
Шаяхмет подался в сторону, отвел занесенную над головой палку и уже по-иному, мягче, повторил свой вопрос:
— Напрасно обижаешься, Джиганша-бабай. Ведь я не говорю, что это ты убил, я только шкворнем интересуюсь: как он попал в овраг Яманкул?
Все молчали.
В ответе старика звучали боль и обида, но парень не отставал. Перебегая взором от Айши к Шенгерею, он продолжал углублять свой допрос. Так над трупом Фахри столкнулись представители двух поколений — Джиганша и Шаяхмет, горевшие одним и тем же пламенем.
Шаяхмету еще не минуло девятнадцати лет. В годы первых революционных кровопролитных боев он был ребенком. Шаяхмет не мог принимать в них участия, но видел геройство старших братьев. Он видел, как в восемнадцатом году, после занятия Казани чехами, под вооруженной охраной увели Мулла-Нура Вахитова в тюрьму. Он две ночи метался в бреду, когда узнал, что его расстреляли. На его глазах родного брата Бирахмета избили и, привязав к конскому хвосту, замучили насмерть. Геройская борьба Фахри, кочегара Садыка, Шенгерея и многих, многих оставила в его душе неизгладимый след. Он горел в революционном огне. Он кипел в этой борьбе, в этих муках, в этой крови, в этих геройских поступках.
Его окрыляла мечта стать борцом за светлое будущее, а старик Джиганша гордился своим прошлым, считая, что жертвы, принесенные им для блага Советов, испытанные мучения дают ему право называться солдатом революции. И надежда, что хоть на старости лет он может увидеть плоды революции, зарождали в его душе искру большой радости.
Нелегкую жизнь прожил Джиганша. Много было в ней горя, страданий, тяжелого труда.
В девятьсот пятом году его родного брата Тимершу подвесили к колодезному бревну, нанесли десятки ран, сыпали в них соль, замучили насмерть. С этого дня волосы Джиганши побелели. Двух сыновей отдал он пролетарской революции. Хорошие сыновья были у Джиганши. Они не ведали страха. Любая работа спорилась в их здоровых руках, а в играх и забавах всегда они были первыми. Немало девушек мечтало о них, у многих горячей билась кровь при мысли о сыновьях Джиганши.
Появились в восемнадцатом году чехи, за ними Колчак. Поднялись против них рабочие и крестьяне. Не усидели и сыновья старика.
— Отец, не гневайся, что под старость лет оставляем тебя одного. Прости, если не увидимся, — сказали они и добровольцами пошли под красное знамя.
Старший пал в бою под Перекопом. Младший погиб в девятнадцатом году при переправе через Белую, когда, преследуя армию Колчака, с Двадцать пятой дивизией брал Уфу.
Вспоминая своих сыновей, Джиганша думал: «Я дал Совету двух львов. Я своей кровью защищал Советы».
Эта мысль прибавляла бодрость старику, выпрямлялся его стан, согнутый многими невзгодами. И потому обидными показались ему слова комсомольца Шаяхмета, в которых явно сквозило подозрение.
Они жарко схватились, хотя и горели одним пламенем. Но старик был сдержанным человеком, он понял, что разговор нужно вести по-другому.
— Джемагат! — сказал он. — Сказать — язык не поворачивается, а не сказать нельзя: этот шкворень взял у меня Садык. По старости я не сразу вспомнил об этом.
Много подозрений роилось в головах людей относительно убийства Фахри, мысленно ощупывали каждого, но никто ни на секунду не заподозрил кочегара.
Слова Джиганши грянули как гром среди ясного неба. Все недоуменно переглянулись.
— Когда взял? Для чего! — воскликнул Шенгерей.
Джиганша задумался, стараясь припомнить.
— Да… так… Кажется, была суббота… Один сапог на ноге, другой в руках… Так и пришел. «Джиганша-бабай, говорит, гвоздь в сапоге мешает, сбить его надо, дай мне шкворень». — «Бери, говорю, бери. Вон он лежит».
Садыка знали, любили. Любили как своего, как руководителя в получении земель и угодий, как человека, оказавшего Фахри немало помощи при переселении из Акташа в Байрак. Никто не мог сказать о нем что-нибудь плохое. И лишь жена Шенгерея Рагия не любила кочегара.
— Батюшки-светы! — затараторила она. — Видно, светопреставление наступило! Приезжают в гости и людей убивают… Господи, сохрани и помилуй!
Айша шагнула к ней, хотела что-то сказать, но Рагия продолжала:
— Он, он… Кому же еще! Джиганша-бабай врать не станет. Обязательно это дело Садыка!
— Придержи язык! — крикнул жене Шенгерей. — Чего застрекотала, как сорока? При чем тут Садык? Ведь они друзьями были… Дура!
Шум увеличивался с каждой минутой.
— Говорят, слово за слово цепляется, — вмешался в разговор низкорослый, косоглазый старик Гимадий, молча стоявший до сих пор в сторонке. Шаркая лаптями, он вошел в круг. — Вот и я хочу сказать. Имеется у меня подозрение. Прошло три дня и три ночи, а подозрение это не дает мне покоя. Я так думаю: наверно, они вместе выпили, опьянели, оба они люди с характером, подрались и стукнули друг друга чем попало. Ведь они всю жизнь точили друг на друга зубы.
Слова старика вывели Айшу из оцепенения:
— Зачем так говорить, Гимадий-абзы? Откуда ты взял, что они враждовали?
— Чему удивляешься? А от чьей руки на лбу кочегара шрам остался?
— Только-то? Да с кем в молодости греха не бывает? Фахри всегда говорил: «Кочегар мой революционный учитель».
Но старик не дал Айше докончить:
— А ты, сношенька, не горячись. Ведь и мы Садыка знаем: снаружи он друг, а изнутри черная змея.
— Напраслину на человека взводишь, — ответила Айша, но дальше спорить с ним не стала, решив, что следствие докажет всю нелепость такого предположения.
Слова Гимадия возмутили и Шаяхмета. Он все время сдерживался, чтобы не сказать какой-нибудь резкости, но под конец не выдержал:
— Эх, бабай! Видно, правда говорится: «На чью телегу сядешь, того и песню запоешь». Кажется, ты стал подпевать сырьевщику Валию.
Но Шенгерей перебил его:
— Беги, Шаяхмет, в кузницу, скажи зятю — пусть скорее идет сюда. Слышишь ведь, что о нем здесь наговорили?
Курсант ловчее подтянул ремень, плотнее нахлобучил шлем и, быстро зашагав к лесу, вскоре исчез в березняке, тянущемся до самого Байрака.
А в это время на другом конце деревни остановилась у ворот околицы сивая лошадь, впряженная в тарантас.
Шенгерей с первого взгляда узнал и хромого мерина и сидящего в тарантасе Петрова. При виде знакомой упряжки Тимеркаеву стало как будто легче.
Убийство Фахри — большое горе. Но этого мало. Теперь невесть что заговорили о кочегаре Садыке. Тут и шкворень, и шрам… Сколько ни думал Шенгерей, никак не мог разобраться в этой запутанной истории. Еще утром он сообщил в волисполком о том, что найден труп, и с нетерпением ждал приезда начальства…
Какой-то мальчуган открыл ворота околицы. Лошадь затрусила по широкой деревенской улице.
— Тише, вы! — крикнул Шенгерей шумевшей толпе. — Вон едут, разберут, все раскроется…
II
Наконец напали на след известного вора по кличке «Чумар». Арестовали несколько бандитов, от которых трепетала вся округа. Дознание установило причастность к делу одного из работников волисполкома. Подозрение коснулось секретаря машинного товарищества «Трактор» и заместителя председателя правления кооператива.
Для ведения следствия по раскрытию столь важного преступления был назначен чуваш, коммунист Паларосов.
Он четверо суток вел следствие, допросил свыше пятидесяти человек, арестовал двенадцать преступников и под стражей отправил их в город.
Покончив с этой частью дела, Паларосов собрался ехать на пристань, но не успел сесть в тарантас, как услышал окрик:
— Товарищ Паларосов! Товарищ Паларосов! Остановитесь на минутку!
К нему спешил Петров, агент уголовного розыска.
— Из Байрака человека прислали. В овраге Яманкул обнаружили труп Фахри… Мне нужно ехать. Что вы думаете делать? — спросил он, но в вопросе ясно сквозило желание, чтобы Паларосов сопровождал его.
Паларосов задумался. Сегодня в городе открывается партконференция, он, как делегат, должен прибыть своевременно, принять в работе активное участие. В повестке дня стоят два важных экономических вопроса. А с другой стороны, он, как следователь, узнав о преступлении, должен немедленно ехать по вызову.
— Когда отходит пароход?
— По расписанию — в семь… На часок опоздает…
«Может, успею», — подумал Паларосов, а вслух произнес:
— Поедем в Байрак. Распорядитесь, чтобы нас сопровождал милиционер, а также вызовите доктора, — может, придется произвести вскрытие.
Ярко светит солнце. Все кругом спешит одеться в весенний наряд.
Нынче апрель был холодный, даже первая половина мая прошла в пасмурных днях. Но вот уже неделя, как солнце стало пригревать землю. Пронеслось несколько гроз, и воздух после них потеплел. Природа ожила, все зазеленело, закудрявилось.
Помолодели луга, поля, леса. Их молодая зелень ласкает взор. Выглянули желтые, белые, голубые цветочки, маня пестрых мотыльков. Пчелы наполнили окрестность веселым жужжанием. Высоко в небе взвились жаворонки, важно зашагали за пахарем черные грачи. Захлопотали в кустах всякие птахи, занятые устройством гнезд для будущих птенцов.
Вышли в поле и пахари. Тяжелыми плугами разрыхляли они землю, засевали ее зерном в надежде собрать осенью богатый урожай. Яркие лучи солнца укрепляют надежду хлебопашца. Полосы озимых и яровых всходов, готовая зацвести гречиха углубляют его радость. В нем пробуждается надежда; как за суровой зимой пришла ласковая весна, так и после тяжелой жизни наступит счастливая пора…
По черной дороге, проползшей змеей между всходами хлебов, тарантас подкатил к мелкой речонке. Вода в ней не доходила до половины колес, переправа была нетрудной. Лошадь медленно взобралась на гору и затрусила по влажной дороге, разделяющей небольшой лесок на две половины. От самой опушки леса снова начинались поля, а за ними сверкала голубая гладь реки.
Это Волга.
Когда путники выехали из леса, по ней медленно плыл длинный плот. Построенные на нем деревянные домики казались игрушечными, а суетившиеся около них люди — букашками. Заигрывают с плотом резвые волны, подкатывают к нему то с правого борта, то с левого, хотят добраться до домиков, но это им не удается, и волны отступают от плота, ища новых забав.
Из-за поворота реки навстречу плоту выплыл большой, двухэтажный пароход. Мощно загудела его сирена. Люди на плоту забегали, засуетились. Четверо кинулись к гигантскому рулю, сложенному из толстых бревен.
Подойдя ближе, пароход снова дал свисток, который прокатился по реке, достиг берета, прогремел в лесу и умолк где-то вдали.
Путники, очарованные видом пробудившейся природы, не заметили, как подъехали к Байраку.
Шустрый мальчуган с красным галстуком на шее открыл ворота околицы. Тарантас покатил по широкой улице.
— Вон… Нас ждут, — сказал Петров, указывая на противоположный конец деревни, где стояла толпа народа.
III
Паларосов был хорошо знаком с Фахри. Они вместе работали в тяжелые годы, вместе боролись с голодом. Фахри был тогда председателем волисполкома, Паларосов — агентом центра. Потом его отозвали в Чувашскую Республику. Последние годы он работал там. А теперь, после долгого перерыва, снова оказался в Байраке.
Паларосов, как и большинство чувашей, умел, хотя с трудом, говорить по-татарски.
Подъехав к толпе, он слез с тарантаса, по-татарски поздоровался с собравшимися, выразил Айше соболезнование, упомянул, что Фахри был его другом. Затем он обратился к Шенгерею с расспросами о том, когда, где и как был обнаружен труп Фахри. Получив от него нужные сведения, он снова повернулся к Айше:
— Пойдемте с нами.
То же, но по-русски он сказал Шенгерею и Петрову. Кроме них, нужны были двое понятых из местных жителей.
— Я пойду! — отозвался Гимадий, выходя на середину.
— Пусть Джиганша-бабай пойдет, он честный старик! — раздалось со всех сторон.
Паларосов не возражал. В сопровождении понятых, с Шенгереем, указывающим дорогу, направился он к оврагу Яманкул.
На крутом берегу Волги растет одинокий столетний дуб. Глубокие корни далеко ушли в землю, широко раскинулись могучие ветви, густая листва не пропускает лучей солнца, даже в полдень царит там прохлада.
Паларосов и его спутники оставили под тенью этого дуба вещи и стали с трудом спускаться по крутому скользкому скату оврага.
Разговор начался с выговора Шенгерею — он не должен был до прибытия следственных властей трогать труп и переносить его в деревню.
Паларосов зарисовал место обнаружения трупа. На правой стороне оврага, в желтом песке, ясно обозначался след ноги. Похоже, что сюда наступили в грязную, дождливую пору. Паларосов измерил след, внимательно осмотрел узкую тропинку, ведущую из Байрака в Хзмет. По окончании осмотра прочел протокол и дал его на подпись понятым. Но это оказалось нелегким делом.
Айша в детстве несколько зим ходила учиться к жене муллы, но дальше чтения по складам дело не пошло. Со временем и это забылось. И только после революции удалось ей урывками месяца полтора посещать кружок ликбеза. Там она научилась читать по-печатному; что касается письма, то с этим делом не ладилось. Огрубелые от тяжелой работы руки не могли справиться с тонким пером. Единственное, чего она добилась, — это подписывать свое имя и фамилию. Теперь, взяв из рук Паларосова перо, она с трудом вывела: «Айша Гильманова».
За ней была очередь Джиганши. В детстве он был крепостным Хайдера-мирзы Акчулпанова. Не удалось ему походить в школу и позже. Поэтому вместо подписи он обычно ставил тамгу[77]. На этот раз за него подписался Петров.
Шенгерей в детстве посещал школу, получил немало ударов от хальфы[78] и хазрета[79], два раза убегал из школы, но всякий раз его приводили обратно, награждая еще большими тумаками. С годами зачатки знания, полученные когда-то в школе, забылись. И только во время советской власти удалось ему восстановить забытое. По книгам сынишки, ученика советской школы, научился он писать. Это было его гордостью и большим подспорьем в работе. Когда очередь дошла до него, он с кудрявым росчерком подписал свою фамилию.
Последним был старик Гимадий. Все считали его за человека со знаниями. В молодости он служил дневальным в большом медресе, оттуда перешел в дом хазрета, а после его смерти был взял Абдуллой-ишаном к себе. Когда в девятнадцатом году черные волны колчаковщины залили территорию теперешней Татарской Республики и подступили к Казани, Абдулла-ишан именем религии призывал народ восстать против Советов, за что, по приказу кочегара Садыка Минлибаева, был расстрелян, а имущество его отобрано в волость.
Гимадий остался без пристанища. После долгих мытарств, по протекции дау-муллы[80] Фаридель-Гасры, устроился он на службу в совхоз, заведующим которым был Валий Хасанов.
Никто не поверил Гимадию, когда он сказал: «Моя тамга — серп». Все решили, что он насмехается над неграмотностью старика Джиганши. Но Гимадий не насмехался — он действительно был неграмотен. За него в протоколе расписался Шенгерей.
Покончив с подписями, все вернулись в Байрак. Около дома Фахри стояла большая толпа. Тут же сидели прибывшие из волости милиционер и доктор. Прибытие доктора вызвало в деревне массу толков:
— Вскрывать будут… Узнают, кто убил, и тут же расстреляют…
При деятельном участии Рагии этот слух облетел все избы и под конец принял еще более жуткий вид:
— Он, он! Кто же другой?! Его при всем народе убьют. Кровь за кровь…
Паларосов вместе со своими спутниками, в сопровождении доктора и милиционера, прошел в амбар, где лежал труп Фахри.
По пути он в нескольких словах обрисовал доктору Красильникову историю убийства.
— А вот оружие, найденное около него, — закончил он, указывая на окровавленный шкворень.
Осмотр трупа продолжался недолго.
— Ясно! Вполне ясно! — сказал доктор и, приставив шкворень к поврежденному черепу, пояснил: — Вот, смотрите. Первый удар был нанесен неожиданно, с правой стороны. Удар был меткий и сильный — череп треснул. Второй удар пришелся спереди, он был слабее. Больше никаких повреждений нет. Для вскрытия трупа оснований не имеется.
После составления протокола доктор уехал.
Паларосов, занятый мыслями о предстоящем допросе, вышел из амбара. В лицо пахнуло свежим, теплым воздухом. Небо ласково голубело. Хорошо бы поставить где-нибудь в тени стол и, не входя в душную избу, начать допрос. Но это невозможно. Среди толпы, занятой одной мыслью — кто убийца, кого арестуют? — трудно спокойно допросить свидетелей. Паларосов подозвал Шенгерея и Петрова, дал им нужные распоряжения и, повернувшись к Айше, сказал:
— Введите нас в свой дом.
Держа под мышкой портфель, туго набитый материалом по делу вора «Чумара», он перешагнул порог дома Фахри.
IV
Фахри не взял из дома отца ни одного гвоздя — у старика у самого ничего не было. Жена не принесла ему никакого приданого, так как вышла за Фахри против воли родителей.
Несколько лет молодые скитались из одной избы в другую. Потом Фахри ушел на фронт. Айше пришлось одной позаботиться о создании своего угла.
При разделе помещичьего леса на долю Айши достались крупные деревья. Она напилила из них бревен, счистила кору, высушила. Общество отвело ей участок для постройки избы.
— Коли наймешь плотников, расплатиться волос на голове не хватит. Давай я сам избу тебе поставлю. Летом мне за это отработаешь, — сказал Шенгерей.
И смастерил Айше сруб. Недаром его отец был плотником, а Шенгерей его помощником. Сруб вышел на славу, бревна лежали ровно, углы прямые, двери, окна вырублены как следует.
Доски для пола, потолка, дверей Айша купила на базаре, сделать их наняла мастеров. На большее денег не было. Тогда она созвала помощь. На ее приглашение откликнулось много людей. Первыми пришли Шаяхмет, Шенгерей, Джиганша. Они приладили окна, двери, законопатили избу. Шаяхмет привез два воза соломы. Ею покрыли крышу. За пуд муки печник сложил печь, Айша сама ее побелила.
Так Айша обзавелась домом.
Не прошло и недели после ее вселения в новый дом, как произошло крупное событие: нежданно-негаданно приехала ее мать Бадрия. Лицо распухло от слез. Телега полна всякого скарба. Увидев дочку, Бадрия горько заплакала.
— Отец при смерти лежит, сама от старости в три погибели согнулась. Обидели мы тебя в ту пору. Прости! Больше терпеть нет мочи. Прослышали — избу ты выстроила, ну, я и приехала, привезла тебе вещей для хозяйства.
Глянула Айша на воз — и ахнула.
Чего, чего тут не было! И самовар, и ведра, и решета, и сковороды, и скалки… Самым дорогим подарком для Айши был большой полог, который она сама когда-то выткала. Она разделила им избу на две половины.
После долгой разлуки мать и дочь не могли наговориться. Вместе поплакали, вместе посмеялись. Под конец Бадрия крепко обняла Айшу.
— Слава богу, наговорилась, облегчила сердце! Напои меня чаем, да я и поеду. Отец больной лежит, остаться ночевать никак не смогу.
А уезжая мать наказала дочери навестить их тотчас по возвращении Фахри с фронта.
По дороге на северный фронт Фахри заехал к жене. Увидев новый дом, он поразился, не поверил глазам. Всегда занятый мыслью об артели, коммуне, колхозе, он не удосужился завести свое хозяйство и не видел в этом большой необходимости. Фахри погостил недолго. На следующее же утро, чуть свет, он ушел догонять свой полк. Окончательно вернулся он домой только после ликвидации всех фронтов…
Следуя за Айшой, Паларосов вошел в чисто прибранную избу.
— Ишь ты, хорошо жил, — подумал он, кладя на неокрашенный деревянный стол свой туго набитый портфель.
На столе неумелой детской рукой были вырезаны две надписи: «Пионер Самад» и «Октябренок Азад». Но Паларосов не умел читать по-татарски и потому не понял их. Он окинул взглядом всю избу, заметил полку с книгами, брошюрами, журналами.
Вынув из портфеля бланки, бумагу, Паларосов приступил к допросу Айши:
— Ну, джинги[81], скажите откровенно: кого вы подозреваете?
— Не знаю.
— А все же?
— Определенно ни на кого указать не могу.
— Чего вы скупитесь на слова? Ведь они не купленные. Были ли у него друзья, враги?
— Конечно, были.
— Кто?
— Много было таких, которые с радостью перегрызли бы ему горло. Не мало было и таких, которые пошли бы за ним в огонь и в воду.
— А отчего у него были враги?
— Говорили, что он отнимает землю, уговаривает записаться в артели, коммуны, тормозит их работу…
— Чью работу? Как тормозит?
— Разве кулаки бездействуют? — вопросом же ответила Айша. — То, глядишь, они в кооператив нос свой просунули, то в Совет. Фахри и нажимал на них.
Отвечая на умелые вопросы Паларосова, Айша начертила жизненный путь Фахри. Это была обычная биография татарского активиста-крестьянина.
Отец — бедняк. Фахри с детства помогал родителям в полевых работах. В семнадцать лет поступил батраком к помещику фон Келлеру. Четыре года гнул там спину. Потом солдатчина. Война. Фронт. Плен. Бегство. Февральская революция настигает в госпитале. Подходит Октябрь. Красные фронты, а потом партийная, советская работа в деревне.
Когда Айша заговорила о недавних днях, Паларосов неожиданно задал вопрос:
— Почему на последних выборах его не провели в волисполком?
— Уж так случилось.
— Почему так?
— В волости татары-коммунисты разделились на группы и переругались между собой. Напоследок победили сторонники Шакира Рамазанова, Фахри потерпел поражение.
— Сколько времени был он безработным?
— Три месяца.
— Потом?
— Потом назначили ревизовать кооператив, выбрали секретарем ячейки.
— Как вы жили с мужем? — повернул Паларосов допрос в другую сторону.
— Жили обыкновенно.
— Бывали ли драки, ругань?
— В жизни всяко бывает.
— У татар есть обычай насильственной выдачи девушек замуж. Может быть, и вас насильно за него выдали?
Айша рассмеялась. Этот вопрос следователя показался ей неуместным, ненужным…
V
Фахри был бедным, но ловким, складным, бойким парнем. А Айша, едва ей минуло шестнадцать лет, стала приглядываться к парням и скоро приметила Фахри.
Крепко полюбился ей Фахри, а сердце болело, что остается он к ней равнодушным.
Так в сомнениях прошло два года. Фахри же всячески старался заглушить свою любовь к Айше.
— Не пойдет она за бедняка. Лучше не думать, — твердил он.
Как-то вечером, проходя по улице с толпой товарищей, он спел под окном Айши:
Девушка поняла, в чей огород метит парень. В тот же день пошла к соседке, хранительнице тайн, и велела передать Фахри:
— Лежит к нему мое сердце, а поговорить негде. Пусть сегодня ночью придет к стогу сена, что стоит за двором.
Парень не знал, верить или нет.
— Не будет играть со мной, коли жизнь мила, — сказал он и решил проверить девушку.
Долго не заходило солнце, долго не засыпали старики, не утихала деревня. Наконец взял Фахри в руку тяжелую дубинку — защитницу от притаившихся врагов — и осторожно зашагал к стогу.
Глядит — сидит Айша, а рядом с ней давешняя соседка.
Заколотилось сердце в груди, забыл все на свете. То ли миловались да целовались всю ночь, то ли одну минутку.
С той ночи начались встречи, поцелуи. Вместе с ними поползли по деревне слухи, сплетни, посыпались на Айшу упреки:
— Род срамишь! Иль боялась, что равного себе не сыщешь?
Но слова не действовали. Тогда посыпались тумаки. Да разве могут они образумить горячее сердце!
Айша не послушалась советов, не побоялась тумаков, не устыдилась сплетен. Сама уговорила любимого послать к отцу сватов. Эту роль взял на себя Джиганша-бабай.
— Не в силах мы нынче справить свадьбу, — получил он туманный ответ.
Но парень с девушкой не успокоились. Вскоре к отцу Айши пришел второй сват. Получив отказ, он не выдержал и сказал:
— Напрасно противишься. Нынешние дети не мы. Сговорятся между собой, покончат дело, тогда захочешь укусить локоть, да не достанешь.
Вскипел отец Айши и крикнул вне себя от гнева:
— Ты передай этой нищей собаке, что моя сука еще не ощенилась и нет у меня щенка, чтобы отдать ему! Слышишь? Так и скажи!
Узнав об ответе отца, Айша почувствовала, будто ей развязали крылья. В тот же день известила Фахри о случившемся и в ту же ночь в одном платье, лаптях, покрывшись платком, убежала к нему.
…Всего этого Айша Паларосову не рассказала и на его вопрос лишь ответила:
— Нет, меня насильно не выдали. Я вышла за Фахри против воли родителей.
Не рассказала она и о том, как после отъезда Фахри на фронт исполняла всю мужскую работу по хозяйству — пахала, сеяла, косила, ездила в лес за дровами. И только на одном случае остановилась более подробно: она работала членом сельсовета, работала активно, и ее выбрали делегатом на съезд в город. Там она сидела в президиуме, выступила с речью о недочетах работы кооперации, о проделках кулаков. Выступление понравилось. В газетах появился ее портрет. На этом съезде ее выбрали делегатом в Москву. Айша почувствовала почву под ногами, выросло стремление работать не покладая рук, но работать не удалось. Злые языки воспользовались ее отказом и затрезвонили: «Это Фахри не разрешил ей. Сказал: «Выбирай — либо я, либо совет. Если пойдешь в совет, домой не возвращайся». Вот Айша и отказалась».
— Так ли это было? Действительно ли вам запретил работать Фахри? — в упор спросил Паларосов.
— Нет, что вы! — ответила Айша. — Беременна я тогда была. На четвертом месяце. Как же могла взяться за такую ответственную работу?
Айша подписала протокол и вышла из избы. Паларосов, высунувшись в окно, сказал Петрову:
— Введите Гималетдина Бикмурзина.
VI
— Расскажите, что знаете об убийстве Фахретдина Гильманова.
Неожиданные слова следователя не смутили вошедшего — худощавого, низенького старика с чуть косыми глазами и небольшой козлиной бородкой. Осторожно переступая по чистым половицам, он подошел к столу, бросил быстрый взгляд на портфель и молча уселся на скамейку.
Паларосов повторил вопрос по-русски.
Не получив ответа и на этот раз, он внимательно посмотрел на старика и спросил:
— Чего молчишь?
— А чего говорить-то! Известное дело, кочегар убил.
Такой ответ удивил следователя. Он впился взглядом в Гимадия.
— Какой кочегар?
— Как какой? Известно, ваш городской. Бандит он. Вон и тогда застрелил ни в чем не повинного Абдуллу. Я еще утром сказал Айше: подозреваю, мол, кочегара… А меня обругали, как собаку… Родственник он байраковским.
Паларосов не сводил с него глаз.
— Какое же вы имеете подозрение?
— А как же! Прошло три дня и три ночи, как пропал Фахри, и зародилось в моей душе сомнение. Ни есть, ни пить не могу. Думаю я: выпили они, а оба характерные, ну, думаю, и подрались и стукнули друг друга чем попало. Ведь они всю жизнь точили зубы один на другого…
Далее Гимадий рассказал о шраме, о шкворне, а под конец сказал, что в день исчезновения Фахри видел их вдвоем, о чем-то спорящих, по пути к оврагу Яманкул, и добавил:
— Это и Ахми видел.
Это было совершенной новостью. Следователь засыпал старика вопросами, а тот делался все словоохотливее:
— Вот пришел к нам в совхоз хазрет…
— Какой хазрет? Что ему понадобилось в совхозе? — перебил Паларосов.
— Хазрет Фарид. Он близкий человек Валий-баю и бывает у него. Позвал меня к себе этот Валий-бай — байракские его сырьевщиком Валием зовут — и говорит: «Вот, говорит, хазрет хочет по берегу Волги прогуляться, ты, говорит, сходи с ним». Я, конечно, согласился. День теплый. Взял хазрет в руку высокий посох, я захватил весла, и пошли мы к берегу. Посмотрели столетний дуб и двинулись дальше. Хазрет идет за мной и говорит: «Видишь, говорит, как милостив бог! В прежние времена здесь жили наши предки болгары, а потом было здесь Казанское ханство. Но после победы московского царя мусульман прогнали, а их земли отдали русским начальникам, богачам, монахам и попам. Еще недавно на этой святой земле валялись свиньи русского помещика князя Гагарина, а теперь сюда переселяются бедняки мусульмане и основывают целые деревни…»
Паларосов нетерпеливо посмотрел на часы. В голове мелькнуло: если свидетель и дальше будет так подробно рассказывать, то к открытию партконференции не поспеть.
— Бабай, вы мне сказки не рассказывайте, а скажите, что знаете об убийстве Фахри.
— Не надо — так не буду. У меня язык не чешется! — поднимаясь со скамейки, сердито сказал Гимадий.
— Я не прошу вас молчать, но только хочу, чтобы вы не говорили пустяков.
— А почем я знаю, что тебе нужно! Перо ведь в твоих руках — пиши что надо.
— Ну и упрям же ты, старик! — усмехнулся Паларосов. — Ладно, говорите так, как знаете. Садитесь.
Гимадий спокойно, как будто ничего не произошло, продолжал рассказ:
— «Покажи мне новую деревню Байрак. Я преклоню колена на святой земле, возблагодарю всевышнего». Так, в разговорах, незаметно дошли мы до деревни, прошли по широкой улице, спустились к Волге. Оттуда на лодке перебрались на другой берег. Чистый желтый песок блестел на солнце как золото. Мулла совершил омовение, помолился, а я забрался в тальник и прилег в тени с трубкой… Прежде я не курил, но когда кочегар застрелил ишана, свет как-то опустел для меня, ну, я и пристрастился к табаку… Наступил вечер. Мулла и говорит: «Пора, пожалуй, вернуться». Мы потихоньку переплыли Волгу. Стал я убирать весла — вдруг слышу голоса. Поднял голову — вижу: по узкой тропинке, среди деревьев, по направлению к старому дубу идут двое. Точно признал я: один был кочегар Садык, другой — покойный Фахри. Трезвые ли они были, нет ли, сказать не могу, но только оба громко ругались. В это время к ним подошел Ахми, которого Валий-бай послал за нами. Он тоже видел кочегара и Фахри.
Старик прервал свой рассказ, раскурил трубку и продолжал:
— Вот от этого-то и зародилось мое подозрение, а как увидел на лбу кочегара шрам, как нашли около убитого окровавленный шкворень, взятый Садыком у Джиганши, так я совсем спокой потерял…
Отпустив Гимадия, Паларосов снова высунулся в окно:
— Товарищ Петров и Тимеркаев! Приведите работника совхоза Ахмеда Уразова и Садыка Минлибаева.
Из толпы, окружающей избу, вышла молодая женщина, одетая в городское платье, и дрожащим от волнения голосом сказала:
— Товарищ Паларосов, он в кузнице. Мой брат Шаяхмет давно пошел за ним. Сейчас они придут.
За Ахми поехал член совета.
По вызову Паларосова в избу вошел Джиганша-бабай.
VII
— Чей это шкворень?
Таким вопросом встретил следователь вошедшего.
Джиганша-бабай, седой, семидесятилетний, но еще крепкий старик, был раздражен продолжительным пребыванием Гимадия у Паларосова и решил пожурить следователя за то, что он слушает непутевых людей, но неожиданный вопрос разрушил все его планы.
Старик подробно рассказал всю историю шкворня. Потом допрос коснулся шрама.
— Знаю, все знаю! — не скрыл старик. — Его жена Нагима росла в нашей деревне — в Акташеве. Я был ее посаженым отцом.
Паларосов долго расспрашивал о случае со шрамом. Под конец он будто вскользь спросил:
— Каковы были отношения между Фахретдином Гильмановым и Садыком Минлибаевым? Почему они враждовали?
Джиганша-бабай вскочил со скамейки, застучал палкой по полу и закричал:
— Так и знал! Так и знал, что Гимадий что-нибудь напутает! А ты зачем писал все его враки?
Паларосов удивился вспышке старика.
— Не волнуйся, старик. Я на то и послан, чтоб записывать все показания. Давеча записал слова Гимадия, а теперь твои, — пояснил он.
Но старик не сдавался:
— Мои — это другое дело! Мои слова пиши, а его не надо! Ведь он без толку языком треплет.
— Скажите же, какие отношения существовали между Фахретдином Гильмановым и Садыком Минлибаевым? — повторил следователь.
— Ты сперва послушай меня, а потом сам увидишь, какие были между ними отношения. Царя свергли, а земли не дали, сыновья наши с фронта не вернулись. Народ как соберется, так ругается. Тут приехал Садык, разъяснил все крестьянам и солдатам и отобрал у помещика все угодья. Садык был нашим первым указчиком, а Фахри — первым большевиком-комиссаром во всей волости. Вот и реши: кто они — враги или друзья? Ты человек умный, рассуди теперь!
И, не дожидаясь ответа, старик продолжал:
— Ты и сам был на фронте и, наверно, знаешь, как мой сын, погибший под Перекопом, писал, что отряд Фахри завоевал большую известность и сам Фрунзе в приказе сказал, что первым татарским крестьянским отрядом является акташевский отряд, отряд Фахри… Так-то вот… Прежде мы в деревне Акташеве жили, — пояснил он. — Как только узнали, что чехи заняли Самару и перерезали коммунистов, так и поднялись, как один. Из одной нашей деревни пошли двести человек, из них двадцать женщин было да семь стариков. Много тут помог Садык, а Фахри был нашим командиром… Ну, враги они иль друзья? А что делал тогда твой Гимадий? Я ему тогда говорил: пойдем, мол, с красными, там, мол, наше место, — а он и не двинулся, так и остался у белых. Вот ведь кто твой Гимадий!
— Джиганша-бабай, отчего ты на меня так сердишься? — улыбнулся Паларосов.
— Ишь сколько бумаги испортил, пока записал слова Гимадия, а мои писать ленишься. Вот за это и сержусь.
— Нет, бабай, я и твои слова записываю.
— Смотри же, хорошенько пиши! Из Акташева, мол, двести человек пошли, да женщины и старики не остались, и сам товарищ Фрунзе в приказе написал, что акташевский отряд — первый татарский крестьянский отряд. Акташевцы немало крови пролили за Советы и красную Татарию, а больше всех в этом деле старались Садык и Фахри. Запомни это.
Кончив свое показание, Джиганша ушел. После него следователь допросил Шенгерея и Нагиму. Из вопросов Паларосова Нагима поняла, что он ждет какого-то разъяснения, что подозрение против Садыка в нем не уменьшается. Нагиму обуял страх. Наконец она не выдержала, посадила своего грудного ребенка на колени к Айше и побежала к кузнице.
VIII
Но ей долго бежать не пришлось.
На краю оврага сначала показались два удилища, потом две головы — одна в красноармейском шлеме, другая в серой фуражке — и наконец вынырнули две мужские фигуры. Один из них был Шаяхмет, а другой, высокий, худощавый мужчина, одетый в синюю рабочую блузу, с глубоким шрамом на лбу — Садык. Нагима бросилась к ним.
— Отчего так долго задержался? — встревоженно спросила она, схватив мужа за руку.
— А ты зачем так струсила? — с ласковой усмешкой сказал Садык.
— Струсишь! Тут чего только на тебя не наговорили! Рагия утверждает, что тебя непременно арестуют.
Садык весело расхохотался.
— Глупая! Кто и за что меня арестует?
Нагима, несколько успокоенная ответом мужа, внимательно посмотрела на него и ахнула:
— Фу! Или ты в трубу лазил? Смотри, измазался, как шайтан. Оботри хоть лицо, а то весь в саже.
— Уголь в кузнице очень плохой, так и летит, — пояснил Садык, вытирая лицо носовым платком.
В это время с криком «Папа! Папа!» к Садыку подбежали двое босоногих мальчиков лет восьми-десяти. При виде длинных удилищ они запрыгали вокруг отца:
— Мне! Мне!
Меньшему из сыновей — Куручу — Садык дал удилище подлиннее, а старшему — Хасану — покороче.
Куруч, обрадованный подарком, вприпрыжку побежал к реке, а Хасан, насупившись, глотая подступившие слезы, вымолвил:
— Чем такое приносить… лучше не надо.
— Так говорить не годится, Хасан. Ведь Куруч маленький, а ты большой и сможешь короткое удилище закинуть дальше, чем он, — успокоил его отец.
Пристыженный Хасан двинулся за братом.
Пока Садык мирил детей и разговаривал с женой, Паларосов допрашивал Рагию. Вначале она путала, под конец твердо заявила:
— Сама, своими глазами, видела, как они подрались у наших соседей. У Садыка из глубокого шрама на лбу струей текла кровь. Уж мы бились, бились, насилу ее остановили.
Увлеченная собственным рассказом, Рагия и не заметила, как выпалила:
— Кто же другой, как не Садык, сделал это дело? Он всю жизнь был отчаянным драчуном.
В это время в избу вошел Садык и, едва переступив порог, спросил:
— Вы меня вызывали?
Рагия вышла. Садык сел на ее место и закурил папиросу.
В результате собранных материалов Паларосов пришел к убеждению в виновности Минлибаева, но все же в душе ему хотелось обнаружить какой-нибудь факт, который разрушил бы это убеждение и доказал невиновность Садыка.
Он начал допрос по шаблону. Записал имя, фамилию и, только когда на вопрос о профессии получил ответ «химик», удивленный, остановился:
— Почему же вас называют кочегаром?
— Так уж прозвали.
— Как так?
— В двенадцатом году, в виде протеста на ленские события, наш завод не работал три дня. В числе уволенных за «бунт» оказался и я. После долгих мытарств мне удалось устроиться на Алафузовский завод кочегаром. С тех пор меня и прозвали кочегаром, хотя я по профессии химик.
— Где вы работали?
Садык стал припоминать: с семи лет работал учеником на спичечной фабрике, потом Бондюжский завод, Баку, Урал, потом снова Казань; вечные преследования, увольнения как «опасного» человека…
— Теперь где работаете?
Перечень оказался немалым: фабзавком, горсовет, бюро ячейки, райком…
Причину своего пребывания в Байраке Садык объяснил тем, что решил провести отпуск вместе с семьей у шурина.
— Что вы делали в кузнице?
— В четырех верстах отсюда есть артель «Маяк». Их кузнец напился пьяным и утонул в Волге. Ну, они и обратились ко мне: «Помоги, говорят, а то руки, ноги связаны, даже лошадь подковать некому». Я пошел раз, пошел два, а потом стал ходить в кузницу ежедневно.
— В какое время вы ушли из кузницы в субботу?
Этого Садык точно не знал, хотя и помнил, что солнце клонилось к закату.
— С кем шли?
— Сначала шел с Фахри, но потом мы расстались: я зашагал к Байраку, а он пошел в «Хзмет». Там возникли какие-то недоразумения между Валием и рабочими, сведения об этом поступили в ячейку, и Фахри должен был расследовать положение.
— От чего у вас на лбу шрам? — будто невзначай спросил Паларосов.
Садык улыбнулся и полушутливо, полусерьезно рассказал историю шрама.
В те давние годы, когда Садык был молодым парнем, в Акташе каждое лето устраивали джиен[82]. Садык участвовал в гуляньях, играл на гармошке, кутил с приятелями. Как-то раз, очевидно после особенно обильной выпивки, между парнями вспыхнула ссора, и Фахри сгоряча полоснул Садыка ножом. Удар пришелся по лбу. Кое-как рану перевязали, а Фахри скрутили руки и ноги, облили холодной водой. Тем дело и кончилось.
Следователь молча отодвинул в сторону портфель. Под ним лежал окровавленный шкворень.
— Узнаете? — спросил Паларосов, в упор глядя на Садыка.
Садык вздрогнул, вскочил с места, ощупал гвоздь и тонкую веревку, продетую в шкворень. Потом, не спрашивая разрешения, распахнул окно и чуть изменившимся голосом крикнул:
— Нагима! Где шкворень, который я брал у Джиганши-бабая?
Паларосов внимательно смотрел за каждым движением Садыка. В избу торопливо вошла Нагима.
— Я перерыла все вещи… не нашла, — пугливо вымолвила она.
Следователь усадил Садыка на прежнее место и предложил рассказать, зачем ему понадобился шкворень.
Минлибаев ответил, что он взял его у Джиганши, чтобы сбить гвоздь в сапоге, и забыл вернуть. Вот и вся история.
— Этот шкворень, окровавленный, найден в овраге Яманкул.
Садык побледнел. Его худое лицо окаменело. Он молча уставился на шкворень.
Паларосов повернулся к окну и крикнул:
— Введите Ахмеда Уразова!
Осторожно скрипнула дверь. На пороге показалась высокая, но какая-то расхлябанная фигура бедно одетого крестьянина. Воспаленные глаза с вывернутыми веками смотрели пугливо.
Паларосов задал ему несколько отрывочных вопросов об имени, фамилии, возрасте, месте службы и тут же перешел к выяснению обстоятельства его встречи с двумя спорившими людьми.
Ахми вытер грязным рукавом чекменя гноящиеся глаза и жалобно ответил:
— Чего я мог видеть? У меня глаза болят… трахома… Уж с детства…
— Значит, ты ничего не видел?
— Этого сказать не могу… По оврагу среди деревьев мелькнули два человека.
— Кто это были?
— Один был Фахри, а другой походил на Садыка… Точно сказать не могу.
— Слышал ли ты, о чем они говорили?
— Ругались они. А точно не знаю — глуховат я.
— Ничего не слышал?
— Нет… Только вот один матюкнулся и крикнул: «Я много видел таких, как ты!»
Не успел Ахми сказать последнее слово, как Садык, будто очнувшись от оцепенения, вскочил с места и крикнул:
— Как врет! Как врет! Кто только научил его?
Вызвали Гимадия. Он вошел встревоженный, напуганный, но от своих прежних слов не отказался и снова подтвердил все, что давеча показал следователю.
IX
В избу нерешительно вошли несколько крестьян. Видя, что их не гонят, за ними потянулись и остальные. Скоро изба наполнилась народом. Все стояли молча, в напряженном ожидании.
Паларосов надел фуражку, накинул на плечи кожанку и стал медленно складывать в портфель исписанные листы бумаги. Он напряженно думал о том, как поступать дальше, основываясь на собранных им материалах. Он подумал, что в городе все будут поражены, что он, может быть, получит выговор, но другого исхода, казалось, не было.
Паларосов захлопнул портфель, посмотрел на часы и обратился к кочегару:
— Садык Минлибаев, оденьтесь. Сейчас едем в город.
— Зачем? — встрепенулся Садык. — Ведь мой отпуск еще не кончился.
— Вам нужно ехать на основании имеющихся материалов.
— В чем дело? Ведь они были друзьями! — крикнула Нагима, подбегая к мужу.
Толпа напряженно молчала. Казалось, достаточно сделать Садыку знак, как она пойдет врукопашную, но кочегара не отдаст.
«Что это? Ошибка? Вражьи уловки? Чья рука замешана здесь?» — билось в мозгу Садыка, но тут же победила мысль, что нужно успокоить жену, толпу и подчиниться следователю.
— Не волнуйся, меня завтра же освободят, — успокаивающе сказал Садык.
Кочегар стал одеваться, а Нагима кинулась домой, чтобы приготовить детей к отъезду. На протесты мужа она только ответила:
— Нет, нет! Без тебя здесь ни за что не останусь! Освободят — вернемся вместе, а пока поеду с тобой.
Подали подводу. Паларосов, Минлибаев и милиционер поехали на пристань. Крестьяне молча провожали их, полные недоумения. Джиганша-бабай долго смотрел вслед удалявшемуся тарантасу, безнадежно махнул рукой и устало опустился на бревна, лежавшие около ворот дома Айши. Долго просидел он, погруженный в думу, пока случайно не заметил за околицей две большие тени.
— Посмотри-ка, что там такое. Не разберу я, — сказал он Айше.
Айша приставила ко лбу руку козырьком и внимательно посмотрела в указанном направлении.
— Шаяхмет! — позвала она стоящего неподалеку парня. — Кто это? Один на Шарафия похож, а другой не Василий ли Петрович?
— Они, они, Айша-джинги! — крикнул Шаяхмет и бросился к ним навстречу.
Подсев к ним на телегу, он торопливо рассказал о случившемся. Когда лошадь остановилась у дома Айши, он закончил:
— Паларосов или слепой, или продажный.
Вокруг вновь прибывших собрался народ. Все наперебой рассказывали об аресте Садыка.
— Что же это такое? Совет своего ребенка загрызть хочет! — недоуменно развел руками Джиганша.
А Шаяхмет тоном, не допускающим возражения, сказал:
— Я одно знаю — корень всего дела кроется у Валия Хасанова.
Это замечание Шаяхмета пробудило в голове Шарафия много воспоминаний. В девятнадцатом году он встречался с Хасановым на фронте, затем в редакцию, где он работал, поступили материалы о деятельности Валия в совхозе. Некоторые из них Шарафий отослал прокурору. Теперь ему почудилась какая-то связь между словами Шаяхмета и его личными воспоминаниями. Но он не находил возможным поделиться своими непроверенными предположениями в присутствии возбужденной толпы и даже постарался успокоить Шаяхмета.
И Василий Петрович, много видевший на своем веку, никак не мог связать образ хорошо знакомого кочегара с таким страшным преступлением. Он подыскивал в уме какой-нибудь способ, который помог бы разрешить это недоразумение, но ничего путного придумать не смог. Под конец он решил, что необходимо вернуться в город и через прокурора Гайфуллина ознакомиться со всем делом. Повернувшись к Шенгерею, он сказал:
— Товарищ Тимеркаев, довезите нас до пристани. Нам необходимо успеть попасть на пароход.
Байраковцы, часто встречавшиеся с Шарафием и Василием Петровичем как с шефами, ожидали, что они живо разберутся в случившемся, отделят врагов от друзей, но, видя, что их ожидания не оправдались, что их шефы уезжают, стали, недовольные, расходиться.
Вскоре к группе отъезжающих подошла Нагима в сопровождении брата, двух сыновей и с грудным ребенком на руках. Ее с младенцем и Василия Петровича, как пожилого человека, усадили на телегу. Остальные по берегу пошли пешком. Шаяхмет всю дорогу возмущался:
— Паларосов, если он не безнадежно глуп, должен был понять: если я иду убивать человека, так неужели возьму оружие смерти у своего соседа? Даже предположим, что возьму, но разве я оставлю окровавленный шкворень около трупа! Ведь это равносильно тому, что я собственными руками предаю себя.
На пароходе говорили только о кочегаре и Фахри. Слушая пылкие речи Шаяхмета, веские доводы Шарафия и Василия Петровича, Нагима чувствовала себя успокоенной и начинала верить в немедленное освобождение мужа.
Так они доехали до города.
X
Неожиданный приезд Нагимы, ее взволнованный вид очень удивили старуху, домовничавшую в квартире Минлибаевых. Нагима не сочла нужным сообщить ей о случившемся. Кинув на ходу: «Бабушка, присмотри за детьми», она тотчас же куда-то ушла.
Наступили сумерки. Витрины магазинов блестели ярким светом. Улицы были полны прохожих. Нагима ничего не замечала. Она торопливо шла к высокому мрачному зданию тюрьмы. Кто-то окликнул ее, громко выругался извозчик, под мордой лошади которого пробежала Нагима. Но она ничего не слышала. Наконец она остановилась у ворот большого здания, с белой башней в углу, около которой стояла вооруженная стража. Это была городская тюрьма. До революции Нагима не раз приходила сюда на свидание с мужем, приносила ему передачи. Боязливо постучала она в массивные ворота. Через минуту открылся маленький «глазок» и сиплый голос спросил:
— Что надо?
— Муж мой здесь. К нему пришла…
— Прием по средам и субботам, от двенадцати до двух. В другие дни приема нет, — ответил тот же голос.
«Глазок» закрылся. Нагима растерянно уставилась на запертые ворота, потом медленно отошла от тюрьмы. Куда идти?
Вспомнила — нужно увидеть Василия Петровича. Но его дома не оказалось.
— Сегодня открылась партийная конференция. Он прямо с парохода, даже не выпив чаю, ушел туда, — пояснила его жена.
Тогда Нагима побежала на почту, чтобы позвонить по телефону на татаро-башкирские командные курсы своему брату Шаяхмету.
— В ячейке его доклад, он прямо с парохода пошел туда, — ответили ей.
— Я его сестра. Он мне очень нужен. Вызовите на минуту.
— Это невозможно. Сейчас идут прения по его докладу.
Трубку повесили. Но Нагима твердо решила во что бы то ни стало добиться своего, потому, не теряя ни минуты, прошла в Первый Дом Советов, где жил Шарафий.
— Наверное, он что-нибудь разузнал.
— Вы к кому? — спросил швейцар.
— Мне в тридцать второй номер. Он дома?
— Нет.
— Где?
— Ушел в ячейку.
Тогда Нагима назвала еще нескольких коммунистов, живших в этом доме, но получила тот же ответ.
— Что же это в самом деле? Никого дома нельзя застать! — возмутилась она.
Швейцар улыбнулся.
— Ведь сегодня открытие партконференции и к тому же партдень.
Об этом Нагима совсем забыла и теперь решила пойти в Коммунистический клуб, где шла партконференция, — она надеялась там с кем-нибудь встретиться.
Большое двухэтажное здание красивой архитектуры прежде было дворянским собранием. После революции обширные залы этого здания увидели другую толпу. Вместо расшитых мундиров, бальных туалетов здесь запестрели серые шинели, рабочие блузы, красные повязки. Комнаты наполнились рабочими, крестьянами, красноармейцами. Бывшее дворянское собрание стало местом собраний, конференций, где строители новой жизни обсуждали вопросы, стоящие перед пролетарской революцией.
Партийный клуб, куда пришла Нагима, кишел, как растревоженный муравейник. Запоздавшие делегаты, гости торопливо раздевались у вешалки и, предъявив пропуска, поднимались по широкой белой лестнице наверх, в колонный зал.
Нагима не раздеваясь направилась к лестнице, но ее не пропустили.
— Мне конференция не нужна. Мне только увидеть одного человека. Я через минуту выйду обратно, — попробовала она протестовать, но безрезультатно.
В это время взгляд Нагимы случайно упал на площадку лестницы. Там стоял Иванов. Она подозвала его, написала на клочке бумаги несколько слов и, передав записку, попросила отдать ее одному из товарищей, фамилии которых тут же перечислила.
Не прошло и нескольких минут, как к Нагиме подошел Шарафий, успевший после доклада в ячейке прийти на партконференцию.
— Ну, что вы сделали? — метнулась к нему Нагима.
Шарафий, оказывается, ничего не разузнал. Из-за конференции он не смог ни с кем переговорить, все заняты. Но Нагима не слушала его доводов.
— Приехали и забыли! — горестно сказала она.
Шарафий всячески успокаивал ее и под конец добавил:
— Попробую сделать что-нибудь сейчас. Вы посидите пока в читальном зале.
С этими словами Шарафий поднялся наверх. У дверей зала стоял второй контроль. Шарафий предъявил пропуск и вошел в зал, переполненный народом.
Открывшаяся перед его взором конференция была частицей партии, авангарда пролетариата; сидящие здесь русские, чуваши, евреи, татары составляли один из отрядов этой великой партии. В ее рядах и под ее руководством они побеждали на фронтах войны, шли от победы к победе на фронте хозяйственном и культурном. Это были коммунары, пришедшие с фабрик и заводов, из деревень и красных казарм, готовые к новой борьбе за великое будущее.
Шарафий окинул взглядом ряд делегатов. Много было здесь знакомых лиц. Он встречался с ними на заводской ячейке, на фронте, в подшефной деревне, но прокурора Гайфуллина здесь не было. В президиуме увидела Василия Петровича. Шарафий, стараясь не шуметь, прошел к первому ряду, где заметил Паларосова и Иванова.
— Тебе Гайфуллина, что ли? Вон он, — шепнул Салахеев, около которого остановился Шарафий.
У открытой двери сзади президиума стоял высокий, полный человек с туго набитым портфелем в руке. Шарафий кинулся к нему:
— На одну минуту!
Но у Гайфуллина не было даже свободной секунды. Его как председателя мандатной комиссии рвали на части. Он так занят, что не может полностью прослушать доклад товарища, приехавшего из центра. Гайфуллин торопливо сказал об этом Шарафию и хотел уйти, но Шарафий не отступал.
— На одну минутку. Одно слово. Ведь Садык арестован! — вцепился он в рукав прокурора.
Делать было нечего, Гайфуллин прошел в маленькую комнату позади президиума.
— Я с этим делом отчасти знаком, — сказал Гайфуллин, — мне Паларосов сделал короткий доклад. Я ему сказал, что он поступил неправильно, что при применении меры пресечения нужно действовать осторожно.
— А он что ответил?
— Он возразил мне, заявив, что для ареста имеет довольно веские основания. Я спросил: «Какие?» — «Во-первых, говорит, преступление, в котором обвиняется Минлибаев, очень крупное. Во-вторых, против него имеются очень серьезные улики, и, в-третьих, он родственник байраковцам, и если его оставить на свободе, он может договориться с ними и уничтожить все следы преступления». Раз следователь держится такой позиции, я один ее изменить не могу. Сто пятьдесят восьмая статья уголовно-процессуального кодекса ясно говорит, что в таких случаях вопрос должен разбираться на распорядительном заседании суда.
Шарафий оторопел.
— А когда он состоится?
— Это быстро можно было бы сделать, но, сам видишь, я по горло занят в мандатной комиссии.
— Как же быть? Ведь Садык был выбран на конференцию.
— Знаю. Он прошел от нашего района. Мы сами его провели. Теперь вам остается одно из двух — или ждать распорядительного заседания, или взять Минлибаева на поруки.
— Это как?
— Очень просто: пусть за него поручатся два авторитетных лица или какая-нибудь рабочая организация…
Не докончив объяснения, Гайфуллин ушел, а Шарафий нацарапал что-то на листке блокнота и вернулся в зал. Записку он передал Василию Петровичу. Тот прочел ее, подозвал Шарафия и шепнул:
— Пусть кончится доклад. Потом я сам выйду к ней. Скажи, чтобы подождала в библиотеке.
Шарафий спустился к Нагиме, передал ей разговор с прокурором, умолчав относительно веских улик, и просьбу Василия Петровича, а затем побежал в зал, чтобы услышать хоть конец доклада.
Нагима этого не ожидала. Ей казалось, что товарищи Садыка отнеслись к делу халатно, никто не стремился тут же освободить его. Погруженная в мрачные думы, сидела Нагима в большом читальном зале. Прошло более часа. Пришел Василий Петрович, но и он, кроме обещания, ничего определенного не сказал. При этом он тоже ссылался на конференцию. Совершенно подавленная вышла Нагима из Коммунистического клуба.
Наступила ночь, но она не принесла облегчения. Сон бежал от Нагимы. До самого рассвета не сомкнула она глаз.
XI
Нагима выросла в Акташе. Первым приглянувшимся ей парнем был Садык.
Как-то в пригожий летний день Нагима накопала в огороде полное ведро картошки и, тихо напевая песню, стала мыть ее у колодца. Вдруг услышала за плетнем осторожные шаги. Не оглядываясь, она догадалась, кто пробирался к ней. И не ошиблась. Это был Садык, приехавший к родственникам на джиен. Давно приметила Нагима его взгляды, его упругую походку, привлекательное, хотя и не особенно красивое лицо.
Парень, подкравшись, что-то шепнул из-за плетня, но девушка не оглянулась и только чуть слышно сказала:
— Осторожнее, парень! Не то наши ребята живо тебе ребра переломают.
В ее голосе прозвучала не угроза, а предостережение. Парень и сам знал, что ребята не простят ему, городскому пришельцу, заигрывания с лучшей девушкой деревни. Но опасность, которой он подвергался, не остановила его, а только заставила быть настороже: по вечерам, идя на гулянки, он затыкал за голенище острый нож, а на руку наматывал цепь кистеня. Так ходил он в своей щеголеватой одежде, в шапке набекрень, и даже гармонь в его руках пела как-то особенно звонко. Нередко Нагима, сидя одна в избе, тихонько подпевала его игре, а когда он заводил плясовую, отбивала такт резвыми ногами.
Парень не упускал случая заглянуть к ней в окно, мигнуть при встрече.
«Видно, любит меня», — решила девушка.
Но неожиданно парень исчез. Девушка загрустила, затосковала.
Прошел целый месяц. Вдруг парень снова появился в деревне. Обрадованная Нагима решила, что он приехал только из-за нее. Скоро представился случай удостовериться в правильности предположения.
Как-то под вечер Нагима шла задами с охапкой сена. Вдруг к ней подскочил Садык, крепко прижал Нагиму к груди, шепнул:
— Люба ты мне! Скоро сватов пришлю, без страха скажи, что согласна.
Не успела девушка ответить, парень поцеловал в губы и был таков.
Подобрала Нагима упавшую охапку сена и сама не своя вернулась домой.
Садык сдержал обещание — на следующий день пришла в дом Нагимы сваха.
Мать Нагимы, испуганная горькой участью двух старших дочерей, определенного ответа не дала, пообещала только подумать да посоветоваться с родными.
А участь ее дочерей была действительно горькая.
Польстившись на богатые подарки, отец выдал старшую во вторые жены богатею соседнего села. Но богатство не принесло ей счастья. Старшая жена поедом ела молодую соперницу, не давала ей ни минуты покоя. А через несколько лет, когда она стала матерью троих детей, муж решил — шариат дозволяет иметь четыре жены — и женился третий раз.
В кромешный ад превратилась жизнь в доме. Не переставала клясть старшая дочь покойного отца за то, что кинул он ее в этот омут.
Участь средней была еще трагичнее. Прослышал отец, что полюбился ей молодой парень, что видится она с ним, подарила ему вышитый платок, — разозлился, разбушевался и просватал за пятидесятилетнего вдовца. Не смирилась девушка, в день свадьбы бросилась в глубокий колодец.
Много горя приняла старуха мать, много слез выплакала и потому не решилась выдать последнего ребенка, Нагиму, против ее воли. Подослала к ней Айшу, жену Фахри, чтоб узнала мысли девушки.
Сначала Нагима, застыдилась, долго молчала, но под конец сказала:
— Пусть мама решит. Да только чего ей беспокоиться, что дальний он? Письма можно по почте слать, а соскучится — так на пароходе путь не долгий. На лошадях и то в сутки доехать можно.
В точности передала Айша слова Нагимы. Расстроилась мать, резче выступили морщины на худом лице.
— Ишь что выдумала: почта, пароход… Не ее это слова, подучена она. — И добавила печально: — Вот все вы такие. Ночь недоспишь, день недоешь, все о ребенке хлопочешь, а вырастет — о тебе и не вспомнит.
— Так-то оно так, бабушка, — ответила Айша, — да парень больно хорош. Согласиться надо. Трудно вырастить девушку. Ведь и малина — она, если вовремя не сорвешь, вянет…
Долго говорили они. Наконец дала мать согласие. Их беседа закончилась обсуждением вопросов, связанных с предстоящей свадьбой.
XII
Вскоре сыграли свадьбу. Перед Нагимой открылся новый мир, полный радости. Но враги позавидовали счастью Нагимы, на вторую ночь после свадьбы вымазали ворота дегтем. Старушку мать разбудил лай собаки. Выбежала она на улицу и ахнула — жирными каплями растекался деготь по чистым, желтым доскам. Торопливо вернулась она домой. Тихонько, чтобы не разбудить молодых, взяла ведро, мочалку, скребок и стала мыть ворота. Но старания оказались безрезультатными — деготь успел впитаться в дерево и никак не отмывался.
Наступило утро, все проснулись. Весь дом был охвачен черной, как нефть, тоской. Больше всех горевала Нагима. Оскорбленная, опозоренная, она плакала навзрыд, как дитя. Единственным человеком, не потерявшимся и не предавшимся отчаянию, был Садык.
— Глупая, чего ты так тревожишься? Стоит ли волноваться из-за хулиганской выходки каких-то парней? — утешал он жену, но она продолжала плакать.
— Знаю я, чьи это проделки. Сын Загид-бая прислал мне душистого мыла, сын лавочника Хайбуллы конфет прислал… Я не приняла, обратно отослала… Спросите у Айши, она знает… Ей сын Хайбуллы сказал, что любит меня, что придет ко мне ночью, а Айша запустила в него камнем за такие слова… Вот они и сердятся… Не виновата я… Спросите Айшу.
— Зачем спрашивать? — улыбнулся Садык. — Ведь я знаю, что ты ни в чем не виновна!
Крепко обнял он молодую жену. Успокоив ее, вышел к воротам. Обстругал запачканные места, кое-где подрубил топором. Вокруг собралась толпа, послышались насмешки:
— Здорово, любезный! Иль женин позор срубаешь?
Вначале Садык молчал, но когда насмешки стали сыпаться все больше и больше, не выдержал, схватил обрубок, швырнул в толпу и крикнул:
— Хулиганы, мерзавцы! Проваливайте, пока целы, не то…
Подошли Фахри и Шенгерей, прибежал Джиганша-бабай, все встревоженные, обеспокоенные. Хладнокровие Садыка удивило их. С их помощью Садык скоро окончил работу. Все вошли в дом, где уже кипел самовар и были готовы горячие блины.
Еще перед свадьбой Садык заявил:
— Я человек заводской, у меня не то что дни, даже часы на счету. Через два дня после свадьбы Нагиму увезу в город.
Но после происшествия старушка мать ни за что не соглашалась отпустить молодых так скоро.
— Нас осрамили. Деготь смыли, а сплетни остались. Если уедете, засмеют, скажут — жених обиделся, хотел бросить жену, да только пожалел ее и увез в город, чтобы там бросить. Не отпущу так скоро. Раньше чем через четыре дня и не думайте ехать.
Ее поддержали остальные. Садык не знал, на что решиться. Он насилу выпросил отпуск на неделю и боялся, что, если опоздает к сроку, его место будет занято другим. У ворот завода целый день толпились безработные, среди них были такие, которые работали тут раньше. С другой стороны, нельзя не считаться и с создавшимся положением. А тут еще Джиганша-бабай твердит:
— Женитьба — дело серьезное. Нужно молодую пожалеть, и о матери подумать следует.
Прошло четыре дня. Садык побывал с молодой женой в гостях, погулял с ней по полям. История с воротами забылась, сплетни смолкли. Молодые уехали в город.
Всю дорогу тревожила Садыка мысль о работе, росла уверенность, что его место занято другим.
И он не ошибся. Оказывается, тотчас после его отъезда распространился слух, что он больше в город не вернется, будет жить в деревне, заниматься хозяйством. Опоздание было принято как подтверждение этих слухов, и его место занял другой рабочий. Узнав об этом, Садык оторопел. Что делать? Как быть? Он пробовал доказать нелепость слухов, рассказал причину опоздания, но все было напрасно.
Садык надеялся, что безработица долго не протянется, скрыл от жены свое увольнение, тайком от нее распродал кое-какие вещи.
Как-то вечером он вернулся домой пьяным. Для Нагимы это было ново. Поборов страх и отвращение, она раздела Садыка, уложила в постель и прилегла сама. Попробовала обнять его, но Садык вырвался, вскочил на ноги и с тоской сказал:
— Эх, дорогая ты моя, ненаглядная! Не знаешь ты, что у меня на душе!
Нагима испугалась. Мелькнула мысль о вымазанных воротах. Казалось, что Садык не может забыть позора. Но Садык, путаясь и запинаясь, рассказал о безработице, о своих мучениях, о стыде за то, что не может сделать ей никакого подарка, не может доставить никакого удовольствия.
Нагима, просветлев, обняла мужа и с улыбкой сказала:
— Все горе в этом? Из-за этого пьешь? Брось глупости! С голоду не умрем. Видишь это?
Она подбежала к сундуку и стала вытаскивать оттуда свое приданое. Одно за другим мелькали в ее руках платья, скатерти, полотенца.
— Все это продадим, а тем временем ты найдешь работу.
Морщины на лбу Садыка разгладились, лицо осветилось какой-то особенно ласковой улыбкой.
Это было их первое откровенное объяснение, оставившее глубокий след на всю жизнь, связавшее их узами непоколебимого доверия.
XIII
До замужества мир казался Нагиме окутанным в розовое покрывало. Такой же мерещилась ей будущая жизнь. И даже Садык, ловкий гармонист, казался ей веселым, добродушным парнем. Жизнь вдвоем рисовалась как сплошной праздник.
Но она жестоко ошиблась.
Садык оказался человеком твердого характера, вспыльчивым, упрямым. Верно, он не ругался, не дрался по пустякам, но если в голову взбредала какая-нибудь мысль, то с большим трудом, только после веских доводов и доказательств, удавалось разубедить его. Много горя причиняло жене его неумение обращаться с деньгами. Достаточно было прийти какому-нибудь товарищу с мольбой: «Умираю! Одолжи!» — и Садык, невзирая на босых ребят, неоплаченную квартиру, вынимал кошелек и вытряхивал в протянутую ладонь последние гроши.
Часто по этому поводу между супругами возникали ссоры, с губ срывались обидные слова и упреки.
В такие моменты Нагима сильно тосковала о родной деревне. Вспыхивало желание вернуться к матери, увидеть подруг, побродить по лугам, лесам, собирать ягоды, жать колосящуюся рожь. В такие моменты она раскаивалась в своем замужестве, во всем винила Айшу.
Если бы не Айша, вышла б замуж в своей же деревне и жила бы спокойно…
Но это продолжалось недолго. Возвращался Садык, целовал в заплаканные глаза, ласково обнимал. Под лаской мужа рассеивались сомнения, разлетались мрачные думы, и даже обида на Айшу начинала казаться глупой. Росла уверенность, что только она одна занимает место в сердце мужа. Эта уверенность укрепляла силы Нагимы в ее тяжелой жизни, утешала ее, когда мужа ссылали, выгоняли с завода, когда нечем было кормить детей, когда нужда крепко охватывала семью.
На третий год замужества Нагимы Садык снова остался без работы. Его уволили с завода как подстрекателя к забастовке. Кинулся Садык туда-сюда, но без результата. Насилу устроился чернорабочим. Началась полуголодная жизнь. Попробовал он помогать отцу в кузнице, но к зиме и там не стало работы. Кое-как удалось получить место кочегара на Алафузовском заводе. В этот период беспрерывных мытарств Садык пристрастился к вину. На голову Нагимы свалился новый тяжелый удар. Напрасно прождав мужа до полуночи, полная страха, Нагима пускалась на поиски. Шла из пивной в пивную, из трактира в трактир. Заходить внутрь не решалась и долго простаивала у запотевшего окна, но трудно было что-либо разобрать в волнах дыма, среди оглушительной руготни, пронзительных криков, среди хриплых звуков поломанного граммофона.
Нагима не одна стояла у дверей пивной, сюда приходили жены других рабочих в поисках загулявших мужей.
Особенно плохо приходилось в дни получек.
Сначала Нагиме было стыдно. Она не решалась отправляться на поиски, но постепенно дежурство по субботам у ворот завода вошло в привычку. И здесь она была не одна. Перед воротами завода толпились женщины. Они резко разделялись на две группы. Одна из них состояла из квартирных хозяек, лавочниц, торговок, шинкарок, пришедших получить долги, а другая — из жен и матерей рабочих, занятых мыслью увести их домой, не дать растратить деньги.
Если муж начинал ругаться, лез в драку, приговаривая:
«Как же не пропустить бутылочку после собачьих трудов?», жены решались на крайнюю меру. Вместе с мужьями шли в трактир, пивную, покупали бутылку и шли домой.
— Пусть уж лучше дома пьет, при мне, — говорили в таких случаях несчастные.
Много раз Нагима также приводила Садыка домой. Он уже почти свыкся с этим. Но тут случилась новая беда — Садык лишился работы. Причины увольнения он не знал. Одни говорили, что таково распоряжение жандармерии, другие утверждали, что все это подстроил мастер с целью устроить своего родственника.
Место Садыка занял некий Селиванов. Такова была действительность. Трудно было в те времена получить татарину квалификацию. Садык потерял надежду устроиться в этом городе и решил попытать счастье в другом месте.
— Уеду в Баку. Если там не устроюсь, переберусь на Урал, в Екатеринбург. Там у меня товарищи есть. Что заработаю — пришлю. А ты займись стиркой. С голода не умрешь, — сказал Садык.
Первый раз в жизни Нагима осталась одна в большом городе.
XIV
В отсутствии Садыка умер ребенок Нагимы. Еле оправилась бедняжка от удара. А тут неожиданно явилась к ней на квартиру какая-то старуха. Без обиняков, без длинных вступлений она сказала:
— Тебе не шестьдесят лет. И красотой и молодостью взяла, приоденешься немного — всех мужчин с ума сведешь.
Сначала Нагима не поняла, к чему клонит гостья, а как поняла, схватила ухват:
— Убирайся, старая ведьма!
Выгнала старуху, кинулась к Василию Петровичу, рассказала о случившемся.
— Боюсь одна оставаться. Приютите. Всю работу буду исполнять, а на прокорм заработаю.
Старик был бы рад помочь Нагиме, но что скажет жена? А та испугалась, подумала: «Молодая баба, красивая… Вдруг испортит мне жизнь…»
— Вчера только от сестры письмо получила — едет с двумя детьми. Тесно будет, — соврала она.
Долго плакала Нагима в своей одинокой квартире. Потом пошла к лавочнику и стала диктовать длинное письмо мужу. Обо всем написала — и о приходе старухи, и об отказе жены Василия Петровича дать ей приют… Закончила письмо так:
«Возвращайся скорее. Если не приедешь в этом же месяце, распродам все пожитки и сама приеду к тебе. Здесь я одна с ума сойду. А там, вдвоем, будь что будет».
Лавочник перечел письмо. Усмехнулась Нагима своим думам и сказала:
— Добавь еще несколько слов.
— Диктуй.
Покраснела Нагима, опустила голову, чуть слышно шепнула:
— Пиши, как я буду говорить:
Поблагодарив лавочника, Нагима запечатала письмо, опустила его в ящик и стала ждать ответа.
Каждый день увеличивал беспокойство, сомнение, зарождал новую тревогу:
«А вдруг не вернется? Вдруг не позовет к себе? Как быть?»
Десять долгих дней прошло в мучениях. На одиннадцатый день маленький кусок бумажки, исписанный рукою Садыка, ее Садыка, разогнал все сомнения. Он писал:
«Я очень о тебе соскучился… Сам жив, здоров, работаю на нефтяных промыслах… Тяжело без тебя… Собери пожитки, лишнее оставь у Василия Петровича и приезжай ко мне… С голоду не умрем… Вместе легче будет».
Как окрыленная захлопотала Нагима и в два дня управилась со всеми делами.
В день отъезда неожиданно получила письмо. Захолодело в сердце от страшного предчувствия. Торопливо побежала к знакомому лавочнику.
— Прочти.
Письмо нерадостное, написанное чьей-то чужой рукой:
«Товарища Садыка Минлибаева в двадцать четыре часа выселили из Баку. Попало еще несколько ребят. Садык просился в Екатеринбург, но не разрешили. Сегодня его этапом отправили в Шадрин, Пермской губернии».
— Это всё? Больше ничего нет? — спросила Нагима с просиявшим лицом.
Больше всего боялась ока, как бы муж не бросил ее, не завел другую жену, и теперь, успокоенная на этот счет, принялась расспрашивать:
— Где Пермь? Где Шадрин?
Узнав, что город намного ближе, чем Баку, несказанно обрадовалась…
В первые же дни революции Минлибаева выбрали от завода в Совет. Он получил письмо от товарищей с просьбой приехать.
Когда закипели волны революции, когда политические заключенные, ссыльные стали во главе дела, когда началась ожесточенная борьба за новую, светлую жизнь, Нагима всем своим существом поняла смысл забастовок, стачек, которые часто влекли за собой безработицу, скитания, ссылку и казались ей несчастьем ее жизни. Она увидела, что стачки, забастовки, ссылки тысяч Минлибаевых являлись ручейками, втекающими в одну реку, корнями, взращивающими одно могучее дерево.
Садык приехал усталый, разбитый, в солдатской шинели. Казань встретила его массой всяческих дел. С момента приезда Садык с головой окунулся в работу среди солдат, крестьян, заводских рабочих. Голос охрип от выступлений, лицо осунулось. Но Нагима не роптала, не страдала, а только старалась урвать свободную минутку, чтобы покормить мужа, чтобы хоть на три-четыре часа уложить в постель, ей приходилось довольствоваться редкими, короткими мгновениями, которые он ей уделял.
Садык понял перемену, происшедшую в Нагиме. Он стал смотреть на нее как на товарища, который может плечом к плечу бороться рядом с ним, стал делиться с ней заботами и радостями.
Как-то среди разговора Нагима перебила его:
— Что ты мне все «товарищ» да «товарищ» говоришь? От пустого слова мне пользы никакой. Ты на заводе, ты в Совете, ты на фронте, а я все около печки, все вожусь с горшками да чугунами, все стираю пеленки.
Садык задумался, долго беседовал с Нагимой, а под конец предложил:
— Отдадим детей в ясли, сами станем обедать в столовке. Ты поступишь на завод, будешь работать в Совете.
Нагима испугалась. Она согласна обедать в столовке, готова работать дни и ночи, но дети!.. Как с ними быть? Как расстаться с маленьким Куручом, с первенцем Хасаном? Отдать их в ясли? Будет ли там за ними надлежащий уход? Не соскучатся ли они о матери? А как она сама будет жить без детей? Ведь с ума сойдет!
Как управляется Айша? У нее и муж и дети, а сама она с головой ушла в общественную работу. Сколько раз приезжала на конференции, съезды, выступала на них! А один раз ее речь так даже перевели на русский язык и вместе с портретом напечатали в газете.
Долго думала Нагима, да так и не смогла ни на что решиться. Арест Садыка поверг ее в новое раздумье.
«В тюрьму ходила — не впустили, на конференцию ходила — контроль задержал. Была бы активисткой, везде путь был бы открыт. Теперь как быть? К кому обратиться?»
Всю ночь прометалась Нагима на постели, а чуть забрезжил свет, поднялась, решив еще раз сходить на конференцию. Но не успела одеться — в дверь постучали. В комнату вошел ее брат Шаяхмет.
— Я, апа[83], к тебе на минутку забежал. Мы сейчас уезжаем на маневры. Очень тороплюсь. Вот и вчера чуть не опоздал в ячейку. Насилу поспел, да так засуетился, что в докладе перепутал некоторые цифры. Ну и взгрели меня за это…
— Ты что заливаешься, как соловей? — перебила его Нагима. — Ты мне о деле говори. Когда Садыка освободят?
— Вчера я Шарафия видел и Василия Петровича. Я ему прямо сказал: «Ты, говорю, металлист с сорокалетним стажем, двадцать лет в партии состоишь. Почему, говорю, товарища Минлибаева не выручаешь?»
— Ну, а он?
— Он усмехнулся и ответил: «Кодекс ломать нельзя. Сам знаешь, вчера конференция открылась, все там крутимся». Говорил с прокурором, спрашивал, почему не торопят дело. Он, оказывается, виделся с Паларосовым и сказал ему, что применять меры пресечения нужно осмотрительно. А Паларосов упрямый человек, выслушал прокурора и говорит: «Если, говорит, в отношении выбора меры пресечения между следователем и прокурором возникает разногласие, этот вопрос должен разбираться на распорядительном заседании суда». Теперь нужно ждать заседания.
Шаяхмет не решился сказать сестре о том, что улики против Садыка имеются очень веские, и продолжал:
— А Шарафий только руками разводит: «Не в силах, говорит, я один этот замок отпереть». Мой товарищ, чуваш, рассказал мне, что они, четырнадцать человек, подали заявление в Москву на Паларосова. Против «четырнадцати» теперь возникла группа «двадцати четырех». Между ними идет ожесточенная борьба. Сторонники «четырнадцати» утверждают, что Паларосов имеет связь с кулаками, сам сын кулака и что ему не место в партии. Но группа «двадцати четырех» имеет не менее веские доказательства и заявляет, что Паларосов настоящий большевик, немало крови проливший на фронтах. Их разногласия все увеличиваются. Даже на конференции они ссорятся, поэтому некоторые заседания проводят закрытыми. Наша ячейка получила семь гостевых билетов. Один из них взял я, пошел было сегодня, но меня не впустили. По дороге встретил Шарафия. Он говорит, что дело скоро повернется в другую сторону, Садыка выпустят, но только здесь затесался вопрос о «четырнадцати» и «двадцати четырех». Одни уверяют, что Валий-бай Хасанов известный татарский меценат и его арест будет нетактичен, а другая сторона утверждает, что таких «контров»-капиталистов давно нужно расстрелять. Все спорят об этом…
Красноречию Шаяхмета не предвиделось конца. Вначале Нагима не перебивала его, надеясь услышать что-нибудь утешительное о Садыке, но под конец не выдержала:
— Все слова, слова! Ни один из вас не может ничего сделать.
Стрелка часов напомнила Шаяхмету о маневрах. Не дослушав упреков сестры, он воскликнул:
— Ой, апа! Я чуть не опоздал. Прощай! — И, схватив шинель, торопливо ушел.
После ухода брата Нагима накормила детей и, накинув на голову платок, вышла на улицу. Быстро дошла до трехэтажного здания на центральной улице города и по широкой лестнице поднялась в кабинет прокурора.
XV
Придурковатый Ахми сдался почти добровольно. Это повело к раскрытию некоторых следов. Завеса стала медленно приподниматься и с другого конца. Большую роль в этом сыграл окровавленный бешмет Валий-бая, который, проделав долгий путь, попал на базаре в руки двух сватов — Джамалия и Камалия, а через них в следственные органы.
Джамалий-абзы в свободное от работы время утюжил, подновлял старую одежду и по воскресеньям выносил на базар в надежде заработать на бутылку пива. Его сват, сапожник Камалий, шел по стопам своего друга. Он добывал старые голенища, прилаживал к ним головки, прибивал подметки, каблуки, до ослепительного глянца чистил сапоги ваксой и, уповая на барыш, отправлялся с «товаром» на базар.
Если торговля оказывалась удачной, оба свата после базара заходили в пивную, где не без удовольствия опоражнивали пару-другую бутылок.
В это воскресенье Джамалию особенно повезло.
«Говорят, если встретишь попа, так неудача будет. Враки все! Я сразу трех попов встретил. Волосы до плеч, на животах большие кресты болтаются. А все же за брюки такой барыш получил, что сам удивляюсь. Куплю детям гостинцев, разыщу Камалия, зайдем в пивнушку», — думал довольный Джамалий, пробираясь по толкучке.
Занятый радужными мечтами, он столкнулся с каким-то человеком. Попробовал отойти, но не тут-то было! Крючок на бешмете незнакомца прочно зацепил его за рукав. Пришлось обоим остановиться. Пока незнакомец отстегивал крючок, Джамалий внимательно осмотрел бешмет. Бешмет показался ему странно знакомым. Смутное подозрение зашевелилось в голове Джамалия.
— Продаешь? Почем? — спросил он.
Начался торг. Джамалий со всех сторон осмотрел светлый бешмет, ощупал подкладку, карманы.
«Он, он! Конечно, он!» — решил Джамалий.
Вслух же сказал:
— Я покупаю бешмет. Подожди меня здесь, только деньги возьму у свата.
Сговорившись с продавцом, Джамалий ринулся в самую гущу базара на поиски Камалия.
Базар кипел. Сотни людей, толкая, давя друг друга, колыхались на площади. Отовсюду раздавались крик, брань, смех. Сплошной шум стоял над толпой. Джамалий двинулся по рядам торговцев поношенным платьем, которые, клянясь всеми святыми, старались всучить доверчивому покупателю подутюженное, подчищенное старье.
Камалия здесь не было.
Отсюда Джамалий двинулся в обувной ряд, кишевший как муравейник. Везде мелькали ярко начищенные голенища сапог, заплатанные ичиги, залитые калоши. Толкаясь что есть сил, выбрался Джамалий на свободный участок. Там колыхался большой ковер, подвешенный к двум столбам. Пожилой татарин расхваливал достоинство огромного текинского ковра, зазывая покупателей. Джамалий с изумлением посмотрел на яркий, красивый узор, но, не останавливаясь, пошел дальше.
Миновав мебельный ряд, потом развал, где всевозможная дребедень была разложена прямо под ногами прохожих, он вышел к ряду маленьких палаток, откуда густой волной шел запах кушаний. Внутри каждой палатки стоял грубо сколоченный деревянный стол, покрытый грязной скатертью. Тут же на примусе кипел суп, жарилось мясо. На открытом воздухе варятся дешевые обеды из требухи. Около этих импровизированных кухонь суетятся толстые торговки в невероятно грязной одежде, быстро разливают супы по тарелкам, потчуют покупателей.
«И здесь его нет, — сокрушенно подумал Джамалий. — Видно, сбыл товар и ушел, не дождавшись меня».
Джамалий решил вернуться к продавцу бешмета. Вдруг сзади послышался знакомый голос. Оглянувшись, Джамалий увидел, что его сват Камалий с кем-то торгуется.
— Ну ладно, накинь полтинник и бери, — говорит Камалий.
Но покупатель не соглашается:
— Нет, больше ни гроша не прибавлю.
Джамалий торопливо подошел к свату.
— Насилу разыскал тебя… Идем скорей! Большое дело наклевывается!
Но Камалий не любил торопиться. Он возобновил торг с чувашем, скинул пятачок. Покупатель стал отходить. Тогда Камалий скинул пятиалтынный. Покупатель только рукой махнул.
— Прибавь гривенник — сапоги твои.
— Так и быть, пятачок прибавлю.
— Ну и скупой ты, братец! Да уж ладно, бери, носи на здоровье.
Джамалий повел Камалия через весь базар. Продавец сдержал слово, ждал на прежнем месте. Джамалий взял из его рук бешмет и, поворачивая во все стороны перед сватом, заговорил:
— У бая одежды много. Он этот бешмет, может, раз в год надевал. Смотри! Моя работа. Видишь карманы? В то время никто, кроме меня, во всей Казани таких не делал. А борта? Я их три раза прошивал. А петли? На машине так не сделаешь. Теперь смотри сюда… — Джамалий вынул из кармана маленький перочинный ножик и стал скоблить им темные пятна на груди и конце рукава. — Видишь? Кровь это, кровь! А сверху землей засыпано. Понял теперь, куда дело идет? Чуешь, где собака зарыта? Держись, Валий-бай! Попляшешь ты у меня!
Речи Джамалия смутили продавца. Он попытался улизнуть, но Джамалий не отпустил его.
— Не торопись, браток, спешить некуда.
Привел милиционера, рассказал, в чем дело. Милиционер повел их в отделение. Там допросили. Предположения Джамалия оказались правильными, этот бешмет был недавно подарен Валием работнику совхоза Ахми, а тот обменял его на самогонку. Так бешмет попал на рынок.
Восторгу Джамалия не было границ.
— Давно у меня сердце ныло. Думаю, что за оказия? И прежде Валий-бай был начальником и теперь начальник. Допрыгался, голубчик! Здорово я его подцепил. Пойдем, на радостях выпьем! Я угощаю.
Весело шагая к пивнушке, Джамалий продолжал рассказывать о бешмете:
— И память же у меня, а!.. Уж сколько лет прошло! Это было спустя полтора года после японской войны. Я тогда жил в подвальном этаже большого дома, принадлежащего Валию. Как-то позвал хозяин меня к себе. Пошел я. Бай и говорит: «Сшей мне к празднику бешмет. Материал отличный, смотри, чтоб и работа была отличная. Только сшей не по-старинному, а по-нонешнему». — «Ладно, говорю, работа будет первый сорт. Заплатишь, не обидишь». Сшил я ему бешмет что надо — плечи конским волосом выстегал, прямые карманы прорезал, талию сделал. Не бешмет, а красота. Похвалил бай работу. «Хорошо, говорит, сделал. Ты, говорит, первый в Казани мастер».
Джамалий удовлетворенно хлопнул себя по груди рукой.
— Вот ведь она, хорошая работа. Сколько лет прошло! Валий-бай состарился, я состарился. Был царь Николай — сгинул. Была война — кончилась. Был голод — прошел. Были у Валий-бая награбленные миллионы — их не стало. Все сгинуло, а вот бешмет, сшитый моими руками, цел и сейчас. Так-то, сват Камалий! На свою голову сберег Валий-бай этот бешмет. Подцепил я его, подцепил! Пускай теперь попробует выкрутиться!
В разговорах дошли приятели до большого каменного дома, над дверью которого красовалась надпись: «Пивная». Ноги сами переступили заветный порог.
Зал, в который они вошли, был полон табачного дыма. Он мутной пеленой обволакивал все предметы. Откуда-то из глубины помещения доносился хриплый звук граммофона. В одном углу слепые играли на гармошке. Кто-то подпевал им пьяным голосом. Постепенно глаза освоились с туманом и стали различать маленькие столики с сидящими вокруг них посетителями. От криков, ругани, песен звенело в ушах.
— Пожалуйте в заднюю комнату, там просторнее, — пригласил официант.
С трудом пробравшись между столами, приятели вошли в маленький зал. Он тоже был полон дыма, но там было спокойнее, чем в передней комнате.
— А, Джамалий-абзы, Камалий-абзы! Подсаживайтесь ко мне!
Приятели увидели Сираджия и уселись за его столом.
— Сколько? — спросил официант.
— Шесть, — сказал Джамалий.
Требуемое быстро появилось на столе. Сираджий был сильно пьян. Громко ругаясь, он начал возмущаться:
— Проклятый Паларосов сущим псом оказался! Сначала будто хорош был, запрятал бандита кочегара, а теперь на всех бросается, как бешеная собака.
Джамалий удивился. Он было приготовился подробно рассказать историю с бешметом, но, услышав слова Сираджия, прикусил язык. Молча разлил по стаканам пиво, молча выпил. Потом осушил еще стакан, закусил ржаными сухарями и горохом. Только после этого решился спросить:
— Ты чего ругаешься, Сираджий? Расскажи толком!
— Как ни говори, все одно, — стукнул Сираджий по столу кулаком. — Валий-бая арестовали, сам видел. На моих глазах увели. Все это Паларосова дело! Его, дьявола!
Джамалий и Камалий засыпали приятеля вопросами.
— Вы что, с луны свалились? — даже чуть отрезвев от изумления, спросил Сираджий. — Вчера была у нас гулянка. Пиво скоро кончилось. Пошел я за ним на пристань. Смотрю, двое вооруженных милиционеров выводят Валий-бая с парохода. Пристань полна народу. Все удивлены. «В чем дело?» — спрашивают. Нашелся тут один словоохотливый парень, рассказал. «Приехал, говорит, Валий Хасанов на несколько дней в город. Окончил свои дела и сел на пароход, чтобы вернуться к себе в совхоз. Уж третий свисток дали, вдруг вышел на дебаркадер комендант и крикнул капитану: подождите, мол! А в эту минуту взошли на пароход двое милиционеров и вывели из первого класса Валия Хасанова. Пароход отчалил. Хасанова увели…» А все этот пес Паларосов натворил.
— Ну, дела! Ну, дела! — ахнул Джамалий.
— Этого мало, — продолжал Сираджий, — вчера вечером арестовали Салахеева. Сегодня утром Паларосов вызвал к себе Иванова, допросил его и прямо в тюрьму отправил.
Джамалий застыл от изумления. Он никак не мог освоиться с мыслью о том, что событие, в котором и ему пришлось принять участие, так разрослось.
Сираджий залпом выпил стакан и снова заговорил:
— Говорят, будто арестовали косого Гимадия и придурковатого Ахми, будто их отправили в город. А виновником всего считают того же Ахми. Он напился самогонки и наговорил всякой ерунды. А Паларосову только это и надо было. Потом приезжала в город вдова бандита Фахри Айша и заварила целую кашу, доказала, что шрам к убийству отношения не имеет, привела с собой какого-то чуваша.
Джамалий от удивления только покачивал головой и твердил:
— Ну, дела! Ну, дела!
А Сираджий, забыв о слушателях, продолжал:
— Оно всегда так — стоит споткнуться человеку, как все норовят доконать его. И тут так же. Выискалась какая-то сука, наговорила всякую всячину на Валий-бая. Говорят, она когда-то была четвертой женой ишана Абдуллы, того самого, которого расстрелял мерзавец Садык, обвинив в агитации против Советов» После смерти мужа она вышла за хромого солдата и живет с ним. Они оба приходили к Паларосову и наговорили ему с три короба: «Мы знаем Валий-бая. Он боролся, против Советов, он контрреволюционер. При приближении Колчака скрывался у ишана, занимался тайными делами».
Оглушенный слышанным, Джамалий залпом выпил несколько стаканов пива. Историю с бешметом рассказать не решился. В затуманенной голове стучала мысль:
«Валий-баю капут»…
XVI
Был тяжелый, беспросветный день.
Низко по небу ползли черные тучи. Накрапывал холодный дождь. Валий-бай медленно шел по пустынной улице города. В голове бродили печальные мысли. Нет надежды на возвращение потерянных миллионов, на возврат былой жизни. Один за другим рушатся хитроумные планы. Как мыльные пузыри лопаются мечты. Из-за каждого угла сторожат горе да всякие неприятности. Погруженного в невеселые думы Валия догнал Иванов, один из прежних его служащих, теперь ответственный работник земотдела.
— Жить трудно стало, а есть-пить надо. Ты бы мне местечко нашел, Федор Кузьмич, — заметил в разговоре с ним Хасанов и со смешком добавил: — Чтобы понадежнее да потеплее.
Иванов задумался.
— Постой, ведь ты прежде крупным помещиком был? — спросил он.
— А вот прикинь: по реке Казанке было у меня четыреста десятин земли, восемьдесят десятин леса, образцовое хозяйство, три мельницы. Этого тебе достаточно?
— Дело не в этом. Сам ли ты вел хозяйство? Справишься ли с ним сейчас?
— Я полжизни провел в имении, сам вникал в каждую мелочь.
— Тогда готово, будешь первым спецом. У нас ищут человека для постановки дела в совхозе «Хзмет». Завтра же приходи. Только предупреждаю: сначала работа будет каторжной. Потом, как наладится, сама пойдет. Устраивайся, пока я не перешел в прокуратуру.
— Я дела не боюсь. На этом они расстались.
На следующий день в назначенное время пришел Валий-бай в земотдел. Там вопрос поставили ребром:
— Мы знаем, что вы были крупным капиталистом-помещиком. Нам также известно, что вы имели сношения с белыми. Но теперь советская власть допустила к работе даже колчаковских генералов. Можете ли дать слово, что будете честно работать на пользу советской власти и тем самым загладите свое прошлое?
Хасанов обрадовался прямому вопросу и не задумываясь ответил:
— Даю и обещаюсь. Если ошибусь, исправите, но сознательно против Советов не сделаю ни одного шага. А нарушу слово — расстреляете.
Так он получил назначение в совхоз «Хзмет». С этого момента почувствовал Хасанов, как окрепла под его ногами почва. Довольный вернулся он домой.
Квартира Валия состояла из одной большой комнаты, где он жил вместе с взрослым сыном Мустафой и женой Мариам-бикя. Им было очень тесно. Имущество, уцелевшее в годы революции, заполняло всю комнату. Сундуки, набитые всяким добром, две резные дубовые кровати, огромное, до потолка, трюмо, комод, массивный буфет, полный посуды, обеденный стол. Свободный кусочек пола был покрыт дорогим шелковым ковром, недавно вынутым из сундука. Прислуги они не держали — боялись краж, да и не хотели прослыть за состоятельных людей.
В момент прихода мужа Мариам-бикя накрывала на стол. Радостно возбужденное лицо мужа ее удивило, так как давно уже она потеряла надежду услышать что-нибудь приятное. Жизнь при советской власти казалась ей карой, ниспосланной богом за людские грехи. Она часто стремилась уйти от действительности в воспоминания о прежних днях, в мечты о том, как зажила бы она, если бы вернулось старое время.
Подав на стол фарфоровую миску с ароматным супом, Мариам-бикя пригласила мужа обедать.
Валий-бай тщательно умылся, утерся белоснежным полотенцем и с молитвой сел за стол.
— Я, жена, дал обещание, — благословясь начал он.
— Какое обещание? — спросила жена, подвигая к мужу тарелку катыка.
Прихлебывая суп, Валий-бай рассказал о случившемся. Голос его звучал радостно, но Мариам-бикя отнеслась к новости недоверчиво.
— Неладное затеял ты, отец. Нынче мужики с ума посходили, проходу тебе не дадут. Добровольно голову в петлю не суй. Не поедем мы туда.
Валий-бай протянул жене пустую тарелку и сказал:
— Тебе и ехать незачем: ведь Мустафе учиться надо, и квартиру в городе терять не стоит. Ты здесь останешься.
— Нет, нет! Лучше не говори… И ты не поедешь, и я не поеду! Слава богу, нужды в этом нет. Если умело жить, на наш век хватит. Кое-что подработаешь.
Валий-бай отер салфеткой жирные губы, откинулся на спинку стула и спросил:
— Второе есть?
— Есть.
На столе появилось блюдо с пловом.
— Ладно. Мы проедим что имеем и умрем. А сыну что останется? — снова заговорил Валий-бай.
— И ему хватит. Мы не будем ждать, когда жареный гусь сам на стол прилетит. При случае кое-какой торговлей займемся.
— Будто до сих пор не пробовали? — с горечью перебил ее Валий-бай. — Открыл кожевенный завод, полтора года проработал там, ухлопал шесть тысяч. А что вышло? Попробовал втесаться в Совнархоз, не успел встать на ноги — конкуренты свалили. Золото, говоришь, бриллианты? Нет, жена, не те времена. Чего только у нас не было! Все пролетело. Имела наша фирма в четырех городах четыре магазина? Имела! Имели мы три каменных двухэтажных дома? Имели! Был для нас неограниченный кредит в банках? Был! Было время, когда бумажка с моей подписью пользовалась бо́льшим доверием, чем николаевская кредитка? Было! А теперь куда все это сгинуло? В одном доме детсад, в другом — техникум, в третьем — диспансер. Не так ли? А где магазины? Не хозяйничает ли в них «Татлес», «Татмашина», «Таткнига?» Вот она, жизнь!
Валий-бай умолк. На глазах Мариам-бикя сверкнули слезы.
Только отведав сладкий компот, поданный на десерт, прервал Валий-бай воцарившееся молчание:
— Так-то вот, старуха! Ты говоришь: «Если умело жить, на наш век хватит». Кто его знает… Вперед загадывать нельзя. Неизвестно, что нас ожидает…
Валий хотел заговорить о другом, но в голове теснились воспоминания о минувшем и не уходили. Воцарилось молчание.
Мариам-бикя убрала обеденную посуду, переменила скатерть, подала чайные приборы, поставила на стол мед, печенье и стала разливать чай.
— Сколько земель было! Сколько леса! — задумчиво заговорил Валий. — А теперь что осталось? Помнишь, тогда еще и большевиков не было, вдруг, нагрянули мужики, захватили землю. Да ведь кто? Мусульмане, братья по вере! Я ли не строил для них мечетей, не приглашал мулл? Слышал я когда-то, что дело не в вере, а в имущественном положении. Верно, оказывается… Хотя… не все ли равно. Не взяли бы крестьяне, взяли бы большевики. Теперь распоряжался бы ими «Татсовхозтрест». Сильно изменилась жизнь, и нельзя не считаться с этим.
Одним глотком выпил Валий остывший чай и снова заговорил обиженным тоном:
— Дожили до того, что дети на улице стали дразнить. Иду это я с базара, а целая куча ребят кричит: «Вон дедушка-контр идет! Дедушка-контр идет!» Рассердился я, повернулся к ним, хотел обругать, да не успел. Один из них схватил камень, швырнул в меня. Все с хохотом разбежались. Вот она, жизнь!
— Мало ли хулиганов… Напрасно расстраиваешься. Не вечно же так будет, и для нас выглянет солнышко. Вон вчера жена Садрийбая рассказывала, что англичане снова зашевелились и прогнали всех коммунистов, а тех, кто остался, уничтожили до последнего.
— Эх, старуха, старуха! — отозвался Валий, вытирая платком влажный лоб. — Что могут сделать одни англичане? Ведь против Советов шли и японцы, и французы, и поляки, и американцы, да только ничего не вышло. Дьявольская сила есть у большевиков. Ты говоришь — все переменится. Дай бог! А если нет? Если Советы укрепятся? Если мы проедим что имеем? Тогда как? Милостыню просить будем? Теперь дети «дедушкой-контром» величают, а тогда «нищим-контром» дразнить станут.
Мариам-бикя ежечасно, ежеминутно думала о прошлом, мечтала о возврате потерянных земель, угодий, магазинов, часто бредила этим ночами. Безнадежность мужа ей не понравилась. Тоном упрека она сказала.
— Да нет же! Ты слишком мрачно смотришь на жизнь. Бог даст, все изменится к лучшему.
— Эх! Сколько лет пытаются изменить! Думают над этим не такие, как мы с тобой, а люди умные, ученые. Разве не говорили: «Не горюйте, что отняли богатство. Это временно. Самое большее через три дня все будет по-старому»? Потом сказали, что нужно обождать три месяца. Мы ждали. Ждали три дня, три недели, три месяца. Прошло три года и еще три года. Скоро пройдет еще три года. Кто знает, сколько еще ждать. Обожжешься горячим молоком — на холодную воду дуешь. Лучше синица в руки, чем журавль в небе. Пусть запасы лежат. Они есть-пить не просят, всегда пригодятся. А случится что, будет возможность нанять лучших адвокатов. Не помогут они, так золотой ключ и поважнее двери откроет. Помнишь, пришла необходимость, тряхнул мошной, шестьдесят тысяч выложил, а добрался до самого Распутина, исхлопотал помилование… А ведь каторга грозила. Деньги и теперь силу имеют: одного угостишь, другому в карты проиграешь, жене третьего подарок к именинам сделаешь…
Нескоро закончили Валий и Мариам-бикя задушевную беседу, в которой тесно переплелись недовольство сегодняшним днем, тоска о минувшем и надежды на возврат былого.
Потом крепко заперев двери, пересчитали запасы, пересмотрели ценности.
— Сама знаешь, — сказал под конец Валий-бай жене, — на будущий год Мустафе надо в университет поступать. Если я не устроюсь на службу, его будут называть сыном спекулянта и не примут, а если примут с натяжкой, будут при каждой чистке привязываться.
Мариам-бикя и сама понимала, что иного выхода нет, и в душе согласилась с необходимостью отъезда мужа в совхоз. Но беспокойство не покидало ее.
— Если бы в городе жить, а то ведь в деревне, среди мужиков. Ведь они грубые, неотесанные, а теперь к тому же волю чувствуют, — сделала она последнюю попытку возразить Валий-баю.
Но он только рукой махнул.
— Нет, старуха, нам в городе устроиться нельзя. Здесь нас всякая собака знает. Здесь врагов больше, чем друзей, каждый норовит напакостить. Положимся на милость божью. Начинай помаленьку приготовлять что нужно.
XVII
Самым трудным оказалось подыскать надежного человека, а отпустить мужа одного Мариам-бикя категорически отказалась. Самой ей ехать в совхоз на постоянное жительство было нельзя — она не могла бросить квартиру и оставить без присмотра сына.
После долгих размышлений Мариам-бикя решила на первых порах поехать с мужем, а на это время оставить домовничать старшую жену Садрия.
— Все равно ты у себя ни радости, ни привета не видишь. Поживи у меня, присмотри за домом, а я поеду на несколько месяцев к мужу, налажу ему хозяйство и вернусь, — сказала она.
В двух маленьких комнатушках, составляющих квартиру Садрия, среди вечных дрязг и ссор, жили его две жены и трое детей. Крохи, уцелевшие от прежнего богатства, были прожиты. Семья терпела нужду. В довершение всего две жены никак не могли поладить между собой. Младшая жена была женщиной злой, ехидной и, чувствуя поддержку мужа, не стеснялась проявлять свой нрав. Поэтому в квартире не прекращалась ругань, крики, нередко превращавшиеся в потасовки. Садрий, возвращаясь вечером с барахолки и замечая синяки и царапины, украшавшие физиономии жен, принимался «учить» их обеих, причем больше тумаков всегда доставалось старшей жене. Вечные побои надоели той, и она с радостью приняла предложение Мариам-бикя остаться домовничать в ее квартире.
Мариам-бикя вместо предполагаемых нескольких месяцев прожила в совхозе целых полтора года. Может быть, она прожила бы там еще невесть сколько, но пришлось уступить настойчивому приглашению сына и старшей жены Садрия, которая заскучала без криков и драк и рвалась в привычное болото.
Мариам-бикя достойным образом отблагодарила ее за услугу, надавала подарков и принялась подыскивать пожилую женщину, могущую вести хозяйство Валия в совхозе «Хзмет». Самой подходящей для этой цели была безусловно старуха Минзифа. Остановив на ней свой выбор, Мариам-бикя направилась к сапожнику Камалию.
Старуха Минзифа в свое время была знаменитой во всем городе стряпухой. Никто не мог тягаться с нею в уменье готовить национальные татарские блюда. Ни одна богатая свадьба, ни один званый обед не обходились без участия Минзифы. Но теперь она состарилась. Не стало больше пышных свадеб, парадных обедов, не стало и богачей. Померкла звезда Минзифы. Изредка вспоминали о ней новые богачи, приглашая старуху, но эти обеды в сравнении с прошлыми были просто смешны.
После первых приветствий Мариам-бикя вспомнила с Минзифой о былых удовольствиях, об особенно удачных обедах. Потом перешла к цели своего прихода.
— Не откажи мне в просьбе, Зифа-апа, — сказала она, — поезжай в совхоз. Если поедешь, успокоишь меня, снимешь с плеч заботу.
— Не могу, бикя, не могу! Не люблю я деревню, мужиков видеть не могу. Как-то ездила туда за продуктами, так меня чуть не убили. Ведь мужики звери, набросятся с топорами — не вырвешься.
— Что ты, Зифа-апа! В совхозе хорошо. С одной стороны Волга течет, с другой — сосновый лес, поля зеленеют. Я когда поехала, думала, больше месяца не проживу, а не заметила, как полтора года прошло. Ведь это не деревня, а усадьба помещичья. Дом двухэтажный, терраса. Кругом сад. Кроме работников, мужиков нет. Мой муж строго держит их, на цыпочках ходят.
Торговались долго. И Камалий и его жена всемерно поддерживали Мариам-бикя. Наконец старуха уступила и дала согласие.
— Вот спасибо! Завтра утром прямо с вещами приходи ко мне. Поедешь на той лошади, на которой я приехала.
С этими словами Мариам-бикя простилась.
Минзифа, помня пережитые во время восстания страхи, решила было отказаться от своего обещания, но сноха, а за ней и сын Камалий категорически настояли на отъезде.
Расстроенная пришла наутро Минзифа к Мариам-бикя. Та встретила ее радушно, усадила за стол и, потчуя чаем, заговорила о всех удобствах, имеющихся в совхозе, хвалила кухню, печку.
— Даже погреб есть. Лед в нем не переводится. В продовольствии никакой нужды нет. Мясо всегда свежее. Я развела всякой птицы. Кур, гусей, уток, индеек не перечесть. Муки, рису припасла вдоволь. Стряпаешь ты лучше меня, не мне тебя учить. Только об одном прошу — не забывай каждый день подавать мужу компот, а то у него желудок не в порядке.
Дальше она перечислила любимые блюда Валия, подробно ознакомила старуху с его привычками. Вспомнив что-то, Мариам-бикя встала из-за стола, наклонилась перед корзиной и начала показывать.
— Вот, Зифа-апа, я положила сюда четыре куска мыла — два банных, два лицевых. В этом узелке белье. Ты уж последи за чистотой, постель почаще выколачивай. Тяжести сама, не носи, там придурковатый Ахми есть, работник — дашь ему иногда кусок пирога или чего другого, так он все для тебя будет делать… Ну вот, кажется, и все… Да, чуть не забыла. Есть там старик по имени Гимадий. И зимой и летом шапку с головы не снимает, ходит в чекмене, лаптях. Он хороший старик, послушный, только один недостаток есть у него — вечно подкарауливает, когда что-нибудь вкусное стряпаешь. Не успеешь подать на стол — он тут как тут. Муж у меня мягкий человек, всех к столу приглашает. А Гимадий только того и ждет — рассядется, как барин, и вмиг все дочиста съест. Ты, Зифа-апа, ему волю не давай.
От бесчисленных советов и указаний у Зифы закружилась голова. Неизвестно, сколько промучила бы ее еще Мариам-бикя, если бы в дверях не показался кучер.
— Ехать надо, а то опоздаем, — сказал он.
Мариам-бикя заставила его поднять большую корзину и последовала за ним в сопровождении Зифы, продолжая давать наставления:
— В двух шагах от террасы увидишь грядки. Там и лук, и огурца, и морковь, и свекла посажены. На целый год хватит. Времена тяжелые, Зифа-апа, на покупку готового никаких денег не напасешься, вот и приходится обо всем заботиться. Заставила я тамошних крестьянок накопать грядки, посадила всякую зелень. Слава богу, хорошо растет. Ты уж, Зифа-апа, не забудь поливать грядки-то. Мой муж без зелени обойтись не может. Он всегда…
Лошадь тронулась. Голос Мариам-бикя потонул в грохоте колес.
XVIII
С головой, тяжелой от всех этих советов, приехала старуха Зифа в совхоз «Хзмет».
Мариам-бикя не солгала. Внизу, под обрывом, переливаясь на солнце, текла широкая Волга. От самого берега тянулся темный лес, за ним распростерлись зеленые поля. Среди полей, невдалеке от берега, раскинулся совхоз «Хзмет». Двухэтажный деревянный особняк примыкает одной стороной к большому саду, а с другой окружен амбарами с поломанными крышами, разрушенными заборами, остатками колючей проволоки. При доме есть и отличная кухня и обширный погреб, полный припасов, о большей части которых Мариам-бикя даже не упомянула. С утра до ночи толпятся во дворе крестьяне, осматривают плуги, бороны, телеги, спорят о тракторе. Мычат коровы, блеют овцы, ржут кони.
Валий-бай целый день на ногах, ругается с одним, мирно беседует с другим, распределяет работу, получает, выдает деньги, хлопочет.
Во всей этой сутолоке Зифа не находила ни красоты, ни удовольствия. С каждым днем росло в ее душе беспокойство. Несколько крестьян из числа тех, что всегда наполняли двор, еще более увеличивали ее тревогу.
Однажды приехал в совхоз какой-то широкоплечий мужчина. Одна лошадь в упряжке, две на привязи. Было еще очень рано. Валий-бай только что сел за утренний чай. Приезжий без всякого разрешения прошел к нему. Через некоторое время они вышли вдвоем. Валий подозвал придурковатого Ахми и приказал оседлать лошадь, а сам вывел из полуразрушенной конюшни статного вороного жеребца. Две кобылы, привязанные к телеге, забеспокоились, запрядали ушами. Жеребец могуче заржал, затанцевал, порываясь приблизиться к ним. Но Валий-бай был человеком сильным, крепко накрутил на руку повод и удержал жеребца на месте.
Ахми подвел оседланного мерина. Валий-бай передал ему повод от жеребца, отдал нужные распоряжения и в сопровождении приезжего крестьянина вошел в амбар, показал ему сортированное зерно, трактор и сказал:
— Ты, Низамий, подожди меня. Со случкой твоих кобыл Ахми один управится, а я съезжу в поле.
Вскочив на лошадь, он галопом выехал из ворот.
Захватив лошадей, ушел и Низамий с Ахми.
Зифа, стоявшая невдалеке, задумалась:
— Кто этот Низамий? Где только я его видела?
В тот же день вечером случился в совхозе скандал. Крестьянин по имени Фахри изругал, как собаку, Валий-бая.
— Или ты воображаешь, что приехал на место помещика Алексея? Не бросишь своих проделок, так не заметишь, как вылетишь отсюда! — кричал он.
В ссору вмешался Гимадий. Его тонкий голос раздавался по всему двору. Сердце Зифы болезненно сжалось.
«Где я слышала этот визг?» — напряженно думала она.
Вскоре еще одно обстоятельство окончательно смутило старуху.
Был в совхозе молодой тракторист Шаяхмет. Умелый и ловкий, он управлял трактором, как послушным ребенком. Зифе и его физиономия показалась знакомой. Старуха совсем оробела. Почему все ей кажутся знакомыми? Уж не наваждение ли?
«Во всем виновата проклятая сноха, — возмущалась Зифа, — провалиться бы ей сквозь землю! Жила спокойно, голода не ведала — так нет, отправила меня сюда. И зачем только я приехала к поганым мужикам? Все они грязные, вонючие, сказанного слова не понимают, упрямы, как свиньи. И зачем я приехала? А все сноха! Она послала. Вот придут с вилами и убьют. Убили же Шаяхмета. И нас привесят к конскому хвосту… Постой, постой, а как же Низамий? Ведь его на расстрел увели? Иль они все из мертвых воскресли?»
Сон бежал от старухи. Длинные осенние ночи проводила она, не сомкнув глаз, полная тревожных дум. Долго мучилась, но ничего понять не могла, не могла вспомнить, когда и где видела она этих людей.
XIX
Был самый разгар борьбы на фронтах. Всю силу, всю энергию направляли на преодоление врага. Кругом царила разруха. Жить в городе становилось все труднее и труднее. Торговля прекратилась. Есть было нечего.
Сапожник Камалий в поисках пропитания для своего семейства кидался то туда, то сюда, но безуспешно. О куске хорошей кожи нечего было и мечтать. Нигде нет даже завалявшегося голенища, нет подметок, нет ниток, нет гвоздей. А если случайно подвернется кое-какая работенка, ее выполнить невозможно, руки коченеют от холода, нет дров, нет керосина. Можно было бы пойти на базар, попробовать продать пару истрепанных ичиг, обнаруженных где-то под лавкой, но нет базара, нет денег, нет покупателей.
И все же люди не бездействуют. Из ничего создается подобие базара. Захватив никчемный лоскут, кое-какую галантерею — горсть пуговиц, несколько иголок, две-три катушки ниток, — выходят обыватели на площадь, размещаются рядами. То тут, то там мелькают вынесенные на продажу помятые тюбетейки, старые бешметы, брюки, шапки. В стороне выстраивается скобяной ряд, где предлагают поломанные, заржавленные замки, разнокалиберные гвозди. Площадь оживает, начинает шуметь. Люди торгуются, спорят, обманывают сами, и их обманывают в свою очередь. Неожиданно в конце улицы показывается вооруженный верховой, иногда их бывает и несколько. Тогда раздается тревожный крик:
— Расходись! Едут!
В мгновение ока весь базар охватывает неописуемое смятение. Иголки, нитки, пуговицы исчезают в глубоких карманах. Старые брюки, хриплые граммофоны прячутся в мешки. Прилегающие улицы, переулки наполняются бегущим без оглядки народом. Площадь пустеет. Но верховые с быстротой молнии оцепляют улицы. Людей сгоняют в одно место, и начинается обыск. Главное внимание привлекают не вещи, а документы. Предъявивших соответствующие бумаги отпускают, а дезертиров, уклоняющихся от работы, оставляют под стражей.
Камалий по-своему был в дружбе с советской властью. В кармане у него всегда были нужные документы. Он ни разу не обвинялся в дезертирстве, но в дни облав, когда ему не удавалось продать пару ичиг, его любовь к советской власти если и не исчезала совсем, то сокращалась на добрую половину.
В те годы жил Камалий в подвальном этаже большого каменного дома. Квартира, может, и неплохая, но не было дров, и потому в углах комнаты не оттаивала ледяная корка. На беду, кто-то разбил оконное стекло. Для починки не нашлось ни стекла, ни мастера, ни денег. Стали днем затыкать дыру подушкой, а на ночь заставлять досками. Это, однако, было плохой защитой от холода. Задумал Камалий на деньги, вырученные от продажи пары ичиг, произвести необходимый ремонт. Не удалось. С деньгами творилось что-то несуразное. Каждый раз, вернувшись с базара, Камалий ругался:
— Нет погибели на спекулянтов! Только вчера фунт хлеба стоил два миллиона, а сегодня еще пятьсот тысяч накинули. А хлеб какой? Наполовину солома, наполовину отруби, к тому же без соли. Чего смотрят Чека? Почему всех спекулянтов не расстреляет?
На соседней улице есть кооператив. Изредка там выдают паек хлеба. Иногда этот паек бывает неплохой. В феврале, например, почти ежедневно выдавали на каждого трудящегося четверть фунта. Но с прошлой недели дело пошло хуже. Куда ни пойдешь, на двери висит записка: «Хлеба нет».
Взрослым еще туда-сюда, детям же совсем плохо. Вначале они целыми днями кричали: «Дай хлеба! Дай хлеба!» — а теперь притихли, обессилели. Личики осунулись, пожелтели. Под сморщенной кожей резко выступили кости. Дети стали похожи на дряхлых стариков. Глаза померкли, потускнели. Дашь кусок — жадно, не жуя, проглотят, не дашь — молча лежат в холодном углу, закутавшись в лохмотья. Обезумевшая от нужды жена Камалия Хазифа, не знала, на ком сорвать накопившуюся злобу. Подвернулась свекровь Минзифа — сноха накинулась на старуху:
— Люди каждую неделю в деревню ездят — муку привозят; крупу, масло. А ты с места не сдвинешься. Хоть бы внуков пожалела. Видно, наплевать тебе на сношниных детей!
— Не говори глупостей, — рассердилась старуха, — но к мужикам, навстречу смерти, не пойду!
Ссоры стали ежедневными.
— Ты только о себе заботишься, — твердила Хазифа, — до детей тебе дела нет. Если с голода умрут, и то пальцем не шевельнешь.
— Заладила: дети, дети! Почему сама не едешь? Почему меня на смерть посылаешь? Ишь какая умная! Видно, старуха никому не нужна?
— Как тебе не стыдно, мамаша, на старости лет язык ложью поганить! Теперь, вишь, сноха стала виновата: дескать, не холит, не балует. И как это у тебя язык не отсохнет? Я ли не работала на тебя дни и ночи? А что имела? Старые ичиги да твои дырявые платья — вот весь мой наряд. Ходила за тобой как за малым ребенком — воду подавала, белье стирала, грязь за тобой убирала, — а благодарности никакой не слышала…
Каждый раз ссора заканчивалась требованием поездки в деревню. Камалий всецело перешел на сторону жены. Наконец старуха не выдержала:
— Видно, судьба! Что суждено — испытаю, съезжу один раз.
Разом прекратились ссоры. Всем домом принялись снаряжать старуху. Выложили все запасы. Оказалось их немного: два старых платка, поношенная тюбетейка, пара подшитых ичиг, ношеное платье, полтора фунта соли, две щепотки настоящего китайского чая. С этим «богатством» должна была Минзифа ехать в деревню. Перед самым отъездом сходил Камалий на базар, принес три коробка спичек. За каждый заплатил десять тысяч.
Некоторые вещи старуха надела на себя, некоторые спрятала за пазуху, за голенища ичиг. Обрядившись таким образом, села она ранним утром в сани какого-то спекулянта и поехала в деревню за продовольствием. От страха темнело в глазах, губы чуть слышно шептали молитву. Две слезинки скатились по морщинистым щекам.
— Господи, за что наказуешь? Снохой была — свекрови не угодила, свекровью стала — снохе не угодила… За какие грехи даешь мне такое испытание, господи?
XX
Страхи оказались напрасными. Ни один из многочисленных встречных, среди которых попадались и вооруженные, не остановил их, не грозил, не пугал, не обыскивал. Так добрались до деревни, где жил родственник Камалия Ситдык.
Под вечер, запорошенная снегом, подъехала Зифа к его дому.
Деревня, казалось, не изменилась. Те же избы. Так же почти из каждой трубы вьется белый дымок. Только встреча гостьи оказалась несколько необычной.
— Не обессудь, Минзифа-апа, угощать нечем. Поставили бы самовар — чаю, сахару нет. Лучину зажечь — спичек нет. Ламповое стекло еще в прошлом году разбилось. Керосина не имеем. Есть нечего. Все мужчины на фронте, у красных, — встретил гостью Ситдык.
Помолчав, добавил:
— Опять помещики зашевелились. Видно, пока не прикончат их, не будет спокойствия.
Старуха медленно разделась и стала постепенно выкладывать привезенное добро. Из-за пазухи достала коробку спичек. Это оказалось целым богатством: из-за отсутствия спичек приходилось круглые сутки поддерживать огонь в очаге. Если же огонь потухал, шли с лучиной к соседу. Случалось, ветер раздувал тлеющий уголек или искра попадала в солому — вспыхивал пожар.
Ситдык, занятый разговором, краешком глаза смотрел на привезенные вещи. Потом подвинулся поближе и насмешливо, но с ноткой зависти сказал:
— В прежнее время твое тряпье в сортир бы выкинули, а теперь это целое богатство. Ладно, с пустыми руками не верну, все устрою. Где ты запропастилась, мать? — крикнул он, открыв дверь. — Минзифа-апа озябла с пути. Поставь самовар, авось морковный чай найдется.
Зифа вытащила из-за голенища ичиг малюсенький сверток и протянула его Ситдыку.
— Это тебе Камалий прислал. Велел сказать, что живет не сладко и, кроме щепотки настоящего чая, другого гостинца прислать не может.
Вошла хозяйка, поздоровалась с гостьей и, громко жалуясь на тяжелые времена и голод, принялась ставить самовар. Лучина осветила избу.
После чая приступили к делу — начали менять привезенные вещи на продукты. Счастье улыбнулось старухе. Она добыла три четверти фунта масла, четыре фунта пшена, шесть фунтов муки и два десятка яиц. Довольная старуха на радостях даже простила снохе все обиды.
В довершение всего подвернулся хороший попутчик. Сосед Ситдыка Низамий собрался в город. Он сам предложил довезти старуху, а лошадь у него сытая, сани большие, удобные. Низамий же дал ряд дорожных напутствий:
— В некоторых деревнях, бабушка, останавливают проезжих. Ты притворишься больной, поедешь лежа. Если где остановят, спросят, куда едешь, — заохаешь, скажешь, что едешь к доктору. Поняла?
Старуха с радостью согласилась.
Уложили ее в сани, закутали. Низамий, в теплой шубе, меховой шапке, толстых валенках, сел за кучера. Лошадь действительно оказалась хорошей. Сани плавно покатили по наезженной дороге.
Проехали маленькую деревеньку. Никто не остановил их. Потом въехали в лес. Шел мягкий снег; ровно стелилась дорога. Ветви деревьев казались окутанными ватой. За лесом начинались поля, погребенные под глубоким снегом. Через несколько часов въехали на высокую гору. С ее вершины открывался вид на много верст. Все кругом было запорошено снегом. Вдруг невдалеке от дороги мелькнул заяц. При виде лошади он присел, тревожно повел ушами и, прыгнув через дорогу, опрометью ускакал дальше. Это было плохим предзнаменованием. Низамий не смог сдержать испуганного возгласа. Забеспокоилась и Зифа. Сильно встревоженные, въехали они в большое село. И здесь все было занесено глубоким снегом. С трудом открывались ворота. Кое-где заборы потонули в сугробах.
— Заедем, бабушка, обогреться. И лошадь отдохнет, — предложил Низамий.
XXI
Остановились у знакомого татарина, большой пятистенный дом которого стоял на главной улице, в центре деревни. Комната была жарко натоплена.
Весело забулькал самовар, но напиться чаю не удалось.
Только что поднесла Зифа блюдечко ко рту, не успела отхлебнуть, как послышался на улице шум, крики. Бросились к окну. Видят — бежит какой-то человек в шинели, а за ним несколько крестьян с криком:
— Держи! Лови! Бей!
Они пробежали дальше, но улица не успокоилась. То в одну сторону, то в другую, группами или поодиночке, двигался по ней народ. У каждого в руках были вилы, топор или лопата. Народ все прибывал. Прошла целая толпа, вооруженная вилами и дубинами. В центре ее был какой-то человек в белой чалме. Он начал провозглашать такбир[84]. Толпа подхватила слова молитвы.
Зифа, заинтересовавшись видом толпы, зачарованная звуками молитвы, застыла у окна. Особенно густой, красивый голос был у человека в чалме. Вон рядом с ним идет старик в лаптях, джиляне[85], подпоясанном веревкой, и шапке с меховой опушкой. Голос у него тонкий, пронзительный, так и лезет в уши, а фигура в длиннополом джиляне выделяется из всей толпы.
Чу! Такбир оборвался. Люди, возбужденные, с налитыми кровью глазами, бросились к дому. «Господи! Что это такое?» Слова молитвы застряли в горле старухи. Под напором толпы рухнули ворота, двор наполнился людьми.
— Вот она, смерть моя! Настал последний час. Господи, господи! — заметалась старуха.
С шумом, с криками ворвалась толпа в комнату. Впереди высокий, здоровенный мужчина. На груди его болтается блестящая бляха.
— Чего смотрите? — крикнул он. — Вот он, переодетый старухой!
Десяток рук протянулся к Зифе. Кто-то сдернул платок, больно потянул за пряди седых волос. Другой крикнул:
— Открой рот, старая ведьма!
У Зифы перехватило дыхание, ноги подкосились. С трудом разомкнула губы.
— У ней и зубов-то нет! Только впереди два корешка торчат, — оттолкнул ее кто-то.
В это время, другой, распластавшись на полу, заглянул под лавку.
— Чего безгрешную старушку мучаете? — воскликнул он. — Вот он где!
Ругаясь, он стал что-то тащить из-под лавки. Показались пара ног, обутых в сапоги, брюки-галифе, кожаная тужурка и такая же фуражка. Парня опознали. Толкая, давя друг друга, набросились на него, желая смять, растоптать, уничтожить. Но парень не растерялся, изогнулся, выхватил из кобуры наган и в упор выстрелил в человека с бляхой.
Не успела Зифа, забравшаяся от страха на печку, зажмурить глаза, как прогремел выстрел. Старуха лишилась чувств. Крестьяне шарахнулись к двери. В несколько секунд изба опустела.
Человек с бляхой, очевидно, успел наклониться. Пуля, не задев его, застряла в дверном косяке. Парень вторично не выстрелил. Он поднялся с пола, отряхнулся, поправил кобуру и сел на лавку. Комсомолец знал, что для подавления восстания в деревню скоро должен прибыть отряд. Ему во что бы то ни стало нужно было продержаться до его прихода. Приподнявшись с лавки, он бросил взгляд на улицу, переполненную вооруженными чем попало крестьянами.
Положение Фахри и Шенгерея, неожиданно оказавшихся в центре восстания, было незавидное. Успели ли они скрыться? Комсомолец об этом ничего не знал. На улице трупов не было видно.
«Наверно, спрятались», — решил он.
Эта мысль приободрила парня. Если товарищи успели бежать или скрылись, то сумеют организовать крестьян, настроенных против восстания, или же уведомят отряд…
Пока Бирахмет, занятый думами, сидел на лавке, крестьяне, разбежавшиеся от выстрела, стали поодиночке подходить к окну, окружали избу. Парень не стрелял. Это придавало смелости. Человек с бляхой хвастливо крикнул:
— Бог хранит своих верных слуг! Пуля мимо ушей прожужжала, а все же не задела!
Размахивая дубинкой, он подошел к двери и стал звать крестьян:
— Чего застыли? Идемте!
К нему подошли несколько человек.
— Стреляй! Не боюсь! — снова крикнул он, бросаясь на комсомольца с дубинкой.
Но парень не стрелял — у него не было ни одной пули. Все же он не сдавался. Размахнувшись, ударил «бляху» по лицу, вышиб зуб. Стал ожесточенно наносить удары направо и налево. Но он один был не в силах справиться с озверевшей толпой. Улица, двор, изба наполнилась смутьянами. Лавой кинулись они на комсомольца и смяли его. Ему переломали руки, ноги. Из живота вывалились внутренности, из разбитой головы выступил мозг. Руки избивавших были перепачканы липкой кровью. Человек с бляхой суетился больше всех. Он успел подвязать щеку и, проталкиваясь вперед, выкрикивал:
— Чего смотрите? Он над религией надругался, богачей обижал! Хотел коммуну образовать! Грабил наш хлеб! Чего смотрите? Все семя его прикончить надо…
С звериным воплем нагнулся он над еще живым комсомольцем и, схватив за сломанную руку, поволок окровавленное тело на улицу. Улица кишела возбужденной толпой. С другого конца деревни приволокли еще одного избитого. Это был сельский учитель Хабиб Джагфаров. При виде истерзанного учителя старик, пискливым голосом выкрикивавший недавно слова такбира, недоуменно спросил:
— Зачем Хабиба трогаете? Ведь он не коммунист!
Толпа заволновалась.
— А ты какой защитник? Иль того же захотел? Хабиб — собака! Он хоть и не коммунист, а их песни поет. Бей его! — крикнул человек с бляхой.
— Правильно!
— Бей!
— Бе-е-й!
Кто-то подвел молодого беспокойного жеребца. На шею его был накинут хомут с привязанным к нему длинным арканом. Верхом на жеребце сидел молоденький паренек.
Под руководством «бляхи» несколько человек уложили комсомольца и учителя рядом на снег, прочно, чтоб не оборвалось, опоясали арканом. Потом с криком «Гайда! Гайда!» хлестнули жеребца.
Испуганный гиком, жеребец сорвался с места и, взметая снег, помчался по улице, таща за собой окровавленные тела. Их подкидывало вверх, кидало из стороны в сторону, облепило снегом. Тела метались, похожие на громадные белые глыбы. Из подворотен с лаем выбежали собаки. Плакали от страха дети. А жеребец все мчался и мчался с непривычной ношей…
В это время на другом конце деревни показалась толпа, черным пятном выделявшаяся на белом снегу. Над головами маячили вилы, дубины и топоры.
Всех охватило замешательство.
Не успели разобрать, в чем дело, как заметили отряд, догонявший толпу. Затакал пулемет. Улица вмиг опустела. Скрылся куда-то и паренек, сидевший на жеребце. Лошадь, брошенная на произвол судьбы, кинулась к чьим-то воротам. Окровавленная голова учителя застряла между двумя столбами. Лошадь дернулась раз, дернулась два, но голова засела крепко. Вблизи тявкнула собака. Жеребец, как шальной, рванулся в третий раз. Голова, оторвавшись от туловища, повисла между столбами. Жеребец, волоча обезглавленный труп учителя и измятое тело комсомольца вбежал во двор.
Тем временем в середине деревни, напротив дома, где прежде помещался Совет, приступил к работе штаб. Первыми пришли сюда Фахри и Шенгерей.
— Насилу избегли смерти. Джиганша-бабай укрыл нас на своем сеновале, — заявили они.
Штаб окружили бедняки крестьяне, которые во время кулацкого восстания попрятались по чердакам, овинам, погребам. Два батрака привели человека с бляхой.
Фахри в сопровождении вооруженного красноармейца-татарина пошел разыскивать жертвы восстания.
Его обступила стайка ребят.
— Дядя коммунар, дядя коммунар! Они здесь! Вот они!
Пошли. Лошадь, дрожа от страха, стояла, уткнувшись в плетень. Около окровавленных трупов метались собаки. Аркан отвязали. Лошадь впрягли в сани, положили на них трупы и оторванную голову и повезли в штаб.
Командир батальона Вильданов спросил человека с бляхой, указывая на трупы:
— Узнаёшь?
Тот молчал. Командир спросил снова, но снова не получил ответа.
— Ты немой, что ли?
— А чего говорить-то! Все равно бесполезно, — отозвался тот.
Вильданов отдал распоряжение. Тут же, в присутствии собравшегося народа, человека с бляхой расстреляли у забора.
Восстание успело охватить несколько деревень. Поэтому, организовав ревком, председателем которого был избран Фахри, Вильданов во главе батальона двинулся дальше.
XXII
Низамий лошадь не распрягал. Как только батальон покинул деревню, он подтянул сбрую, уложил на сани Зифу и переулками, задами выехал из деревни. Благополучно миновали несколько деревень, но когда они подъехали к городу, стало беспокойнее. Из бедных, маленьких домишек то и дело выходили вооруженные, останавливали лошадь, обыскивали. Муку и крупу Минзифа спрятала за пазуху, но и это не помогло — отобрали.
— Не плачь, бабушка, — успокоил ее Низамий. — Если благополучно доберемся до города, я дам тебе целых пять фунтов крупы.
Старуха немного повеселела. Все ее помыслы были сосредоточены на том, чтобы в целости довезти до дому, что осталось. Горячо просила она бога помочь ей. Но бог не внял ее молитвам.
Вдали показались фабричные трубы. При виде их надежда на скорый благополучный приезд окрепла. В маленькой деревушке, которую никак нельзя было миновать, их остановили.
— Что везешь?
Низамий спокойно ответил:
— Мать председателя нашего сельсовета. Захворала старуха, велели в город везти, на операцию.
Остановивший их татарин рассмеялся:
— Чего обманываешь? Знаю я тебя! Слезай.
Без лишних слов он стащил старуху с саней и концом штыка отогнул их дно. Больше всех изумилась Зифа. Дно саней было двойное. Солдат одно за другим вынул оттуда пуд пшеничной муки, двух гусей, четыре колбасы, большой кусок масла и еще много всякой всячины. Все это он сложил на краю дороги, пересчитал, и потом дал Низамию какую-то бумажку.
Не успели сани отъехать нескольких саженей, как один из солдат крикнул:
— Стой!
Подойдя к лошади, он неторопливо вынул из кармана перочинный нож, надрезал кожаную полосу на хомуте и руками раздвинул надрез. Зифа остолбенела — оттуда выпали тщательно уложенные николаевские кредитки и керенки.
— Ах ты, спекулянт! И это к доктору везешь?! — воскликнул солдат.
Провизия осталась у дороги под охраной одного из обыскивавших, а другой, в полувоенной форме, засунул кредитки за голенище и сел в сани рядом со старухой.
— Поезжай в город, там тебя научат уму-разуму, — сказал он приунывшему Низамию.
Зифа от страха вся похолодела. В голове помутилось. Ведь и ее расстреляют вместе с Низамием…
Чу! Это еще что такое?
Город был совсем близко. На дороге выросли два человека. Снова винтовка, штык. Снова обыск.
— Чего хлопочешь? Уже обысканы, — попробовал уверить человек с ружьем.
Но ему не поверили.
— Постой. Почему старуха такая толстая?
Стали обыскивать. Зифа запрятала масло под мышки, а два десятка яиц положила за пазуху. Один из обыскивающих, щупая бешмет, нечаянно раздавил яйцо.
Нашли склад!
Зифу обыскали тщательно, отобрали и масло и яйца. Взамен их дали старухе квитанцию. Зифа не очень огорчилась этим. Все ее мысли были полны страха перед грозящим расстрелом. Потеря продуктов уже не производила особого впечатления.
Так, полуживая, доехала она до города. На перекрестке двух улиц лошадь остановилась.
— Старуха, слезай! — скомандовал человек с винтовкой.
Зифа ужаснулась. Как пар улетучились слова молитвы, которые она ежечасно твердила в течение шестидесяти лет.
— Господи, без покаяния умираю, господи! — бормотала она, стоя посередине улицы.
Закрыв глаза, ждала неминуемого выстрела, но выстрела не последовало. Осторожно разомкнула веки и огляделась. Сани завернули за угол. Кругом никого нет. Она стояла одна с двумя маленькими кусочками бумаги в руках.
Поняв, что ее не тронули, бесконечно обрадованная, Зифа побежала что есть мочи домой.
— На, жри, подавись! На смерть меня послала, да просчиталась! — вне себя крикнула Зифа, бросив в лицо снохе квитанцию.
Потом, совершенно обессилев, зарыдала. Всем стало жаль старуху. Сноха вскипятила самовар, отрезала кусок хлеба. Успокоившись, согревшись горячим чаем, Зифа долго, подробно рассказывала о пережитом.
С большим трудом Камалий разобрал надпись на квитанциях: «Заградительный отряд». Остальное, написанное от руки, он не понял.
XXIII
Воспоминания о пережитом ужасе не покидали Зифу, не поблекли со временем. Страх, прочно гнездившийся в ее сердце, был причиной ее первоначального отказа Мариам-бикя. Когда же ей все-таки пришлось поехать в совхоз, она не знала там ни одной спокойной минуты.
Сегодняшний приезд Низамия в совхоз, ссора Фахри с Валий-баем растревожили Зифу. В ушах явственно прозвучал такбир. Человек, шедший рядом с муллой и визгливым голосом провозглашавший слова молитвы, принял облик Гимадия. С тех пор прошло несколько лет, многие лица стерлись в памяти, но голос Гимадия, его внешность не забылись. А Шенгерей? Не видела ли его Зифа в толпе, окружившей штаб? Все это куда ни шло, но как же ожил комсомолец, которого на ее глазах восставшие растерзали, а затем привязали к аркану и сытый жеребец волочил его тело по улице? Не он ли работает в совхозе трактористом? Перед убийством Фахри к Валий-баю приезжал какой-то дау-мулла, как две капли воды похожий на хазрета, провозглашавшего тогда такбир. И борода и голос его. Или это брат того? Почему он так часто гостит у Валий-бая? Как попал сюда Низамий? Ведь человек с винтовкой повел его на расстрел. Может, он убежал? Может, это вовсе не Низамий, а просто похожий на него человек? Зачем в таком случае у них одинаковое имя? И походка та же, и разговор. Только, пожалуй, он теперь немного растолстел и волосы поседели. Хотя и в этом нет ничего удивительного. Ведь годы-то идут, он мог измениться. Но как он попал сюда? Как его не расстреляли?
Вереница мыслей теснилась в голове Зифы, не давая покоя. Не с кем ей поделиться думами, некого расспросить.
XXIV
Ох, и надоели же они Зифе! Где только не встретятся, тут и начинают спорить. У тракториста Шаяхмета язык острый, как бритва. А уж до чего спорить любит! Говорят, он человек ученый. Посылали его в город, и он в два месяца постиг там всю науку. Теперь одним пальцем управляет трактором. Повернет в одну сторону — трактор остановится, повернет в другую — снова пойдет. Не успеешь мигнуть — разберет все по винтикам и тут же сложит, как прежде. Шаяхмет уверяет, что нет ни бога, ни черта, ни рая, ни ада. Вот этот безбожник заспорил как-то с Гимадием. Остальные будто только этого и ждали. Фахри стал на сторону Шаяхмета, а Низамий — на сторону Гимадия. И пошло, и пошло… Едва произнесли слова: «Артель! Коммуна!», будто сухую солому подожгли — вспыхнул жаркий спор.
Зифа испугалась, бросила работу и приникла к окну. Заметив среди спорящих засаленную одежду Низамия, вздрогнула.
— Тьфу, негодный! И что только ему нужно? Везде суется…
— Вот Низамий идет! — крикнул Шаяхмет. — Иль в коммуну записаться задумал? Ведь председателем артели Фахрия утвердили.
Крестьяне усмехнулись.
— Низамий войдет в коммуну, когда на осине созреют яблоки!
— И тогда не пойдет. Скажет: «Я не осина».
— Где уж нам в коммуну записываться! — отозвался Низамий. — Оттуда улизнут и те, кто раньше моего записался.
— Пустой ты человек!
— Зачем пустой? Я вот Шаяхмета уму-разуму научить хочу.
Снова все расхохотались.
— Попробуй!
— Нашел дело!
— Давай поспорим! Я принесу покаяние или ты?! — воскликнул Шаяхмет.
— Зачем спорить! Ты лучше спроси у Фахри, он тебе скажет, во сколько месяцев они под видом коммуны проели все хозяйство фон Келлера.
Это уж всегда так: где бы речь ни заходила о коммуне или колхозе, обязательно задевали коммуну «Уртак».
Помещик фон Келлер был обрусевшим немцем. В 1918 году, испугавшись революции, он бежал. Земли его разделили между окрестными деревнями, а в усадьбе организовали татарскую коммуну «Уртак». Но из-за неопытности коммунаров и отъезда организаторов на фронт коммуна испытала немало несчастий.
Не успела коммуна как следует оформиться, Фахри с акташевским отрядом ушел воевать против чехов. Следом за ним ушел оправившийся от раны Шенгерей. Умчались бить врага оба сына Джиганши. Оставшиеся члены коммуны затеяли бесконечные споры и ссоры. Богачи, муллы соседних деревень приложили все силы к тому, чтобы развалить коммуну. Коноводом всяких дрязг была жена Шенгерея Рагия, женщина взбалмошная, нервная. В пылу ссоры она вышибла глаз одной женщине да вырвала клок волос у другой, желавшей их разнять. Потом, собрав пожитки, с воплями убежала в деревню к своему брату. В ту же ночь от удара молнии сгорели все постройки усадьбы. На месте обширного дома остались одни головни да высокие трубы.
Большинство мужчин находились на фронте. Заняться стройкой было некому. Коммуна распалась. Коммунарам не оставалось ничего иного, как вернуться в деревню и поселиться у родственников. Враги открыто радовались такому концу и злобно шептали:
— Это не молния сожгла, а бог покарал!
С тех пор прошло много лет, но печальный конец коммуны не был забыт. При каждом удобном случае враги напоминали о нем. Не удержался от насмешки и Низамий, но Шаяхмет не смутился.
— Что это ты все об «Уртаке» говоришь? Не доконал еще? — сердито сказал молчавший до сих пор Фахри.
— Доконать-то нечего, вы до нас доконали, — ответил Низамий и, довольный своей остротой, затрясся от смеха.
Фахри вскочил как ужаленный.
— Как тебе не стыдно! Разве мы ее доконали?
— А то кто? Не мы же?
Фахри обуяла злоба. Присутствующие ждали, что он бросится на Низамия. Но Фахри сдержался и только, рассекая рукой воздух, воскликнул:
— Вы ее доконали, вы! Воспользовались тем, что мы были на фронте. Стоя в сторонке, вы ее разрушили. Ваша рука-там блудила.
— Ты думаешь, они не знают? Шила в мешке не утаишь, — вмешался Шаяхмет.
— Чего орешь? Говори прямо! Не петушись!
— Вот и говорю… Рагия-апа больной человек. Кто подзуживал ее? Попробуй размотай клубок — увидишь, где конец спрятан.
— Где? Где?
Рагия цепляется за своего брата Акбера. Акбер за Ситдика, Ситдик — за Низамия, Низамий — за самого Валий-бая. А уж за кого цепляется Валий-бай, за могилу Колчака или за эмигрантов, тебе лучше знать…
Будто бомба разорвалась под ногами. На висках Низамия вздулись жилы, на лбу выступил холодный пот. Дрожа от злобы, крикнул он:
— Ты чего зря болтаешь? Чего болтаешь? Говори, сопляк!
— Не волнуйся, я знаю, что говорю.
— А, знаешь! Ты знаешь, а Совет не знает? Почему Валия Хасанова назначили заведующим совхозом? Почему Низамия выбрали в сельсовет, в кооператив? Не по росту прыгнул, браток! Я завтра же сообщу о тебе в ячейку. Там тебя тряхнут!
Спор разгорелся нешуточный. Все кричали, пытались что-то доказать, размахивая руками. Дело чуть не дошло до настоящей драки. Наконец Гимадию удалось перекричать спорящих:
— Ну ладно, пусть будет по-твоему, пусть коммуна хороша. Зачем же в городе не живут коммуной? Скажи, почему в городе нет коммуны, а?
Такой вопрос застал Шаяхмета врасплох. Он сразу не нашелся что ответить, а Гимадий продолжал:
— Как что — так хвалятся: «Каменный город, всем городам город!» Почему же здесь не хвалятся? Почему его здесь в пример не ставят?
— Очень даже ставят!
— Как же, держи карман!
— Будто не знаешь. Есть у нас города — Москва, Казань?
— Есть!
— Есть там пролетарии, работавшие вместе с Лениным?
— Есть.
— Учил их Ленин правильной жизни?
— Учил.
— Есть авангард партии и Советов?
— Ну, есть.
— Теперь, скажем, как они живут — коммуной или врозь?
Низамий, молча слушавший этот разговор, снова оживился, громко расхохотался и воскликнул:
— Ловко поддел, Гимадий-абзы! Ловко!
— Нет, ты мне сам скажи: коммуной они живут или не коммуной? — повторил Гимадий.
— Ты хвостом не крути! Слышал, наверно? Есть в Петрограде Путиловский завод. Тракторы делает. Там работает более десяти тысяч рабочих. Работают сообща, вместе. А наши крестьяне как? Имеет он поломанный плуг, хромую кобылу и под видом самостоятельной жизни попусту тратит силы.
— Ты, братец, на вопрос прямо отвечай, — снова вмешался Низамий. — А то «завод», «десять тысяч рабочих!» Чего тут удивительного? И при Николае тысячи рабочих вместе работали. Что они вместе работают, это мы знаем. А ты мне скажи — вместе ли они живут, общий ли у них котел или каждый имеет отдельную квартиру, комнату, самовар, стол? Вот ведь в чем вопрос.
— Ты коллективную работу с коллективной жизнью не смешивай, — ответил Шаяхмет.
— Ты умный мужик, — обратился Низамий к Фахри, — и на Путиловском заводе был. Скажи прямо — так, мол, дело не выходит, нам, мол, нужно теперешнее уничтожить, создать новое, артели, колхозы, коммуны…
Фахри улыбнулся.
— Я про это самое и толкую. И комсомолец об этом же говорит. Так дело не выйдет. Для настоящего дела машины нужны, тракторы. Поодиночке их не купить, да и пользы нет никакой. Поэтому нужна артель…
— Договаривай, договаривай: и работа, мол, и жизнь должна быть общей, и постель…
— И жены общие?
— И дети?
— Нет, дело не в этом, — усмехнулся Фахри.
— А в чем?
— Чем разговаривать, я лучше вам на примере покажу, — сказал Фахри и вышел на середину двора.
За ним последовали остальные.
На восток от того места, где остановился Фахри, до самого леса простиралось большое поле. Яркими зеленоватыми полосками росли на нем овес, ячмень, пшеница, рожь, просо, белела греча. Каждая полоса была не шире десяти — двадцати саженей, в длину не больше восьми — десяти.
Фахри широким жестом указал на поле:
— Видите это поле? Там лежат земли тридцати отдельных хозяйств. Вот я и говорю вам — давайте купим, а если не хватит денег, возьмем для временного пользования трактор и сообща вспашем это поле. У трактора размах широкий, он не любит работать кусочками. Пусть вспашет всю землю сразу. А если не хочет кто потерять свою полосу, пусть заметит ее колышком.
— Предположим, вспахали, — раздался голос.
— У нас семена плохие, — продолжал Фахри. — Получим из Совета сортированные, крупные семена. Возьмем сеялку, борону. Совхоз под боком. Машина за один мах посеет нам поля, заборонит их. У многих из нас ведь и лошади своей нет. Так, что ли?
— Валяй дальше!
— Поспеет хлеб, впряжем трактор в жнейку. Она мигом сожнет нам поле. Вместе свяжем снопы, вместе установим крестцы. Что остается? Остается расчистить ток и завертеть молотилку. Одному с этим не справиться. И хлеба нужно много, и народу. Затарахтит веялка, и на току соберется гора чистого зерна. Тогда каждый из нас получит долю, причитающуюся ему в соответствии с тем, сколько он потратил труда, сколько дал семян, и земли. Возьмет каждый свою долю и заживет как хочет. И работа легкая, и доход хороший. Вот мы и надумали организовать пока такую артель.
— Пока, говоришь? Значит, на этом остановиться не думаешь? — спросил Гимадий.
— Да, Гимадий-абзы, остановиться не думаю, — твердо ответил Фахри.
— Куда же дальше шагнуть намереваешься?
— А вот куда. Никто своей доли к себе не потащит. Мука, хлеб будут общие. Женщинам не придется дни и ночи возиться у печки. Будут готовиться общие обеды. Так постепенно артель превратится в коммуну.
— Ты умный мужик, — сказал Низамий, хлопнув Фахри по плечу. — Люблю я тебя, только глупостями ты занимаешься и самого главного не договариваешь.
— Я ничего не скрываю.
— Нет, скрываешь. Ты лучше прямо скажи: потом, мол, и перина будет общая, и жены.
Кто-то засмеялся, кто-то поддержал Низамия. Все сразу заговорили, замахали руками, всполошились, как потревоженный улей. Шаяхмет выбивался из сил, стараясь водворить порядок, но Низамий перекричал его:
— Нет, браток, шалишь! Один раз обожглись, теперь и на холодное дуть будем. Коммуну ты себе возьми!
Гимадий что-то надрывно кричал, но его голос потонул в общем гуле. Продолжая ругаться, размахивая руками, Гимадий и Низамий двинулись к воротам. За ними пошел Ситдык. Фахри сел на бревно и, обращаясь к оставшимся около него крестьянам, работникам совхоза, сказал:
— Дела таковы, друзья. По поговорке «Кто захотел, тот змеиное мясо съел» желающие останутся в стороне. Никого неволить не будем. Хочешь — записывайся, не хочешь — не надо.
Подробно рассказал Фахри о крестьянской жизни, привел много примеров из пережитого, дал яркую картину всяческих невзгод и трудностей.
Зифа, слышавшая от начала до конца весь спор, задумалась.
— Не иначе как юродивый он. Видно, ранили его на войне. Вот он и помешался. Коммуну создал. А Рагия кому-то глаза выцарапала, руку сломала. Бог покарал нечестивых, испепелил их дом. И после такого знамения божьего он образумиться не может. Куда не пойдет, везде об артели да коммуне толкует. Одержим он коммунным бесом.
В молодости Зифа была в деревне. Откуда-то появился там юродивый, одетый в зеленый чапан, с посохом в руке, в белой чалме. Его почитали как святого. Как только наступало время намаза[86], юродивый начинал обходить все дома, гнать людей в мечеть. Однажды даже гулянье разогнал. Ростом он был маленький, худощавый, и все же его боялись, безропотно исполняли все требования. Когда он появлялся в деревне, молящиеся не вмещались в мечеть.
Разве не похож Фахри на этого юродивого? Нет, нет! И похож и не похож… Нет, совсем не похож. Тот был в чалме, чапане, все время шептал молитвы, призывал людей к послушанию божьему, и звали его святым, юродивым. А этот? Этот высокого роста, с мозолистыми руками, без единой искры веры в глазах. Смотрит строго. На ногах сапоги, в руках газета, на языке слова богохульные — вечно о коммуне да артели твердит. Нет, не похож он на юродивого. Тот святой, а этот пес лающий.
XXV
Раньше всех весть об окровавленном бешмете достигла пристани и оттуда, ширясь и разбухая, поползла по всему берегу Волги. В тот же день о бешмете узнали в Байраке, а оттуда, узкой тропой, новость докатилась и до совхоза «Хзмет».
Эта весть свалилась на голову Зифы как снежный ком. Всю жизнь жил в ней страх перед кровью, смертью. Волнения, пережитые при поездке в деревню за продуктами, превратили этот страх в какую-то болезнь.
А слух все рос и рос. Жил Фахри, пламенно уговаривал крестьян, жарко ругался с Низамием и Валием. Теперь нашли окровавленный бешмет бая. Говорят, эта кровь — кровь Фахри. Арестовали Валия, Гимадия, Ахмия, заперли их под замок, поставили стражу.
Чуяло сердце старухи: не зря отказывалась от поездки сюда. Сноха, змея, настояла. Привыкнешь, дескать, полюбишь. Нет, не привыкла, не полюбила, только об отъезде и мечтала, дни и ночи просила бога вырвать ее из омута. Весть об окровавленном бешмете окончательно доконала старуху.
— Нет, голубушка, не уговоришь! Ни минуты больше не останусь! — шептала себе под нос Зифа.
Страх придал ей решимости. Живо сложила свои пожитки, увязала узлы и торопливо вышла во двор. Дойдя до ворот, остановилась, вынула из кармана маленький сверток. В нем лежали амулеты — щепотка соли, корочка хлеба, ветхая тряпочка, два волоса: один белый, другой черный, четыре ногтя с правой руки, четыре ногтя с левой ноги.
Шепча молитву, Зифа осторожно пробралась к восточному углу дома и быстро закопала сверток в землю. Сровняв ямку, она семь раз плюнула на нее и, не оглядываясь, побежала в сторону Байрака.
Старуха слышала, что туда приехал секретарь волкома Шакир Рамазанов. Она торопилась застать его и выложить, перед ним все «грехи».
Ей посчастливилось. Шакир стоял на улице, около телеги, в компании двух мужчин. Зифа подбежала к нему и с криком: «На, на, забирай!» — стала выкидывать из мешка всякую всячину, приговаривая:
— Вот старая шаль… Велел богу помолиться… Вот атласный камзол. Мариам-бикя сорок лет носила, а потом мне дала. Подарок! Вот еще… Провалиться им в тартарары!
У ног секретаря образовалась целая куча всякого тряпья. Рамазанов постарался успокоить старуху:
— Что случилось? Толком расскажи, бабушка! Зачем все это мне под ноги бросаешь?
Зифа уставилась на него обезумевшими глазами.
— Кому же другому, как не тебе? Ведь ты большой человек.
Детвора окружила старуху. Мальчишки нацепили тряпье на палки и с визгом закрутили их в воздухе. Лошадь, испуганная необычайным шумом, метнулась в сторону, чуть не повалив телегу. Раздался хохот. Но старухе было не до смеха. Путаясь, запинаясь, рассказала она о пережитом, раскрыла всю подноготную жизни совхоза, со слезами на глазах кляла сноху, кинувшую ее в тот омут.
Рассказ Зифы сводился к следующему:
Неделю тому назад придурковатый Ахми, всегда жаловавшийся на отсутствие денег, дал старухе на хранение двадцать рублей. В ночь исчезновения Фахри Гимадия всю ночь не было в совхозе. Вернулся он усталый только на заре. Утром обнаружилась пропажа железного шкворня. Пришлось приспособить к телеге деревянный.
Все это было ново. Рамазанов, посоветовавшись с Шенгереем, решил немедленно отправить старуху в город на допрос.
— Сколько раз допрашивали тебя, бабушка? Почему ты не рассказала этого Паларосову? — спросил он.
Старуха испугалась, стала раскаиваться в своей болтливости.
«На свою голову, видно, наговорила. Пропаду теперь», — подумала она и, чуть не плача, пробормотала:
— Стара я сынок, память у меня слабая, ум затуманился…
И вдруг, оживившись, торопливо заговорила:
— Он, наверно, подарками рот мне заткнуть хотел: дескать, пусть молчит, ничего не видит. Надавал всякого тряпья. Не нужно оно мне! Вот они, все подарки бая! Больше у меня ничего нет!
— Бабушка, что делал на последней неделе Ахми? — перебил Шенгерей.
— А что же ему делать-то, голубчик? Пил да пил! И днем и вечером пил.
— Откуда деньги брал?
— Кто ж его знает… Врать не хочу. Я говорю только то, что видела. За последние дни обнаглел Ахми. Сам чуть на ногах держался, весь распух, глаза кровью налились. То к Валию подойдет, то к Гимадию, все деньги требовал.
— Давали?
— Ругали каждый раз, а все же давали, хоть и говорили, что это в последний раз. Ахми возьмет деньги, положит их в карман и с ворчаньем уйдет. На другой день опять требует. Его опять ругают, но опять дают. Сколько раз обещался Ахми больше не просить, но не проходило дня — снова просил.
Пока они так разговаривали, из переулка, со стороны садов и огородов, вышла Айша.
До переезда в Байрак жители Акташа не знали огородничества, садоводства, рыбной ловли. Переселившись на берег Волги, они быстро со всем этим освоились. Уже в первую весну мужчины обзавелись лодками, удочками, снастями и, если выпадала свободная минутка, выезжали на всю ночь на Волгу. Женщины полюбили садоводство.
Здесь земля оказалась очень подходящей для выращивания клубники, малины, вишен. С тревогой и надеждой посадили яблони. В этом деле помогли своим опытом соседние крестьяне.
В нынешнем году ждали первого урожая яблок.
В конце мая яблони зацвели пышным цветом. Стар и млад не могли налюбоваться на плоды своих рук, насладиться развернувшейся красотой. Следом за яблонями обрядились в пышный наряд вишни. От садов шел густой, пряный аромат. Для байраковцев, не видевших такой красоты всю свою жизнь, казалось, что наступил праздник. Да это и был весенний праздник природы. Работать среди моря цветов и зелени было наслаждением.
Айша с утра до ночи копалась в саду и не чувствовала усталости. Вот и сегодня она натаскала воды из Волги, полила грядки. Погруженная в работу, вспомнила мужа, и слезы заструились по ее обветренному лицу. Она забыла, что не ела с утра, и проработала бы еще долгое время, но над плетнем показалась голова ее сына Самада.
— Мама, иди скорей! Шакир-абзы приехал, тебя зовет.
Голос сына вывел ее из задумчивости. Она вспомнила, что с утра не кормила детей. Взяв на плечо коромысло, захватив заступ, Айша торопливо направилась к дому.
XXVI
Подойдя к дому, Айша увидела у ворот подводу и сидевших на бревне Шакира Рамазанова, Шенгерея и Зифу, занятых разговором. Около них крутилась куча детворы. Айша, как была в лаптях, грязном фартуке, с вылинявшим красным платком на голове, подошла к разговаривавшим, поздоровалась и шутливо сказала Шакиру:
— Наконец-то ты пожаловал к нам в Байрак!
Рамазанов улыбнулся.
— А как же. Ведь здесь есть и партячейка и комсомольская ячейка. Я часто тут бываю. — И добавил: — Велели узнать, как ты поживаешь. Не нужно ли чего? Подсобим чем можем.
При групповых разногласиях, издавна имевшихся среди татарских коммунистов волости, Рамазанов всегда выступал против Фахри. Немалую роль сыграл он и на последних выборах, провалив его кандидатуру.
Айша все это отлично знала, и теперь в ответ на слова участия Шакира ей хотелось ответить: «При жизни травили, как собаку, а теперь вспомнили».
Но сдержалась. Она нашла неуместным затевать ссору и переменила разговор.
— Что это такое? Откуда? — спросила она, указывая на разбросанные вещи.
Шенгерей вкратце рассказал о случившемся.
— Бабушка, ты меня подожди здесь. Мы вместе пойдем в волость. Я найду тебе попутчика до города, — сказал Рамазанов старухе.
— Хорошо, дитятко, хорошо, — живо отозвалась Зифа и принялась укладывать раскиданные вещи.
Айша в сопровождении Шакира и Шенгерея вошла в избу, где недавно Паларосов снимал с нее допрос.
— Сейчас самовар поставлю. Пока вскипит, стерлядку поджарю. Вчера Шенгерей принес, — сказала Айша и, не обращая внимания на протесты гостей, захлопотала у печки.
Изба была по-прежнему чистая, прибранная. В ней ничего не изменилось. Только появилась на стенке карточка Фахри, снятого на фронте.
Айша, накрывая на стол, стала рассказывать о последних новостях.
…Арест Садыка вызвал большое недовольство крестьян. Первому досталось Шенгерею.
— Кричать на нас умеешь, а как до дела, так ничего у тебя не выходит! — возмущались они.
Джиганша-бабай долго бранил его, а потом запряг лошадей и уехал в Акташево. Там остались еще приятели Фахри и Садыка, с которыми они в молодости вместе гуляли и которые принимали участие в ссоре, оставившей на лбу Садыка глубокий шрам. Джиганша разыскал семь человек, знающих эту историю, растолковал им, что они должны помочь спасти кочегара.
— Поехать-то мы поедем, а кто нам дорожные расходы возместит? — спросили крестьяне.
На обратном пути из Акташева повстречался Джиганша со стариком кряшеном[87]. Они разговорились. Кряшен рассказал, что видел Садыка около столетнего дуба, и прибавил:
— Садык пошел в Байрак, а я отвез Фахри в совхоз.
Это было совершенно новым и очень важным показанием. Джиганша уцепился за кряшена.
— Садык — наш парень, освободить надо. Тебя допросят.
— Пускай допрашивают, только вот дорожные расходы… — заметил кряшен.
В довершение всего ребята сделали большое открытие. Во время игры они увидели, как Гимадий, озираясь по сторонам, поднял с земли шкворень и засунул его в рукав. Дети, увлеченные игрой, совсем забыли об этом случае и только теперь, слыша постоянно «шкворень», вспомнили про него. Все три группы свидетелей имели большое значение для расследования преступления и освобождения Садыка.
По вызову Паларосова Айша, взяв с собой двух пионеров, старика кряшена и двух крестьян, знающих историю со шрамом, поехала в город. Там их всех допросили…
Пока Айша рассказывала об этом, самовар вскипел. Айша принялась разливать чай. Вспомнив о чем-то, она встала из-за стола, достала с полки запечатанное письмо.
— Кажется, тебе, Шакир? Шарафий дал.
В письме, кроме новостей, уже рассказанных Айшой, имелись еще и другие. Шарафий писал, что в преступлении оказались замешанными Иванов, Салахеев и какая-то женщина, находившаяся с ними в связи. Кроме них, Шарафий писал о четвертой жене Абдуллы-ишана, которая добровольно вмешалась в это дело.
Об этих женщинах Айша что-то слышала. Потчуя гостей чаем, она рассказала им что знала:
— Удивительная женщина эта самая Александра Сигизмундовна. Рассказать — так не поверят. Муж ее был офицером, впоследствии расстрелян, после чего она закрутила с Валий-баем, а потом с его сыном Мустафой. Надоело ей, видно, жить в любовницах — вышла замуж за Иванова. Все подарки и приношения Иванову Валий-бай передавал через эту женщину.
Четвертую жену ишана, Кариму, Шенгерей знал. Он перевел разговор на нее.
— О четырех женах ишана много интересного рассказывает Шарафий, — заметила Айша. — Самая старшая из них уже старуха. Ей был отведен отдельный дом, где она жила, молилась богу да перебирала четки. Ишан навещал ее каждые четыре дня и проводил одну ночь. Вторая и третья жены круглые сутки работали. В их руках было сосредоточено ведение всего хозяйства. Каждая из них имела по отдельному дому. Четвертая жена была самой молодой и любимой. Ее дом стоял в саду, среди зелени. Она ничего не делала, а только наряжалась да прихорашивалась. Характер у нее упрямый, своевольный. Ишан женился на ней в русско-германскую войну. Она была единственной дочерью одного из его бедных мюридов[88]. Когда ишан заслал сватов, она сказала: «Когда-то парни вернутся с войны, да и вернутся ли?» — и согласилась стать четвертой женой ишана. После ее вселения жизнь в доме ишана превратилась в сущий ад. Младшая целыми днями ругалась со старшими женами, не желая отпускать к ним ишана. «Вы достаточно пожили, — кричала она, — будет с вас! Остальное — мне!»
Этого ишана расстреляли. Четвертая жена его будто бы тогда же сказала: «Где человек, расстрелявший его? Я бы ему ноги облобызала».
На следующий же день после сорочин[89] по покойному ишану она вышла замуж за хромого инвалида, работавшего в волости. Женщины смеялись над ней, спрашивали: «Или думала, что мужчин не станет? Чего хорошего нашла в хромом?» Но она не смутилась и заявила: «Пусть хромает. Мне его ноги не нужны». Узнав об аресте Садыка, женщина совсем обезумела, стала приставать к мужу: «Этот человек меня из ада вырвал. Я должна спасти его». Ей удалось уломать мужа, и он повез ее в город к Паларосову. Она потребовала допросить их обоих.
За разговорами не заметили, как остыл самовар. Беседовали много, долго.
— Иногда и у нас бури разыгрываются… Перед беспартийными неловко становится, — с улыбкой обратилась Айша к Шакиру.
Шакир не понял, а Шенгерей сказал Айше с упреком:
— Не следовало бы сор из избы выносить!
Затем обратился к секретарю:
— Посоветоваться с тобой надо. Моя жена со времен коммуны «Уртак» совсем захворала. Слышать не может этого слова.
— А что?
— Ругается, кричит как одержимая. А когда покойный Фахри задумал организовать артель, совсем из себя вышла. Сказать стыдно — всю ночь мечется, а днем со мной ругается, вещи колотит и вопит: «Убей, зарежь — в коммуну не пойду!» Я объясняю, что это не коммуна, а артель, что мы никуда не уйдем, будем жить здесь же, только работать будем сообща. Так нет, не понимает. Вчера вовсе удивила меня. Смотрю, собрала вещи, захватила детей и выходит из избы. «Куда?» — спрашиваю. «К брату». — «Зачем?» — «Ты же в коммуну записался, ну, я развожусь с тобой». Что делать? Ведь больной человек. Вернул я ее, стал уговаривать, а она и слышать ничего не хочет, кричит, ругается. Айша на это и намекает. Ты мне посоветуй, как быть, — закончил Шенгерей, переводя недоуменный взгляд с Шакира на Айшу.
Разговор незаметно перешел на артель.
Инициатором этого дела был Фахри. Еще при его жизни артель получила утверждение. Теперь все дело перешло к Шенгерею.
— Я работы не боюсь, — сказал Шенгерей, — плечи у меня крепкие, но трудно приходится, когда, с одной стороны, жена страдает, а с другой — мешает недостаток знаний.
На днях Шенгерей должен был сделать в волости доклад на тему «Выполнение плана весеннего сева». Это было для него тяжелой задачей, не дававшей ни минуты покоя. Разговор с Рамазановым надоумил Шенгерея использовать приезд секретаря для облегчения своей задачи. Самым трудным в докладе был вопрос о мерах, принятых для засева земель семей красноармейцев и бедняков. Заговорив об этом, Шенгерей сознательно высказал неправильное мнение. Шакир не понял хитрости и стал поправлять ошибочный взгляд председателя. Тогда Шенгерей пошел на откровенность:
— Мои дела плохи, не могу справиться. Научи!
Такая откровенность пришлась Рамазанову по душе. Он с увлечением стал пояснять непонятное, давал конкретные директивы. Шенгерей почувствовал, как перед его глазами рассеялся туман, и он обрел новые силы. И когда Рамазанов коснулся вопроса о колхозах, Шенгерей перебил его:
— Слов не надо, нужно несколько вещей. Если они будут, дело пойдет как по маслу.
— Что же, по-твоему, нужно?
— Крестьяне теперь сами кричат: «Дай машины! Дай тракторы! Дай кредит! Укажи дорогу!» Вот если будут эти вещи, все кругом заполнится артелями, коммунами. Кулаки себе места не найдут… Нам вот об этом позаботиться надо.
XXVII
Пока они, занятые разговором, сидели в избе Айши, на западе, над горизонтом, показалась маленькая белая тучка. Вскоре она слилась с другой, побольше и посерее, притянула к себе мелкие облачка и, разрастаясь на глазах в большую, клубящуюся тучу, поползла по голубому небу.
Поднялся ветерок.
Белая туча почернела, разбухла, закрыла солнце и, гонимая ветром, нависла над Волгой. Все кругом окуталось мраком. Затрещал гром, будто где-то вдалеке разрушались высокие горы и с грохотом сталкивались глыбы обвала. Не успела детвора попрятаться по домам, как ослепительно засверкала молния.
На высоком скате оврага Яманкул, что лежал между Байраком и «Хзметом», одиноко высился столетний дуб. Его корни ушли глубоко в землю, густая листва шатром нависала над могучим стволом. Топоры и пилы, срубившие немало деревьев, чтя одиночество, старость и размеры дуба, не решались притронуться к нему. Но молния об этом не думала. Поднявшийся вихрь достиг основания дуба, заклубился, завертел тучу песка и пыли. Оглушительно прогремел гром. Над разъяренной волной сверкнула гигантская молния, и одна из ее стрел скользнула по столетнему дубу. Раздался такой грохот, будто разверзлась земля. Поднялся столб пыли, а когда он рассеялся, столетний дуб, вырванный с корнями и опаленный, лежал поперек оврага Яманкул. И сразу все затихло. Туча понеслась дальше — к Каме, Уралу. Ветер утих. Полил частый дождь. Земля радостно подставила грудь под его струи.
Три недели подряд не было дождя. Каждый цветок, каждый лист, каждая былинка тосковали по капле влаги. Поникла трава, зеленым ковром устлавшая луга. Земля высохла, местами потрескалась. Крестьяне, весь май надеявшиеся на хороший урожай, приуныли, видя, как никнет и желтеет трава. В голове стали роиться мрачные мысли, в памяти возникали картины пережитого голода.
Белую тучку, поднявшуюся с запада над горизонтом, встретили с радостной надеждой. Влажный ветерок, пахнувший в лицо, навевал радость. Крестьяне не сводили с тучи глаз.
«Куда идет? Не минует ли нас? Не пронесется ли стороной?» — с волнением думали они.
Гроза разразилась над Байраком. Столетний дуб, вырванный с корнями, лег поперек оврага Яманкул. Но крестьяне не удивились, не ахнули. Они все ждали, не отрывая взгляда от неба, занятые одной мыслью:
«Не мимо ли?»
Но вот грозовая туча, перерезав Волгу, понеслась к Каме. Небо задернулось густым слоем однотонных туч. Хлынул ливень. Все с облегчением вздохнули, исчезло напряженное ожидание, лица осветились улыбкой.
И Айша, и Шенгерей, и Шакир были частичкой того же крестьянства, чья судьба связана с дождем. Их сердца с детства привыкли тосковать в засушливое время, радоваться влаге. В прожитые тяжелые годы, среди голодной смерти, они работали для Советов, тащили на своих плечах нелегкий груз. Они знали, что дождь нужен для крестьян, для Советов, для Октябрьской революции, для проведения в жизнь путей, намеченных партией. Они смотрели на тучу с такой же надеждой, как и седой крестьянин. Но только вместе с радостью от полившего дождя в голове шевелились мысли:
«Когда избавимся от этого? Когда судьба деревни перестанет зависеть от капризного дождя? Когда деревня станет пользоваться новой техникой?»
Дождь шел долго, ровно, спокойно. Лошадь, впряженная в телегу, радостно подставляла бока под потоки воды. Зифа по приглашению Айши зашла в избу выпить чаю. Ехать в такой ливень было невозможно, и Шенгерей воспользовался этим. Он закидал Шакира вопросами, справками. Спрашивал даже о понятных, известных вещах.
— Как при обложении налогом правильно разграничивать кулака, середняка и бедняка?
— Как выявить бедняков, подлежащих освобождению от налога?
— Как распределять семена для весеннего и осеннего сева?
— Кого назначить на починку моста?
Он вынул из кармана тетрадку, где одному ему понятными каракулями было записано, сколько десятин земли засеяно, сколько прибавилось скота, сколько парней ушло в Красную Армию, какая сумма израсходована для красного уголка, какая помощь оказана школе. Все это записывал Шенгерей в свою тетрадку, чтобы иметь сведения под рукой. Своих записок он никому не показывал. От Шакира не скрыл:
— Работа тяжелая, сил моих не хватает. Научи.
На дворе безостановочно лил дождь. Шакир, внимательно просмотрев тетрадь, изумился детальным записям и искренне порадовался. Он подарил Шенгерею маленькую записную книжку, показав, как нужно вести записи. Шенгерей почувствовал большое облегчение, сомнения его покинули.
«Эх, если бы у меня знания были, завертел бы!» — подумал он.
Разговор снова коснулся городских впечатлений Айши.
— Как Нагима? Что она, плачет?
— Женщина без слез не может. Но это не помешало ей дни и ночи хлопотать об освобождении мужа. Ходила она и в ячейку и в партком. Ночью поднимала с постели Шарафия и Василия Петровича. Во время этих хлопот получила от мужа письмо, в котором он писал, что у него много свободного времени, просил прислать «Капитал» и другие книги. Нагима рассказывает об этом, а сама улыбается сквозь слезы. «Видишь, говорит, я здесь из сил выбиваюсь, а он сидит себе как ни в чем не бывало. Даже о заводе вспомнил, боится, как бы чего не случилось».
Наконец дождь прошел, тучи рассеялись, выглянуло солнце. С визгом, хохотом выбежали ребята на улицу, стали плескаться в лужах воды. Все кругом ожило, зазеленело. Весело заблестели капли дождя, повисшие на деревьях. Шакиру давно пора было уезжать. Напоследок он сказал:
— Валий арестован. На его место, вероятно, назначат Сафу Гильманова из волисполкома. Он ведь кое-что в агрономии смыслит. Место Сафы займешь ты, Шенгерей. А на твое место ячейка думает выдвинуть Айшу. Я и приезжал для того, чтобы переговорить с вами об этом.
Оба кандидата запротестовали. Шенгерей стал ссылаться на свое малое образование, желание еще годика два поработать в Байраке. Айша просила подождать до осени, чтобы успеть пристроить детей.
Шакир улыбнулся:
— Это не мое дело, таково решение волостного комитета.
Айша и Шенгерей замахали руками, но Шакир, усадив Зифу, вскочил на телегу и погнал лошадь к околице. Проехав некоторое расстояние, он оглянулся и крикнул:
— Не забывайте извещать волостной комитет о работе артели!
XXVIII
Зифа видела Шакира впервые. Очутившись на одной с ним телеге, она волновалась:
«Куда это он везет меня? Не арестует ли?»
Вид вооруженного человека в волисполкоме еще более усилил ее беспокойство. Так доехала она до города, полная тревожных дум. Больше всего боялась она предстоящего допроса.
«Погибну, погибну! Назовут прихвостнем Валий-бая и запрут под замок…»
Оробелая, испуганная, переступила Зифа порог камеры следователя.
— Садись, бабушка! — обратился к ней Паларосов по-татарски.
И допрос и протокол велся на том же понятном ей татарском языке. Это несколько ее успокоило.
«Свои люди, зря не погубят старуху», — подумала она.
Зифу допрашивали долго, а потом сказали:
— Ладно, спасибо, бабушка. Теперь ступай домой. Не забудь, что здесь говорила. Скоро суд будет. Тебя вызовут в качестве свидетельницы.
— А там по-мусульмански будут спрашивать?
— Да, бабушка, по-татарски, — ответил секретарь.
— И я по-мусульмански буду отвечать?
— Да, бабушка, по-татарски.
— Хорошо, дитятко, хорошо, — сказала совсем успокоенная старуха.
Зифа, кланяясь и благодаря, попятилась к двери. Выйдя на улицу, она торопливо зашагала к своему дому. Все кругом было по-старому. Вон большой двухэтажный дом. Вон желтые ворота. Вон маленькая дверка, ведущая в подвальный этаж. Кто это вышел из двери? Не Джамалий и Камалий ли? Они!
При виде старухи оба приятеля застыли от изумления.
— А, бабушка Зифа! — воскликнул наконец Джамалий. — Неужто вернулась?
— Уж не говори, сынок! Видно, не минул еще мой час. От смерти спаслась, — ответила старуха.
Втроем вошли в дом. Внучата кинулись на шею старухе с криком:
— Бабушка приехала! Бабушка приехала!
Зифа наделила их гостинцами. За долгое отсутствие старухи в сердце снохи улеглась вражда к свекрови. Она радушно поздоровалась. Сноха живо вскипятила самовар. За чаем пошли разговоры. Старуха оживилась, рассказывала о пережитом. Когда она коснулась истории об окровавленном бешмете, Джамалий хвастливо перебил:
— Знаешь, ведь я разыскал его!
— Что там делается! — продолжала Зифа. — Недаром старики говорят: «Хвали деревню, а живи в городе». Там, куда ни посмотришь, убийство да кровь.
Воодушевившись собственным рассказом, Зифа поведала о Гимадии, Низамии, трактористе Шаяхмете, Фахри и Шенгерее.
— Как же это так? Похожи как две капли воды, — закончила она.
Камалий улыбнулся. — Похожи, говоришь, мамаша? — Похожи, сынок, прямо на удивление! И хазрет как вылитый.
Камалий снова улыбнулся.
— Ты вспомни-ка: не в Шелангу ли тогда ездила?
— В Шелангу.
— А потом проехала маленькую деревню?
— Верно.
— За ней был маленький лесок, высокая гора? Проехав гору, вы попали в большую деревню. Так ведь?
— Так.
— Эта деревня и есть Акташево. Там провозгласили такбир, убили комсомольца и учителя.
— Да, да!
— Большинство байраковцев из Акташева. Они недавно переселились на Волгу, а в то время жили в старой деревне. И Гимадий, и Фахри, и Шенгерей — акташевцы.
— А как же Низамий и хазрет?
— И они из той же деревни. Хазрет и сейчас там живет. Он провозгласил такбир. В совхоз же он приезжал в гости к Валию, там ты его и видела.
Старуха с изумлением слушала, как ее сны превращаются в явь, бред — в действительность.
— Ну, а тракторист? — вымолвила она.
— Тут дело несколько иное. Комсомолец Бирахмет, убитый во время бунта, был старшим братом тракториста Шаяхмета. Они очень похожи друг на друга.
— Но ведь туда и наш Ситдык втесался. А он шелангинский, — сказала Зифа.
— Попросился он, — байраковцы приняли.
— Да ведь, он, говорят, родственник Валий-бая.
— Да, это так. Ты слышала о жене Шенгерея Рагии? Ее брат Акбер женат на сестре нашего Ситдыка. Дочь Ситдыка — жена Низамия. А старшая сестра Низамия, утонувшая в реке, доводилась сватьей Мариам-бикя. Поняла?
— Это та самая Рагия, которая подожгла «Уртак»? — спросила Зифа, в голове которой опять все стало путаться.
— Она коммуну «Уртак» не поджигала, а выколола глаза одной женщине, другой исцарапала все лицо и вырвала волосы. В ту же ночь дом коммуны сгорел от молнии.
— Ой, боже мой! И откуда ты, Камалий, все это знаешь?
— Как же не знать! Теперь все только о них и говорят. У нас на базаре, среди татар, другие разговоры и не ведутся. Даже в газете про них писали. Скоро, говорят, суд будет.
— В таком случае Шенгерей и нам родственником доводится! — ахнула Зифа.
— Есть маленько. Под одним солнцем онучи сушили, — усмехнулся Камалий.
На этом разговор прервался, так как Джамалий и Камалий ушли, сославшись на неотложное дело.
XXIX
Дело, ради которого оба свата прервали интересную беседу со старухой Зифой, было неожиданное приглашение их Сираджием. Идти пришлось недолго. Двухцветная вывеска с надписью «Пивная» по-прежнему гостеприимно встретила сватов.
Джамалий и Камалий вошли в почти пустой зал, прошли мимо мраморных столиков, хрипящего, как старая дворняжка, граммофона и очутились в задней комнате.
За одним из столов сидели три полиграфиста в синих блузах, с серыми от свинцовой пыли лицами. Среди них был давнишний знакомый Джамалия метранпаж Шамси Гайнетдинов. При чехах он два дня скрывался в квартире Джамалия, и это еще больше их сблизило.
Заметив вошедшего, Шамси подозвал его к себе.
За другим столом, склонившись друг к другу, сидели студент Мустафа, шелангинский кооператор Низамий и Сираджий. При виде неразлучных сватов он откинулся на спинку стула и едва открыл рот, чтобы подозвать их, как Джамалий, считая неудобным в присутствии метранпажа Шамси примкнуть к такой компании, быстро занял свободный столик, усадил Камалия и стал перекидываться отдельными фразами то с одной, то с другой компанией.
Сираджию это не понравилось. Он пригласил Камалия и Джамалия по важному делу, а они болтают с типографскими хулиганами! Хоть бы ушли скорее… Но нет, не торопятся, окаянные. Засели, как пни, с места не сдвинешь… Сираджий что-то шепнул студенту и Низамию. Все встали. У дверей Сираджий обернулся и сказал сапожнику:
— Камалий-абзы, зайди вечерком ко мне. Дело есть.
Наборщик искоса посмотрел на них и свистнул. Как только за ушедшими закрылась дверь, Джамалий подхватил бутылки и подсел к метранпажу.
Разговор вертелся вокруг Садыка.
— Мы с ним вместе росли, — сказал Гайнетдинов. — Пить он пил, но и дело делал. В каких только тюрьмах не сидел, куда только не высылался! Подхватит, бывало, под мышки связки книг, толстенный «Капитал» — и айда. Если бы он хорошо знал по-русски, так он горы своротил бы.
— Разве он по-русски говорить не умеет? — удивленно спросил Джамалий.
— Умеет. Даже доклады делает.
— Чего же больше?
— Не может он с солью, с перцем сделать доклад. Вот по-татарски он острее говорит.
Шамси взглянул на часы и поднялся.
— Айда, товарищи!
— Куда спешите? Посидим еще.
— Посидеть бы не грех, да времени нет.
Но Джамалий не унимался:
— Пустое! Я угощаю по случаю гибели Валий-бая. Эй, официант, неси шесть!
Батареей выстроились бутылки, подали воблу, горох, но полиграфисты спокойно не сидели. Выпив по стаканчику, они поднялись. Джамалий снова стал упрашивать, наливая пенящееся пиво. Уж на ходу, застегивая пальто, наборщик и Гайнетдинов не отрываясь выпили. Джамалию это не понравилось.
«Нас и за людей не считают», — подумал он и обидчиво сказал:
— Что же это вы, ребята, так важничаете? Ведь и я не спекулянт, не буржуй, а такой же труженик, как и вы.
И тут же угодливо, чтоб не обиделись, хихикнул. Джамалий привык всю жизнь бояться русских, начальства, богачей, должен был всегда заискивать перед ними. Он старался всем угодить, понравиться, и потому в его улыбке и смехе сквозила приниженность, угодливость.
Метранпажу стало жалко Джамалия. Он нашел нужным утешить его:
— Зачем обижаешься? Нас типография ждет, машина, газета. Восемь тысяч подписчиков ждут. Нужно вовремя выпустить, каждая минута на счету. И так уже опоздали.
Распрощавшись, они ушли. Обида не улеглась в душе Джамалия. Ему так хотелось посидеть и поговорить с ними!
Когда-то, работая в профсовете, Гайнетдинов ездил на обследование совхоза «Хзмет». По возвращении Салахеев его обругал. «Ты, — сказал он, — хочешь подорвать примерный совхоз. Ты не понимаешь слов Ленина относительно спецов. Ты бузотер!» А теперь этот Салахеев арестован. Почему, а? Туда же замешали Низамия и Иванова. Удивительно! Не осталась в стороне какая-то Александра Сигизмундовна. Говорят, она была любовницей Валий-бая и его сына. Жалко, не удалось поговорить с Гайнетдиновым. Напрасно он ушел.
— Помилуй бог, трудно человеку, который по часам живет, — закончил вслух Джамалий. — То ли дело мы! Хочешь — вставай, хочешь — нет, хочешь — работай, хочешь — нет. Мы сами себе хозяева. Не так ли, сват Камалий?
Оплаченное угощение оставить было жалко. Два друга принялись за выпивку.
Наступил вечер. Сапожник и портной, поддерживая друг друга, вышли на улицу.
«В чем же дело? Зачем Сираджий звал меня? Почему он ушел из пивной?» — спрашивал себя Джамалий и не находил ответа.
XXX
Погруженный в эти думы, вернулся он домой и сел за работу.
Давно валялась работа, взятая из кооператива. Разделаться с ней было недосуг. Мешало то одно, то другое. Два раза вызывали Джамалия, ругали, добились обещания доставить работу в субботу. Хорошо еще, что сами забывали назначенный срок. Но больше тянуть было нельзя. И работы-то оставалось немного — пришить рукава к двадцати бешметам да пуговицы и чуть-чуть прогладить утюгом.
Джамалий с твердым решением сегодня же кончить всю работу взял в руку иголку. Дело закипело. Одним стежком пришивал он пуговицу, отбрасывал готовую вещь на лавку.
«Ладно, для кооператива годится».
Брал другой бешмет, снова наспех пришивал пуговицы и отбрасывал в сторону.
«Для кооператива сойдет. Больно дешево платят».
Рукав пришивал в два счета:
«Все равно без переделки носить не будут».
Навалив на лавку груду «готовых» вещей, Джамалий принялся за утюжку. Он во что бы то ни стало хотел сегодня же развязаться с работой. В голове бродил хмель. Торопливо проводил Джамалий утюгом по воротникам и бортам бешметов, проглаживал карманы.
«Все равно в лавке изомнутся, будут как жеваные». Раздался стук. В комнату вошел милиционер.
— Вы Джамалетдин Зайнетдинов?
Джамалий подался назад и, уставившись на милиционера, ответил:
— Да, мы.
— Подписываться умеете?
— Постараться можно.
Милиционер протянул бумагу.
— Распишитесь в получении.
Это была повестка с вызовом Джамалия на суд по делу об убийстве Фахри.
После ухода милиционера Джамалий долго рассматривал повестку, вертел ее в руках. В душу его заполз страх.
— Пожалуй, пришел день расплаты! — прошептал он.
Снова взялся за утюг, но работать так и не дали. Кто-то без стука вошел в комнату.
— Ты, что ли, Камалий? Заходи, заходи! — сказал Джамалий, не поднимая головы.
Но он ошибся, это был не Камалий, а жена Валий-бая Мариам-бикя.
На голове пуховый платок, в стеганом пальто, на ногах пестрые ичиги, в руках большой узел. Джамалий опешил. Несколько месяцев он не видел Мариам-бикя и теперь насилу узнал — старуха поседела, глаза ввалились, спина согнулась, голос звучит глухо.
Она остановилась на пороге и произнесла:
— Килен[90]! Джамалий, дома ли вы? Не разгляжу никак.
Изумленный Джамалий взял гостью за руку и усадил на стул.
— Не обессудь, бикя, в одной комнатушке ютимся. Сама знаешь, какие времена, — промолвил он.
Старуха, помолившись, сказала:
— Да поможет господь! Не на вас одних, на головы всех пало несчастье. А где же жена твоя Сафура? Здорова ли?
Джамалий кинулся к двери:
— Мать, а мать! Ты где? Иди скорее, гостья пришла, Мариам-бикя!
Из сеней вбежала Сафура. Это была худая женщина с испуганным выражением лица, одетая в старое, вылинявшее платье. С виноватым видом подошла она к гостье, поздоровалась, расспросила о здоровье и тут же взялась за самовар.
«Хорошо еще, и сахар и чай есть. Не стыдно будет», — подумала она.
Пока Сафура суетилась около самовара, Мариам-бикя, подогнув по привычке ноги, заговорила тихим, размеренным голосом:
— В жизни испытываешь все, что суждено господом богом. И справедливо и несправедливо терпишь. Вот страдает понапрасну и муж мой.
Утерла бикя слезы и продолжала:
— Ходила я к нему, а он обо всех расспрашивает, обо всех печалится. «Времена, говорит, тяжелые. Как-то, говорит, Джамалий поживает? Если есть какая работа, другому не отдавай, неси Джамалию. Он свой человек, умелый, честный. Увидишь его самого — от меня поклон передай».
Джамалий так и подпрыгнул на месте и подобострастно хихикнул.
— Хи-хи! Так и сказал? Как Джамалий, мол, поживает? А! Не забыл, говоришь?
— Зачем забывать! Вместе жили, вместе горе, радость делили.
Сафура тем временем накрыла на стол, расставила чашки.
— Да, да! — закивал Джамалий. — С головой был человек. Разве без головы миллионы наживешь? Сколько одних мечетей настроил! И меня не забыл. Скажите на милость! Так и спросил: как, мол, Джамалий поживает, а?
— Вот-вот, так и спросил. «Другому, говорит, работу не отдавай».
Сафура подала самовар. Все подвинулись к столу.
Гостья, расхваливая чай, пила чашку за чашкой. Не прерывая чаепития, она развязала узел, достала оттуда большую старую шаль, какую-то подкладку, вату, четыре пуговицы, два крючка и моток ниток.
— Если у тебя есть свободное время, сшей мне что-нибудь теплое, чтобы по утрам надевать.
Джамалий встрепенулся:
— Для тебя в два дня сделаю.
Чай пили долго. Старуха плакала и кляла. Наконец, распростившись, ушла.
Джамалий совсем потерял голову. Мысли в голове как-то не укладывались, работа не спорилась.
«Как быть? Зачем я сунулся в это дело? Ведь никто меня за полы не тянул! Сам сдуру сунулся, сам разыскал окровавленный бешмет. А зачем? Конечно, Валий-собака, душу вынет, не поморщится. Ну, а те? Ангелы, что ли? И зачем я сунулся? Не мог в сторонке остаться?»
На глаза попалась повестка. Джамалий взял ее в руки, повертел.
«Через два дня суд. Нужно идти туда, рассказать о бешмете. Уф…»
Наконец Джамалий не выдержал, нахлобучил шапку, надел кауши и направился к двери с намерением пойти к своему другу Камалию. Но не успел он переступить порог, как в комнату ввалился сам Камалий.
— А я к тебе собрался.
— Я сам пришел. Беда…
— Что такое?
— Ко мне Сираджий приходил. Беда! — махнул рукой Камалий.
— Ну?
— Как собаку изругал и тебя и меня.
— Да ну?..
— Пришел и говорит: «Совет последние дни доживает. Душат его и англичане, и французы, и японцы. А вы, говорит, два дурака, добровольно голову на плаху кладете. С какими глазами, говорит, на базар выйдете? Что вам скажут? Сами подумайте, разве до сего дня может уцелеть бешмет, сшитый двадцать лет тому назад? Кто этому поверит? А вы, два бородатых дурака, растрезвонили по всему миру, что нашли окровавленный бешмет Валий-бая, что он убил Фахри…» Беда да и только! — вздохнул Камалий и продолжал: — «Вы, говорит, Фахри за кого принимаете? Бандит он, хулиган, коммунар. А кочегар Садык во сто крат хуже его. Вы, говорит, погубить хотите Валий-бая и спасти Садыка».
— А ты что ответил? — растерянно спросил Джамалий.
— Что же я мог ответить! Он мне и слова сказать не дал. «Развесили, говорит, уши на брехню пьянчужки метранпажа. У него все мозги свинцовой пылью пропитаны, совсем одурел человек. Если б он умный был, так его из профсовета не выгнали бы. Он, говорит, очень хотел вскарабкаться повыше, да Салахеев щелкнул его, и скатился он обратно в типографию».
— Ой, беда! Беда!
— Еще бы не беда! Вы, говорит, верите словам метранпажа, что Садык Минлибаев хороший человек, умный, в ссылке был, в тюрьмах сидел. А я его с детства знаю. Знаю, за что он отсиживал. Он был первым забиякой на заводе, первым пьянчужкой, хулиганом, бандитом. Чуть праздник — прифрантится, заломит картуз, наденет блестящие сапоги, подпояшет красную рубаху широким ремнем, возьмет в руку железную палку с набалдашником в виде молотка — и айда! Соберется их целая компания, гуляют по улицам с гармошкой. Пьют, дерутся, друг другу головы прошибают. Глядишь, вечером все в полиции. Вот, говорит, как арестовали Садыка. Хулиганил бы ты, как он, и ты познакомился бы со всеми тюрьмами. А вы, дураки, распустили нюни и ахаете. Ишь чего, говорит, выдумали! Будто Садык с «Капиталом» не расстается, даже в тюрьму эту книгу требует, а уезжает в ссылку — под мышкой ее несет. Кто же этому поверит? Вчера Мустафа со смехом мне рассказывал, что был писатель Лев Толстой, так у него в одной книге написано про такого рабочего. Оттуда и украли. Кочегар, говорит, о «Капитале» только после революции услышал, а в руки-то никогда не брал. Все это, говорит, выдумки, враки. А вы, говорит, два дурака, для этого хулигана, бандита хлопочете, окровавленные бешметы разыскиваете, Валия Хасанова утопить собираетесь. Знаешь ли, спрашивает меня Сираджий, что сделали рабочие нашего завода?» — «Нет, говорю, не знаю. — «А не знаешь, так и соваться было нечего! — крикнул он. — У нас, говорит, на заводе сорок рабочих-татар подписались под заявлением, в котором пишут: «Мы, нижеподписавшиеся рабочие-татары, просим выбрать на место кочегара Садыка Минлибаева кого-нибудь другого. Садык замарал честное имя пролетария. Он вернулся к своему прежнему хулиганству, бандитизму. Он, желая отомстить за прежние обиды, стал убивать коммунаров-крестьян, подобных Фахри. Мы верим, что такие бандиты будут исключены из партии. Мы заявляем о своем несогласии с избранием Садыка Минлибаева от нашего имени в члены горсовета». На этом заявлении подписалось сорок рабочих. Видите, говорит, куда дело клонится? А вы, говорит, идете против рабочих, защищаете бандитов, выдумываете сказку об окровавленном бешмете…» Всего, что он наговорил, не передашь, язык устанет, — закончил повествование Камалий.
— О-хо-хо! Голова кругом идет! — заскулил Джамалий. — Что-то будет? Зачем мы сунулись в это дело? Зачем не остались в стороне? Милиционер повестку принес — через два дня суд, нас свидетелями вызывают. Как быть?
Давно погас день. Давно тьма окутала город. Два друга ничего не замечали. Уже второй раз пришла дочка Камалия.
— Отец, иди домой! Обед готов. Лапша разварилась.
— Сейчас иду! — отозвался Камалий, но не тронулся с места.
Камалий и Джамалий долго обсуждали создавшееся положение.
Пробило два часа ночи.
— Пора идти, — встрепенулся Камалий. — Судьбу не объедешь.
Он ушел, а Джамалий долго ворочался с боку на бок, пока наконец не забылся тревожным сном. Всю ночь снились ему страшные сны. Вот Фахри с зияющей раной на голове. Вот Садык, не такой, как теперь, а молодой, в картузе набекрень, в блестящих сапогах, красной рубашке, подпоясанной широким ремнем, с железной палкой в руке. Он с хохотом щекочет набалдашником своей палки Джамалия, дразнит его. А вот он с мешком за плечами, с толстой книгой под мышкой, рядом солдат с ружьем. Понуро идет Садык по грязной дороге — прямо в Сибирь. Кочегар исчез. На его место встал Валий-бай. Улыбается. «Спасибо, говорит, не забыл дружбу…»
Джамалий проснулся в холодном поту, весь разбитый.
— Мать, болен я, встать не могу. Все кости ломит. Если придут, так и скажи. Я все равно на суд пойти не могу. Занедужил.
Сафура испугалась не на шутку. Взбила подушки, укутала мужа одеялом.
— А если милиционер придет, что сказать?
— Это не твое дело, — буркнул Джамалий. — Кто ни придет, всем говори: «Муж болен, с постели встать не может. Все тело ломит». Я на суд идти не могу.
Сафура выгнала детей на улицу, чтобы не шумели у постели больного, и принялась ухаживать за мужем. Напоила его чаем с молоком, покормила.
Джамалий лежал на постели, безучастный к тревоге и хлопотам жены. Он был полон страха и раскаяния. О предстоящем суде он не мог подумать без содрогания.
XXXI
Десять часов утра. Зал суда набит битком.
Нагима, расталкивая людей, с трудом пробралась вперед и остановилась около четвертого ряда, где имела нумерованное место. Там сидел какой-то красноармеец. После препирательств она отвоевала место, но не успела хорошенько усесться, как раздался возглас:
— Суд идет! Прошу встать!
Все встали. Из соседней комнаты вышли судья, заседатели и уселись за большим, крытым красным сукном столом, стоящим на возвышении. Судья Биганов поместился в середине, двое заседателей — по бокам.
Следом за ними села и публика.
Председательствующий перекинулся несколькими словами с членами суда, справился у секретаря о явке подсудимых, защитников и переводчика и, позвонив в колокольчик, сообщил о начале слушания дела об убийстве Фахретдина Гильманова.
Ввели обвиняемых, окруженных вооруженной охраной. Пять человек заняли скамью подсудимых.
По залу пронеслось какое-то движение. Глаза всех присутствующих устремились на эту пятерку, каждый из обвиняемых, имел среди публики или знакомого, или родственника, или приятеля, или врага.
Ахми и Гимадия Нагима знала издавна. Сегодня они выглядели особенно жалкими. Казалось, будто Ахми не знал, куда деть свое длинное, тощее тело. Ежеминутно вытирал он грязным рукавом гноящиеся глаза. Гимадий сильно осунулся, щеки отвисли, косые глаза ввалились. Он с растерянным видом теребил свою козлиную бороденку, сидел погруженный в раздумье. Вид Салахеева, сидевшего сзади них, показался Нагиме особенно странным. Салахеев был похож на петуха, готового ринуться в бой, — так напыщенно высокомерно окидывал взглядом он зал, будто хотел сказать, что набросится на каждого, кто усомнится в его невиновности.
Он и понуро сидевший рядом с ним Иванов привлекали наибольшее внимание переполненного зала. Совсем недавно они были товарищами, коммунистами, которым, казалось, можно было доверять. С ними приходилось иметь дело на собраниях, в советском аппарате, спорить, доказывать.
За последнее время по городу ходило много слухов. Некоторые говорили, что в этом преступлении замешаны Салахеев и Иванов, что они будут арестованы. Иные категорически утверждали, что они уже арестованы и сидят в тюрьме. Но толком никто ничего не знал. Большинство пришедших на суд впервые узнали правду, увидели все воочию и поэтому так всколыхнулись, когда в зал ввели обвиняемых.
Среди народа, заполнившего обширный зал, сидел сын Валия студент-медик Мустафа. При виде вводимых Салахеева и Иванова он встрепенулся и с надеждой подумал:
«Ага! И свои псы попались. Ну, да ворон ворону глаз не выклюет. Может, из-за них и папаша облегчение получит?»
Но какой-то внутренний голос упорно шептал:
«Нет, нет! Пустая надежда…»
Мустафа заскрипел зубами.
«И меня выгонят, собаки, свиньи!»
С тех пор как арестовали отца, Мустафа не знал покоя, все время тревожился. Особенно он боялся, чтобы его не исключили из университета. Он старался об этом не думать. До упаду играл в футбол, целые дни проводил в клинике, стараясь забыться среди дел и развлечений. Чтобы удержать в повиновении нервы, стал ежедневно обтираться холодной водой. Но ничто не помогало. Черной тенью нависли над ним убийство Фахри и арест отца. А когда Мустафа узнал, что дело имеет политическую подкладку, совершенно растерялся. Жадно перелистывая тома кодексов, невольно остановился на 58-й статье. Увидев, что эта статья предусматривает контрреволюцию, он окончательно упал духом и потерял всякую надежду. Наступили бессонные ночи.
«Проклятие миру, истории! Зачем я живу в эпоху революции? Зачем я родился на этой проклятой земле?» — метался он.
Чуть мелькала малюсенькая надежда:
«Ведь я на четвертом курсе, к тому же татарин. Может, примут во внимание? Может, это спасет меня?..»
С такими думами пришел Мустафа в зал суда. Полный самых мрачных мыслей, которых не в силах был рассеять проблеск надежды, встретил он отца.
Суд шел своим чередом. После обвиняемых вошли свидетели. Председатель, объяснив им их права и обязанности, напомнил об ответственности за ложные показания.
Нагима с особым вниманием оглядела кучку байраковцев. Вот маленький пионер Самад, седой Джиганша, длинноусый Шенгерей. Сзади них кряшен Биктимир Вильданов, он же Иван Панкратов, одетый как русский. Рядом с ним четвертая жена Абдуллы-ишана, кокетливая Карима, со своим хромым мужем, инвалидом Самигуллиным. Позади всех Шарафий, кочегар Садык, метранпаж Гайнетдинов. Появление каждого из них вызывало в зале шепот, взгляды, замечания.
Не было только Низамия и дау-муллы.
Защитник Валия Хасанова, старый адвокат Арджанов, решил открыть бой с самого начала. На заявление председателя о неявившихся свидетелях он поднялся с места:
— Эти свидетели занимают центральное место в расследовании дела Хасанова. Без них нельзя начинать слушание дела.
Адвокат говорил долго, хотя в душе и сознавал неубедительность своих доводов. Но, зная, что судья Биганов считался большим законником и формалистом, старался использовать этот момент, чтобы иметь в дальнейшем некоторую зацепку.
Прокурор Ансаров, молодой юрист, сразу раскусил хитрость старой лисы.
— Мы имеем известие от дау-муллы Фаридель-Гасры, — решительно сказал он. — Он пишет, что вместе с муфтием[91] ожидает приема у Калинина. Если прием состоится сегодня, завтра он будет здесь, а если нет, просит зачесть письменные показания, данные Паларосову. Как видите, здесь нет мотива для того, чтобы отложить дело. Что касается свидетеля Низаметдина Худжабаева, то он в настоящее время лежит в приступе малярии. Как только приступ пройдет, он явится сюда. Поэтому я считаю, что суд не может быть отложен.
Суд после небольшого совещания постановил продолжать слушание дела, не дожидаясь явки двух свидетелей.
Выполняя остальные формальности, судья опросил каждого из обвиняемых об их имени, фамилии, профессии, возрасте, семейном и социальном положении.
После этого секретарь приступил к чтению обвинительного акта.
Чтение длинного, подробного обвинительного заключения утомило публику. Многие, еле сдерживая зевоту, мечтали выйти в коридор покурить. Но для Мустафы это был огненный документ. Он снова увидел жизнь отца. Звучный голос секретаря перенес его в совхоз, где он явственно увидел нескончаемую борьбу между отцом и большевиком-коммунаром Фахри. Вдруг он встрепенулся.
— «Это не борьба двух личностей. Это проявление классовой борьбы в деревне», — читал секретарь.
Мустафа не понял; будто пробуждаясь от сна, он мысленно рассуждал:
«Что за чепуха? При чем тут социализм? Какой социализм может быть в темной татарской деревушке, где азбука — китайская грамота, где ничего, кроме неуклюжей сохи, не видели? Какой абсурд!»
Так думал Мустафа, но не мог долго сосредоточиться на своих мыслях. Голос секретаря увлек его дальше. Секретарь читал, как в совхозе под руководством Валия Хасанова нарушались советские законы. Потом перешел к освещению политического момента и наконец остановился на преступлении, выросшем на этой почве, — на убийстве Фахри.
Зал встрепенулся, сонливость исчезла.
Все с напряженным вниманием слушали трагедию убийства большевика.
XXXII
Чтение окончилось.
Договорившись со сторонами о порядке ведения дела — хозяйственный, социальный момент, убийство, — председатель, с трудом передохнув после приступа кашля, обратился по отдельности к каждому обвиняемому:
— Признаете ли вы себя виновным?
Допрос начался с Валия Хасанова, виновника хозяйственных преступлений, имевших место в совхозе «Хзмет».
Валий-бай не обладал красноречием или ораторским искусством, но он мог вполне ясно рассказать об испытанном и пережитом. Свое повествование он начал с момента поступления на службу:
— Покойный Джамилев сказал мне: «Мы знаем, что ты наш противник. Но теперь Совет берет на работу даже колчаковских и деникинских генералов. Дело не в том. Даешь ли ты слово честно работать?» Я дал слово и в душе поклялся не нарушать его. Джамилев приказал: «Вот тебе совхоз, в три года поставь его на ноги. Не сумеешь — мне на глаза не показывайся. Твое место будет в тюрьме». Я согласился и с этим. Так я приступил к работе в совхозе «Хзмет» и в четыре года сделал его образцовым по всему побережью Волги.
Такое начало показалось старому адвокату Арджанову очень уместным. Довольный, он дождался окончания речи Хасанова и, с разрешения председателя, стал задавать вопросы:
— Скажите, — начал он, — сколько десятин посева имел совхоз «Хзмет» в момент вашего приезда туда и сколько теперь? Сколько имелось тогда скота и сколько теперь?
Валий Хасанов обрадовался.
— К моему приезду в совхозе имелись забытая смертью кобыла, два старых мерина, один вшивый, линялый жеребенок и четыре яловые овцы. Это был весь живой инвентарь совхоза. Посев был не лучше. Четыре десятины кое-как вспаханной, будто под пьяную руку, земли были засеяны рожью, но вьюнков и остреца там было больше, чем злаков. Немного проса, две десятины пшеницы, заросшей куколем, и еще одна полоска земли, сплошь покрытая плевелами, так что не различишь, овес это или просо, — вот все богатство. Откровенно нужно сказать, Совет много помог. Выдавал все, что имел. Я работал не меньше восемнадцати часов в сутки. Через четыре года мы пришли к таким результатам. Теперь в совхозе имеется до ста голов скота, считая и мелкий. Из них двенадцать рабочих лошадей, несколько черкасских баранов, которыми пользуются окрестные крестьяне для улучшения породы овец, холмогорские быки и племенные жеребцы. Я перешел на многополье. Я первым применил трактор. Мои машины обрабатывают крестьянские поля. Я ежегодно по минимальной цене продавал сортированные семена. К моменту моего приезда дом совхоза скорее походил на заброшенную собачью конуру. В помещичьем особняке завывал ветер. Все окна были выбиты, двери сорваны, лестницы сломаны, полы разворочены. Крыши совсем не было. От хозяйственных пристроек оставались одни остовы. Изгородей, заборов также не было. Жутко было смотреть на царившее там разрушение. А сейчас не узнаете. В четыре года я все восстановил, отремонтировал, выкрасил. Теперь дом стал как игрушка.
Многим из присутствующих похвальба Валия Хасанова показалась навязчивой. Прокурор решил выявить оборотную сторону медали и, отложив временно допрос Хасанова, попросил вызвать свидетеля Гайнетдинова.
Гайнетдинов в период своей работы в профсовете обследовал жизнь рабочих совхоза «Хзмет».
— Что вы знаете по этому поводу? — обратился к нему председатель.
— Вот что я видел там, — начал Гайнетдинов. — Тотчас после приезда я направился в жилые помещения рабочих. Их пища состояла из недопеченного ржаного хлеба, чая без сахара, со снятым молоком и какой-то бурды. «Мы, — сказали они, — мясной обед видим только в два годовых праздника». Голые доски, покрытые грязью и пылью, заменяли им постель. Спецодежды никакой не имелось. Рабочие заявили, что трудятся по пятнадцати-шестнадцати часов в сутки, а если кто пробовал возразить, того немедленно выгоняли. Рабочие мне жаловались. «За нас, — говорили они, — хлопочет Фахри. Он и в город сообщал, да толку не вышло. И там, во главе дела сидят защитники Хасанова». Вот это одно!
Гайнетдинов умолк, взглянул на председателя и, не дожидаясь приглашения, продолжал:
— За четыре года «Хзмет» заметно оправился. Это верно. Но здесь, как говорится, подводя бровь, вышибли глаз. Я в молодости был крестьянином и такие дела хорошо понимаю. Валий Хасанов, действуя через своих агентов, работающих в земотделе, выкачал оттуда для «Хзмета» все богатство. Когда разорились два ближайших совхоза, значительная часть их имущества была передана в «Хзмет». «Хзмет» получил дотацию, причитающуюся четырем совхозам. Каждый вновь прибывающий трактор заполучал «Хзмет». Взвыли все совхозы. Стали раздаваться жалобы, что Валий Хасанов заодно со спецами по земельному делу, действуют с какой-то задней мыслью. Если совхоз «Хзмет» и был первым, то он добился этого положения за счет разорения других совхозов. Валий-бай везде хвастался своей работой, а ревизия показала множество вопиющих фактов. Вот это два!
Зал, слушавший с напряженным вниманием, рассмеялся над последней фразой Гайнетдинова. Председатель призвал присутствующих к порядку.
Гайнетдинов продолжал:
— Ознакомившись с этими шипами, скрытыми под видимым процветанием, я повел беседу с самим Валий-баем. «Как дела?» — спрашиваю. «Трудно, — отвечает он. — Со всех сторон ножки подставляют». — «Кто?» — «Да все». По его словам выходило, что и ячейка, и профсоюз, и газета, а больше всего Фахри ножку подставляет. Это вам три!
Есть и четвертое.
Бедняки-татары из соседней деревни организовали две маленькие артели — каменщиков и плотников. Валий Хасанов, минуя их, давал работу кулаку. «Почему?» — спрашиваю. А он отвечает: «Справиться не могут, работают плохо, цены берут высокие, к сроку не выполняют. А кому пожаловаться, кто начальник — неизвестно. Четыре года с кооперативом дрался». — «Почему?» — «Дело с ними не выходит. Закажешь что — не исполняют, дашь продать — деньги в срок не сдают». Вот все, что я хотел сказать, — закончил Гайнетдинов.
По показаниям Хасанова и Гайнетдинова разгорелся бой. Старый адвокат приложил все свое умение, чтобы задать выгодные для Хасанова вопросы. В свою очередь прокурор Ансаров закидал Гайнетдинова вопросами, которые беспощадно разоблачали заведующего совхозом.
Показания метранпажа длились более часа. Наконец, измученного и усталого, его отпустили. Место метранпажа занял Шенгерей.
Это был типичный крестьянин, в старых сапогах, бешмете, с тюбетейкой на голове, с подстриженной бородкой, длинноусый. Большие, огрубелые от работы руки, обветренное лицо, опаленное солнцем. С напряженным вниманием слушал он председателя, не отрывая взор от длинного, покрытого красным сукном стола, стоящего на возвышении.
— Шенгерей Тимеркаев, что вы знаете по этому, поводу?
— Что знаю! Своими глазами видел я четыре куриные головы!
— Какие куриные головы?
— Приезжал Салахеев. Пробыл три дня, три ночи. Три дня и три ночи пил без просыпу, в баню ходил, свежим березовым веником парился. Три дня угощали его курятиной. Четвертую курицу на дорогу сварили. Как видите, четыре получается.
По залу пробежал смешок.
Председатель предупредил шумевших, что они будут удалены из зала, и обратился к Шенгерею:
— Для чего вы им вели счет?
— Не я, Ахми считал. Пусть скажет. Он связал четыре головы и со смехом таскал их.
— Ахмед Уразов, — обратился председатель к обвиняемому, — для чего вы собирали куриные головы?
Ахми встрепенулся, обтер рукавом гноящиеся глаза, зашнырял взглядом по залу и запинаясь ответил:
— Так… в шутку…
— Что еще знаете? — спросил Биганов Шенгерея.
— Еще о перваче знаю.
— Что это такое? — задал вопрос Ансаров.
— А видишь ли, самогонка бывает всякая. Есть первосортная. И на вкус хороша, и запаха почти нет. У нас на Волге ее первачом называют. Совхоз был гостеприимный. Гостил там и дау-мулла, и Федор Кузьмич провел три ночи, о Низамии и говорить нечего. Всех их кормили, поили. Салахеев, видно, выпить любил. Запасов, припасенных Валий-баем, не хватило. На третью ночь привезли из соседней деревни первача. Ездил за ним Ахми.
— Ахмед Уразов, ездили ли вы за первачом?
Опустив голову, чуть слышно отозвался Ахми:
— Я нанятой человек, разве могу ослушаться приказа?
— Ахми говорил, — продолжал Шенгерей, — что если к баю бай приедет, то и работнику в рот масло капнет. Он говорил, что на донышке бутылки для него всегда влага остается.
Прокурор хотел задать ему вопрос о Салахееве, но один из заседателей, представитель Рабземлеса, опередил его:
— Скажи, сколько собраний провел Салахеев с рабочими совхоза?
— Одно, — резко ответил Шенгерей. — Всего одно собрание. Я сам плотник, меня иногда брали на поденную работу. Я был на собрании, которое созвал Салахеев. Один рабочий сказал ему: «Когда вернешься в город, скажи там, что у нас собачья жизнь. Слово сказать нельзя — гонит». Салахеев ответил на это большой речью. «Товарищи, — сказал он, — ругаться нельзя. Сейчас капитализма нет, все наше. Нам нужен контакт. Нужно работать сообща». Не выдержал я, крикнул: «Уж не под дудку ли Валий-бая пляшешь ты?» Стал я к нему привязываться, но он пригрозил мне и заставил замолчать.
Не успел Шенгерей произнести последние слова, как поднялся Салахеев и, не дожидаясь разрешения председателя, крикнул:
— Нет, неверно! Я не угрожал ему!
Председатель позвонил в колокольчик и с ударением сказал:
— Никто, никогда, ни по какой причине не имеет права говорить без разрешения председателя. Вы, Салахеев, как и все обвиняемые, имеете право говорить и оправдываться, но с одним условием — сначала должны получить на то разрешение. Прошу всех твердо об этом помнить.
Получив разрешение, Салахеев стал рассказывать о своей поездке в «Хзмет». Он подробно остановился и на четырех курицах, и на перваче.
Нагима с интересом слушала объяснения Салахеева. Но вот сзади, от входных дверей пошла по рядам записка с надписью: «Нагиме Минлибаевой». Записка дошла до красноармейца, который в начале заседания ошибочно занял место Нагимы, а теперь сидел сзади нее.
Он осторожно толкнул Нагиму в плечо.
— Кажется, вам?
Нагима поспешно схватила записку. Сердце сжалось от какого-то предчувствия. Как ужаленная, она вскочила.
Записка была от сына.
«Мама, возвращайся скорее. Фатыха захворала. Ее все время рвет».
Нагима, расталкивая людей, кинулась к выходу. Салахеев говорил о ревизии совхоза, о работе Хасанова, сделавшей «Хзмет» примерным на всю Волгу, но Нагима не слышала его слов. Она торопилась к больной дочурке.
XXXIII
Шестимесячная Фатыха утром была совершенно здорова. Вернувшись из суда, Нагима ахнула — ребенок побледнел, осунулся, дышал с трудом.
Нагима заметалась.
— Недоглядели без меня! Вот и поручай вам ребенка! — накинулась она на старуху, домовничавшую с ребятами.
Но ребенку от этого не стало лучше. Он продолжал стонать, ничего не ел, а если давали через силу, тут же его рвало.
«Обкормили какой-то гадостью», — решила Нагима и, завернув Фатыху в теплое одеяльце, побежала с ней в консультацию.
Пожилой доктор, посвятивший всю свою жизнь детям, умел обращаться с ними лучше матерей. Он внимательно осмотрел Фатыху и сказал Нагиме:
— Опасности нет. Вы вовремя спохватились… Ребенка напоили сырым молоком от больной коровы. Закажите по этому рецепту лекарство. До прекращения рвоты поите рисовым отваром и разбавленным в воде яичным белком.
Прямо из консультации Нагима пошла в аптеку, заказала лекарство, упросила приготовить его вне очереди и вернулась домой.
Живо разожгла примус, поставила воду, разболтала белок, дала, чайную ложку ребенку. С трепетом стала ждать: «Что будет? Вырвет или нет?»
Прошла минута, другая. Дала еще ложку. Ребенок оставался спокойным, рвоты не было. Нагима с облегчением вздохнула. Ребенок раскрыл запекшиеся губы, будто прося воды. Мать снова дала испить. Ребенок заснул. Нагима прикрыла его одеяльцем, посадила около него старуху, а сама принялась кипятить рисовый отвар. Ежеминутно отрывалась она от приготовления отвара, чтобы взглянуть на малютку.
Прошел час. Ребенок с плачем проснулся, но скоро успокоился и стал улыбаться. Это было хорошим признаком. Нагима обрадовалась и, уверенная в пользе режима, прописанного врачом, стала поить больную девочку рисовым отваром. Фатыха морщилась, но пила. Видя, что опасность миновала, Нагима, поручив ребенка старухе, пошла в аптеку за лекарством.
Лекарство еще не было готово.
— Зайдите через сорок минут, — равнодушно ответили Нагиме.
— Но ведь это спешное, там больной ребенок лежит, — попробовала возразить она.
Не помогло. Стала спорить.
— Все больные, все ждут, — заявили ей.
Домой возвращаться было далеко, и Нагима решила зайти к Шарафию, живущему поблизости.
Бывшие номера Козлова, теперь Первый Дом Советов. На втором этаже, в комнате 32, живет Шарафий.
Нагима поднялась по широкой лестнице, прошла длинный коридор и остановилась у стеклянной двери с номером «32». Только что она протянула руку, чтобы открыть ее, как дверь распахнулась и из комнаты торопливо вышла молодая женщина. Нагима подалась назад. Женщина в синей юбке, такой же блузке, с красным платком на стриженой голове звонко расхохоталась:
— Чуть лбы друг другу не прошибли! Вы к кому? К нам?
Нагима удивленно посмотрела на женщину.
— Я к Шарафию.
Женщина повернула стриженую голову и крикнула:
— Шарафий, к тебе гостья!
Показался улыбающийся Шарафий.
— А, Нагима-апа! Добро пожаловать! У меня, кстати, байраковцы сидят. — И, видя недоуменные взгляды женщин, добавил: — Вы что? Иль незнакомы? Позвольте представить: эта стриженая женщина — мой товарищ Медина.
— Разве ты женат? — удивленно спросила Нагима.
Женщины поздоровались.
— Вы меня простите, я очень спешу, — сказала Медина и хотела уйти.
— Постойте, — удержала ее Нагима. — Дайте хоть посмотреть на вас. Ведь ваш муж наш близкий приятель.
— Знаю, знаю, — улыбнулась Медина. — Шарафий много говорил о вас. Я от ревности чуть не плакала… А все же отпустите. В пять часов собрание. Из-за него, — она с усмешкой кивнула на мужа, — я и так два раза получила замечание. Мы как-нибудь вдвоем придем к вам в гости.
Но Нагима не выпускала ее руку.
— Погодите минутку! Когда же все это произошло?
— Да уж так, — улыбнулась Медина. — Наша история короткая: познакомились, полюбили, поженились. Подробности Шарафий расскажет.
Со смехом выдернула она руку и побежала по коридору.
Шарафий ввел гостью в комнату.
Там за столом сидела целая компания мужчин и женщин. Лица у всех были обветренные, загорелые, большие руки огрубели от тяжелой работы, движения носили следы пережитых-невзгод.
Это все байраковцы. Они явились на суд, требуя возмездия за кровь Фахри. Шарафий пригласил их на обед.
Комната имела не совсем обычный вид. На кровати, поверх чистого голубого одеяла, навалена груда старых чекменей, поношенных бешметов, войлочных шляп. На подоконнике брошены чьи-то шинель и шапка. Книги, бумаги, газеты и журналы, лежавшие обычно на письменном столе, свалены в одну кучу на этажерке. Письменный, стол выдвинут на середину комнаты вместе с маленьким столиком. На белой скатерти расставлены тарелки, закуски, а посредине стоят две большие миски с пельменями. Обед только что начался.
XXXIV
— А, вот оно что! Узнали теперь! Не отвертишься! Видим, как ты к посторонним мужчинам в гости ходишь! — со смехом крикнул Шенгерей Нагиме.
На почетном месте за столом сидела Айша. Она похудела, осунулась, веснушки стали еще более заметны, лицо обветренное. На ней было лучшее из ее платьев, которое она надевала только в исключительных случаях. На голове белый платок. При входе Нагимы она была занята — разливала суп. Увидев Нагиму, поднялась с места.
— Голубушка, видно, с хорошими намерениями пришла, если к началу обеда поспела. Иди садись рядом со мной.
Нагима, поздоровавшись со всеми, обратилась к Шенгерею:
— Ты лучше помалкивай. Мы с тобой вроде пустых бутылок — никому не нужны. Видел? Вместе хлеб-соль делили, вместе радовались, вместе печалились, а он неведомо когда жениться успел. Сейчас у двери чуть лбами не стукнулись с его женой. Знаешь, что она мне сказала? «Познакомились, полюбили, поженились». Что ты на это ответишь, Джиганша-бабай?
Старик рассмеялся. Тем временем Шенгерей достал из-за этажерки бутылку водки и, приговаривая: «Без водки грешно есть пельмени», вышиб пробку.
— Покажи пример, хозяин! — продолжал он, протягивая Шарафию полную чашку.
Шарафий неторопливо взял соленый огурец, луку, посолил ломтик черного хлеба и залпом выпил протянутую чашку.
— А ну-ка, Джиганша-бабай, вспомни молодость! Разомни косточки!
— Давно не пил. Пройдет ли? — отозвался Джиганша, сделав глоток.
Все со смехом стали поощрять его. Джиганша погладил бороду, усмехнулся и заговорил:
— Эх, в молодости выпивали мы с башкирскими парнями! Был у меня приятель Алимгул. Умер он в весеннее половодье, когда сплавляли плот. Голос был у покойного замечательный. Как увидит, бывало, водку, затянет:
Такая уж манера у Джиганши. Не скоро остановишь поток его речей. Гости принялись за еду, а старик, погруженный в воспоминания, продолжал рассказ:
— За год до смерти сплавил Алимгул по Сакмаре плот и возвращался из Оренбурга домой, а я поехал на Урал, чтобы наняться там каменотесом. Встретились мы с ним в какой-то деревушке. Обрадовался он, обнял меня. «Видно, плохи у тебя дела, Джиганши-агай[92], — сказал он. — А ну-ка, угощу я тебя!» Принес он две бутылки, сварили нам жирную колбасу, и всю ночь кутили мы то с песнями, то со слезами. Голос был у него могучий, красивый, за душу хватал. А когда пел под курай[93], горы внимали. Видно, чуяло его сердце скорую смерть. Всю ночь пел он одну песню:
С этой песней и заснул. Утром мы распрощались и больше уже не встретились. На следующую весну узнал я о смерти Алимгула.
— Выпей же, Джиганша-бабай, в память своего друга. Остальные ждут, — перебил его Шенгерей.
Старик поднес чашку ко рту, сделал несколько глотков и остановился.
— Нет, не идет! — и отодвинул недопитую чашку.
Нагима и Айша не пили. У Шаяхмета было большое желание, щекотавшее горло, но он удержался. Два месяца тому назад он сильно выпил с приятелями. Опьянел, как свинья. Не сознавая окружающего, выбежал утром без рубашки и брюк на улицу, пытался пройтись по забору, чуть не сломал себе шею. За это попал в контрольную комиссию и получил хороший нагоняй. Помня это, не пил и сейчас.
Шенгерей его не упрашивал, а разделил оставшуюся водку между собой и Шарафием.
— Ладно, ладно… Люблю я непьющих! — пошутил он, ставя под стол пустую бутылку.
Когда голод был утолен, Нагима обратилась к Джиганше:
— Бабай, почему ты мне ничего не ответил?
— А что отвечать? — усмехнулся Джиганша. — Времена такие.
Снова погрузился старик в воспоминания:
— Четыре месяца тянули мы баржу от Нижнего до Астрахани. Тогда еще были бурлаки. В четыре месяца справил я одежду, положил в кошелек двадцать целковых. У меня еще тогда отец с матерью живы были. Сосватали они мне девушку из соседнего села, а у меня и не спросили. Никто не сказал мне, хочешь ли, мол, жениться, люба ли она тебе. Я через других услышал, что хотят меня женить.
Шенгерей чокнулся с Шарафием, выпил, крякнул.
— Ну, а дальше?
Старик не спеша продолжал:
— Расспросил я, кто моя суженая, и решил посмотреть ее. Интересно ведь знать, какая она из себя. Ночь темная, осенняя. Взял я с ночного чью-то лошадь, вскочил верхом и поскакал в село невесты — Шелангу. Ночь хоть глаз выколи, а я еду. Только подкрался к окну, как хватят меня сзади дубинкой. Думал, дух из меня вон. Поднялся шум. Залаяли собаки. Насилу ноги унес. Две недели руку поднять не мог. На плече синяк, что твоя ладонь. Вот как нас женили!.. А Шарафий что! Они нонешние!
— Неужто и ты, Нагима, ничего не знала? А ведь мы думали, что ты на свадьбе пировала, — вмешалась в разговор Айша.
Нагима махнула рукой.
— Как же, пировала! Только сейчас узнала.
За чаем гости стали требовать, чтобы Шарафий рассказал историю своей женитьбы. Но он не любил и не умел много говорить. Рассказ вышел короткий.
Два года тому назад, посещая кружок марксизма, они сильно поспорили на докладе по диалектическому материализму. Спорили долго, горячо. С этого началось знакомство, стали встречаться, полюбили друг друга и вот уже неделя, как женились. Таков был роман Шарафия.
Рассказ не удовлетворил Нагиму. Она хотела знать подробности и собиралась их выпытать у несловоохотливого Шарафия, но, вспомнив о времени, вскочила и заторопилась. Ее пытались удержать.
— Нет, не могу. Ребенок заболел. Пока в аптеке готовили лекарство, решила забежать к тебе, — объяснила она.
Перед уходом пригласила всех назавтра в гости.
— Все приходите. А ты, Шарафий, Медину приведи. Не годится без молодой жены гулять.
— А водка будет? Нет, так не пойду, — пошутил Шенгерей.
Но Айша перебила его:
— Голубушка, ведь у тебя ребенок хворает. Лучше мы послезавтра придем.
Но Нагима не соглашалась: ребенок выздоравливает, и она успеет приготовиться.
— Что же это ты, Нагима, заглянула на минутку и уходишь? Как дела Садыка? Почему о нем ни слова не говоришь? — остановил ее Шенгерей.
— Ах, и не спрашивай! Тяжело ему!
— Почему?
— Мается с четырнадцатым заводом имени Ямашева. Пока он сидел, директор захворал. Подоспели платежи. На сорок тысяч векселей накануне протеста. Банк отказывает в кредите. Несколько тысяч пудов мыла и свечей, посланных по заказу, прибыли обратно. Говорят, не соответствуют заказу. Материалы поступают — выкупить нечем. Рабочим зарплата не выдана. За два месяца соцстрах не уплачен. С одной стороны, оттуда теребят, с другой — профсовет требует не задерживать выплату зарплаты.
— Что же он думает? Неужели лопнут?
— Нет, до этого не допустит. Дни и ночи хлопочет, домой не показывается. «В голове, говорит, планов масса». О пролонгации толкует. Не сегодня-завтра судьба решится.
Разговор о Садыке затянулся. Потом Айша обратилась за советом:
— Всякий раз в город не приедешь. Посоветуйте, куда устроить моего пионера Самада. Фахри покойный его в фабзавуч определить хотел.
— Пусть наш ученый человек посоветует, — сказал опьяневший Шенгерей, указывая на Шарафия.
— Устроим, — спокойным голосом отозвался тот. — Я скажу и кочегару и Василию Петровичу. Обычно деревенских детей помещают в школы крестьянской молодежи, но я думаю, что его удастся пристроить в фабзавуч.
Шарафий прибавил, что и там имеются интернаты. Все приняли живое участие в обсуждении этого вопроса. Незаметно, под шумок, Нагима и Айша вышли из комнаты.
У них, выросших в одной деревне, связанных узами крепкой дружбы, было много того, о чем не хотелось говорить в присутствии посторонних. Они стали ходить по длинному коридору, изливая друг другу все, что накопилось в душе за последнее время. Когда разговор зашел о Фахри, Айша не выдержала, всплакнула и, утирая слезы, сказала:
— Так-то, голубушка. Что имеем — не ценим. Внешне-то я спокойна, а сколько бессонных ночей провела, одна я знаю.
Снова полилась беседа, где радость смешивалась с горем, где слова текли нескончаемой струйкой. Наконец Нагима, в упор смотря на подругу, спросила:
— Не рассердишься? Спросить тебя хочу. Уж давно об этом думаю… Не собираешься ли вторично выйти замуж?
Айша улыбнулась сквозь слезы.
— Нет, голубушка, нет! Вот устрою старшего сына, возьму старуху за младшим присматривать и примусь за работу…
— За какую работу?
Айша рассказала о приезде Шакира Рамазанова, о намерении волостного комитета назначить заведующим совхозом «Хзмет» председателя Байрака, на его же место взять Шенгерея, а работу последнего передать ей.
— Ты согласилась?
— И я и Шенгерей попробовали протестовать, да он и слышать не хочет, говорит: «Это не мое дело, а волостного комитета. Приготовьтесь впрячься в работу».
Многим, очень многим нужно было поделиться подругам. Разговорам не предвиделось конца. Показался подвыпивший Шенгерей.
— Секретничаете? Ну, валяйте, валяйте! — погрозил он пальцем.
Женщины вернулись в комнату. Там прибавился новый гость — сын Шенгерея Сабит, мальчик лет тринадцати. Перед ним стояла полная тарелка пельменей. Он с аппетитом уплетал их, не переставая в то же время тараторить. Речь шла о споре между ним и Шаяхметом.
— Да ведь? Да ведь, Шарафий-абы? — горячился мальчик. — Правду я говорю? Я три года был октябренком. Сейчас пионер. Да ведь? Через четыре года перейду в комсомол.
— Так, так, — кивнул головой Шарафий. Мальчик продолжал:
— Потом… потом… поработаю комсомольцем и вступлю в партию. Да ведь? Если я буду активистом, так меня в двадцать два года переведут в партию. Так ведь? А Шаяхмет-абы говорит, что все равно до двадцати четырех лет меня в партию не возьмут. Ведь это неправда? Ведь, если я буду активистом, меня раньше возьмут? Да ведь?
Шарафий улыбнулся и толково разъяснил пионеру порядок. Мальчик, видя, что его слова не совсем ошибочны, весело расхохотался.
— Чья правда, Шаяхмет-абы? А?
От радости Сабит забыл и про пельмени. Нагима с восхищением смотрела на мальчугана.
— Поешь хорошенько, спорить потом успеешь, — сказала она.
Взглянула на часы. Было около пяти. Нагима торопливо распрощалась, повторила приглашение, а Сабиту сказала особо:
— У меня тоже есть пионер и октябренок. Приходи завтра вместе с отцом. Будете играть.
— Приду, приду!
Нагима ушла. Гости остались допивать чай.
— И нам, наверно, пора, — поднялся Джиганша.
Все оделись и направились в суд.
XXXV
Ребенку стало гораздо лучше. Он улыбался, вертел головкой. Нагима, поручив его старухе, принялась за уборку.
Дом, в котором жила Нагима, принадлежал прежде какому-то банкиру. После революции он был национализирован, а теперь уже третий год жильцы, занимающие все десять квартир, создали жилищное товарищество. Дом стал называться «Жакт № 8». Организовал товарищество Садык и целый год вел все дела. Теперь председателем был избран портной Мусин.
Минлибаевы занимали квартиру в три комнаты с кухней. Постепенно обзавелись кое-какой обстановкой.
Нагима принялась за дело. Стол с утра стоял неубранным, грудой лежали на нем чашки, тарелки, хлеб, яичная скорлупа. Нагима начала с него. Вынесла сор, вымыла посуду, расставила ее в буфете, переменила скатерть. Потом перешла к постелям. Оправила подушки, одеяла, развесила одежду, вытерла сырой тряпкой пыль, подмела пол. Комната приняла опрятный вид.
Покончив с этим, Нагима перешла в кабинет мужа.
В последнее время Садык дни и ночи отдавал своей работе. Придя домой, он торопливо закусывал, разыскивал какие-то материалы, перерывал все бумаги и, не успев убрать их, снова уходил. Дети дополняли беспорядок. Очевидно, они усердно рассматривали иллюстрированные журналы.
Зайдя в комнату, Нагима ахнула. Над письменным столом, казалось, пронесся ураган — до того там все перемешалось. Часть бумаг валялась на полу, книги лежали раскрытыми.
Дети сняли со стены портреты Вахитова и Ямашева и, очевидно, решили перевесить их на другое место, но не докончили начатого дела и портреты так и остались висеть на одном гвоздике. Около этажерки на полу лежала целая куча книг, которые Садык забыл поставить на место.
Нагима, стараясь не нарушать порядка расположения книг и бумаг, убрала стол, этажерку, потом перешла к большому книжному шкафу. Садык любил собирать книги, их у него было много.
В первые годы революции каждая конференция, каждый съезд, происходивший в Москве или Казани, обогащал его библиотеку, так как книги раздавались в виде подарка. Да и купить их было нетрудно — они стоили очень дешево. И вот Садык, никогда не разлучавшийся с потрепанным томом «Капитала», обзавелся неплохой библиотекой, где имелись сочинения Маркса, Энгельса, Ленина, Плеханова, много книг по истории партии и революционного движения, стенографические отчеты съездов. Ими был наполнен большой дубовый шкаф.
Дети не интересовались шкафом, так как там не было книг с картинками, и потому он содержался в порядке.
Неожиданно раздался звонок. Нагима пошла открывать дверь. Это были Садык и Василий Петрович. Велев кучеру обождать, они вошли в дом.
Садык прямо прошел в кабинет. Царивший там за последнее время беспорядок угнетал его. При виде прибранной комнаты он обрадовался и, улыбнувшись жене, сказал:
— Вот хорошо! Нашла-таки время заняться моим кабинетом!
Он усадил Василия Петровича, достал из ящика стола кипу бумаг.
У Нагимы в кухне кипел самовар.
— Вы так редко бываете у нас, — обратилась она к Василию Петровичу. — Не хотите ли чаю?
Садык махнул рукой.
— Оставь, пожалуйста, мы торопимся!
Но Василий Петрович поддержал Нагиму:
— Зачем кричишь? Среди дела неплохо чайку выпить.
Обрадованная Нагима отодвинула кучу газет, накрыла освободившийся угол стола белой салфеткой, принесла сотовый мед, хлеб, чашки горячего чая и, закрыв за собой дверь, вышла в соседнюю комнату.
Садык, помешивая ложкой чай, выбрал из пачки бумаг какой-то документ и стал читать:
«Мы, нижеподписавшиеся рабочие-татары, просим выбрать на место кочегара Садыка Минлибаева кого-нибудь другого. Садык замарал честное имя пролетария. Он вернулся к своему прежнему хулиганству, бандитизму. Он, желая отомстить за прежние обиды, стал убивать коммунаров-крестьян, подобных Фахри. Мы верим, что такие бандиты будут исключены из партии. Мы заявляем о своем несогласии с избранием Садыка Минлибаева от нашего имени в члены горсовета».
Садык прочел по-татарски и тут же перевел на русский язык. Снизу текста столбиком стояли порядковые номера. Их было сорок.
Садык усмехнулся.
— Это заготовлено для подписей рабочих.
Василий Петрович несколько лет работал в контрольной комиссии. За это время ему пришлось расследовать немало интриг. Прочитанный документ заставил его улыбнуться, так как показался сделанным неопытной рукой.
— Как он попал к тебе? — спросил Василий Петрович, закуривая.
— Знаешь брата Гайнетдинова Хабиба?
— Знаю.
— Он дал.
— А он откуда взял?
— История этого документа такова. В первые же дни моего ареста Сираджий заготовил эту бумажку и дал ее Гисман-абзы для сбора подписей среди беспартийных рабочих-татар. Случилось так, что Гисман-абзы заболел, попал в больницу и эта бумажка все время пролежала в кармане его бешмета. Он вчера выписался из больницы, встретил Хабиба и сказал ему: «Передай эту бумажку кочегару или Василию Петровичу, да так, чтобы никто не видел». Так эта бумажка попала ко мне. Возьми ее и делай что хочешь.
Василий Петрович лег с папироской на диван и, улыбнувшись, сказал:
— А знаешь? Ведь в этом деле и я виноват.
Садык привскочил от неожиданности.
— Каким образом?
— А вот слушай. Этот Сираджий подал заявление в партию. Гайнетдинов и говорит мне: «Не занимайся глупостями, вычеркни эту собаку». — «Почему?» — спрашиваю. «У него, говорит, прежде лавка была. Во время войны он, кажется, вел тайную торговлю спиртом. Он с добром к нам не придет».
Задумался я. Постой, думаю, ведь он татарин. Партия велит по отношению к татарам, вообще к нацменьшинствам, быть особенно внимательным. Решил я лично переговорить с ним. Вызвал его и без обиняков спрашиваю: «Лавку имел? Тайно спиртом торговал?» Не смутился Сираджий, не испугался. «Ты, говорит, Василий Петрович, уважаемый пролетариатом человек, я тебе все сердце раскрою, ничего не утаю. Годен я — примете в партию, не годен — выгоните. Относительно лавки есть доля правды. Однажды попало ко мне в руки тридцать рублей. Продал я женины побрякушки, что она в приданое принесла, выручил пятнадцать целковых. На двадцать пять рублей получил кредит. На эти деньги открыл я в татарской слободке нищенскую лавочку. Не успел поторговать и двух месяцев, как одна богатая фирма открыла на этой же улице большой магазин. Место показалось им бойким. Села моя лодка на мель. Ухнули и тридцать рублей и женины украшения, да еще в придачу самовар и зеркало описали. Посла этого раза я за торговлю не принимался. Служил в конторе у Валий-бая. При Советах всегда работал в кооперативе». — «А тайная торговля спиртом?» — «Чистейшая, говорит, ложь! Никогда в жизни и в помыслах не имел. Ты, говорит, Василий Петрович, отлично знаешь, царь Николай притеснял татар, нас в то время в школы не принимали, на фабриках, заводах к квалификации близко не подпускали. Если и теперь, при Советах, будете отовсюду гнать нас, куда же нам идти?»
Стал я расспрашивать о Сираджии и на сторонке. Ничего плохого не слышно. Во время гражданской войны он был болен. Документы имеет о работе в советских продуктовых лавках. Если бы русским был — другое дело, а то татарин. Учел я это. Сам защищал на ячейке, когда проводили кандидатом. Гайнетдинов выступил против. А теперь, если метранпаж ознакомится с этим материалом, в горло, мне вцепится, скажет: «Говорил я тебе! Не послушался. А он вот кем оказался».
Затрещал телефон. Звонили из парткома. Садык стал говорить, спорить, но ничего не помогало. Оттуда категорически сказали: «В шесть часов вечера в парткоме состоится доклад Минлибаева. До этого вопрос подлежит обсуждению в парткомиссии. План и проект резолюции должны быть готовы. Созыв парткомиссии возлагается на Минлибаева».
Садык оторопел. Хоть на части разорвись, все же успеть мудрено. Он передал Василию Петровичу только что прочитанную бумагу, сработанную Сираджием, и сказал:
— Поступайте, как покажется правильным.
Собираясь уйти, он взял в руки портфель и громко позвал жену.
— В чем дело? Почему так кричишь? — спросила, входя, Нагима.
— К обеду меня не ждите. Я вовремя вернуться не сумею, — бросил он на ходу.
— Что же это такое, в самом деле? — взволнованно промолвила Нагима. — Поставил жену перед печкой, а сам бегаешь дни и ночи. Утром тебя нет, вечером нет, ни пообедать вместе, ни поговорить… Не успеешь в дом войти, как уже выйти торопишься.
— Что с тобой, Нагима? — возмутился Садык. — Я разве без дела бегаю?
В нескольких словах передал ей разговор по телефону.
Нагима знала о множестве дел Садыка. Хотя иногда в ее сердце заползали тревожные думы, но она глубоко верила мужу. Все же было тяжело! Мужа почти никогда нет дома, все дела да дела! А Нагима сидит одна, смотрит за детьми. Где же радость? Где же довольная семейная жизнь? Молодость проходит в одиночестве. Это угнетало Нагиму, вызывало вспышки недовольства, ссоры, слезы.
Но сегодня до этого не дошло. Мешало присутствие постороннего человека, да и растерянный вид мужа удерживал.
Нагима с улыбкой попрощалась с гостем. Они уехали, а Нагима снова принялась за уборку. Уже на полу валялись окурки, лежали на книгах прогоревшие спички. И так всегда. Соберутся несколько человек, разговаривают, советуются, спорят. Перед съездом или конференцией составляют списки, проекты резолюции, тезисы. Комната наполняется клубами дыма. Везде валяются окурки, клочки бумаг. Долго потом Нагима убирается, проветривает комнату, приводит ее в порядок.
Чтобы рассеять свои печальные думы, вошла Нагима в спальню. Ребенок спокойно спал. Она вернулась в кабинет, приколола сорвавшуюся диаграмму, прибила к стене портрет Камиля Якупа, вымела пол. Усталая, опустилась на стул.
— Уф! Пусть приходят, сорят… Все равно.
В это время снова зазвонил телефон.
— Где ты пропадаешь? — говорит Шаяхмет. — Ведь на суде идет самое интересное. Сейчас будут допрашивать Салахеева, Иванова и Александру Сигизмундовну. Иди скорей!
Нагима забыла усталость. Поспешно умылась, причесалась, поцеловала дочурку и сказала старухе:
— Бабушка, если что случится, пошлешь Хасана.
И ушла в суд.
XXXVI
Три момента — хозяйственный, политический, убийство. Суд готовится перейти к разбору второго момента. Центральной фигурой здесь был Салахеев.
Говорит Шарафий, раскрывая моменты смычки города с деревней.
Он говорит о том, как в редакцию поступает сообщение. На маленьком клочке бумаги неразборчивым почерком Фахри пишет:
«Ревизия прошла отлично… Перина мягкая, самогонка — первач, четыре курицы, баня… свежие березовые веники… За такую ревизию товарищу Салахееву нижайший поклон».
Нагима, войдя в зал суда, сначала ничего не поняла.
Свидетель Шарафий продолжал:
— Фахри я знаю давно. Вначале мы вместе с ним были на фронте, в татарской бригаде. По окончании войны партия командировала меня в Москву, в институт. Вернувшись оттуда, стал я работать в газете и снова встретился с Фахри. Он посылал нам сообщения, написанные ужасными каракулями. Разобрать их стало трудно, но материал всегда касался интересных моментов из жизни деревни и нередко вскрывал значительные гнойники. Много писал он о «Хзмете», о «собаке, лежащей на совхозе». Вначале я не решался печатать все его заметки, хотел прежде проверить их. Для этого я давал их переписывать, переводил на русский язык, один экземпляр оставлял у себя, а два остальных посылал в прокуратуру и профсоюз Рабземлеса. Но все это у них залеживалось.
Вкралось тогда у меня сомнение. Скоро я понял, что одним своим концом нитка тянется к Салахееву, а другим к Иванову. Тогда я решил посоветоваться с Василием Петровичем. Но он уехал в Москву, а оттуда отдыхать на Кавказ. Тут и решил я: «Постой, думаю, ведь мы вместе с Фахри были на фронте, вместе боролись в первые тяжелые годы создания молодой Татарской Республики. Давай же и здесь свяжем судьбу. Судьба редактора и корреспондента будет общая, вместе будем работать, вместе и ответ держать. Если сообщения окажутся ошибочными, если привлекут за них к суду, вместе сядем на скамью подсудимых».
И стал я помаленьку печатать его сообщения.
Поднялась буря. С одной стороны, Салахеев разбушевался, с другой — Иванов. Чего только не наговорили! И что редакция нетактична, и что наша газета живьем топит спецов, и что Фахри и Шарафий подрывают образцовый совхоз! Достигла эта буря парткома и контрольной комиссии. Салахеев везде кричал: «Все это дешевая демагогия! Все это тайные интриги групповой борьбы, происходящей между «четырнадцатью и двадцатью четырьмя».
Но его крики не помогли. Было решено послать в «Хзмет» ревизию. В это дело вклинились некоторые старые грешки Салахеева, вроде истории с татарским театром и бухарские события… Результат вам известен — герой стоит перед нашими глазами.
Шарафий думал, что на этом его показания закончены, но нашлись желающие уточнить их. Первым задал вопрос один из заседателей:
— Что скажет по поводу показаний свидетеля Федор Кузьмич Иванов?
Иванов одет как рядовой русский интеллигент, взгляд покорный, во всем обличье сквозит готовность давать суду ясные ответы.
— Действительно, в прокуратуру поступали письма из редакции. Все они должны были проходить через меня. Я в течение семи месяцев задерживал их, некоторые сжег, а те, что уцелели, отобрали при обыске. Очевидно, они приобщены к вещественным доказательствам.
Говорил Иванов спокойно, медленно, как о событиях, его не интересующих и не имеющих для него никакого значения.
Далее перешли к истории с татарским театром и к бухарским событиям. Объяснения давал Салахеев.
— История с театром — сплетня, блеф. Пятнадцать лет тому назад я был суфлером. Потом, не поладив с администрацией, ушел из театра. Мои враги раздули этот случай, утверждая, что якобы во время гастролей в Красноярске я скрылся с последними грошами театра, предназначенными для афиши. Это чистейшая сплетня, голая выдумка. Никакой кражи не было. Наоборот, в труппе остались мой казакин и тюбетейка.
Эта история была всем знакома. Публика с улыбкой стала перешептываться, делиться подробностями, сплетнями. Никто не придал этому случаю большого значения. Но к бухарской истории отнеслись совершенно иначе.
Организованная в Казани татарская бригада, сражалась с врагами революции, продвинулась за Оренбург и Казахстан. Она приняла участие в борьбе с алашордынцами, вместе с революционерами молодой Бухары билась против эмира.
В этой татарской бригаде находился и Салахеев. Вскоре после победы над бухарским феодализмом и бегства эмира штаб татарской бригады за какую-то провинность отдал Салахеева в руки Реввоентрибунала. Распространился слух, что дело серьезное и что парень будет расстрелян. Но в это время полки бригады были переброшены через Ташкент на Семиреченский фронт. Салахеева не расстреляли. Он остался в тюрьме. Долгое время после этого он был вне рядов партии.
Эта история оставила в жизни Салахеева тяжелый след, мучила его, как глубокая, незаживающая рана. Во время партийной чистки, при выдвижении его кандидатуры на какую-нибудь работу всегда выплывала эта история.
Это было трагедией Салахеева, и потому, когда на суде ему задали вопрос о бухарском событии, он воскликнул:
— Нет, нет! Это ошибка! И здесь я жертва интриг!
Салахеев заговорил о «четырнадцати» и «двадцати четырех», то и дело упоминал имена Гайнетдинова и Шарафия, пытался бросить на них тень. Он разгорячился, разволновался. Этим он умалял вескость своих слов и создавал такое впечатление, будто именно бухарская история занимает центральное место в его биографии.
Заседатель, сидящий слева от председателя, повернувшись к судье, сказал:
— Я попросил бы допросить Гайнетдинова.
Метранпаж встал. В немногих словах, произнесенных несколько сердитым тоном, он разбил всю хитроумную постройку Салахеева.
— Дело было так, — начал он. — В то время, когда Салахеев, попав в историю, должен был быть судим Реввоентрибуналом, я бился на колчаковском фронте в рядах Пятой армии. По распоряжению товарища Фрунзе я был переведен на Туркестанский фронт, в Среднюю Азию. В это время Салахеев был уже исключен из партии. Как я мог, живя в Сибири, участвовать в бухарских делах? Это очередная ложь Салахеева.
Гайнетдинов на секунду умолк, а потом продолжал:
— Здесь Салахеев впутал имя товарища Шарафия. В двадцатом году Шарафий был послан из Москвы в Туркестан с восточным поездом. В момент истории Салахеева Шарафия в Средней Азии не было. Он присоединился к нам только в Семиречье. Следовательно, как могло случиться, что Салахеев был арестован благодаря интригам Шарафия? Это также его ложь. Действительно, я всегда бранил Салахеева, но только не с точки зрения группы «четырнадцати» или «двадцати четырех», а прямо говорил, что он плохой большевик. Здесь не место ссылаться на какие-то интриги, — закончил Гайнетдинов.
XXXVII
События нарастали.
По ходатайству прокурора в зал суда ввели новую свидетельницу — жену обвиняемого Иванова Александру Сигизмундовну.
Ее появление вызвало среди публики большой интерес, а показания всех ошеломили.
Когда-то ходили слухи, что она в девятнадцатом году, желая спасти мужа, спуталась с Салахеевым. Потом об этом забыли, но стали поговаривать о ее романе с Хасановым. Некоторые утверждали, что она чуть ли не одновременно пользовалась большой благосклонностью Валий-бая и его сына — красавца, спортсмена Мустафы. Потом Александра Сигизмундовна вышла замуж за Иванова, но с Хасановым и Салахеевым знакомства не прервала, а, наоборот, скоро сумела связать мужа и бывших любовников узами тесной дружбы.
Со стороны могло показаться, что она жила с мужем очень мирно, в полном согласии, но в первую же ночь после ареста Иванова случилась странная вещь — Александра Сигизмундовна исчезла. Стали наводить справки, расспросили родственников. Никто ничего не знал. Она была женщиной взбалмошной, трусливой, и потому знакомые на расспросы отвечали:
— На нее, наверно, сильно подействовал арест мужа, и она что-нибудь над собой сделала. Может, бросилась в воду.
Но это предположение оказалось ошибочным. На одиннадцатый день своего исчезновения Александра Сигизмундовна вернулась. Добровольно пошла к Паларосову и заявила:
— Я жена Иванова. Допросите меня. У меня много материалов.
И действительно рассказала много интересного.
Кончив допрос, Паларосов спросил:
— Почему вы скрывались? Почему вернулись и почему после возвращения решили во всем сознаться?
Женщина ответила не сразу. Некоторое время она сидела погруженная в глубокие размышления и наконец заговорила:
— Я думала, что сойду с ума… В девятнадцатом году казанская Губчека расстреляла моего любимого мужа, с которым я прожила всего три месяца. Если вы просмотрите список расстрелянных, найдите имя Казимира Вишневского… После его расстрела я свалилась. Достаточно было мне услышать слово «Чека», увидеть наган — и я лишалась чувств. Неожиданный стук в дверь приводил меня в трепет. Мне всегда казалось, что идут с обыском, арестуют, убьют… Я несколько лет прожила с Ивановым, но от этой болезни не оправилась. Когда его арестовали и ночью сделали обыск, я чуть не сошла с ума. Ничего не соображая, села я в поезд и уехала к сестре в Москву. Но куда могла я скрыться? И можно ли скрыться от самой себя? В Москве я прожила несколько дней. Сестра посоветовала: «Не влачи такую жизнь. Сознайся во всем. Едва ли тебя расстреляют, но зато успокоишься наверняка». С этим советом она проводила меня в Казань. Я была больше не в силах терпеть вечный страх. Решив: будь что будет, — пришла к вам…
Все это повторила Александра Сигизмундовна и на суде. Ее показания, раскрывающие многие тайны, возбудили большой интерес. Ее засыпали вопросами. Александра Сигизмундовна отвечала толково, обстоятельно. Казалось, она сбрасывает с себя мучившую ее тяжесть.
— Как технически проводилась связь между Салахеевым, Ивановым и Хасановым? — спросил один из заседателей.
— Я вам приведу один пример, и вы поймете все, — заговорила свидетельница. — Был голодный год, есть было нечего. Комната холодная, нетопленая. А у меня на руках маленький ребенок. Как-то пришел Валий Усманович. Побранил нас, пожурил, а под конец сказал: «Я вам помогу, со временем, когда жизнь наладится, рассчитаемся». С этим он ушел, а мы в тот же день получили две сажени дров, пуд пшеничной муки, четыре фунта масла, одиннадцать фунтов риса. При виде такого изобилия мой муж побледнел, хотел все вышвырнуть за дверь. Долго метался он, потом зарылся головой в подушку, зарыдал. «Только ради ребенка согласен я принять эти вещи, — сказал он наконец. — Как только получим деньги, в ту же минуту расплатимся». Записал все на отдельную бумажку.
— На какую сумму приняли вы всяких приношений?
— За полтора месяца сумма записей достигла двадцати четырех миллиардов. Потом стало лень записывать.
— Что еще вы получили?
— Много. В день моего рождения он преподнес мне бриллиантовую брошь, на именины мужа — отличный драп на пальто. Летом Федя получил кусок чесучи, а зимой Валий Усманович подарил мне каракулевый сак. Много получили, всего не перечесть.
Прокурор торжествовал.
— Какую роль играл в этой связи Салахеев?
Свидетельница не задумываясь ответила:
— Салахеев был давно знаком с моим мужем. Бывал у нас. На пасхе встретился у нас с Валием Усмановичем. Выпили. Сели играть в карты. Валий Усманович играл замечательно и скоро выиграл у Салахеева изрядную сумму. Забирая выигрыш, Валий Усманович заметил со смехом: «Вас, говорит, видно, женщины очень любят». Выпили еще и снова сели за карты. Салахееву опять не повезло. Через неделю Салахеев пришел, чтобы отыграться. С этого и началось. Постепенно он не только вернул проигранное, но выиграл у Валия Усмановича немалые деньги. К этому времени они успели заделаться большими приятелями.
— Чем отблагодарили Салахеев и Иванов Хасанова? — снова спросил прокурор.
— Очень многим. Попался однажды Валий Усманович на черной бирже с бриллиантами. Все думали — в Соловки сошлют. Но Салахеев где-то нажал, и Хасанова отпустили. Мой муж помог ему получить из Совнархоза за ничтожную сумму хороший завод. Потом с помощью того же Салахеева и мужа получил Хасанов место в совхозе и, несмотря на разоблачения Фахри и Гайнетдинова, сумел продержаться там не один год. Материалы, поступавшие в прокуратуру из Байрака, попадали к нам на квартиру. Часть из них я сожгла, остальное отобрали при обыске.
Свидетельница умолкла.
Все присутствующие были поражены. Кое-кто с удивлением переводил взгляд с председателя на Александру Сигизмундовну, будто спрашивая: «Что это? Не сон ли?» — «Спятила! Не иначе — как рехнулась со страха», — подумал Мустафа.
Валий Хасанов оцепенел.
«Погубила, сука! Из мухи слона сделала! Это в благодарность-то за все хорошее, за подарки!»
XXXVIII
Больше всех обозлился старый адвокат Арджанов. Ничего подобного от Александры Сигизмундовны, с отцом которой некогда он был близко знаком, он не ожидал.
«А-а, яблоко от яблони недалеко падает! По следам папаши пошла! В девятнадцатом году для спасения любовника честью своей решила пожертвовать, а теперь для спасения своей шкуры двух отличных коммунистов и старого мецената утопить задумала!» — возмутился Арджанов и решил во что бы то ни стало отразить удар.
Не успела Александра Сигизмундовна сесть на место, как Арджанов выступил с ходатайством:
— Я прошу суд допросить по этому поводу свидетеля Худжабаева Низаметдина.
Это было право защитника, и его ходатайство никакого возражения не встретило. Но тут разыгралась неприметная для окружающих трагедия.
Едва Биганов открыл рот, чтобы отдать распоряжение о вызове свидетеля, как почувствовал, что к горлу подкатился какой-то клубок. Он откашлялся. Платок обагрился алой кровью. За последние месяцы это был не первый случай. Недаром доктора настойчиво твердили о санатории. Знали об этом и товарищи, знал и Гайфуллин. Незадолго перед началом процесса он, внимательно присмотревшись к Биганову, сказал:
— Я вижу, у вас со здоровьем неладно. Может, поручить ведение этого дела кому-нибудь другому? Конечно, очень желательно, чтобы вы, председатель Главсуда, непосредственно руководили сложным процессом, но если состояние вашего здоровья не позволяет, можно назначить другое лицо.
Но Биганов не воспользовался предложением Гайфуллина. Он считал себя обязанным непосредственно руководить этим важным процессом.
При виде кровавого пятна он в первую минуту испугался.
«Только бы не свалиться! Только бы выдержать!» — мелькнуло в голове.
Он снова поднес платок ко рту. На этот раз крови было совсем мало.
«Выдержу, не свалюсь!» — обрадовался он и тут же, сделав над собой усилие, приказал ввести Худжабаева.
Это был крестьянин, высокого роста, плотный.
Председатель предупредил его об ответственности за ложные показания и спросил:
— Что вы знаете по этому делу?
Низамий, не отрывая взгляда от лица председателя, ответил:
— Да вот Фахри и Валий-бая давно знаю.
Арджанов вскипел. Он хотел с помощью этого свидетеля рассеять впечатление, созданное Александрой Сигизмундовной, и потому, испросив разрешение, стал задавать ему наводящие вопросы:
— С каких пор, как и по каким делам знаете вы Валия Хасанова?
Низамий задумался и медленно произнес:
— За десять верст от нашей деревни начинались угодья Валий-бая. Он купил их у разорившихся наследников прежнего помещика. Каждое лето бай приезжал туда, каждую пятницу посещал мечеть в Шеланге. Лошадь оставлял у меня. С тех пор мы с ним и познакомились.
Ответ не удовлетворил защитника. Он снова спросил:
— Бывали ли у него в Шеланге иные дела?
Этот вопрос вынуждал Низамия к определенному ответу, и он сказал:
— Однажды после молебствия старики сказали Валий-баю: «Господь дал тебе большое богатство. В городе на каждой улице стоят твои дома, здесь твоим землям конца края нет. Открой нам школу. Вечными молельщиками за тебя будем». Бай ответил им: «Всем вам известно, что враги взвалили на меня незаслуженную вину. Я только что приехал из Петербурга. Издержанным деньгам счет потерял. Через генерала Чингиса получил доступ к самому Распутину. Подал я императору прошение о помиловании. Если благополучно избегну напасти, отремонтирую вашу мечеть, выстрою большую школу, содержание ее возьму на себя. Молитесь за благополучный исход».
Через две недели после этого получил бай телеграмму, извещавшую о помиловании. В ту же минуту приступил бай к ремонту мечети и постройке каменного здания для школы. А когда сам уехал в город, следить за всем поручил мне. Под моим наблюдением выстроили школу, через меня поступали деньги на ее содержание. Школа была большая, в два отделения — начальное и среднее, имела семь преподавателей… С тех пор и знаю я Валий-бая.
Низамий замолчал. На его лбу выступил пот от столь большой заученной речи. Он стал вытирать платком намокшую шею и лицо, довольный, что допрос окончился. Но ошибся. Арджанов снова задал вопрос:
— Как жил Валий Хасанов в голодные годы?.
— А как ему было жить! Ютился в одной комнате. Она даже хорошенько не отапливалась. А кормился с моей помощью.
— Как так?
— Очень просто. Я часто бывал в городе. Валий-бай давал мне спички, керосин, соль, иногда отрез на платье или бешмет. Я обменивал их среди крестьян на продукты и привозил ему.
Арджанов решил разбить показания Александры Сигизмундовны и потому спросил:
— Пшеничную муку привозили?
— Нет.
— Рис привозили?
— Нет.
— Десять фунтов сливочного масла привозили?
— Нет.
— Чем же питалась семья Хасанова?
— Известно чем — ржаным хлебом с отрубями. От этого он и захворал.
Тогда адвокат обратился к Хасанову:
— Как же вы: сами, питаясь ржаным хлебом, доставали для Ивановых и Салахеева пудами пшеничную муку и десятками фунтов масло и рис? Откуда вы брали для Ивановых дрова в то время, когда ваша семья сидела в нетопленной комнате?
Зал с напряжением ждал ответа. Валий Хасанов медленно поднялся с места и, глядя в упор на судей, стал отвечать. Многие показания Александры Сигизмундовны он свел на нет, преуменьшил их значимость, доказывая, что она из мухи сделала слона.
— Где уж было людей угощать? Сам чуть с голода не умер, — закончил он.
Допрос Низамия, казалось, был окончен.
Шаяхмет возмущался лживыми показаниями Низамия и Хасанова. «Конечно, кулак бая защищает», — думал он и злился, почему ни прокурор, ни судьи не зададут ему одного важного вопроса.
Но как раз в это время один из заседателей остановил уходившего Низамия:
— Скажите, свидетель, сколько денег истратил Валий Хасанов на помилование от царя?
Это был именно тот вопрос, который хотелось задать Шаяхмету, и он еле удержался от аплодисментов. Некоторой части публики этот вопрос показался неуместным, другие, наоборот, сочли его весьма важным. Все с интересом ожидали ответа.
— Я в чужом кармане не считал, — спокойно ответил Низамий, — а сам он как-то говорил, что израсходовал шестьдесят тысяч.
Шаяхмет прикинул в уме, сколько из этой суммы осталось в кармане генерала Чингиса и сколько попало самому Распутину, но, не удовлетворившись своими расчетами, решил расспросить при удобном случае Низамия.
Неожиданно течение процесса было нарушено сообщением, что в суд явились делегаты от крестьян деревень Шеланга и Акташево и татарского полка с просьбой допустить их на заседание.
— Допустите нас на суд. Мы имеем слово. Мы раскроем лицо Валия Хасанова, — заявили они.
Они принесли с собой резолюции собраний, где говорилось:
«Валий Хасанов был прежде кровопийцей, а после революции стал контрреволюционером. Мы требуем сурового наказания. Таким, как он, нет места на земле».
С момента начала слушания дела в суд поступила масса всевозможных постановлений, резолюций. В каждом из них писали:
«Фахри был героем-коммунаром армии селькоров. Его убийцы должны быть приговорены к высшей мере социальной защиты».
Председатель суда дал распоряжение отсылать копии этих документов в редакцию газеты.
Но шелангинские и акташевские делегаты этим не удовлетворились и настойчиво просили дать им слово.
Председатель, посоветовавшись с заседателями, сказал коменданту:
— Разъясните им, что по кодексу такие делегации в начале суда не могут быть допущены. Также сообщите, что все материалы пересылаются в редакцию.
Заседание шло своим чередом.
XXXIX
В зал ввели свидетельницу Минзифу.
Старуха то робела, то преисполнялась решимостью:
«Все расскажу, ничего не утаю… Расскажу, как сноха насильно отправила меня в деревню, как в Акташеве мужики взбунтовались, как такбир провозглашали, как учителя и молодого парня, похожего на Шаяхмета, убили. Скажу, что и хазрета и Гимадия там видела. Расскажу, как Низамий повез меня в город, как нас обыскали и нашли в его санях муку, масло, а в хомуте запрятанные николаевские кредитки. Все расскажу!»
С такими мыслями вошла старуха в зал, но при виде множества лиц растерялась, все слова вылетели из памяти, как горох из худого мешка. А когда начался допрос, все в голове старухи перемешалось.
Вот большой зал, битком небитый народом. Яблоку упасть негде. В конце зала возвышение. На возвышении стол. За столом сидит с колокольчиком в руке худой мужчина. Вот этот мужчина мягким голосом спрашивает:
— Кто приходил к Валию Хасанову, когда вы работали у него в совхозе «Хзмет»?
Старуха оробела. Зал покачнулся, пол куда-то поплыл. Зифа чуть не упала. Язык не ворочался.
Председатель задал вопрос по-иному:
— Знаете ли вы Низаметдина Худжабаева?
Оцепенение прошло, и Зифа заговорила:
— Ты про Низамия, что ли, говоришь? Знаю. Отлично знаю. Давно знаю.
— Зачем он приезжал в совхоз?
— Приводил кобыл для случки, брал на время племенного быка, баранов. Весной покупал хорошие семена. И так приезжал. Машины брал… брал все, что нужно…
— Еще кто приезжал? Бывал ли дау-мулла Фаридель-Гасры?
— Хазрет-то? Бывал.
— Что они делали? Пили чай, водку?
— Врать не хочу, водку не видала, а чаю пили много. Самовары ставить уставала.
— Еще кто бывал?
— Остальных не знаю. Разные люди приезжали. Русские ли, татары ли — не поймешь. Ночевали у нас. Я кур варила, баню топила, свежие веники готовила…
После председателя поднялся прокурор. Указывая на Салахеева, он спросил:
— Узнаете ли вы этого человека?
Старуха посмотрела в указанном направлении и вздрогнула, будто увидела привидение.
— Узнаю, дитятко, узнаю! Я ему четыре курицы скормила, принесла свежие березовые веники…
На этом допрос старухи окончился. Председатель освободил ее от свидетельских обязанностей, и Зифа села среди публики.
Арджанов спросил о дау-мулле. Секретарь дал разъяснение.
— От него получено письмо. Он все еще находится в Москве. Там идет совещание крестьянских комитетов взаимопомощи, и товарищ Калинин, занятый на этом совещании, все еще не принял муфтия и дау-муллу.
Арджанов этим объяснением не удовлетворился.
— В третьем томе «дела», на четыреста девяносто первом листе, имеются письменные показания дау-муллы Фаридель-Гасры. Я прошу огласить их, так как тогда станет понятным причина посещения им подсудимого Хасанова, — сказал он.
Секретарь раскрыл указанную страницу и прочел документ, собственноручно написанный дау-муллой по старой орфографии и старозаветным слогом.
Дау-мулла писал, что знает Хасанова как человека очень щедрого и большого поборника религии. Далее он указывал, что количество всяких пожертвований Хасанова столь велико, что счет им знает лишь бог. Он строил мечети, школы, медресе, рыл колодцы, исправлял дороги. Как истый мусульманин, отличался большим гостеприимством, воспользовавшись которым он, дау-мулла, посетил его в совхозе. Хасанов угостил его чаем, после чего он в сопровождении некоего Гималетдина гулял по берегу Волги, зашел в Байрак, созданный милосердием советской власти, и был этим так умилен, что прослезился и пал ниц.
Ответственный переводчик Исхак Зарипов перевел документ на русский язык.
Рассмотрение хозяйственного момента закончилось. Процесс достиг центра политического момента. В зал ввели кочегара Садыка Минлибаева. Он вошел усталый, возмущенный тем, что его оторвали от важных дел. С портфелем в одной руке, с кепкой в другой, медленно прошел он на место, отведенное для свидетелей. Лицо его было чисто выбрито, волосы коротко острижены.
Его появление вызвало движение во всем зале. Сотни глаз устремились на него. Салахеев не мог отвести от него враждебного взгляда.
— Такие люди не могут быть свидетелями! — чуть не крикнул он.
— Расскажите, что вы знаете по этому делу, — обратился председатель к Минлибаеву.
Садык медленно заговорил:
— В прифронтовой полосе мы поймали двух людей. Одного тут же расстреляли, другой, переодевшись крестьянином, перебежал на сторону Колчака. Он теперь находится перед вами.
Минлибаев замолчал. Он надеялся, что допрос окончен и его отпустят продолжать прерванную работу. Но это было только началом. Председатель, заседатели, прокурор, а за ними защитник и сами обвиняемые засыпали Садыка вопросами. Он еле успевал отвечать на них.
Салахеев не мог хорошенько осмыслить слова Садыка. Голова его горела как в огне. Он никак не мог освоиться с мыслью, что кочегар явился в качестве свидетеля. Все перепуталось, прошлое смешалось с настоящим.
XL
Эти два коммуниста давно знали друг друга. Одно время Салахеев даже казался большим приверженцем кочегара. Так, например, было в дни горячих дискуссий на тему, нужна ли Татарская республика. Нашлись люди, которые кричали:
— Республики не надо! Это национализм! Это шаг против интернационализма!
Минлибаев был послан на проведение конференции. Он провел большую работу, перетянул многих делегатов на свою сторону, настоял на том, чтобы отозвали двух коммунистов, занимавшихся интригами.
Но этим дело не кончилось. Губком признал поступок Минлибаева неправильным. Кочегар стал рьяно отстаивать свою точку зрения. В конце концов коммунистов вернули, а Садыка отправили в Москву, в распоряжение Центрального Комитета.
Минлибаев поехал в Москву и объяснил там, в чем дело. Через пять недель он вернулся обратно и приступил к своей работе.
Во время этих недоразумений Салахеев был всецело на стороне кочегара. Он искренне защищал его и в спорах, возникавших относительно создания Татарской республики.
Но с тех пор утекло много воды. Салахеев не только остыл к своему другу, но даже перешел в противный лагерь и в душе обрадовался аресту Садыка.
«Значит, я не ошибаюсь в определении людей», — самодовольно решил он.
Когда же неожиданно Салахеев сам попал в тюрьму, то оробел и смутился. Вести, доходившие извне, увеличивали его беспокойство.
«Что это — явь или сон? Или мой рассудок помутился? Разве можно верить таким вестям?»
А слухи действительно были необычными.
Сергей Варфоломеевич, директор завода имени Хусина Ямашева, опасно заболел. Преклонный возраст осложнял положение. Болезнь затянулась. Завод расползался. Тогда секретарь парткома вызвал Садыка и сказал ему:
— Завтра на заседании бюро будет поставлен доклад о заводе Ямашева. Нужно избрать директора. На эту должность секретариат выдвигает вашу кандидатуру.
Минлибаев пробовал протестовать, убеждать.
— Я не справлюсь. Завод накануне закрытия.
Но под конец согласился. Ему была обещана всемерная поддержка партийных и советских органов и рабочих организаций. Минлибаева назначили директором, сказав, что для большевика нет ничего невозможного. Говорят, теперь он дни и ночи хлопочет над спасением тонущего корабля.
Тот, кто рассказал все это Салахееву, добавил:
— Мало того — он суется во все дела, дешевой демагогией привлекает к себе рабочих. Вчера, на заседании горсовета, он, как собаку, изругал весь коммунхоз, сказав, что все средства поглощает центр города, а улицы рабочих окраин остаются по-прежнему грязными, неосвещенными, неремонтированными. Весной и осенью по ним не пройти. Сады не разводятся.
Все эти слухи вконец обозлили Салахеева. Он много думал о кочегаре, но ни на минуту не допускал возможности встречи с ним в зале суда. И когда председатель предложил ввести Садыка Минлибаева, Салахееву показалось, что с ясного неба ударил гром. Он всячески старался доказать себе незаконность этого и, обессиленный, оцепенел в полном недоумении.
В сущности, Садык и сам был против выступления на суде в качестве свидетеля. С одной стороны, у него было много неотложных дел, ежеминутно требовавших полного к себе внимания, с другой — ведь он сам был недавно арестован по обвинению в этом деле. Садык ссылался на эти доводы, но прокурор ничего и слышать не хотел.
Арест Минлибаева и предъявленное ему обвинение было глубоким недоразумением. Это теперь стало ясно каждому. Не нашлось никаких данных, говорящих против его участия на суде в качестве свидетеля.
Но Салахеев этого не знал. Он смотрел на Садыка как на своего заклятого врага.
— В прифронтовой полосе… поймали… Одного расстреляли… другой успел скрыться… теперь он перед вами…
Эти слова свидетеля падали на его голову, как раскаленные камни. В горле пересохло, становилось трудно дышать.
Кочегар продолжал отвечать на вопросы. В своих показаниях он вскрыл кусочек тылового быта.
XLI
Волна колчаковщины катилась к берегам Волги. До Казани оставалось всего восемьдесят верст. Над значительной частью теперешнего Татарстана гремели колчаковские орудия, трещали пулеметы. Белые хотели, переправившись через реку Вятку, сделать бросок на Казань. В это самое время партком послал кочегара во главе рабочего батальона на фронт, в распоряжение Двадцать восьмой дивизии. Колчаковцы, несмотря на весенний разлив, продолжали беспрерывно попытки переправиться через Вятку. Таял снег. По небу ползли дождевые тучи. Маленькие речушки превратились в бурные потоки. В армии ощущался острый недостаток одежды, провианта. Окружающие деревни, охваченные кулацким восстанием, были готовы наброситься с тыла. Бесследно исчезали преданные нам люди. Разведчики погибали в пути.
Полк, к которому присоединился рабочий батальон, в течение двух суток без пищи, без хлеба, без минуты отдыха, среди крови, наводнения и огня, не давал врагу переправиться через Вятку.
Однажды ночью в штаб полка к Садыку ввалился Шарафий со своим товарищем красноармейцем. Вид его был ужасен. Весь забрызганный грязью, он был неузнаваем. Лицо осунулось, посерело, глаза ввалились. У товарища шинель была порвана, на ногах лапти. От голода он еле передвигался. На двоих была одна винтовка, да и та без патронов.
Садык знал Шарафия. Оба они при чехах сидели в казанской тюрьме и избегли расстрела лишь благодаря тому, что в суматохе отступления чехи забыли о них.
— Что случилось? — изумленно воскликнул Садык при виде Шарафия.
— Дай нам из своего полка несколько вооруженных солдат.
— Зачем?
И Шарафий рассказал следующую историю. В свое время Абдулла-хазрет пользовался большой популярностью. Имя зикерлинского ишана было известно во всем татарском мире. Круглый год стекались к нему мюриды из дальних краев — Сибири, Петербурга, Астрахани, Оренбурга, Красноярска. Без перерыва везли к нему для заклинания больных и одержимых. Вместе с мюридами, немощными, жаждущими исцеления, текли в дом ишана подарки, подаяния, преподношения. Ишан говорил, что милостыня не бывает большая или маленькая. Не глядя, с молитвой принимал он все, что давали. Чего только не несли ему! И старинные гроши, и золотые десятирублевки, и шуршащие «катеньки», и енотовые шубы, и шелковые чапаны. Ишан благоденствовал. Вначале, когда он только обзавелся первыми мюридами, у него, кроме маленького домика, ничего не было. Через семь лет он взял вторую жену и, исполняя веление шариата об одинаковом обращении с женами, выстроил для нее отдельный дом. Для этого пришлось расширить двор.
В пятьдесят лет он женился в третий раз. И на этот раз он не пожелал обидеть жену, выстроил еще дом. Для этого пришлось переселить соседа-бедняка на край деревни, а его усадьбу прирезать ко двору ишана. С новой женой ишану не повезло. Она оказалась женщиной нерадивой, с плохим характером. Попробовал ишан перевоспитать ее, но безрезультатно. Тогда, вернув полностью все приданое, он отослал ее к родителям и женился на молодой вдове. Вторая жена ишана умерла от родов. Вскоре после этого умер один из ближайших мюридов ишана Салим-бай, оставивший после себя молодую вдову. Приближенные ишана наперебой хвалили ему эту женщину и предлагали взять на место второй жены. Ишан не отказался. Так поселилась богатая вдова в опустевшем доме второй жены.
Ишан решил, что он получил все уготованное ему судьбой, но скоро произошел случай, заставивший его усомниться в этом.
В гостях у своего верного мюрида Насыбуллы, человека небогатого, но фанатически ему преданного, ишан мельком увидел в его доме красивую девушку. Она очень понравилась ишану.
«Божеское ли это веление или бесовское наваждение?» — задумался старик.
Три дня думал об этом ишан, три ночи с молитвой ложился в постель, ожидая божественного откровения. На третью ночь приснилась ему девушка, окруженная неземным сиянием.
«Это перст божий!» — решил обрадованный ишан.
А было ему тогда семьдесят лет от роду. Призвал ишан Насыбуллу, рассказал все по порядку, не утаил своих сомнений, теперь разрешившихся указанием свыше.
Насыбулла был верным мюридом. От неожиданного счастья затрепетало его сердце.
«Сразу она ни за что не согласится, но уговорить можно», — подумал Насыбулла, возвращаясь домой.
Переговоры с дочерью Каримой он поручил своей старшей сестре.
Девушка сначала растерялась, а потом звонко расхохоталась.
— Нет, нет! Что я с ним буду делать?
Но после настойчивых уговоров сказала:
— Правда, все парни взяты на войну. Когда они вернутся оттуда? И вернутся ли вообще? Я не знаю, пусть отец сам решит.
А было ей тогда всего семнадцать от роду.
Для четвертой жены построил ишан отдельный дом в саду. Теперь хазрет окончательно успокоился, отрешился от всех мирских дел, посвятив себя молениям и бдениям. Молва о его подвижничестве разрасталась все шире и шире.
Рассказывали, что, кроме обязательных ежедневных пяти молений, ишан еженощно молился по нескольку часов. В месяц рамазан[94] он не ложился после сахера[95], четыре раза наизусть прочитывал весь коран, а в последние три дня поста запирался в мечети. Кроме того, за последние сорок лет своей жизни он ежедневно сто тысяч раз повторял священную формулу: «Нет бога, кроме бога».
Время, свободное от молений, он проводил среди мюридов и приезжавших за исцелением больных. Ишан шептал над больными молитвы и заклинания, с мюридами вел долгие беседы, испытывая их верность; в соответствии с прилежанием и усердием каждого мюрида назначал новые послушания, беспрестанно твердя, что только полное отрешение от мира, от всех земных забот и радостей, только познание бога ведет к блаженству.
Для борьбы с этим ишаном и просил Шарафий дать ему вооруженных солдат.
После Октябрьской революции популярность ишана еще больше возросла. Даже те богачи, которые в мирских заботах прежде ругали ишана и подтрунивали над его благочестием, теперь потянулись к нему, стали его мюридами, искали его расположения и дружбы. Среди них оказался Валий-бай.
Хазрет имел сыновей. Старший из них был главным мюридом, питая надежду занять после смерти отца его место. Остальные трое сыновей только что вышли из отроческих лет.
После февральской революции они поняли, что отцу грозит крушение, и, не желая гибнуть вместе с ним, покинули отчий дом и стали жить самостоятельно.
Отец проклял их, а вместе с ними проклинал и Советы и революцию. На званых обедах, в мечетях он открыто призывал:
— Мусульмане, будьте готовы! Наступили последние времена, о которых говорил наш великий пророк Мухамед. Советы и большевики — наказание, ниспосланное нам господом богом за грехи наши. Мусульмане, будьте готовы! Если большевики не погибнут, они уничтожат религию, убьют верующих, затопчут коран ногами, наши святые мечети превратят в конюшни, детей наших обратят в православие, надругаются над нашими женами. Приготовьтесь, мусульмане! Священная обязанность каждого правоверного мусульманина — выступить против проклятых богом большевиков. Кто умрет на этом пути, умрет праведником, и место для него будет уготовано в раю. Мусульмане, будьте готовы!
Имя ишана, выступавшего с такого рода проповедями, собирало множество народа. Вокруг него стали крутиться подозрительные личности.
Шарафий как только приехал на фронт, сразу понял это. Попробовал заявить в волисполком, сельсовет, но результата никакого не добился.
— Популярность ишана велика. Все окрестные татары-крестьяне считают его святым. Если мы его тронем, татарские деревни поднимутся против Советов, начнется восстание, а это будет на руку колчаковцам, — сказали ему.
Впоследствии выяснилось, что и волисполком и сельсовет были всецело под влиянием мюридов ишана, им обо всем сообщали и принимали меры, нужные для их защиты. Поэтому Шарафий обратился за помощью в штаб.
Выслушав его, Садык вызвал Гайнетдинова и сказал:
— Возьми двух вооруженных красноармейцев и отправляйся вместе с Шарафием в деревню Зикерле. Там зашевелились какие-то темные силы. Действуй как найдешь нужным. Если дело дойдет до расстрела, сообщи нам.
Проваливаясь на каждом шагу в полыньи, добрались красноармейцы до Зикерле и, не заходя в волисполком и в сельсовет, оцепили дом ишана и начали обыск.
Сам ишан лежал на мягких перинах, не то больной, не то притворившись больным. Около него в полукрестьянском одеянии сидели Валий-бай и какой-то молодой татарин-прапорщик.
XLII
Хасанов старался казаться спокойным. На вопрос, почему он приехал сюда, Валий ответил:
— В городе мои дома отобрали, поэтому я и переехал в деревню. Узнав о болезни ишана, зашел его проведать.
Прапорщик был из Казани. Он сообщил, что заехал к ишану, чтобы передать ему подарок.
Их словам, конечно, не поверили. Оставив около них одного вооруженного красноармейца, принялись обыскивать двор и дома.
Деревня Зикерле зашевелилась, закипела, будто птичья стая, на которую напал ястреб. В один клубок смешались слезы, проклятья, стенания, угрозы. Единственным лицом, не потерявшим спокойствия во всей этой суматохе, была четвертая жена ишана, Карима. Она не то сошла с ума, не то притворялась, не то была радостно возбуждена. Как бы то ни было, едва красноармейцы приступили к обыску, она вскочила с места, побежала куда-то, притащила связку ключей и стала помогать им.
Первым осмотрели большой зал, заставленный шкафами, полными толстых фолиантов, застланный коврами. Это была комната, где ишан принимал своих мюридов и больных. Оттуда пошли дальше. Проводником была та же Карима.
Сначала она показала три дома, выстроенные для старших жен, а потом повела красноармейцев по усыпанной желтым песком дорожке в четвертый дом, расположенный в саду.
Дом был совершенно новый, чисто и уютно прибранный. Гладкие сосновые стены, двери и оконные косяки выкрашены были в зеленый цвет.
Карима спокойно, не суетясь, показала все помещения и, улыбнувшись хромому инвалиду, почему-то следовавшему за ними, сказала:
— А вот это мои хоромы! — и звонко расхохоталась.
С не покидавшей ее веселостью повела она красноармейцев в клети и амбары. Некоторые она показала мельком и наконец подвела их к каменной кладовой с железной дверью.
— Здесь собрано все богатство ишана, — сказала она, раскрывая дверь и впуская красноармейцев.
Гайнетдинов откинул большой брезентовый полог, тянувшийся вдоль всей западной стены кладовой, и недоуменно отступил назад. Под пологом правильными рядами стояли десятки самоваров. Здесь были и большие и маленькие, и медные и серебряные, и старые и новые.
— Что это? Откуда?! — воскликнул Шарафий.
Женщина, смотря то на хромого инвалида, то на Гайнетдинова, со смехом ответила:
— Как что? Это самовары, подаренные ишану!
Гайнетдинов продолжал осмотр. За другим пологом из пестрого ситца лежали груды шелковых стеганых, атласных, плюшевых одеял, подушек в расшитых наволочках, перины всех размеров.
— Это еще что такое?
Женщина снова засмеялась:
— А это преподношения хазрету.
Раскрыли большие сундуки. Кладовая наполнилась запахом нафталина. Он лез в глаза, щекотал горло. Инвалид достал из кармана кисет с махоркой, у Гайнетдинова нашлась бумага. Не было только спичек. Карима живо сбегала в свой домик, принесла целую коробку. Запах нафталина смешался с запахом махорки. Один из красноармейцев отдернул третий полог и стал бросать оттуда вещи. Здесь хранилась всякого рода одежда — шубы на лисьем меху, оленьи дохи, суконные бешметы, камзолы, атласные казакины, пестрые шелковые бухарские чапаны. Они переливались радугой и невольно приковывали взгляды неожиданным сочетанием цветов. Здесь же лежала масса белых, голубых азиатских тюбетеек, черных бархатных или же расшитых серебром казанских каляпушей, шапок из камчатского бобра.
— А это что?
Ответ был один:
— Подарки ишану.
Не было никакой возможности рассмотреть каждую вещь в отдельности. В кладовой нечем стало дышать от смеси запахов нафталина, махорки, душистых масел, которыми было пропитано большинство одежд.
Красноармейцы отпустили Кариму и, выйдя во двор, устроили совещание.
В тот же день ишан был арестован, а имущество его роздано деревенской бедноте.
XLIII
Этим дело не кончилось.
Утром хромой инвалид принес неожиданную весть:
— Все имущество ишана, розданное ночью беднякам, возвращено ему.
Оказалось, что по деревне прошел слух:
«Кто возьмет вещи ишана, у того отсохнут руки и ноги».
Бедняки перепугались и решили, пока не поздно, избавиться от опасных подарков. Всю ночь шумела деревня. Несли в дом ишана полученные вещи. Старшие жены хазрета принимали и тут же расставляли их на прежние места.
Но и этим дело не ограничилось.
У дверей камеры волисполкома, где сидел ишан, образовалась колоссальная очередь. Как только стало известно об аресте ишана, так его мюриды и почитатели толпами потянулись к волисполкому, чтобы получить пастырское благословение. Вся улица наполнилась ими. Из уст в уста стали передаваться какие-то слухи. Особой популярностью пользовался рассказ. Будто бы прошлой ночью ишан обратился к охраняющему его красноармейцу и сказал:
— Я должен совершить ночное моление. Принеси мне воды.
Но часовой не послушался и ответил:
— Здесь не место заниматься глупостями.
И вот незаметно для себя часовой уснул, а хазрет прочитал какую-то молитву — и оковы с него упали. Тогда ишан пошел к ручью, совершил омовение и вернулся в камеру. Оковы сомкнулись вокруг его рук и ног, и ишан спокойно совершил моление. После этого красноармеец проснулся. Он так и не слышал, как ишан покидал камеру…
Слухам, толкам не было конца. Шарафий немного растерялся. Лицо Гайнетдинова окаменело. Выслушав сообщения инвалида, он на минуту задумался, потом поднялся с места, взял ружье и решительно бросил:
— Идем!
Гайнетдинов приказал собрать на большую площадь перед волисполкомом жителей деревни Зикерле и, встав на телегу какого-то кулака, приехавшего на поклон к ишану, обратился к собравшимся крестьянам с короткой, но содержательной речью.
— Если пожалеть и оставить одного контрреволюционера, он погубит тысячу крестьян, — так закончил Гайнетдинов свою речь.
Людское море, заполнявшее площадь, стихло. Стояли с опущенными глазами, с твердо сжатыми губами.
Хромой инвалид и красноармеец вывели ишана. Старик двигался медленно, ни на кого не глядя, с лицом, перекошенным от страха.
На вопрос о подчинении советской власти он старческим голосом ответил:
— Мы подчиняемся только одному господу. Богу.
И добавил:
— Мы не можем идти с людьми, выступающими против бога.
Гайнетдинов не зевал. Даже не посоветовавшись с товарищами, мановением руки разделил он толпу надвое, приставил ишана к кирпичному забору волисполкома и повторил свой вопрос. Старик дал тот же ответ. Рука Гайнетдинова лежала на кобуре. Не успел ишан произнести последние слова, как над головами толпы грянул выстрел. Ишан упал на землю, но был еще жив. Гайнетдинов приставил дуло нагана к виску старика и выстрелил вторично.
Это были дни жестокой борьбы. Это было время, когда голодные псы контрреволюции пытались перегрызть горло молодой республике. Гайнетдинов был солдатом революции. У него не было времени думать о статьях закона. Он действовал по ненаписанному революционному закону.
Если бы теперь наши юристы стали разбирать это дело по существующему кодексу, они все равно пошли бы по следам Гайнетдинова и признали, что преступление ишана, предусмотренное 59-й статьей, подлежит высшей мере социальной защиты.
Но на фронте было некогда предаваться тонкостям разбирательства. Тело ишана в ту же ночь втайне от народа закопали в горах. На следующий день снова созвали собрание бедняков. Гайнетдинов произнес горячую речь и закончил ее так:
— Товарищи крестьяне! Чертополох портит посевы! Вы сами полете сорную траву, которая мешает росту хлебов. Вот я вчера выполол ишана, который был хуже чертополоха.
После Гайнетдинова выступил молчавший до этого хромой инвалид Самигуллин.
— Братцы, — сказал он, — с моих глаз спала завеса. Спасибо Шамси-абы за то, что он избавил нас от сорной травы.
Долго возиться было некогда, и Садык требовал:
— Время попусту теряют. Пусть скорее возвращаются в полк.
Гайнетдинов распустил волисполком и сельсовет, вместо них организовал ревком, состоящий из пяти демобилизованных солдат. Председателем назначил хромого Самигуллина. Для инструктажа оставил на три дня Шарафия. Потом перевел ревком в дом ишана, имущество его снова роздал беднякам и уехал на фронт.
XLIV
На этот раз имущество обратно не вернули.
Четвертая жена ишана Карима перестала скрывать свой тайный роман. На сорок первый день после смерти ишана она открыто поселилась вместе с хромым инвалидом в маленьком домике.
Но не скоро улеглось волнение среди мюридов и приверженцев ишана. Они ждали большого бедствия, надеясь:
— Вот разверзнется земля и поглотит нечестивцев…
— Вот убьет их громом…
Полные ожиданий, принялись они за поиски могилы ишана. Исходили весь лес, горы и поля, но ничего не нашли.
В лесу набрели на ключ. Земля вокруг ключа показалась изрытой, со следами крови. Было решено, что это и есть могила «святого учителя». Ключ обложили камнями, вбили большой дубовый кол, исписали его молитвами.
Теперь к этому ключу ведет большая дорога. Беспрестанно текут к «могиле» мюриды, поклонники, калеки, старухи, читают коран, вымаливают благословение «святого», в маленьких пузыречках уносят ключевую воду. Утверждают, что она исцеляет от многих болезней.
Так окончилась земная жизнь ишана.
Валий Хасанов, мечтавший совершить под крылышком ишана немало дел, успел скрыться. Вскоре стало известно, что он играет важную роль у Колчака.
…Минлибаева, надеявшегося освободиться в несколько минут, допрашивали около двух часов. Вопросы сыпались на него со всех концов. Он был вынужден отвечать на них и рассказать всю историю с ишаном. Рассказ этот был отрывистый, построенный как ответ на заданные вопросы, но перед глазами присутствующих на суде ясно предстала вся картина.
Под конец Минлибаев сказал:
— Товарищ Гайнетдинов вернулся в штаб расстроенный, с видом провинившегося человека. «Что случилось?» — спросил я его. «Идеологию разбили, пыль столбом взбили, а вдохновителя упустили. Ишана я застрелил, но Валий Хасанов дошлым оказался: переодевшись крестьянином, убежал через фронт к Колчаку», — ответил он. Вот все, что я знаю по этому поводу, — заключил Садык.
Усталый, опустился он на скамью. Салахеев не сводил с него злых глаз. Зал затих.
Получив разрешение председателя, прокурор спросил Хасанова:
— Почему вы убежали в то время от Советов к Колчаку?
Сотни глаз впились в Валий-бая в ожидании его ответа. Но ответ был очень краток:
— Бывают ошибки… — И добавил: — Я не думал скрываться. Ведь тогда красные, отступая, брали богачей заложниками. Я испугался этого и надеялся укрыться в доме ишана.
— Почему же в таком случае вы переоделись крестьянином?
— Чтобы не опознали.
— А зачем вы присоединились к Колчаку?
— Красные отступили из той деревни, где я скрывался. Так я очутился на стороне белых.
— Сколько вы пожертвовали денег в пользу колчаковского движения?
Валий Хасанов задумался, окинул взглядом зал и медленно ответил:
— А кто ж его знает… Мы уж привыкли к этому за всю жизнь. Придут, бывало, с просьбой: «Деревня наша бедная, дети растут в невежестве, дай денег для школы». Давал. «Погорели мы, негде головы преклонить в молитве, помоги отстроить мечеть». Помогал. «Наша нация немая, нужна газета». И годами тратился на газету. «Организуем отдельный национальный полк. Ждем помощи богачей». Не отказывал и им. «Наше духовное, национальное собрание нуждается в деньгах». И ему помогал по мере сил. Счет им знает один бог! Когда я был на стороне Колчака, ко мне снова приходили за помощью, и я давал. Кто же знает, сколько роздал я? Это одному богу известно!
Хасанов умолк.
Шаяхмету очень хотелось задать ему важный, по его мнению, вопрос, но он не мог этого сделать и потому чуть не подскочил от радости, услышав, как один из заседателей спросил Валий-бая:
— Скажите, пожалуйста, сколько и как помогали вы Советам?
В конце зала кто-то хихикнул. Со всех концов пронесся смешок, и скоро весь зал огласился хохотом.
Слова Хасанова: «По мере сил помогаю и Советам» — потонули в общем смехе.
Председатель зазвонил в колокольчик и восстановил тишину.
Последними свидетелями по политическому моменту были четвертая жена ишана Карима и ее теперешний муж — хромой инвалид Самигуллин.
Зал встретил их с нескрываемым любопытством. Головы всех повернулись к Кариме.
Это была стройная женщина, среднего роста, с легкой походкой, несколько капризная и кокетливая. В ней не заметили и тени смущения. Наоборот, она держалась с видом героини, на вопросы отвечала многословно, охотно, не оскорбляла плохим словом память мужа, а об его остальных женах говорила с улыбкой:
— Чего вы хотите — на четверых один муж, да и тому семьдесят лет. Как же можно было обойтись без скандалов и ссор? Случалось, целыми клоками выдирали друг у друга волосы.
О Валии Хасанове сказала:
— Он прежде ишана вредным микробом называл, а потом сам явился к нему. В каждый приезд передавал мне через хазрета дорогие подарки.
Рассказала Карима и о том, как Валий-бай скрывался у них перед наступлением Колчака, как и откуда раздобыл он крестьянскую одежду.
Словоохотливая Карима готова была говорить без конца, но так как остальное было уже известно, ее отпустили.
Самигуллин отделался несколькими короткими ответами.
Приближался конец разбора политического момента.
Председатель приказал ввести Джиганшу.
XLV
Джиганша, высокий, широкоплечий старик, с большой седой бородой, с лицом, покрытым сетью морщин, степенно вошел в зал. На голове его была новая тюбетейка, на ногах — суконные чулки и кауши, на плечах — камзол.
Прежде чем ответить на вопрос председателя, он погладил бороду, кашлянул и только потом произнес:
— Я знаю о черном и красном.
Председатель удивленно спросил:
— О каком черном и красном?
Старик бросил на него сердитый взгляд и раздраженно ответил:
— Нашего лучшего человека убили. Что же это, если не черное и красное?
Зал ничего не понял. Председатель повторил вопрос и предложил толково рассказать о том, что ему известно. Но Джиганша-бабай был упрям. Он и бровью не повел на замечание председателя и продолжал говорить так, как хотел:
— С той стороны сорок, с этой — двадцать. Вот тебе шестьдесят, — начал он, загибая палец. — Да еще пять-шесть. Да, так оно и есть. Был я в ту пору семи-восьмилетним мальчишкой. Записали нас на одну бумагу с землями, собаками и оптом продали. Продали и мать мою, и брата, и сестру. Наш помещик, покойный Хайдармирза Акчулпанов, собственноручно подписал купчую…
— Для чего вы это говорите? — перебил Джиганшу председатель.
Старик не смутился.
— А ты потерпи немного — узнаешь, — сказал он и стал перечислять, сколько ударов то плеткой, то нагайкой выпало на его долю.
Так дошел Джиганша до «освобождения» крестьян.
— Плетей не стало, но и есть было нечего. Свободу дали, землю взяли.
Потом стал рассказывать о пятом годе:
— Не выдержали. Решив: будь что будет, — взяли да засеяли помещичью землю… Пригнали в Акташево войска. А был в этой деревне колодец с толстым-претолстым бревном. Привесили к нему отца Фахри Тимершу — родным братом мне доводился он — вниз головой. Подошел к нему молоденький офицерик, полоснул саблей по телу Тимерши и крикнул: «Говори, кто подучил тебя? Кто дал оружие?» Тимерша в ответ: «Безземелье подучило». До последнего вздоха мучили Тимершу. Так и умер, бедняга, со словами: «Безземелье научило…»
Вот среди какой крови вырос Фахри. Поэтому-то и говорю я — черное и красное. Я и Паларосову сказал: «Товарищ Фрунзе знает, узнал и ты, а приедешь в город — расскажи судьям». В Самаре коммунистов вырезали. Поднялись чехи. Тогда Акташево добровольно собрало отряд, выступило против белых, против помещиков. А было в этом отряде двести человек, из них двадцать женщин да семь стариков. Мой старший сын прислал из-под Перекопа письмо, где прямо сказал: «Об Акташевском отряде сам товарищ Фрунзе знает. Он, товарищ Фрунзе, в приказе благодарил этот отряд и назвал его первым татарским отрядом». Отряд же этот был отрядом Фахри. Кочегар совет дал, Фахри все дело на своих плечах нес… Сам посуди — разве это не черное и красное?
Кончил старик. Председатель хотел уж отпустить его, но прокурор спросил:
— Близко ли знаете вы Валия Хасанова?
Старик оживился.
— Я расскажу, а ты сам прикинь. Как приехал сырьевщик Валий в «Хзмет», так стал крутиться вокруг меня. Я ему прямо сказал: «Послушайся прямых речей. Красный Татарстан много горя изведал. Нужно скорей сообща залечить его раны. Если ты хочешь работать, шагай в ногу с советскими людьми. Здесь мы голова. В городе кочегары голова, а здесь мы. Пролетарий — голова, а мы, бедняки, — ему опора. Ленин сказал: «Без диктатуры не обойдешься. С кулаком борись, с середняком дружи, на бедняка обопрись». Этому учат нас товарищи, приезжающие из города». Но не внял Валий моим словам. Он увеличивал богатство богатых, а бедноту забыл. Разве не прав я, когда говорю — черное и красное? Вы, детушки, не умеете хорошенько разобраться, когда посылаете к нам в деревню людей из города. Нам уже и прежде помещики поперек горла встали. Недаром говорится: сколько волка не корми, он все в лес глядит. Больше мне нечего сказать. Только вот погубил такой волк нашего отличного человека.
На этом заседание суда закончилось.
XLVI
После разбора хозяйственного и политического моментов перешли к третьему моменту — убийству. Раскрылась последняя завеса, окутавшая преступление.
Первой вызвали жену Фахри Айшу.
Многим сидящим в зале ее имя было знакомо по отчетам конференций и съездов. Многие видели ее портреты в газетах. Но сегодня она показалась лучше, чем на фотографиях. Некоторые говорили, что пережитое горе придало ее глазам какое-то особенное выражение, а женщины даже утверждали, что на ее лице стало гораздо меньше веснушек.
По предложению председателя Айша рассказала о последних днях и часах Фахри. Подробно остановилась на том, когда и с кем пошел он в кузницу, как, расставшись у столетнего дуба с Садыком, направился в совхоз.
Упомянула, как в грозовую ночь ждала возвращения мужа.
— Не дождавшись, вместе с Шаяхметом пошла к Шенгерею, — закончила она.
Она решила, что на этом допрос ее кончился, но тут поднялся защитник Хасанова Арджанов и стал задавать ей вопросы. Он составил себе понятие о Фахри как о мелочном, привязчивом, драчливом человеке и хотел услышать, подтверждение этому..
— Почему ваш муж Фахретдин Гильманов был против вашей работы в сельсовете? — спросил он.
Айша удивленно воскликнула:
— Ничего подобного! Он ни слова не говорил. Я сама не захотела.
— Почему?
— Так уж пришлось…
— Как это «так»?
Снова пришлось заговорить Айше о том, о чем она не хотела никому поведать.
— Беременна была я. На четвертом месяце. Как же могла взяться за работу? — сказала она и покраснела.
Ее слова вызвали кое у кого улыбку, а некоторые даже сдержанно хихикнули.
— Каковы были ваши отношения с мужем? Не притеснял ли он вас, не бил, не ругал ли? — не унимался Арджанов.
— В жизни всяко бывает. А так мы жили хорошо. Фахри из-за пустяков не приставал.
Следом за Айшой ввели старика кряшена. Звали его по-татарски Биктимиром Вильдановым, а окрестили Иваном Панкратовым. Одет он был в поддевку, на голове картуз. Длинные усы закрывали рот. Все его повадки были русские, но язык чисто татарский.
— Помните, что вы должны говорить только правду, — предупредил его председатель.
— Ладно. Буду помнить. Мне что — для меня что Христос, что Магомет. Плюнуть я хочу и на русского бога и на татарского аллу. Вот моя клятва.
— Где вы встретили Фахретдина Гильманова? — перешел к делу председатель.
— Встретил я его у дуба. «Куда идешь?» — спрашиваю. «Да вот в совхоз», — ответил он. «Садись, говорю, подвезу. Мне все равно проезжать» Ехали мы и разговаривали. Помню, он мне сказал: «Есть в совхозе собака, да все никак не выгонят ее». В «Хзмете» он слез. Я поехал дальше.
Этим кончился допрос кряшена. Вопросов ему не задавали.
После него вызвали пионера Сабита Тимеркаева. Босой, в тюбетейке, с красным галстуком на шее, он чуть не бегом вскочил в зал.
— Что ты знаешь о шкворне? — спросил его председатель после предупреждения говорить только правду.
— Наш пионерский отряд собрался пойти в поле смотреть работу трактора. Там увидели мы Гимадий-бабая. Он оглянулся по сторонам, поднял с земли шкворень, засунул его в рукав и ушел.
— Почему ты не рассказал об этом Паларосову?
Пионер покраснел.
— Забыл. Только потом вспомнил.
— Зачем ты в тот день ходил в совхоз?
— Мама послала. «Иди скажи отцу, чтобы он прислал чего-нибудь поесть», — сказала она. Отец работал в совхозе поденщиком.
— Где и как ты встретил Фахри?
— Я был босой. Пришел в «Хзмет», а во двор зайти побоялся — собаки там очень злые. Остановился я у забора, заглянул в щелку. Вдруг кто-то подкрался сзади и закрыл мне глаза: «Узнай, говорит, а то не отпущу». Я сразу узнал Фахри-абы. С ним собак нечего было бояться. Он меня проводил к отцу.
— Что делал твой отец и Фахри?
— Фахри-абы дал ему немного махорки. Потом я передал отцу слова матери. Он пошел в большой дом. Вышел оттуда сердитый. «Работаешь, говорит, как собака, а денег вовремя не дают».
— Ты с пустыми руками ушел?
— Нет, вместо денег дали муки и картошки. Отец меня проводил за ворота и вернулся обратно.
— А Фахри?
— Он там остался. Он как пришел, так его окружили работники.
— Кого ты еще видел?
Мальчик назвал Гимадия, Ахми, Шаяхмета, Низамия и Валий-бая.
— Где ты видел Хасанова?
— На террасе. Он чай пил. На столе стоял большой самовар. Ворот у Валий-бая был расстегнут, на голове красивая тюбетейка, а на груди цепочка.
— Ты зачем туда ходил?
— А чтобы посмотреть настоящего буржуя.
По залу пронесся смешок. Многие повернулись в сторону Хасанова. За последние дни он похудел, осунулся. С изумлением слушал он показания пионера и думал: «Когда только успели наплодиться эти бесенята?»
Председатель разрешил Сабиту сесть. Но уже через минуту Сабит вскочил с места, оправил галстук и, смотря на судей, поднял руку. Председатель заметил поднятую руку и спросил:
— Что нужно, пионер? Или забыл что-нибудь сказать?
— Да, забыл. Можно сказать?
— Можно. Говори.
— В ту ночь, — начал мальчик, — пришли к нам Айша-апа и Шаяхмет-абы. Лил сильный дождь. Блистала молния. Мы проснулись от собачьего лая. Отец высунул голову в окно, спрашивает: «Кто там?» А Айша-апа отвечает: «Как быть, Шенгерей-абы? Фахри нет. Вчера ушел в «Хзмет» и не вернулся. Не случилось ли чего? Боюсь я». Отец обул лапти, накинул на плечи чекмень и пошел с ними в сельсовет. С той минуты начались поиски.
Сабит умолк.
— Кончил? — спросил председатель.
— Кончил.
Иногда охотники издали окружают одинокого волка и, держа наготове ружья, придвигаются все ближе и ближе. От напряжения спирает дыхание. Вот сейчас, через несколько шагов, грянет выстрел и жестокий хищник грохнется на снег.
Таким затравленным волком чувствовал себя Валий Хасанов. Все у́же и у́же делалось кольцо. Казалось, стало трудно дышать. Одна за другой исчезали надежды, радовавшие в начале суда.
Мустафа, пожалуй, яснее, чем сам Валий-бай, понимал безнадежность положения. В безысходной тоске сидел он среди публики, погруженный в мрачные думы. Слова председателя «Джамалетдин Зайнетдинов!» заставили его вздрогнуть.
Мустафа поднял голову и ахнул — перед столом стоял портной Джамалий.
«Что это? Откуда? Когда же он выздоровел?»
Всего несколько дней тому назад Мустафа узнал о болезни портного. Ему сказали, что Джамалий слег в постель, на суд явиться не может, от бредней об окровавленном бешмете отказывается.
Это был маленький, слабый просвет в надвинувшейся на Хасанова тьме. Но, как видно, исчез и он.
Мустафа не отрываясь смотрел на Джамалия. У него не было заметно ни тени смущения или раскаяния. Мустафе показалось, что вся фигура портного дышит решимостью, отвагой, как у солдата, идущего на штурм.
Джамалий очень быстро оправился от немощи, навеянной на него упреками Мариам-бикя и Сираджия. Волна возмущения против Валий-бая, охватившая весь город, подняла портного с постели.
— Нет, мать, так не годится. Сам начал, сам закончу! — заявил Джамалий жене и, к немалому ее удивлению, вскочил с постели и вышел из дому.
Захватив повестку, принесенную милиционером, зашагал Джамалий к зданию суда.
— Ведь я его потопил. Я! Я! — возбужденно хвастался он встречным знакомым.
Он почувствовал себя героем и беспрестанно твердил:
— Расскажу! Все расскажу! Расскажу, как он пил нашу кровь. Пусть не хвалится, что построил мечети да школы! Это ему что шерсти клок. Расскажу, как он Колчаку миллионы подарил, как, арендуя завод, притеснял рабочих, как был самым главным на черной бирже. Ничего не утаю, все расскажу. Так прямо и скажу: «Разве так годится, товарищи? И прежде Валий-бай нами командовал и теперь командует».
Так думал Джамалий, входя в зал суда. Но ему много распространяться не пришлось. После первых же слов председатель взял в руки окровавленный бешмет и спросил:
— Узнаете?
Портной торопливо, чуть оробев, ответил:
— Как же не узнать? Своя работа! Своя рука. Я первый опознал его и заявил в милицию.
Сапожник Камалий, вызванный следом за портным, повторил те же слова.
Сираджий, сидевший в дальнем уголке зала, услышав показания сватов, побледнел от злобы. Ведь он был так уверен, что кто-кто, а уж Джамалий и Камалий не подведут, не расскажут историю с бешметом! Видно, если прорвется плотина, так ее не удержать. Тут уж и Сираджий почувствовал, что кольцо замыкается.
Арджанов в надежде извлечь какую-нибудь пользу из истории с бешметом обратился к Ахми:
— Ахмед Уразов, не припомните ли вы, когда подарил вам Валий Хасанов этот бешмет — до или после смерти Фахри?
Ахми с трудом поднялся с места, протер глаза и, уставившись взглядом на свои лапти, чуть слышно ответил:
— Точно не помню… В эти дни…
— За что вы подарили этот бешмет Ахмеду Уразову? — спросил прокурор Хасанова.
— У меня такой обычай — отдавать старые вещи бедным, нуждающимся.
На этом вопрос о бешмете был пока закончен.
Председатель взял со стола вещественных доказательств железный шкворень с маленьким гвоздем на одном конце и веревкой на другом и, протягивая его Ахми, спросил:
— Этот?
Ахми отрицательно покачал головой:
— Тот шкворень, который мне дали, был без веревки и гвоздя.
Председатель показал другой шкворень. Ахми утвердительно кивнул головой.
— Как же возле трупа Фахри в овраге Яманкул был найден вот этот шкворень с гвоздем и веревкой? — спросил прокурор.
Ахми молчал. Прокурор повторил вопрос. Тогда Ахми, не поднимая головы, пробормотал:
— Не знаю, ничего не знаю… Я убивать не думал, в овраг Яманкул не ходил. Я вышел из-за кустов, махнул два раза, бросил шкворень и убежал. Больше я ничего не знаю.
Но никто этим ответом не удовлетворился.
И судьи, и защитник, и прокурор засыпали его вопросами, всячески стараясь поймать его на словах. Но Ахми не сдавался. Он продолжал твердить одно и то же: темная ночь, кусты, железный шкворень, два взмаха — и бегство. А потом пьянство, кутеж на все деньги, а под конец продажа подарка Валий-бая — светлого бешмета.
Большего от Ахми не добились.
— Гималетдин Бикмурзин, почему здесь налицо два шкворня? — обратился председатель к старику Гимадию.
Старик имел жалкий вид. Его и без того маленькая, худая фигурка стала еще более тщедушной. Взгляд был полон глубокого горя. Он некоторое время молчал, а потом неожиданно ответил:
— Один из них — совхозовский, другой — старика Джиганши.
— Как попал сюда шкворень Джиганши и почему он был испачкан кровью?
Гимадий в упор посмотрел на Биганова и раздельно сказал:
— Да, видно, если начнешь тонуть, так потонешь!
— Что?
— Я не велел Ахми убивать, а только сказал, что его нужно проучить, напугать. Уж очень он докучал нам! Я боялся, как бы он и меня на старости лет вместе с баем на улицу не выкинул… Есть между «Хзметом» и Байраком тропинка. Я велел Ахми спрятаться в кустах, что растут по краям этой тропинки. Дал ему в руки вот этот шкворень без гвоздя и веревки…
— Дальше?
— Ахми ушел и пропал. А я лежу, ворочаюсь на постели, глаз сомкнуть не могу. Вдруг, думаю, он спьяна натворил что-нибудь? Не выдержал, пошел на поиски. Что же вижу? Лежит поперек тропинки человек. Подхожу — Фахри. Екнуло у меня сердце, затряслись руки и ноги. «Господи, думаю, на свою голову связался я с этим делом…» Зажег спичку. Лицо, шея в крови. Череп разворочен. Стал я трясти его… нет, не шевелится. Приложил ухо к груди — сердце не бьется. Тело остыло. Задрожал я. Ну, думаю, погиб, погубил свою голову…
— А потом?
— Потом я принялся заметать следы. Первым делом бросил труп Фахри в овраг Яманкул, соскоблил с тропинки следы крови. Больше всего боялся я луны, а она, как назло, два раза выглядывала из-за туч. Но скоро тучи сгустились, закрыв и луну и звезды. В кромешной тьме кончил я работу. Ахми, оказывается, бросил шкворень в кусты и ушел в соседнюю деревню, где стал пьянствовать. У него есть плохая привычка: как напьется, обнимает кого попало и начнет плакать, жаловаться. И на этот раз напился, как свинья, и ну причитать: «Какая мне цена? Я разве человек? Моя цена — старый бешмет да тридцать рублей».
Разбуянился он на улице. Забрал его милиционер и привел к нам. Только на втором допросе сознался он Паларосову, куда бросил шкворень. Там и нашли его.
— Как же попал в овраг Яманкул шкворень Джиганши? И почему он был в крови?
Гимадий молчал. В его сердце вновь началась борьба, не утихавшая за все время ареста. То ему хотелось во всем сознаться, рассказать, как на следующий день после убийства Фахри приходил Сираджий и научил, как давать ответы следователю. То хотелось молчать обо всем. Наконец, решившись, Гимадий заговорил:
— А это произошло так: кочегар при мне взял шкворень Джиганши, сбил в сапоге гвоздь и тут же бросил шкворень, не вернул его старику. Попав в беду, я об этом вспомнил. Бес ввел меня в искушение. Улучив удобную минутку, сунул я шкворень в рукав. Думал, никто не видел, а мальчонку и в счет не взял. Порезал я руку ножом, вымазал шкворень кровью и бросил его около мертвого Фахри… Потому захлестнула петля Садыка, да оборвалась… Видно, как начнешь тонуть — не выкарабкаешься…
Упоминание о тридцати рублях побудило сделать очную ставку Гимадия и Валий-бая.
Гимадий откровенно признался:
— От этих тридцати рублей у меня ни копейки не осталось. Валий-бай дал мне два червонца и две пятирублевки. Я отдал их Ахми. Ни от кого никаких подарков я не получал. На меня падает один грех — грех за загубленную душу. Пользы же я никакой не получил.
— Валий Хасанов, зачем вы дали эти тридцать рублей? — спросил прокурор.
Валий-бай съежился, побледнел. Глухим голосом ответил:
— Старик Гимадий мне сказал, что придется Фахри заткнуть глотку. Без денег не обойдешься, нужно подмазать. Я подробностей не расспрашивал, решил, что он хочет кого-нибудь угостить, и дал тридцать рублей.
— Когда дали бешмет?
Хасанов растерялся:
— Точно не помню… Приблизительно в то же время…
Мустафа похолодел. Ему почудилось, что кольцо сомкнулось, что в зале мелькнула тень смерти.
XLVII
Начались прения сторон. Но Мустафа ничего не слышал, ничего не понимал. Недоумевающим взглядом окинул он зал. Плотными рядами сидели рабочие, служащие, ремесленники, красноармейцы. Были здесь и старые знакомые Хасановых и освобожденные от свидетельских обязанностей байраковцы.
Вон в первом ряду, тесно прижавшись друг к другу, сидят Нагима и Айша. За ними примостился Шаяхмет в военной форме. Он ежеминутно что-то шепчет то сестре, то Айше, а те улыбаются. Рядом с ним уселась четвертая жена ишана, кокетка Карима, вместе со своим хромым инвалидом. Оба они внимательно слушают прокурора. В одном из последних рядов ясно выступает крупная фигура Джиганши. Поодаль длинноусый Шенгерей. Он, как и Мустафа, не слушает прокурора, а, вынув из кармана засаленный блокнот, пишет что-то огрызком карандаша. Дописав, оторвал листок и подал его в передний ряд, указав головой на Шаяхмета. Скоро записка достигла курсанта. В ней было написано:
«Дело затягивается. Завтра у меня доклад в военкомате. Боюсь, не успею на пароход. Не раздобудешь ли автомобиль?»
Шаяхмет прочел записку, что-то шепнул сестре и, встав с места, двинулся к двери.
Спустившись вниз, Шаяхмет зашел в телефонную будку и позвонил в ТатЦИК. Оттуда коротко ответили, что все машины заняты. Шаяхмет выругался, не поверил. Решил добиться машины через кого-нибудь. С этим намерением вызвал Василия Петровича.
— Вчера уехал в Москву на пленум ЦК, — был ответ.
К Паларосову и Гайфуллину Шаяхмет не дозвонился. Тогда он позвонил Минлибаеву. Ему сказали, что Минлибаев в завкоме на заседании. Шаяхмет назвал нужный номер. На этот раз ему повезло — к телефону подошел Садык. Он обещал позвонить в ТатЦИК и разузнать. Шаяхмет остался ждать у телефона.
Через пять минут Садык сообщил:
— Машина есть. Вызовите, когда понадобится, по телефону.
— Ишь бюрократы! — возмутился Шаяхмет. — Комсомольцу не дали, а как директор позвонил, живо нашли… В стенгазету их!
Но радость удачи быстро поглотила возмущение.
Шаяхмет вернулся в зал, мимикой объяснил Шенгерею, что дело улажено, и прошел на свое место. Поделился удачей с сестрой и Айшой.
— Спасибо, умник! — улыбнулась Айша.
Мустафа с самого начала следил за происходящим. Из обрывков услышанных фраз он понял, в чем дело.
«Вот ведь — дубины настоящие, а живут что надо! А мы стали пасынками», — зло подумал он.
Повернув случайно голову влево, Мустафа увидел, что в одном с ним ряду, лишь через два стула, сидят Шарафий и метранпаж Гайнетдинов. Мустафу передернуло. Он был готов встать и уйти, но не мог оставить плачущую мать, сидевшую рядом с ним. И потом, есть ли смысл пересаживаться на другое место? Стоит ли бежать? Ведь от них все равно не скроешься. А что говорит прокурор?
— Нужно распутать клубок сложного, запутанного преступления. Нужно осветить его содержание. Здесь смешались кровь и классовая политика, здесь идет борьба капитализма и социализма внутри деревни. Контрреволюционная буржуазия пользуется для своих целей услугами некоторых заблудившихся бедняков.
Что это? Что этим хочет сказать прокурор? Мустафа знал прокурора, слышал немало рассказов о его беспощадности. Говорили, что он в молодости не поладил со своей средой, поругался с ректором и был исключен из университета. После Октября добровольно уехал на фронт. Там получил известие: отец по серьезному политическому обвинению попал в Чека, но участь его могла быть облегчена, если сын поручится за него. Однако сын сказал: «Нет, поручиться не могу. Поступайте как хотите».
Отца расстреляли, а сын с еще большей энергией продолжал бороться против белых. Говорили, что теперь он так же решительно борется с врагами пролетарской революции в залах суда, как некогда боролся с ними на фронте.
Тогда Мустафа не верил этим слухам, смеялся над ними, и только теперь, только здесь, на суде, он понял глубокое значение этих слов. Каким он был на фронте, Мустафа не знал, но здесь он был беспощаден, играл головами, как мячом.
«Я этого не забуду! Я припомню ему!» — метался Мустафа.
Речь прокурора приближалась к концу. Он раскрыл тайные пружины преступления, показал, что основная причина ее покоилась на экономической и политической контрреволюционной основе. Он вскрыл глубокие корни, таящиеся в исторической и социальной почве, и показал их рабочим и крестьянам, наполнявшим зал, а главное — членам суда. Потом, по отдельности проанализировав каждого обвиняемого, остановился на центральной фигуре Хасанова.
Слова об отце жгли Мустафу, как раскаленное железо. Он чувствовал себя в тисках. Становилось трудно дышать.
Тем временем прокурор перешел к предложению мер социальной защиты в отношении каждого обвиняемого.
В зале царила полная тишина. Обвиняемые не сводили с прокурора возбужденных, полных ожидания взглядов. А он, ни на кого не глядя, продолжал говорить звучным голосом.
По характеру преступления он разделил обвиняемых на три группы. К первой группе он отнес Ахмеда Уразова и Гималетдина Бикмурзина и, квалифицировав их преступление по 136-й статье уголовного кодекса, просил приговорить каждого из них к трем годам тюремного заключения.
Салахеева Ахметдина и Федора Кузьмича Иванова он признал виновными по 109, 113, 118 и 117-й статьям и считал необходимым дать им по пять лет лишения свободы, с поражением в правах на четыре года.
Под конец прокурор сказал:
— Что касается Валия Хасанова, то он, виновный в преступлении, предусмотренном пятьдесят восьмой статьей, подлежит высшей мере социальной защиты — расстрелу.
Не успел прокурор сказать последних слов, как по залу пронесся вопль:
— А-а-а!.. Сердце!.. Умираю!
Зал вздрогнул. Все повернулись в ту сторону, где раздался крик. Там, между рядами стульев, лежала в глубоком обмороке жена Валий-бая Мариам-бикя.
Мустафа и Сираджий хлопотали около нее. Подошел комендант. Старуху вынесли.
В конце зала послышался приглушенный спор. Какой-то красноармеец убеждал бедно одетого крестьянина:
— Постой! Нельзя! Сиди смирно!
Но крестьянин, не обращая внимания на шепот красноармейца, порывался пройти к судейскому столу.
Спор с каждой минутой становился все явственнее. Зал зашумел.
Председатель зазвонил в колокольчик. Комендант подбежал к крестьянину:
— Сиди спокойно! Ведь это не сходка!
— В чем дело? Кто это? Или пьяный? Выведите немедленно! — раздался голос председателя.
Зал умолк. В наступившей тишине ясно прозвучал просящий голос крестьянина:
— Одно слово!.. Только одно слово!.. Меня прислали делегатом от двух деревень. Мы знаем Валий-бая… Мне велели передать вам, что мы считаем, что таким людям нет места под солнцем. Я пешком прошел семьдесят верст… Одно слово!
Председатель снова позвонил.
— Выведите его из зала. Здесь не сходка и не митинг. Объясните ему, — распорядился он.
Шарафий тихонько поднялся с места, подошел к сконфуженному крестьянину и вышел с ним в коридор. Комендант последовал за ними.
Крестьянин действительно оказался делегатом от двух деревень и был совершенно трезв.
— Я испугался, что не смогу передать поручение деревни, — оправдывался он. — Мне крестьяне сказали: «Пойди в город и на суде заяви, что мы знаем собаку Валий-бая и требуем, чтобы он был стерт с лица земли. Таким нет места под солнцем».
Шарафий позвонил в редакцию, вызвал Гарифа.
— Побеседуй с этим товарищем, сфотографируй его. В завтрашнем номере поместим его портрет.
Крестьянин понял, что не напрасно прошел семьдесят верст.
— Мы люди темные. Зря я шумел в зале-то. Не заругают ли? — сказал он.
Он начал беседовать с Гарифом, а Шарафий вернулся в зал.
XLVIII
Когда Шарафий уселся на свое место, начались речи защиты. Защитник Ахми и Гимадия, молодой юрист, в своем коротеньком выступлении подчеркнул, что его подзащитные не преступники, а заблудившиеся в сером тумане, напущенном классовым врагом. Он выразил надежду в том, что судьи отнесутся к ним снисходительно и дадут возможность дальнейшей честной работой искупить свою вину.
Речь защитника Иванова вызвала немало смеха. Он, признав вначале всю вину своего подзащитного, заявил, что Иванов по ошибке сидит на скамье подсудимых, что эта ошибка будет судом исправлена.
Публика, слушая трескотню неудачного защитника, улыбалась, перешептывалась. Многие решили, что он «утопил» Иванова.
Значительно лучше оказалась речь старика Арджанова. Придравшись к словам свидетелей «клок шерсти», он сказал:
— Нет, это не было «клоком шерсти». В свое время Валий Хасанов много сделал для общественного блага, щедро раздавал золото. Я не говорю, что у него не было ошибок, ошибки были, но его работа в совхозе «Хзмет», выдвинувшая последний в число образцовых совхозов всего Поволжья, ясно говорит о чистосердечной, старательной деятельности Хасанова. Он не жалел себя. Ради блага Советов он работал без устали дни и ночи и создал образцовое хозяйство.
Далее Арджанов стал возражать против предложения прокурора.
Преступления он не отрицал. Кровь пролита. Часть ответственности за это ложится на плечи Хасанова. Но ошибочно применять к нему 58-ю статью. Убийство совершено. Это большое преступление. Но в нем нет политического момента. Это лишь несчастный конец взаимных недоразумений. Было бы нелепо доискиваться здесь политических моментов. Поэтому в данном случае нужно применить не 58-ю, а 136-ю статью.
Два часа потратил Арджанов на то, чтобы затушевать политический момент.
Салахеев в начале суда отказался от защиты. Сейчас он заявил, что будет говорить, когда ему предоставят последнее слово.
Прения сторон закончились. Утреннее заседание закрылось.
Вечером начались последние слова обвиняемых.
XLIX
— Мы с Фахри не ладили, всегда спорили, но все же у меня даже случайно не зарождалась мысль об его убийстве. Его кровь пролилась по ошибке. Скрывать не могу, у меня были ошибки, но с момента назначения в «Хзмет» я работал честно, старательно… От судьбы не уйдешь… Но, пока жив, хотелось мне сказать несколько слов…
Голос Хасанова оборвался, на глазах выступили слезы. Не проронив больше ни звука, опустился он на скамью.
После него заговорил Ахми:
— Что же мне сказать? Напоили… Это и погубило… Пугали, что для нас не осталось светлых дней… Нам что! Мы темные, как слепые…
Ахми неожиданно всхлипнул, закрыл лицо руками и громко, жалобно зарыдал.
Ему дали воды, усадили. Постепенно Ахми утих.
Последнее слово Иванова свелось к самобичеванию:
— На моих глазах лежала пелена, остаток прошлого. Эта трагедия помогла мне сбросить ее. Я не прошу ни милости, ни снисхождения. Отдаю себя в руки справедливого суда.
Гимадий очень хотел произнести большую, интересную речь, но не смог подыскать нужных слов, нанизать их как следует.
— Не умею я говорить, — начал он. — Скажу только одно. Был у меня отец. Двадцать лет жил он в Сибири. Он, покойник, рассказывал: «Есть в Сибири дремучие леса. Встречаются в них топи. Покрыты они сочной зеленью, но беда, кто ступит на них! Затянет, засосет топь, и нет тебе спасения. Медленно погружается в топь человек, пока не сомкнется она над головой несчастного». Так и я. Валий пугал меня, говорил, что Фахри выкинет нас на старости лет на улицу. Все мозги иссушил мне! Но все же я не велел Ахми убивать его, а просил только попугать немного. А он спьяна прикончил Фахри… Я спрятал труп в овраг Яманкул, подбросил шкворень, наговорил на Садыка… Так вот засосала меня топь. Если суд ради бедности и невежества простит меня на первый раз, я даю клятву весь остаток своей жизни употребить на пользу Советов.
Умолк старик, понурился. Следом за ним поднялся Салахеев. Он был похож не на обвиняемого, желающего оправдаться перед судом, а на человека, готового ринуться в бой со всем миром.
— Смотри, как распетушился! — подтолкнула Нагима Айшу.
Тем временем Салахеев заговорил:
— У меня вины нет, есть только ошибка. На борьбу Фахри и Валия Хасанова я смотрел как на личную вражду. Я не смог понять, что это есть классовая борьба в деревне. Как-то Фахри мне сказал: «Вернувшись в город, скажи, чтобы эту собаку, лежащую в совхозе, убрали». Я ему ответил: «Сколько есть таких спецов-татар? Или ты их живьем съесть хочешь?» Фахри усмехнулся. «Хорош спец! Надо — так я сам сотню таких наделаю тебе из глины». В городе то же твердили и кочегар и Гайнетдинов. Я всех их победил. Вот эта победа была моей ошибкой.
Далее Салахеев перешел на показания Александры Сигизмундовны:
— Все это чистейшая ложь. Бесстыдная, наглая ложь! Когда в девятнадцатом году я работал в Чека, эта женщина пришла ко мне. Она заливалась слезами, упала передо мной на колени, молила: «Я на все согласна! Сделаю все, что хочешь, только спаси Казимира!» Я прогнал ее. Она пришла снова, снова стала умолять меня, прельщать своей молодостью, красотой. Дала понять, что готова стать моей любовницей. Я сказал ей: «Чека не место, где торгуют женским телом. Если вы еще раз явитесь ко мне с таким предложением, я расстреляю вас рядом с вашим Казимиром». В тот же день я отдал приказ о расстреле ее мужа. Теперь эта змея мстит мне, наговаривает на меня всякие небылицы. Ее отец был прежде юрисконсультом Валия Хасанова. Они были близкими знакомыми. Она погубила Иванова, хочет погубить и меня…
Долго говорил Салахеев, а под конец сказал:
— Твердо верю — меня оправдают. Меня должны оправдать. Если меня обвинят, это будет судебной ошибкой.
На этом кончились последние слова обвиняемых.
Председатель объявил судебное следствие законченным. Суд удалился на совещание.
Публика разбрелась по коридорам и лестницам.
L
Спустились сумерки. Наступил вечер. Мариам-бикя с трудом поднялась с постели. Еле передвигая ноги, опираясь на сына, потащилась она к высокому желтому зданию, чтобы услышать о судьбе мужа.
Требование прокурора о наказании обвиняемых облетело весь город, проникло во все дома, всколыхнуло все слои общества. Народ беспрерывным потоком потянулся в зал, наполнил его до отказа, до последнего предела.
Когда Мариам-бикя вошла в зал, председатель суда неожиданно сильным для его больной груди голосом читал приговор.
Не дыша, в мертвой тишине слушал зал торжественные, грозные слова.
Мертвенно бледная Мариам-бикя опустилась на скамейку и застыла без движения. Страх Мустафы исчез. С изумительной отчетливостью слышал он каждый звук. Каждое слово председателя вонзалось в его мозг, как раскаленный гвоздь.
Трехлетнее и шестилетнее заключение, к которым были приговорены Ахми и Гимадий, Иванов и Салахеев, показалось ему счастьем.
Теперь ему был ясен приговор, ожидавший его отца.
Слова председателя «к высшей мере социальной защиты» встали перед ним непреклонные. Смерть!.. Подавив готовый вырваться крик, Мустафа наклонился над матерью.
Суд кончился. Все стали медленно расходиться.
Ахми, Иванов и Гимадий покорно склонили головы перед своей участью. Салахеев, недовольный, возбужденный, решил тут же обратиться в Верховный суд.
Старый адвокат Арджанов сделал последнюю попытку — послал в ВЦИК ходатайство о помиловании.
Через несколько дней пришел ответ — ходатайство было отклонено.
…Темной ночью Валия Хасанова расстреляли. И когда сровняли землю над его могилой, из-за гор блеснул первый луч зари. Над широкой Волгой поднялось яркое, сияющее солнце.